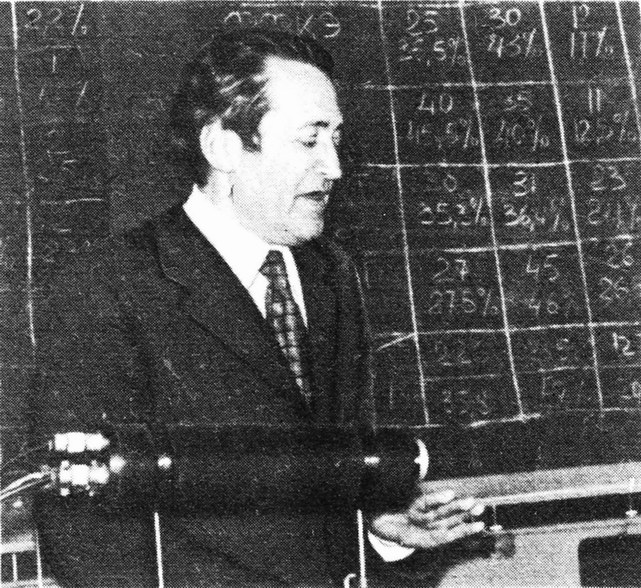
108 Научно-художественный очерк |
«Природа», 1977, 6 |
Семинар
Вл. Волков
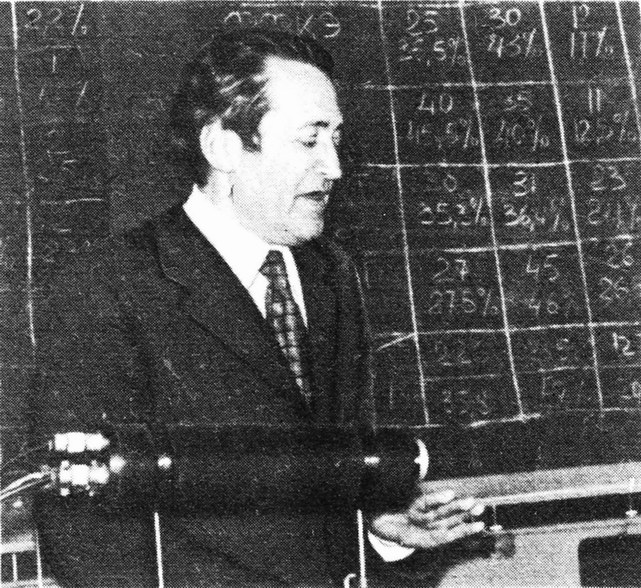
|
В 1976 г. в журнале «Новый мир» (№ 2) была опубликована «Байгурская школа» — художественное произведение, в котором рассказывалось о судьбах людей, посвятивших себя науке. Автор назвал себя — Вл. Волков. Под всевдонимом Вл. Волков писал профессор Владимир Борисович Берестецкий, скоропостижно скончавшийся 25 января этого года, один из известнейших физиков-теоретиков нашей страны. Его научные работы были посвящены квантовой теории поля и физике элементарных частиц. Вл. Волкову принадлежит и публикуемый нами «Семинар». Проза Вл. Волкова — проза ученого и художника. Соединив в публикуемом произведении события, происходившие в течение нескольких лет, в один семинар, автор смог передать то, что труднее всего поддается изображению: логику научного открытия, психологию и отношения людей, в нем участвующих, и показать, как рождается решение проблемы в столкновении фактов, кажущихся противоречий, мыслей, догадок. Чтение «Семинара» увеличит понимание того, как и какими людьми делается наука, а это понимание является необходимым условием ее существования в современном мире. В. М. Галицкий |
| {109} |
Окраина города. Решетчатая ограда. Не Ленинград ли это? Может быть, не знаю.
За оградой остатки рощи. От калитки дорожка, выложенная квадратными плитками, ведет к усадьбе. Двухэтажное здание, два многооконных крыла, центральная часть под куполообразной крышей, полукруглый портик с балконом.
Не увидим ли мы еще справа от дорожки на высоком постаменте бюст, а справа на стене у пилястры мемориальную доску? Иоффе и Курчатов? Не следует проверять. Время еще не задано. Может быть, эти двое не снаружи, а внутри института. Но тогда здесь могут быть и другие с известными нам именами. Кто? Может быть, Ландау, Френкель? Может быть, не знаю. Не могу сказать.
Поднявшись на ступени и пройдя входную дверь, попадаем в небольшой вестибюль. Задняя его граница—широкая, из двух половин, стеклянная стена-дверь открыта настежь. За ней налево и направо широкий коридор во всю длину здания. Напротив нас во всю ширину стекла лестница с мраморными перилами.
На полуэтаже напротив вход — это конференц-зал, нам надо зайти, посмотреть пока он пуст. За дверью проход, слева и справа параллельно ему ряды кресел. Перед креслами эстрада-помост. Слева кафедра, рядом перед помостом столик с проектором, сзади экран. На правом краю эстрады столик председателя. В центральной ее части две доски, за ними три больших окна, на окнах темные шторы, они управляются кнопкой с председательского стола. Доски не совсем обыкновенные. Одна представляет собой вертикальную высотой почти до потолка непрерывную ленту транспортера, опирающуюся о жесткую подкладку. Когда лента уходит из пределов видимости, следы мела на тыльной стороне автоматически стираются, и лента появляется снизу свеже-черной, пригодной к употреблению. Вторая доска неподвижна, и мел с нее надо стирать тряпкой, но и она не проста. Ее поверхность — тонкий железный лист, докладчик может прикреплять к ней плакаты, приложив по краям брусочки-магниты. Над этой доской циферблат—черный металлический квадрат со стороной в метр с четвертью, подвешенный к потолку на двух тонких тросах, почти невидимых, так что квадрат кажется парящим в воздухе. На нем нет цифр, только двенадцать светящихся точек, между соседними точками по четыре штриха.
Три стрелки. Самая длинная, тоже черная, производит гнетущее впечатление. На нее невозможно долго смотреть. Каждую секунду она мгновенно перепрыгивает от одного штриха к соседнему. Из-за ее огромной длины создается впечатление, что она напрягается, готовясь к прыжку, выжидает и, наконец, решается. «Время уходит»,— глухо твердит она как бы.
Вернемся на площадку перед конференц-залом. Здесь широкая лестница расщепляется и полумаршами, слева и справа, устремляется ко второму этажу. Поднимемся.
Такой же, как внизу, широкий во всю длину здания коридор весь заполнен жужжащей толпой.
Войдем в нее и будем двигаться вдоль коридора. Мы увидим, что толпа не сплошная, сквозь нее можно пройти, интенсивность жужжания будет перемежаться. Толпа состоит из медленно движущихся шеренг и движущихся овальных сгустков и стоящих у стен сгустков. Каждое скопление ведет свою беседу. В каждом — одновременно говорят лишь от одного до трех участников, остальные слушают, наклонив головы в соответствующих направлениях.
Что это за толпа, зачем она здесь? Пришла на какое-то торжество? Нет, не торжество, но сегодня день семинара. А семинар — это событие. Регулярно от начала сентября до конца июня, с перерывом на лето, в середине каждой недели, по средам, в середине дня: с трех до пяти, в институте происходит семинар. И в этот день со всего города сюда устремляются толпы. И все гости города, конечно, потому что нельзя вернуться домой, не побывав на семинаре. Этом семинаре.
Уже с половины первого первые струи потока проходят через вестибюль. А обратный поток длится до семи-восьми, лишь постепенно иссякая. Семинар — это клуб физиков. Приходят не только ради двух докладов, всегда двух и только двух, составляющих программу семинара. Приходят встретить нужных людей, всегда обязательно встретишь, все здесь. Узнать новости, посоветоваться, поговорить, потолковать, поболтать. Этот поток и образует жужжащую толпу, мы застаем его пик, двадцать минут до начала семинара.
Подойдем вот к этой стоящей группке. Может быть, что-нибудь расслышим, здесь говорит только один. Он молод, высок, возвышается над своими слушателями больше чем на полголовы. Он {110} черноволос, говорит запальчиво, но не жестикулируя, может быть потому, что руки его прижаты окружающими. Он прижат своими слушателями к двери в правой стене коридора, говорит громко. Нас привлекают неожиданные слова, или мы ослышались, «Лев Толстой».
— Вы рассуждаете на нижайшем уровне,— теперь мы слышим каждое слово,— на уровне Льва Толстого. А Толстой — великий писатель, но писатель нерелятивистский. Он считает, что знает, из чего состоит человек, жизнь и смерть, любовь, зависть, труд, алчность, здоровье, депрессия и эйфория. Он все знает, может разобрать нам человека на части, показать их, показать взаимодействие частей, добро и зло. Это очень хорошо и гениально, но это очень узкая область, это мелко. Пойдите глубже, и от этих милых понятий ничего не останется. Ничего не останется, все перемешается, все станет неопределенным, появятся объекты, для которых нет букв в азбуке Толстого. Мы попадаем в релятивистскую область, область не Толстого, а Достоевского. Это только по толстовской физике все просто, в атоме есть электроны, и мы умеем их оттуда извлечь. Извлечь электроны и ничего более. А по Достоевской физике мы извлечем оттуда что угодно, летящие шкафы и чертей. Ну, не совсем что угодно, потому что не по нашему заказу, а так, как в природе вещей. И хватит. Сколько времени прошло после работы Эйнштейна, мы все успели за это время народиться и достичь вышесреднего возраста, а все играем в детский конструктор. Мы думаем, что если из чего-то что-то вынули, то это что-то там уже заранее лежало. Не так, не так. Еще недавно мы думали: из ядра вылетает электрон, значит в ядре сидят электроны. И мучились, как в ядро запихнуть электроны, плохо получается. Теперь мы, наконец, дошли: электронов в ядре нет, как нет там шкафов. Электрон вылетает, значит на его рождение —он рождается, его не было,— хватает энергии. А на рождение шкафа энергии не хватает — вот он и не вылетает, вот и вся разница. Думали, рассуждали по-нерелятивистски, пока опыт не дал потрясший уже всех пример — появляются позитроны, а позитрона никто никогда не знал и, конечно, не пытался считать сидящим в ядре.
Черноволосый вытащил прижатую к стене руку, вынес ее наверх, помахал кистью и вдруг исчез в двери, к которой был прижат.
Очень интересно, хотя мало понятно, хорошо бы запомнить — пригодится. Пойдем дальше.
Стены в коридоре тоже покрыты юбилейной росписью. Художник символически изобразил науку. Конечно свои абстрактные представления о ней. На синем густом фоне он поместил созвездия. Видно, что он вынужден был ограничиться двумя Медведицами и Орионом. Зато эти повторяются с различными взаимными ориентациями. Изображены еще орбиты с планетами и орбиты с электронами. Микроскопы, колбы. И очень много лысых бородатых Менделеевых в хитонах. Одни из них смотрят в телескоп, другие в микроскоп, третьи включают рубильники, Менделеевы работают. Очень красочно-празднично.
Не будем рассматривать росписи. Здесь есть более интересное. Нижняя часть стен увешана плакатами и фотографиями. Это выставка достижений науки вообще и достижений института за годы его существования. Их число кратно пяти — вот подоплека этой праздничности. Таблицы, кривые, пришпиленные оттиски статей и обложки книг. Пройдемся бегло. Стоп. Вот это имеет прямое отношение к тому, о чем как-то слишком для нас разбросанно говорил черноволосый. Попробуем схватить хоть одну нить.
Вот фотография. Она изображает след электрона, вылетающего из радиоактивного вещества. Не будем читать детали описания, что за вещество и как сделано, что путь электрона стал видим, почему он летит по дуге и притом направо. Заметим лишь утверждение: то, что он летит по дуге, означает, что у него есть отрицательный заряд. Здесь несколько таких фотографий, на всех пути вправо, у всех следы одинаково искривлены. Разъяснение: все это электроны, все одинаковы по весу. Оказывается, здесь показан результат фундаментального опыта, которым институт гордится. Опыт доказывает, что из радиоактивных ядер вылетают обычные электроны. Обычные — это те самые, что в атомах, что в радиолампах. Искали, нет ли других, потяжелее, в полтора, два, четыре раза более тяжелых, почему бы им не быть, смелая попытка мыслить по-новому, как учил черноволосый. Оказалось нет, такие не родятся. Черноволосый скажет: не по нашему заказу, их нет в природе вещей.
Вот тоже новинка науки. Такой же опыт, как предыдущий, но с искусственным радиоактивным веществом. Как их {111} делают? Ладно, не будем, иначе совсем запутаемся. Все то же, но следы налево. Это не электроны, позитроны, те же электроны, но с положительным зарядом.
Очень интересно. Мы теперь усвоили, что сказал длинный. В ядрах электронов нет, но они оттуда вылетают. Собственно, откуда именно они вылетают, мы тут не видели, но это спрашивать уже неудобно, наукой установлено — из ядер. Мы же не профессионалы. Нам достаточно: в ядрах нет электронов, но они оттуда вылетают. Это значит, что они рождаются. Для рождения нужна энергия, тем больше, чем тяжелее родившийся предмет. Это и есть закон, открытый Эйнштейном. Энергию выделяет ядро. Но на рождение шкафа ее недостаточно, шкаф слишком тяжел. Поэтому он тут и не вылетает, хотя в природе вещей шкафы записаны, как реальные объекты. А на рождение электрона энергии хватает, он и вылетает, мы видели. Но электрону нужен электрический заряд. Почему? Это известно, такая его жизненная привычка. И ядро снабжает его этим зарядом. А позитрону нужен .заряд другого знака, чем электрону. Естественное радиоактивное ядро, оказывается, не может этого дать. Но есть такие искусственные, которые как раз имеют лишний положительный заряд. Тогда вылетает позитрон.
Но у ядра достаточно энергии, чтобы родить электрон в полтора, два, четыре раза более тяжелый, чем обычный электрон. А они не рождаются. Не все возможно. Таких нет в природе вещей, как сказал черноволосый. Ни на складе нет, ни в хранилище. Нет в инвентаре долины неродившихся душ.
Очень хорошо, понятно, интересно. Во всяком случае, можно себе представить, что имелось в виду в разговоре о Толстом и Достоевском.
Передвинемся вправо. Еще фотографии со следами частиц. Мы уже рассматриваем их, как знатоки. Смотрите, два следа на одной фотографии. Один направо, один налево. Так ведь это один электрон, а другой позитрон, близнецы, пара. Нам демонстрируют рождение пар.
Это тоже достижение института. Тут ядро может отдать энергию, но без заряда. И вот оно рождает пару, электрон и позитрон, заряд плюс и заряд минус, суммарно нулевой.
Рядом, в другой серии, много фотографий с парами. Это раздел космических лучей. Вот горизонтально расположена тонкая свинцовая пластинка. Надпись поясняет, что сверху падает гамма-излучение космических лучей. Сверху на фотографии ничего нет, лучи невидимы, но авторы знают, поверим. А внизу из пластинки выходят уже наши знакомцы — пара, один направо, другой налево. Объяснение: частица по имени фотон, которая невидима, невидима она потому, что у неё нет заряда, исчезла и родила пару. В пластинке как таковой ничего не изменилось, ее ядра какими были, такими и остались. Ядра свинца нужны фотону только как опора, чтобы произвести акт творения.
Очень увлекательно, но хотелось бы знать, как это все-таки происходит. Из чего сделана пара, как это невидимый беззарядный фотон превращается в чужеродные тела, электрон и позитроны, которые стали видимы, вот их пути, один направо, другой налево. Откуда они взялись?
Если мы спросим, ответом будет ироническая улыбка. Нам лучше повторить про себя слова черноволосого. Явления не сводятся к тому, что что-то складывают из того, что уже есть.
— Что вы хотите,— ответят нам, спрятав недалеко, впрочем, ироническую улыбку,— есть закон Эйнштейна, энергии хватает. Этого еще мало, это означает лишь, что рождение возможно. Но не обязательно, фотон может родить и исчезнуть, а может остаться самим собой. Надо знать, как часто это происходит или, как мы говорим, с какой вероятностью. Но мы это знаем, мы можем это вычислить. Мы можем вычислить, какой толщины надо взять пластинку свинца, а какой — алюминия, чтобы наверное из нее вышла пара. Это и значит, что мы понимаем явление. Больше ничего.
И снова ироническая улыбка. Они высокомерны, эти ученые-физики. Если мы еще на эту тему хоть заикнемся, ответом будет: «Ну, это уже натурфилософия». «Натурфилософия» — это у них бранное слово.
Не будем обижаться. За внешним высокомерием истинная скромность. Желание самоограничиться, очертить круг ответственности, дело-то у них трудное. Они стараются не употреблять слов, смысл которых неясен или расплывчат. Это мы себе можем позволить, нам бы только схватить образ. А им — работать. Несколько размытых по смыслу слов после нескольких шагов рассуждений обязательно создадут вязкое месиво полусмысла, и что с ним делать? Поэтому они {112} защищаются за укрытием фотографий и формул. Как образуется пара? Вот так, см. фотографию. Как это происходит? Вот так, см. формулу. Согласуется одно с другим — хорошо, значит понимаем, не согласуется, ставь опыты, выводи другие формулы. Если придумаешь как.
Если мы выскажем эти мысли вслух, то нам опять ответят улыбкой, на этот раз или снисходительной или раздраженной, в зависимости от нрава отвечающего. А если удостоят ответом, то скажут, что все это совсем не так. Что у них вовсе нет точного смысла слов, когда он достигается, то наука кончается, а пока она есть — все размыто. И что ужасно пошлая банальность, неверная к тому же, говорить, будто искусство мыслит образами, наука понятиями, как все мило и четко. Они не знают, чем они мыслят и мыслят ли вообще, тоже пошлый напыщенный термин. Они просто работают.
Но все же мы примем эту отповедь, как частичное подтверждение своего мнения. Пусть наше понимание науки ограниченно, «на уровне Толстого», но дальше идти нам — непрофессионалам уже не положено.
Посмотрим еще несколько фотографий. Здесь две пластинки. Из первой выходит пара, входит во вторую, а из второй — две пары. А вот на фотографии толстая пластинка, из нее целый веер электронов и позитронов. Это называется ливень, и действительно, ливень. Все частицы ливня выходят из одной точки веером. Очень богат был энергией родитель-фотон. Ливень — чем не маленький шкаф.
Ну, пока хватит. Слишком много новых сведений. Мы уже опоздали, семинар начался. Не беда, пойдем на вторую его половину. Второй доклад как раз о космических лучах. Специализируемся по этой части, всего не охватим. Пойдем дальше.
Толпа в коридоре поредела. Но не исчезла. По-видимому, многие поступают, как мы. Их интересуют только космические лучи. Или ничего из программы не интересует, они пришли для встреч и бесед.
Пройдем мимо стендов полупроводников, стендов прочности. Здесь правая стена прерывается. Вторая лестница. Напротив нее широкая дверь из рифленого стекла. Это библиотека.
Войдем. Большой читальный зал. В глубине слева столики, вдоль стен книжные шкафы. В передней части стенды с новинками и много круглых столов, по периметру каждого стола стопки журналов. Среди роющихся в этих стопках замечаем длинного черноволосого.
Но и здесь что-то небудничное. Круглые столы сдвинуты так, что один почти примыкает к другому. А несколько столов освобождены от журналов и уставлены выставочными макетами. На одном из них проволочные решетки, в узлах решеток — шарики. Шарики большие и малые, разноцветные. Решетки причудливые. С косыми углами, со встроенными одна в другую ячейками. Кубы, шестигранники, тетраэдры, ромбоэдры, дальше у нас нехватает знакомых терминов.
Подойдем к следующему столу. Здесь несколько человек слушают объяснения. По-видимому, они тоже посторонние, профаны. Или представители городских властей. Объяснения дает полный, плотный, лысый, в круглых очках с металлической оправой. Он очень забавно произносит слова. Губы его как-то вытягиваются вперед, отчего нос как будто удлиняется и приближается к губам. А глаза у него очень добрые.
Он говорит, что много лет назад написал две книги. Одна называется «Расчленение материи», другая «Сочленение материи». То, что здесь представлено,— это иллюстрации к книгам с учетом происшедшего развития науки.
— Вот здесь самый глубокий этап расчленения — сочленения,— он весело улыбается и даже подхихикивает этому сочетанию слов.
Над столом возвышаются проволочные эллипсы с голубыми шариками, по одному на каждом. Ну, это мы понимаем. Шарики, конечно, электроны, эллипсы — их орбиты. Орбиты по-разному и в разных направлениях вытянуты, разной длины. Это атом.
Смотрите,— говорит лысый добрый,— на те электроны, которые удалились и подошли к соседнему атому. Там возникнет химия. Я вам... Впрочем,— похоже, что на этом месте стало скучно,— впрочем, это потом. Сейчас посмотрите, наоборот, в глубь орбит.
Там маленький плотный шар, конечно, это ядро. А вот он в увеличенном масштабе отдельно. Видно, что шар состоит из зерен, их много, сотня, наверное, зерна — шарики, белые и черные, плотно прижаты друг к другу. Белый шарик— протон, черный шарик — нейтрон.
Вдруг лысый резко оборачивается.
— Вам что-нибудь не нравится? — спрашивает он. {113}
Мы тоже оглядываемся. За нами стоит черноволосый длинный.
— Вам что-то не нравится? — повторяет лысый.
В глазах лысого доброго появляется беспокойство. Такое беспокойство всегда испытывает пожилой перед молодым, в котором он признает силу.
Лысый прячет беспокойство, и с улыбкой, еще больше вытягивая губы вперед:
— Вы, конечно, скажете, что это не настоящая физика, а Лев Толстой?
Лысый добродушно негромко смеется. По-видимому, филологическое исследование черноволосого, которое мы слышали, не впервые было тогда предано гласности, оно здесь уже является ходячей формулой.
— Нет, почему,— серьезно отвечает черноволосый,— все в порядке. Вот только не хватает клея.
Какого клея?
— Какого клея,— спрашивает лысый.
— Того, что держит прижатыми друг к другу белые и черные шарики.
— Ах, это,— лысый окончательно успокаивается.— Да, конечно. Но как будто, отрывая нейтрон от ядра, мы не видим на нем следов клея,— он добродушно хихикает.
— Пока не видим. Потому что слишком деликатно отрываем. А когда тряхнем как следует, полетят сгустки клея.
— Может быть. Вполне может быть,— лысый умиротворенно берет длинного под руку и отводит его к следующему столу, забыв о своих слушателях.
— Сейчас я вам покажу,— обращается он уже только к длинному,— наш технический шедевр.
Нам плохо видно. Там есть орбита и есть голубой электрон, но он уже не шарик, а волчок. И макет движущийся. Волчок и вертится и бегает по орбите, его носик все время меняет направление, описывает круги.
Далее лысый забывает уже не только об экскурсантах, но и об экспозиции, достает листок бумаги и карандаш и начинает что-то писать, доверительно наклоняясь к черноволосому и поясняя что-то. Тот периодически кивает. До нас доносится «спин», «прецессия», «поле».
Ну, нам пора. А то пропустим и вторую половину семинара. Этих двоих, по-видимому, такое обстоятельство не беспокоит.
Здесь либеральные порядки. Дверь в конференц-зал все время полуоткрыта. Мы осторожно входим, на цыпочках идем налево, садимся в предпоследний ряд. Мы пришли как раз вовремя. Докладчик снимает свои плакаты, свертывает их и складывает в стопку магнитики-держатели. Со своего кресла у председательского столика поднимается глава института и опирается ладонями о стол. Он крупный и полный, с розовым лицом и розовой лысиной. Он подымается во весь рост, затем садится и снова подымается. Докладчик со свертком плакатов спускается с помоста. Председатель растопыривает пальцы обеих рук, широко разводит руки и сводит их палец к пальцу. Снова разводит и снова сводит. И произносит два слова:
— Очень интересно.
Это сигнал для второго докладчика. Тот подымается на помост, передает дежурному у проектора пачку диапозитивов и что-то ему тихо объясняет. Затем подымается на кафедру.
Докладчик высок и породист. Он в старомодном крахмальном воротничке, галстук узкий и темный. Его седые короткие волосы расчесаны на прямой пробор. Под носом короткая и широкая щеточка усов.
Доклад начинается. Мы пытаемся слушать, но быстро убеждаемся, что это невозможно. Во-первых, зал жужжит. Не так громко, как в коридоре, но жужжит. Присутствующие в зале, как и там, разбиты на группки. Одни слушают. Другие слушают и обмениваются комментариями. Остальные вовсе не слушают, беседуют тихо, так им кажется, между собой, пишут что-то на листочках, склоняются над ними.
Во-вторых, доклад сводится только к показу диапозитивов, сопровождаемому краткими замечаниями к ним. Большая часть доклада проходит в темноте, что способствует жужжанию в зале. Докладчик сходит с кафедры, тычет указкой в экран, потом возвращается, говорит «следующий» и опять бежит к экрану. Свет в зале на минутку зажигается и вновь гаснет. Шторы то раздвигаются, то задвигаются, при этом они шипят и шелестят.
Сменяющиеся на экране изображения, на наш грубый взгляд, все время одни и те же. Несколько кривых. На них вертикальные риски разной длины и кружки разного цвета и разного размера. {114} Одни кривые идут направо вверх, другие вниз. А некоторые сначала вверх, а потом вниз. Вот все, что мы можем различить. А кривых много, а рисок и кружков очень очень много.
Докладчик говорит низким как из бочки голосом и направляет звуки себе в усы. Короткими и отрывистыми фразами бубнит себе в усы. Поэтому кажется, когда шторы раздвинуты и докладчик повернулся на мгновение лицом к залу, что ему все это не интересно, что он относится к публике презрительно, как к дилетантам. Но это не так. Он очень охотно дает разъяснения, когда его прерывают вопросами. Здесь либеральные порядки, и докладчика можно прерывать. Тогда он достает из папки листы и перерисовывает на доску еще несколько кривых, таких же, одна вверх, другая вниз, третья сначала вверх, потом вниз.
Когда докладчик у экрана, он только на него и смотрит. Тогда звук его голоса почти совсем исчезает. Мы воспринимаем лишь ритмичные или аритмичные изменения громкости и отличаем их от пауз. Наше восприятие такое же, как если бы нам показывали начало фильма Чаплина, речь на открытии памятника. Звуки, организованные музыкально, и выразительные, но без членораздельного содержания. Лишь изредка мы различаем отдельные слова, некоторые довольно странные: «геомагнитная широта», «барометрическая высота», что это: метеорология или попытка нашего сознания сконструировать из шумов слова?
Из двери вдоль стены, плашмя, спиной к ней, проскальзывает длинный черноволосый. В руках у него тетрадки журналов. За ним проскальзывает целая стайка. Они садятся в последнем ряду, как раз за нами. Черноволосый быстро окидывает взглядом докладчика, экран и доску и тихо говорит своим соседям:
— Ну, вот и хорошо. Он установил, что ливни, образующиеся вверху в атмосфере, не могут дойти в заметном количестве до уровня моря. А внизу слишком много мягких частиц. Противоречие, которое он, конечно, относит на счет теории образования пар и теории ливней.
Черноволосый роется в журналах, показывает что-то соседям. Они оживленно шепчутся и пересмеиваются.
Теперь нам становится легче. Теперь мы кое-что понимаем. Мы ведь видели в коридоре на выставке картинки с парами и ливнями. Там они выходили из пластинки свинца. Здесь речь об атмосфере, столбе воздуха. Воздух легче и разреженнее, зато его много, он такая же опора, как пластинка свинца. Образуются пары, пары размножаются в ливни. А дальше? Столб воздуха очень большой. До каких пор будет продолжаться размножение? Конечно, не вечно. Вот мы тоже умеем самостоятельно рассуждать, соображать. До тех пор пока хватит энергии. Энергия велика у первичной частицы, но все-таки ограничена. Пусть ее хватает на рождение ста, тысячи, сколько там надо, электронов и позитронов. Но запас кончится. И размножение прекратится. Что дальше делать уже бедным электронам и позитронам? Где-нибудь, наверное, потеряются. И число их по мере углубления в толщу атмосферы станет убывать. Это и есть те кривые, которые растут, достигают максимума, и убывают, это число частиц. Где и как это произойдет, на какой высоте над уровнем моря, это уже не наше дело, это дело их теории, они считали. И получается, что до уровня моря ничего не дойдет. Ничего или очень мало. А на самом деле на уровне моря они есть. Есть частицы. Что значит, между прочим, мягкие? Бог с ним. Итак: не должны доходить, а доходят. Докладчик считает, очень естественно, по-нашему, что теория неправильна. А черноволосый, по-видимому, считает, что теория правильна. Тогда в чем же выход? О, да мы присутствуем при очень важном моменте в развитии науки.
А может быть, мы преувеличиваем в пылу энтузиазма непосвященных? На эстраде все спокойно. И в зале тоже. Докладчик дорисовывает на доске свою последнюю кривую, произносит в доску последние слова, медленно возвращается на кафедру, аккуратно складывает бумаги в папку и неторопливо сходит с помоста. Председатель поднимается из-за своего стола, раздвигает руки и растопыривает пальцы.
Но прежде чем он успевает свести их, к эстраде стремительно вылетает длинный. Минуя ступеньки он прыжком оказывается на помосте. В его руке раскрытая тетрадка журнала. Председатель опускает руки на стол, тело его движется в направлении кресла, но остается в полусогнутом состоянии.
— Видно? — громко спрашивает черноволосый, подходя к краю эстрады и выставляя вперед и высоко вверх тетрадь.
— Ничего не видно,— оживленно реагирует зал. {115}
Черноволосый подходит к доске и рисует. Мы видим совсем знакомое. Пластинка, из нее выходит след. Не совсем как на той фотографии, правда. Там над пластинкой ничего нет, а здесь в пластинку тоже входит след, это не рождение, это прохождение сквозь пластинку. След, выходящий из пластинки, кривой, но не такой кривой, как мы видели раньше. Черноволосый тщательными штрихами вырисовывает этот след, заглядывая в журнал.
Он неторопливо объясняет. Аргументации мы не понимаем, но понимаем о чем речь. Это не след электрона. Электрон не может пройти пластинку без размножения. И у электрона след был бы не так закручен. Это более тяжелая частица. Открыта новая частица — тяжелый электрон.
Как так? Мы же видели на выставке, что тяжелых электронов не бывает — только обыкновенные. Да, но сколь тяжелые там имелись в виду? Нет вдвое, вчетверо более тяжелых, на большее не хватало энергии. Насколько тяжел этот? Вот, он говорит: в двести раз тяжелее электрона. Ого! Здесь, в космических лучах энергии много, ведь хватает на ливень из тысячи пар. Вот вам и миниатюрный шкаф!
Зал затих. Мы чувствуем, все осознают, речь идет об открытии, фундаментальном открытии.
Медленно, с достоинством на эстраду поднимается докладчик.
— Я знаю эти работы, они ведутся уже три года, но метод слишком груб. Это может быть протоном. Протонов, как известно, достаточно много.
Протон в две тысячи раз тяжелее электрона.
Черноволосый мягко возражает. Это новые работы. Он называет имена, но мы не разобрали. Точность намного увеличена. Конечно, определение веса грубо, но об ошибке в десять раз не может быть и речи.
Докладчик берет журнал из рук черноволосого, смотрит в него, водит рукой по тексту, что-то говорит в усы. Вертит головой вправо и влево, потом вверх и вниз. Потом возвращает журнал и медленно сходит с эстрады.
Черноволосый стоит и молчит. Председатель поднимается, подходит к краю эстрады. Он очень крупный. Он разводит руки с растопыренными пальцами, сводит их, разводит и снова сводит.
— Таким образом,— говорит он,— если поверить этой, интересной работе,— еще один период руками,— то противоречие, о котором мы слышали в очень интересном докладе,— одна из разведенных рук идет в сторону докладчика,— как будто снимается. Электронов на уровне моря тогда нет или их мало, как и следует из теории. Мягкие частицы в этом случае — не электроны, а другие, более тяжелые частицы. Это именно Вы хотели сказать? — он поворачивается к черноволосому.
Тот молча кивает. Он как будто не собирается говорить, но и не уходит с эстрады. Похоже, что он размышляет о чем-то своем.
— А откуда они берутся? — неожиданно громко и внятно с места восклицает докладчик.
— Рождаются,— произносит черноволосый, не выходя из своего погружения.
— А куда они деваются? — кричит докладчик, у него совсем переменился голос, произошло это потому, что он направляет звук мимо усов прямо в окружающее пространство.— Что они, накапливаются на Земле, входят в состав атомов и ядер?
— Распадаются,— как-то лениво произносит черноволосый. Видно, что он об этом думал, он сам подавлен множеством возникающих вопросов, но отвечает, как будто все знает определенно.
Тут на помост вскакивает тот самый лысый добрый, мы не заметили, когда он появился в зале. Удивительно, с какой легкостью он вспрыгнул, минуя ступеньки, прыгнул с места.
— Это клей! — он с веселой улыбкой смотрит сначала в зал, потом на длинного.— Тот самый Ваш клей, о котором Вы так ходатайствуете.
Сейчас скажет про Толстого и Достоевского. Нет, это семинар, такие вольности в выражениях уже превышают меру допустимой непринужденности.
— Не мой, а Юкавин,— говорит длинный. По-видимому, он назвал японское имя. Лысый игнорирует это замечание.
— Тот самый клей. Ведь сверху приходят протоны,— он наклоняется от края эстрады к докладчику,— Вы ведь говорили, что большинство первичных частиц — протоны?
— Да,— отрывисто отвечает докладчик.
— Ну, вот,— от удовольствия лысый даже облизывается, а голос его становится {116} более тонким,— ну, вот. Летят протоны, бахают по ядрам. И из ядер летят сгустки клея. Сгустки по двести электронов весом.
— А почему всегда одинаковые сгустки, почему также не капли полегче? — раздается звонкий голос из зала.
— Милый мой, а Вы учили квантовую механику?
Вот те на! С молодыми здесь не церемонятся, прямым ответом не удостаивают. И для всех этого достаточно. А нам что делать? Мы не учили квантовую механику. И вопрос нам кажется интересным и существенным. Что значит ответ? Квант — это порция, кусок. Порции отмерены законами квантовой механики. Порции в четыре электрона не может быть, а в двести — может. Так, что ли? Тогда это не означает больше, чем то, что говорил черноволосый: «Таких нет в природе вещей». Он сказал «по-натурфилософски», а лысый «по-научному». А смысл один. И квантовая механика так, в пылу, если бы эта механика давала им возможность вычислить, что такой тяжести частицы нет, а такой — есть, то о чем был бы разговор? Ничего этого они на самом деле не знают — это и значит, наука не кончилась, развивается.
Лысый улыбается, длинный молчит. На эстраде появляется еще одна фигура. Небольшого роста, сухощавая, на носу роговые очки с толстыми стеклами. Она быстро вбежала и тяжело дышит. Рядом с черноволосым она совсем маленькая.
— Все это было бы очень хорошо, кабы не было так худо,— скороговоркой выпаливает он и делает паузу, у него прерывистое дыхание. Черноволосый кивает головой, он уже знает, о чем говорит маленький.
— Протон, как здесь говорилось, бахнул или бухнул, и из ядра вылетел клей. Клей летит. И клей бахнул в ядро. И прилип, это же клей. Если он с охотой вылетел, то охотно и прилипнет. Как может быть иначе? Мы же знаем квантовую механику.
Ну и ну! Не прост маленький, как жестко обошелся с лысым. Зал молчит, ни одного смешка, зал замер и ждет.
— И не дойдет клей до уровня моря. И вот еще — он выхватывает журнал из рук черноволосого, потом смотрит на доску, подбегает к ней, рисует.
— Посмотрите. Входит, выходит, разве клей так может? Клей бы прилип в свинце.— И прерывисто дышит.
Интересно, как он рассуждает о клее. Как о старом знакомом, он знает его повадки.
Маленький подходит к черноволосому и возвращает журнал. Лысый озадачен, посвистывает, выпятив губы. Посвистел и нашелся, он очень изобретателен.
— Я согласен. То, что на фотографии не клей. Это просто тяжелый электрон. Тогда одно из двух. Или тяжелые электроны приходят из космоса...
Докладчик что-то мычит.
— Вам не нравится, мне тоже. Если приходят, то живут давно, т. е. стабильны. И скопляются на Земле. Это мало вероятно. Но есть другая возможность. Из космоса они не приходят. Приходят только протоны.
— И они производят клей,— это включился маленький. Как будто у них с лысым полное единодушие, и не было язвительного спора, как будто они исполняют заранее приготовленный дуэт.
— А клей неустойчив. Почему ему быть устойчивым? Кроме электрона и протона, собственно, устойчивых частиц не должно быть.
— И он распадается.
— Распадается прежде, чем успеет прилипнуть.
— И рождается из него тяжелый электрон.
— А тот спокойно путешествует дальше. Он ведь не клей, не прилипает. И доходит до уровня моря.
— А там уже распадается. Вмешивается докладчик.— Еще одна частица? — Он задает вопрос с примесью ехидства.
— Да. Она тяжелее, чем тяжелый электрон.
— Очень искусственная гипотеза. Очень нарочитая. Придуманная.
— Только вряд ли нами первыми,— маленький дарит при этих словах лысому загадочную улыбку, потом переадресовывает ее докладчику.— Как-никак, а начало истории трехлетней давности, как Вы справедливо заметили.
— Ничего другого не видно,— говорит черноволосый. Его поддержка вызывает подъем в зале.
— А где он? — спрашивает докладчик.
— Надо искать,— отвечает черноволосый.— Но прежде надо убедиться, что тяжелый электрон, поскольку он уже не гипотеза, а перед нами, убедиться, что он действительно нестабилен в должной степени. Это сделать совсем просто. {117}
— Вам, теоретикам, все просто,— говорит докладчик.
Черноволосый подходит к доске и начинает рисовать. Потом пишет формулу. Как интересно: мы чувствуем, что для него тяжелый электрон перестал быть экзотической новинкой, он с ним работает. Он уже переварил все, о чем здесь говорилось. Когда?
Он нарисовал две прямые линии. Одну вертикальную, другую под углом. Докладчик перерисовывает их себе в блокнот и переписывает формулу.
— Вы измеряете,— говорит черноволосый,— интенсивность вертикальную и под углом. Здесь путь короче, распадов меньше. Вот зависимость от угла,— он показывает на формулу.— Или измеряете только вертикальную, но при разной погоде.— Это что, шутка? Нет, высота атмосферы разная при разной погоде.
— Что касается клея,— продолжает он,— то это не искусственная гипотеза. Искусственной была бы гипотеза о существовании тяжелого электрона. Никто не стал бы его придумывать. Он никому не нужен. А клей нужен. Но тут уж ничего не поделаешь, тяжелый электрон здесь без гипотез. Так что с ним надо примириться. А вот клей, клей-то нужен независимо от тяжелого электрона.
Мы чувствуем себя присутствующими при историческом событии. Нам кажется, что зал полон торжественности. Вот что такое научная дискуссия. Вот как в споре рождается истина, рождается на наших глазах. Рождается, как пара в пластинке свинца. Из энергии. Из умственной энергии, сосредоточенной на эстраде. И энергии для рождения хватает.
Теперь говорит председатель.
— Разрешите мне резюмировать. Нас познакомили здесь,— жест в сторону докладчика,— с очень интересными фактами,— жест в сторону докладчика,— анализ которых,— опять жест в сторону докладчика,— опровергает привычную схему прохождения космических лучей в атмосфере. Далее нас познакомили,— жест в сторону длинного,— с новыми опытами. Если их интерпретация верна, то открыта новая частица, которая приблизительно в двести раз тяжелее электрона. Как выяснилось в очень содержательной и интересной дискуссии,— жест в сторону троих, находящихся на эстраде,— это дает возможность, по-видимому, снять противоречие и построить новую схему прохождения космических лучей. Для ее обоснования необходимы дальнейшие эксперименты. Во-первых, надо повторить и уточнить опыты, в которых утверждается существование новой частица Во-вторых, исследовать ее стабильность и измерить время ее жизни. Здесь был предложен,— жест в сторону длинного,— очень остроумный и интересный метод измерения. В-третьих, надо попытаться искать еще более тяжелые частицы, нестабильные и реагирующие с ядрами. Будем надеяться, что такие исследования будут выполнены в обозримое время.
Какая четкость. Интересно, что слов «тяжелый электрон», «клей» он не произнес. Они уже содержат в самом своем звучании определенные образы, гипотезы. А он говорил только о фактах и опытах. А слово «обозримое время» произнес со вздохом. Наверное, подумал о своем возрасте. Старикам весело от реминисценций и грустно от перспектив.
Председатель идет к своему месту и садится за свой стол. Трое, находящихся на эстраде, беседуя между собой, спускаются в зал. Стрелка на черном квадрате напряженно и нервно прыгает от секунды к секунде, «время идет».
Председатель, опираясь ладонями о стол, приподымается, садится и встает. Он растопыривает пальцы обеих рук, сводит их, разводит и опять сводит. И произносит два слова:
— Очень интересно.
Семинар окончен.
Представь себе, дорогой, что ты вернулся через некоторый промежуток времени на место, которое ты любил. И представь себе, что этот промежуток времени составляет ни больше ни меньше как тридцать пять лет. А место — не что иное, как Невский проспект.
Ты проходишь его от начала до конца, от привокзальной площади до Фонтанки и от Фонтанки до Канала, и от Канала до Мойки, и от Мойки до сада перед Адмиралтейством. Он тот же, каким был тогда, в дни юности. Нет торцов, жаль, но остальное то же.
И та же толпа. Та же по возрастному спектру и по характеру движения. Это ты изменился, может быть, но ты не сосредоточен на себе, а она прежняя. Правда, каждый пятый юноша бородат. Но ты сейчас не играешь в счет бород. Правда, каждая третья девушка в брючках. Зато длина юбок уже завершила полный период и возвратилась к исходной.
Все прежнее: витрины, кони, статуи, гармоничная непохожесть зданий, отношение их высоты к ширине проспекта. Ты {118} уверен, откроешь калитку в этом доме на углу Мойки, и увидишь тот же дворик, погруженный в опоясанную скульптурами тишину начала прошлого века.
Ты бы мог испытать грусть по поводу отсутствия знакомых лиц в толпе, ты не встречаешь в ней друзей. Но ты не встречал их и тогда. Твои друзья не так часто гуляли по Невскому. И ты редко бродил там. Бродил с юным чувством одиночества, когда было грустно; грусть не исчезала, но она становилась такой, что уже не вызывала желания избавиться от нее.
И теперь, идя по Невскому, ты наполняешься той же грустью, только той.
Решетчатая ограда. За ней остатки рощи. Усадьба, колонны портика. Ничего не изменилось.
Мы знаем, что в глубине за усадьбой построены новые большие корпуса. Но мы их не видим отсюда. Мы знаем, что еще корпуса выстроены в пяти километрах отсюда. И еще корпуса в тридцати пяти километрах. Но здесь, в метрополии, все как прежде.
Мы быстро входим. Обходим справа стеклянную стену. Скорее, по широкой лестнице с мраморными перилами, оборот, поднялись, мы на втором этаже.
Коридор заполнен жужжащей толпой. Сегодня среда, середина недели, день семинара. Сейчас пик скопления, двадцать минут до начала семинара. Идем сквозь толпу. Жужжание неоднородно, группы ведут свои разговоры. Шеренги, овальные скопления, стоящие скопления у стен. Вот в этой говорит только один, он прижат слушателями к двери в правой стене, слушатели закрыли его, не видно.
Где ты, возвышающаяся голова длинного черноволосого? И где лысый добрый в круглых очках с металлической оправой? И маленький с прерывистым дыханием, породистый докладчик, розоволицый председатель.
Вот они все. Вот, на левой стене портретная галерея. Ведь нынче опять — юбилейный год, тридцать пять делится на пять. На стенах выставка, достижения науки и достижения института за время его существования. Портретная галерея входит в состав выставки.
Посмотрим немного. Вот рядом «Пионы и мюоны». Что это такое? Вот фотография, которая будет дорога нам. На ней три прямых следа, один продолжение другого, один кончается, следующий начинается. Около следов стрелки показывают, куда движется частица. Первый след жирный и короткий. Второй под углом к первому, вначале он тонкий, потом жирнеет. Он кончается, и в третьем направлении идет третий след, он совсем тонкий, доходит до края фотографии — ушел из нее. У каждого следа по букве — символы имен частиц. У первого греческая буква π, это пион, у второго греческая буква μ, это мюон, у третьего латинское e — электрон. Это те три частицы, о которых шла речь в той памятной дискуссии. Пион это клей. А мюон — тяжелый электрон. Значит, все так и есть. Как тогда говорилось. Вот пион-клей появился, когда что-то ударило в ядро (бахнуло). Потом, не успев приклеиться вновь, он кончился, остановился и распался, родился мюон — тяжелый электрон. Побежал, замедлился, остановился и кончился, распался. Родился электрон и побежал дальше.
Все так и есть. И теперь все точно известно. И какого они веса, и как долго живут. И что клей действительно способен прилипать к ядру, а тяжелый электрон не прилипает. Все известно. И их умеют делать искусственно, кого хотят, того и производят: пионы, мюоны. Без милости космических лучей, по заказу. Вот, пожалуйста, заголовок «Пучки мюонов». Это что, как пучки электронов в телевизоре?
Да, в каком-то смысле. Вот целый раздел «Применение мюонов в химии и в физике твердого тела». Никогда в науке открытие не есть завершение. Наоборот, начало новой области. Новой специализации. Наверное, уже есть и узкие «мюонщики». Наука растет вглубь, но еще больше вширь. Ничто не завершается, расширяется безгранично.
Еще какое-то слово-заглавие раздела «мюоний», что это такое? Нет, поторопимся. Мы ведь в конце концов только совершаем паломничество. Мимо «странных частиц», мимо «полупроводников» и «прочности». Заглянем в библиотеку.
Здесь нет выставочных макетов. Но расставлены маленькие высокие столики, на них аппараты с двумя окулярами и наушники. Теперь экскурсовод не нужен. Нам покажут стереоскопические фильмы. Подойдем, приставим глаза к окулярам, наденем наушники. Очень красочно. Мы видим желтый волчок и голубой волчок, вроде того, который показывал добрый лысый черноволосому длинному. Каждый волчок крутится и водит носиком. И кроме того, голубой бегает, летает вокруг {119} желтого. Нам объясняют в наушники: желтый — это мюон, а голубой — электрон, а все вместе — такой атом, он называется мюоний. Такой атом существует? Конечно, как может быть иначе, возьмите атом водорода, замените в нем протон на мюон, вот и все.
Хорошенькое дело, «замените и все». Но они сумели это сделать. По-видимому, не в кино, на самом деле. И завели на этом целую химию.
Наушники советуют нам понаблюдать за носиками волчков. Они вертятся и крутятся, но носик желтого все время следит за носиком голубого.
— А сейчас произойдет распад мюона,— говорит наушник. Из носика желтого вылетает новый голубой, желтый тает, оба голубых уходят из поля зрения.
Черт знает что. Хватит, нам вполне достаточно. Пойдем еще в конференц-зал.
Семинар давно начался. Но порядки здесь либеральные, дверь чуть приоткрыта, мы просовываемся и, прижимаясь к стене, проходим налево. И останавливаемся прислонившись.
Зал тихо жужжит. Некоторые слушают, некоторые, слушая, обмениваются комментариями, некоторые вовсе не слушают, заняты своим.
За председательским столом, на помосте справа, полный человек с бледным лицом и бледной лысиной. У экрана докладчик, он держит указку в руке, стоя лицом к залу. Это молодой человек в тонком цветном однотонном свитере, с приятным, даже красивым круглым лицом. Но под глазами у него тени. Сколько ему лет? Совсем молодой, наверное сорок. Сорок минус тридцать пять остается пять. Длинная стрелка на черном парящем в воздухе квадрате напряженно прыгает от штриха к штриху.
На экране несколько почти прямых горизонтальных отрезков, вроде ступенек лестницы. Ступени идут слева вверх направо.
— Мюонные пары,— говорит он,— служат эталоном. Поскольку о мюонах мы все знаем, теория образования мюонных пар совершенна. Подскоки означают, что вступают в игру новые типы пар. Вот здесь,— он указывает на самую правую, самую высокую горизонталь,— по-видимому, рождаются тяжелые лептоны, но это еще проблематично. Что такое лептоны?
Вот так обстоят дела. О мюонах все известно. Они просто эталон. Мюон — это тяжелый электрон. Оба электрона теперь входят в клан, он называется лептонами. И теперь они всего лишь легкие лептоны, легкий электрон и тяжелый электрон — это легкие лептоны. Потому что другие, новые — это лептоны тяжелые.
Нам пора. Прижимаясь к стене, мы выходим из зала.