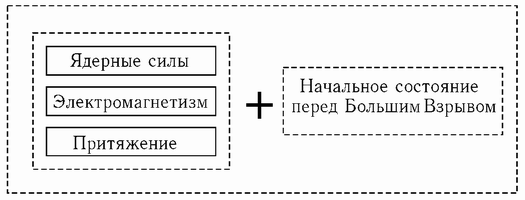
Рис. 1.1. Неадекватное понимание «теории всего»
DAVID DEUTSCH
The Fabric of Reality
Allen lane the penguin press
Д. Дойч
Структура Реальности
Перевод с английского Н.А. Зубченко
под общей редакцией академика РАН В.А.Садовничего
РХД — Москва-Ижевск 2001
Посвящается памяти Карла Поппера, Хью Эверетта
и Алана Тьюринга, а также Ричарду Доукинсу.
В этой книге их идеи восприняты всерьез.
| Стр. | |
6 | |
6 | |
7 | |
Глава 1. Теория Всего | 8 |
Глава 2. Тени | 37 |
Глава 3. Решение задач | 60 |
Глава 4. Критерии реальности | 77 |
Глава 5. Виртуальная реальность | 102 |
Глава 6. Универсальность и пределы вычислений | 127 |
Глава 7. Беседа о доказательстве (или «Дэвид и Крипто-индуктивист») | 145 |
Глава 8. Важность жизни | 170 |
Глава 9. Квантовые компьютеры | 197 |
Глава 10. Природа математики | 226 |
Глава 11. Время: первая квантовая концепция | 262 |
Глава 12. Путешествие во времени | 293 |
Глава 13. Четыре нити | 325 |
Глава 14. Конец Вселенной | 347 |
370 |
Предлагаемая Вашему вниманию книга известного специалиста по квантовым компьютерам и квантовым вычислениям Дэвида Дойча своим выходом во многом обязана поддержке ректора Московского Государственного университета академика РАН В. А. Садовничего. В этой книге автор не только систематически рассматривает физические принципы нового описания реальности, но и предлагает свои любопытные философские рассуждения. Более подробно с различными аспектами квантовых компьютеров и квантовых вычислений читатель может ознакомиться на страницах журнала «Квантовые компьютеры и квантовые вычисления», который выпускается научно-издательским центром «Регулярная и хаотическая динамика».
Развитию идей, описанных в данной книге, в значительной степени способствовали беседы с Брайсом ДеВиттом, Артуром Экертом, Майклом Локвудом, Энрико Родриго, Деннисом Скиамой, Фрэнком Типлером, Джоном Уилером и Колей Вольфом.
Я выражаю благодарность своим друзьям и коллегам Рут Чанг, Артуру Экерту, Дэвиду Джонсон-Дэвису, Майклу Локвуду, Энрико Родриго и Коле Вульфу, своей маме Тикве Дойч и своим издателям Кэролайн Найт и Рави Мирчандани (издательство Penguin Books) и Джону Вудрафу, и особенно Саре Лоренс за внимательное и критичное чтение первых черновиков этой книги, а также за внесение множества исправлений и улучшений. Также я признателен всем, кто читал и комментировал части рукописи, включая Харви Брауна, Стива Грэхема, Роселлу Лупачини, Свена Олафа Нюберга, Оливера и Гарриет Стримпел и особенно Ричарда Доукинса и Фрэнка Типлера.
Если и существует единая мотивация мировоззрения, изложенного в этой книге, она заключена в том, что сейчас мы обладаем несколькими чрезвычайно глубокими теориями о структуре реальности, главным образом благодаря ряду экстраординарных научных открытий. Если мы хотим понять мир не поверхностно, а более глубоко, нам помогут эти теории и разум, а не наши предрассудки, приобретенные мнения и даже не здравый смысл. Наши лучшие теории не только более истинны, чем здравый смысл, в них гораздо больше смысла, чем в здравом смысле. Мы должны воспринимать их серьезно: не просто как практическую основу относящихся к ним областей, а как объяснения мира. Я полагаю, что мы сможем достигнуть величайшего понимания, если будем рассматривать их не по отдельности, а совместно, поскольку между ними существует сложная связь.
Может показаться странным, почему это предложение попытаться сформировать рациональное и понятное мировоззрение на основе наших лучших основных теорий должно быть новым или противоречивым. Тем не менее, на практике оно таковым и является. Одна из причин заключается в том, что каждая из этих теорий, когда её воспринимают серьезно, дает результаты, противоречащие тому, что подсказывает нам интуиция. Поэтому предпринимаются всевозможные попытки избежать столкновения с этими результатами: теории специально изменяют или объясняют иначе; произвольно сужают область их применения или просто используют их на практике, не делая общих выводов. Я буду критиковать некоторые подобные попытки (ни одна из которых, по-моему, и гроша ломаного не стоит), но только в том случае, когда такая критика будет целесообразна для объяснения самих теорий. Главная цель этой книги — не защищать эти теории, а исследовать, какой была бы структура реальности, если бы эти теории оказались истинными. {8}
Помню, когда я был ещё ребенком, мне говорили, что в древние времена очень образованный человек мог знать все, что было известно. Кроме того, мне говорили, что в наше время известно так много, что ни один человек не в состоянии изучить больше крошечной частички этого знания даже за всю свою жизнь. Последнее удивляло и разочаровывало меня. Я просто отказывался в это поверить. Вместе с тем, я не знал, как оправдать свое неверие. Но такое положение вещей меня определенно не устраивало, и я завидовал древним ученым.
Не то чтобы я хотел заучить все факты, перечисленные в мировых энциклопедиях: напротив, я ненавидел зубрежку. Не таким способом я надеялся получить возможность узнать все, что только было известно. Даже если бы мне сказали, что ежедневно появляется столько публикаций, сколько человек не сможет прочитать и за целую жизнь, или, что науке известно 600000 видов жуков, это не разочаровало бы меня. Я не горел желанием проследить за полетом каждого воробья. Более того, я никогда не считал, что древний ученый, который, как предполагалось, знал все, что было известно, стал бы занимать себя чем-то подобным. Я иначе представлял себе то, что следует считать известным. Под «известным» я подразумевал понятым.
Сама мысль о том, что один человек в состоянии понять все, что понято, может показаться фантастической, однако фантастики в ней куда меньше, чем в мысли о том, что один человек сможет запомнить все известные факты. К примеру, никто не сможет запомнить все известные результаты научных наблюдений даже в такой узкой области, как изучение движения планет, но многие астрономы понимают это движение настолько полно, насколько оно понято. Это становится возможным, потому что понимание зависит не от знания множества фактов как таковых, а от построения правильных концепций, объяснений и теорий. Одна сравнительно простая и понятная теория может охватить бесконечно много неудобоваримых фактов. Лучшей теорией планетарного движения является общая теория относительности Эйнштейна, которая в самом начале двадцатого века вытеснила теории гравитации {9} и движения Ньютона. Теория Эйнштейна точно предсказывает не только принцип движения планет, но и любое другое влияние гравитации, причем точность этого предсказания соответствует нашим самым точным измерениям. Дело в том, что, когда теория предсказывает что-либо «в принципе», это означает, что предсказание логически истекает из теории, даже если на практике для получения некоторых таких предсказаний необходимо произвести больше вычислений, чем мы способны осуществить технологически или физически в той вселенной, которую мы себе представляем.
Способность предсказывать или описывать что-либо, даже достаточно точно, совсем не равноценна пониманию этого. В физике предсказания и описания часто выражаются в виде математических формул. Допустим, что я запомнил формулу, из которой при наличии времени и желания мог бы вычислить любое положение планет, которое когда-либо было записано в архивах астрономов. Что же я в этом случае выиграл бы по сравнению с непосредственным заучиванием архивов? Формулу проще запомнить, ну а дальше: посмотреть число в архивах может быть даже удобнее, чем вычислить его из формулы. Истинное преимущество формулы в том, что её можно использовать в бесконечном множестве случаев помимо архивных данных, например, для предсказания результатов будущих наблюдений. С помощью формулы можно также получить более точное историческое положение планет, потому что архивные данные содержат ошибки наблюдений. Однако даже несмотря на то, что формула суммирует бесконечно бóльшее количество фактов по сравнению с архивами, знать её — не значит понимать движение планет. Факты невозможно понять, попросту собрав их в формулу, так же как нельзя понять их, просто записав или запомнив. Факты можно понять только после объяснения. К счастью, наши лучшие теории наряду с точными предсказаниями содержат глубокие объяснения. Например, общая теория относительности объясняет гравитацию на основе новой четырехмерной геометрии искривленного пространства и времени. Она точно объясняет, каким образом эта геометрия воздействует на материю и подвергается воздействию материи. В этом объяснении и заключается полное содержание теории; а предсказания относительно движения планет — это всего лишь некоторые умозаключения, которые мы можем сделать из объяснения.
Общая теория относительности так важна не потому, что она может чуть более точно предсказать движение планет, чем теория Ньютона, {10} а потому, что она открывает и объясняет такие аспекты действительности, как искривление пространства и времени, о которых ранее не подозревали. Это типично для научного объяснения. Научные теории объясняют объекты и явления в нашей жизни на основе скрытой действительности, которую мы непосредственно не ощущаем. Тем не менее, способность теории объяснить то, что мы ощущаем, — не самое ценное её качество. Самое ценное её качество заключается в том, что она объясняет саму структуру реальности. Как мы увидим, одно из самых ценных, значимых и полезных качеств человеческой мысли — её способность открывать и объяснять структуру реальности.
Однако некоторые философы, и даже ученые, недооценивают роль объяснения в науке. Для них основная цель научной теории заключается не в объяснении чего-либо, а в предсказании результатов экспериментов: все содержание теории заключено в формуле предсказания. Они считают, что теория может дать своим предсказаниям любое не противоречащее ей объяснение, а может и вовсе не давать такового до тех пор, пока её предсказания верны. Такой взгляд называется инструментализмом (поскольку в этом случае теория — всего лишь «инструмент» для предсказания). Саму мысль о том, что наука может помочь нам понять скрытую реальность, объясняющую наши наблюдения, инструменталисты считают ложной и тщеславной. Они не понимают, каким образом то, о чем говорит научная теория помимо предсказания результатов экспериментов, может быть чем-то бóльшим, чем пустые слова. Объяснения, в частности, они считают простой психологической опорой: чем-то вроде художественных вкраплений, которые мы включаем в теории, чтобы сделать их более занимательными и легко запоминающимися. Лауреат Нобелевской премии, физик Стивен Вайнберг, явно говорил с позиций инструментализма, когда следующим образом прокомментировал объяснение гравитации Эйнштейном:
«Важно иметь возможность предсказать картины звездного неба на фотоснимках астрономов, частоту спектральных линий и т. п., а то, припишем ли мы эти прогнозы физическому воздействию гравитационных полей на движение планет и фотонов [как это было в физике до Эйнштейна] или искривлению пространства и времени, просто не имеет значения.» (Gravitation and Cosmology, с. 147).
Вайнберг и другие инструменталисты ошибаются. То, чему мы приписываем изображения на фотошаблонах астрономов, имеет значение, и не только для физиков-теоретиков вроде меня, у которых {11} желание в бóльшей степени понять мир становится мотивацией для выражения теорий в виде формул и их изучения. (Я уверен, что эта мотивация присуща и Вайнбергу: вряд ли его стимулирует одно лишь желание предсказать изображения и спектры!) Дело в том, что даже для чисто практического применения прежде всего важны объяснительные возможности теории, а уж потом, в качестве дополнения, — её предсказательные возможности. Если это вас удивляет, представьте, что на Земле появился инопланетный ученый и преподнес нам ультратехнологичный «предсказатель», который может предсказать результат любого эксперимента, но без каких-либо объяснений. Если верить инструменталистам, то как только мы получим этот предсказатель, наши научные теории нам будут нужны разве что для развлечения. Но так ли это? Каким образом предсказатель можно было бы использовать практически? В некотором смысле предсказатель содержал бы знания, необходимые для того, чтобы построить, скажем, космический корабль. Но насколько он бы пригодился нам при строительстве этого корабля, или при создании другого подобного предсказателя, или даже при усовершенствовании мышеловки? Предсказатель всего лишь предсказывает результаты экспериментов. Следовательно, чтобы получить возможность пользоваться предсказателем, нам, прежде всего, нужно знать, о результатах каких экспериментов его можно спрашивать. Если бы мы задали предсказателю чертеж космического корабля и информацию о предполагаемом испытательном полете, он мог бы сказать нам, как поведет себя корабль во время этого полета. Но спроектировать космический корабль предсказатель не смог бы. И даже если бы он сообщил нам, что спроектированный нами космический корабль взорвется при запуске, он не смог бы сказать нам, как предотвратить этот взрыв. Эту проблему снова пришлось бы решать нам. А прежде чем её решить, прежде чем приступить хоть к какому-то усовершенствованию конструкции, нам пришлось бы понять, кроме всего прочего, принцип работы космического корабля. И только тогда у нас появилась бы возможность выяснить причину взрыва при запуске. Предсказание — пусть даже самое совершенное, универсальное предсказание — не способно заменить объяснение.
Точно так же предсказатель не смог бы предоставить нам ни одной новой теории и в научных исследованиях. Вот если бы у нас уже была теория, и мы придумали бы эксперимент для её проверки, тогда можно было бы спросить предсказатель, что произойдет, если подвергнуть {12} теорию этому испытанию. Таким образом, предсказатель заменил бы вовсе не теории — он заменил бы эксперименты. Он избавил бы нас от затрат на испытательные лаборатории и ускорители частиц. Вместо того чтобы строить опытные образцы космических кораблей и рисковать жизнью летчиков-испытателей, все испытания мы могли бы проводить на земле, посадив летчиков в пилотажные тренажеры, управляемые предсказателем.
Предсказатель мог бы быть весьма полезен в различных ситуациях, но его полезность всегда бы зависела от способности людей решать научные задачи точно так же, как они вынуждены делать это сейчас, а именно, изобретая объяснительные теории. Он даже не заменил бы все эксперименты, поскольку на практике его способность предсказать результат какого-то частного эксперимента зависела бы от того, что проще: достаточно точно описать этот эксперимент, чтобы предсказатель дал пригодный ответ, или провести эксперимент в действительности. В конце концов, для связи с предсказателем понадобился бы своего рода «пользовательский интерфейс». Возможно, описание изобретения пришлось бы вводить в предсказатель на каком-то стандартном языке. Некоторые эксперименты с трудом можно было бы описать на этом языке. На практике описание многих экспериментов оказалось бы слишком сложным для ввода. Таким образом, предсказатель имел бы те же основные преимущества и недостатки, что и любой другой источник экспериментальных данных, и был бы полезен только в тех случаях, когда обращение к нему оказывалось бы удобнее, чем к другим источникам. Кроме того, такой предсказатель уже существует совсем рядом, — это физический мир. Он сообщает нам результат любого возможного эксперимента, если мы спрашиваем его на правильном языке (т. е. если мы проводим эксперимент), хотя в некоторых случаях нам не очень удобно «вводить описание эксперимента» в требуемой форме (т. е. создавать некий аппарат и управлять им). Однако мир не дает объяснений.
В некоторых практических случаях, например, при прогнозе погоды, предсказатель, обладающий исключительно предсказательной функцией, устроил бы нас не меньше, чем объяснительная теория. Но даже в этом случае для целесообразного использования предсказателя предсказанный прогноз погоды должен быть полным и совершенным. На практике прогнозы погоды неполны и несовершенны, и, чтобы скомпенсировать неточность, в них включают объяснения того, как метеорологи получили тот или иной прогноз. Объяснения позволяют нам {13} судить о надежности прогноза и вывести дальнейший прогноз для нашего места расположения или наших нужд. К примеру, для меня есть разница, чем будет вызвана ветреная погода, которую прогнозируют на завтра: близостью района с высоким атмосферным давлением или более отдаленным ураганом. В последнем случае я бы предпринял больше предосторожностей. Метеорологам самим необходимы объяснительные теории о погоде, чтобы они могли предположить, какие приближения можно допустить при компьютерном моделировании погоды, какие дополнительные наблюдения обеспечат более точный и своевременный прогноз погоды и т. п.
Таким образом, идеал инструменталистов, представленный в виде нашего воображаемого предсказателя, а именно, научной теории, лишенной своего объяснительного содержания, будет полезен в строго ограниченном числе случаев. Так будем благодарны, что реальные научные теории не похожи на этот идеал и что, в действительности, ученые к нему не стремятся.
Крайняя форма инструментализма, называемая позитивизм (или логический позитивизм), утверждает, что все положения, отличные от тех, которые описывают или предсказывают наблюдения, не только излишни, но и бессмысленны. И хотя в соответствии со своими же критериями в этой доктрине отсутствует смысл, она, тем не менее, господствовала в науке всю первую половину двадцатого столетия! Идеи инструменталистов и позитивистов широко распространены даже сегодня. Причина такой их убедительности заключается в том, что, хотя предсказание не является целью науки, оно является частью характеристического метода науки. Этот научный метод включает теоретическое принятие новой теории для объяснения некоторого класса явлений, затем проведение решающего экспериментального исследования, эксперимента, для которого старая теория предсказывает один видимый результат, а новая теория — другой. Затем теорию, предсказания которой оказались ложными, отвергают. Таким образом, результат решающего эксперимента, который позволяет сделать выбор между двумя теориями, зависит от предсказания теорий, а не от их объяснения. Именно отсюда истекает ошибочное представление, что в научной теории нет ничего, кроме предсказаний. Однако экспериментальное исследование — это далеко не единственный процесс, связанный с ростом научного знания. Подавляющее большинство теорий отвергли не потому, что их не подтвердили экспериментальные исследования, а потому, {14} что у них были плохие объяснения. Мы отвергаем такие теории, даже не проверяя их. Например, рассмотрим следующую теорию: съев килограмм травы, можно вылечиться от простуды. Эта теория делает предсказание, которое можно проверить на опыте: если люди попробуют лечиться травой и найдут это неэффективным, появятся доказательства ложности этой теории. Но эту теорию никогда не проверяли на опыте и, возможно, никогда не проверят, потому что она не дает объяснений: она не объясняет ни процесс лечения, ни что бы то ни было ещё. Мы абсолютно правильно считаем её ложной. Всегда есть бесконечно много возможных теорий такого рода, совместимых с существующими наблюдениями и предлагающих новые предсказания, и у нас не хватило бы ни времени, ни средств, чтобы проверить их все. Мы проверяем новые теории, которые выглядят более обещающими для объяснения чего-либо, чем те, которые широко распространены сегодня.
Сказать, что предсказание — цель научной теории, значит перепутать средства и цели. Точно так же можно сказать, что цель космического корабля — сжигать топливо. На самом деле, горение топлива — это лишь один из многих процессов, которые корабль должен выполнить для достижения своей действительной цели, то есть транспортировки полезной нагрузки из одной точки космического пространства в другую. Проведение экспериментальных исследований — это лишь один из многих процессов, которые должна осуществить теория для достижения истинной цели науки, которая заключается в объяснении мира.
Как я уже сказал, частично объяснения составляются на основе того, что мы непосредственно не наблюдаем: атомы и силы; внутренние области звезд и вращение галактик; прошлое и будущее; законы природы. Чем глубже объяснение, тем к более отдаленным от настоящего опыта категориям оно должно обращаться. Однако эти категории не вымышлены: напротив, они являются частью самой структуры реальности.
Объяснения часто порождают предсказания, по крайней мере, в принципе. В самом деле, если что-то, в принципе, можно предсказать, то достаточно полное объяснение должно, в принципе, предсказать это полностью (помимо всего прочего). Однако можно объяснить и понять многие изначально непредсказуемые вещи. Например, вы не можете предсказать, какие номера выпадут на честной (т. е. беспристрастной) рулетке. Но если вы поймете, что в конструкции и действии рулетки делает её беспристрастной, то вы сможете объяснить, почему {15} невозможно предсказать номера. И опять: простое знание того, что рулетка беспристрастна, не равноценно пониманию того, что делает её беспристрастной.
И я говорю именно о понимании, а не просто о знании (или описании, или предсказании). Поскольку понимание приходит через объяснительные теории, а эти теории могут быть схожи, быстрое увеличение количества записанных фактов не обязательно усложняет понимание всего, что понято. Тем не менее, большинство людей считает (и именно это говорили мне тогда, в детстве), что с ошеломляющей скоростью растет не только количество записанных фактов, но и количество и сложность теорий, через которые мы познаем мир. Следовательно (говорят они), не важно, было или нет такое время, когда один человек мог понять все, что было понято, в наше время это точно невозможно, и это становится все более и более невозможным по мере роста нашего знания. Может показаться, что каждый раз, когда появляется новое объяснение или методика, существенная для данного предмета, к списку, который должен выучить любой желающий понять этот предмет, следует добавить ещё одну теорию; когда же количество таких теорий в любом предмете становится слишком большим, появляются специализации. Физика, к примеру, разделилась на астрофизику, термодинамику, физику частиц, теорию квантового поля и многие другие науки. Теоретическая основа каждой из этих наук, по крайней мере, так же обширна, как вся физика сто лет назад, и многие науки уже распадаются на подспециализации. Кажется, что, чем больше открытий мы делаем, тем дальше и безвозвратнее нас уносит в век специалистов, и тем больше удаляются от нас те предполагаемые древние времена, когда понимание обычного человека могло охватить все, что только было понято.
Человека, столкнувшегося с этим огромным и быстро растущим меню теорий, созданных человеческой расой, можно простить за его сомнения в том, что один индивидуум способен за свою жизнь отведать каждое блюдо и самостоятельно, как это могло быть когда-то, оценить все известные рецепты. Однако объяснение — необычная пища: бóльшую порцию не обязательно труднее проглотить. Теорию может вытеснить новая теория, более точная, с бóльшим количеством объяснений, но и более простая для понимания. В этом случае старая теория становится лишней, и мы понимаем больше, а учим меньше, чем раньше. Именно это и произошло, когда теория Николая Коперника о том, {16} что Земля движется вокруг Солнца, вытеснила сложную систему Птолемея, которая помещала Землю в центр Вселенной. Иногда новая теория может упрощать существующую, как в случае, когда арабские (десятичные) цифры заменили римские. (В данном случае теория выражена неявно. Каждое обозначение определяет конкретные операции, положения и мысли о числах проще других и, следовательно, воплощает теорию, по которой операции с числами становятся более простыми и эффективными). Новая теория может объединять две старые теории, обеспечивая большее понимание, чем при отдельном использовании старых теорий, как это произошло, когда Майкл Фарадей и Джеймс Кларк Максвелл объединили теории электричества и магнетизма в одну теорию электромагнетизма. Косвенно, более полные объяснения, в любом предмете направлены на усовершенствование методов, понятий и языка, с помощью которых мы пытаемся понять другие предметы, и, таким образом, наше знание в целом может стать более простым для понимания.
Общеизвестно, что часто, когда новые теории таким образом заменяют старые, последние не забываются навсегда. Даже римские цифры всё ещё используют сегодня в определенных случаях. Громоздкие методы, с помощью которых люди когда-то вычисляли, что XIX, умноженное на XVII, равно CCCXXIII, уже не применяются всерьез, но даже сейчас они несомненно известны и понятны кому-то, например, историкам математики. Означает ли это, что человек не может понять «все, что понято», не зная римских цифр и их загадочной арифметики? Совсем нет. Современный математик, который по какой-то причине никогда не слышал о римских цифрах, тем не менее, уже обладает полным пониманием связанной с ними математики. Узнав о римских цифрах, этот математик приобретет не новое понимание, а всего лишь новые факты — исторические факты, факты о свойствах каких-то произвольно обозначенных символов, а не новое знание о самих числах. Он уподобится зоологу, который учится переводить названия видов на иностранный язык, или астрофизику, который узнает, каким образом люди различных культур распределяют звезды по созвездиям.
Необходимо ли знание арифметики римских цифр для понимания истории — отдельный вопрос. Допустим, что какая-то историческая теория — какое-то объяснение — зависела от определенных методов, которые древние римляне использовали для умножения (так же, как, например, оказалось, что их особые методы создания водопроводов из {17} свинцовых груб, отравлявших питьевую воду, внесли свой вклад в падение Римской Империи). Затем, если мы хотим понять историю, а следовательно, и все, что понято, то нам следует узнать, какие это были методы. Но дело в том, что ни одно современное историческое объяснение не связано с методикой умножения чисел, так что наши записи относительно этих методов — не более чем констатация фактов. Все, что понято, может быть понято и без заучивания этих фактов. Мы в любое время можем посмотреть их в справочнике, если, например, расшифровываем древний текст, в котором они упоминаются.
Постоянно разграничивая понимание и «просто» знание, я не хочу преуменьшить важность записанной, но не объясненной информации. Такая информация безусловно важна для всего: от размножения микроорганизма (который содержит такую информацию в молекулах ДНК) до самого абстрактного человеческого мышления. Чем же тогда отличается понимание от простого знания? Что есть объяснение, в отличие от простой формулировки факта, коей являются правильное описание или предсказание? На практике мы обычно достаточно быстро чувствуем разницу. Мы осознаем, когда чего-то не понимаем, даже если мы можем точно описать это и дать этому точное предсказание (например, течение известной болезни неизвестного происхождения), и также мы знаем, что объяснение поможет нам лучше понять это. Но дать точное определение понятий «объяснение» или «понимание» сложно. Грубо говоря, они скорее отвечают на вопрос «почему», чем на вопрос «что»; затрагивают внутреннюю суть дел; описывают реальное, а не кажущееся состояние вещей; говорят о том, что должно быть, а не что случается: определяют законы природы, а не эмпирические зависимости. Эти понятия можно отнести к связности, утонченности и простоте в противоположность произвольности и сложности, хотя ни одному из этих понятий также нельзя дать простое определение. Но в любом случае, понимание — это одна из высших функций человеческого мозга и разума, и эта функция уникальна. Многие другие физические системы, например, мозг животных, компьютеры и другие машины, могут сравнивать факты и действовать в соответствии с ними. Но в настоящее время мы не знаем ничего, кроме человеческого разума, что было бы способно понять объяснение или желало бы получить его прежде всего. Каждое открытие нового объяснения и каждое понимание существующего объяснения зависит от уникальной человеческой способности мыслить творчески. {18}
Можно считать, что теория римских цифр утратила свое объяснительное значение и превратилась в простое описание фактов. Подобное устаревание теорий происходит постоянно по мере роста нашего знания. Изначально римская система цифр действительно формировала часть концептуальной и теоретической системы взглядов, которая помогала людям, использующим эти цифры, понимать мир. Но сейчас то понимание, которое когда-то достигалось таким образом, — не более чем крошечный аспект гораздо более глубокого понимания, воплощенного в современных математических теориях и неявно в современных условных обозначениях.
Это иллюстрирует ещё одно свойство понимания. Возможно понять что-то, не осознавая, что понимаешь это, или даже не уделяя этому особого внимания. Возможно, это звучит парадоксально, но смысл глубоких обобщенных объяснений состоит в том, что они охватывают не только знакомые ситуации, но и незнакомые. Если бы вы были современным математиком и впервые столкнулись с римскими цифрами, возможно, вы бы сразу не осознали, что уже поняли их. Сначала вам бы пришлось выучить факты относительно того, что это такое, а потом поразмышлять над этими фактами в свете вашего настоящего понимания математики. Но завершив это, вы могли бы, оглянувшись назад, сказать: «Да, в римской системе цифр для меня нет ничего нового, кроме фактов». Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что объяснительная роль римских цифр полностью устарела.
Точно так же, когда я говорю, что понимаю, каким образом кривизна пространства и времени влияет на движение планет даже в других солнечных системах, о которых я, возможно, никогда не слышал, я не утверждаю, что могу вспомнить без дальнейших размышлений объяснение всех подробностей вращения и колебаний орбиты любой планеты. Я имею в виду, что понимаю теорию, содержащую все эти объяснения, и поэтому могу точно вывести любое из них, если получу некоторые факты о конкретной планете. Сделав это, я, оглянувшись назад, смогу сказать в прошлое: «Да, в движении этой планеты я не вижу ничего, кроме фактов, которые не объясняет общая теория относительности». Мы понимаем структуру реальности, только понимая теории, объясняющие её. А поскольку они объясняют больше, чем мы непосредственно осознаем, мы можем понять больше, чем непосредственно осознаем, что поняли. {19}
Я не утверждаю, что, когда мы понимаем теорию, мы обязательно понимаем все, что она может объяснить. В очень глубокой теории осознание того, что она объясняет данное явление, само по себе может быть значительным открытием, требующим независимого объяснения. Например, квазары — чрезвычайно яркие источники излучения в центре некоторых галактик — в течение многих лет были одной из загадок астрофизики. Когда-то даже полагали, что для того, чтобы их объяснить, потребуется новая физика, но сейчас мы считаем, что их объясняет как общая теория относительности, так и другие теории, которые были известны ещё до открытия квазаров. Мы полагаем, что квазары состоят из горячей материи в процессе падения в черные дыры (разрушенные звезды с таким мощным гравитационным полем, что ничто не может избежать его). Однако потребовались многие годы наблюдений и теоретических исследований, прежде чем мы пришли к этому выводу. Теперь, когда мы считаем, что нашли меру понимания квазаров, мы не думаем, что и раньше обладали этим пониманием. Хотя мы и объяснили квазары через существующие теории, мы получили абсолютно новое понимание. Насколько сложно дать определение объяснению, настолько же сложно определить, считать ли вспомогательное объяснение независимой составляющей того, что понято, или относить его к более глубокой теории. Это сложно определить, но не так сложно осознать: на практике, когда нам дают новое объяснение, мы понимаем, что оно новое. И снова: разница связана с творческими способностями. Объяснить движение какой-то планеты человеку, который понимает общую теорию относительности, — чисто механическая задача, хотя она может оказаться очень сложной. Но, чтобы использовать существующую теорию для объяснения квазаров, необходимо творческое мышление. Таким образом, чтобы понять все, что понято в астрофизике на сегодняшний день, вам придется подробно изучить теорию квазаров. Но вам не придется изучать орбиту какой-то конкретной планеты.
Таким образом, несмотря на то, что количество известных нам теорий, да и записанных фактов растет как снежный ком, сама структура не становится более сложной для понимания. Дело в том, что, становясь более подробными и многочисленными, отдельные теории постепенно «теряют актуальность», так как понимание, которое они содержат, переходит к глубоким обобщенным теориям. А количество последних все уменьшается, но они становятся более глубокими и более обобщенными. Под «более обобщенными» я подразумеваю, что каждая из этих теорий {20} приводит больше доводов, охватывает большее количество ситуаций, чем несколько отдельных теорий ранее. Под «более глубокими» я понимаю, что каждая из них объясняет больше (охватывает большее понимание), чем её предшественники, вместе взятые.
Если бы вы захотели построить большое сооружение, мост или собор, несколько веков назад, вам понадобился бы проектировщик. Он бы знал, что необходимо сделать, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции с минимальными возможными усилиями и затратами. Он не смог бы выразить бóльшую часть этого знания на языке математики и физики, как мы можем сделать это сегодня. Вместо этого он положился бы, главным образом, на свою интуицию, навыки и эмпирические зависимости, которые узнал во времена своего ученичества, а впоследствии, возможно, усовершенствовал, руководствуясь догадками и долгим опытом работы. Но даже эта интуиция, эти навыки и эмпирические зависимости на самом деле были явными и неявными теориями, содержавшими реальное знание предметов, которые сегодня мы называем инженерным делом и архитектурой. Именно из-за знания этих теорий, пусть очень неточных по сравнению с существующими сегодня и применимых в небольшом числе случаев, вы и наняли бы этого проектировщика. Восхищаясь строениями, простоявшими века, люди часто забывают, что видят лишь то, что уцелело. Подавляющее большинство сооружений, построенных в средние века и раньше, давно развалилось, часто вскоре после того, как они были построены. Особенно это касалось новых сооружений. Считалось доказанным, что любое нововведение может стать причиной катастрофы, и строители редко отступали от традиционных конструкций и методов. В наши дни, напротив, большая редкость, если какое-то строение (пусть даже непохожее ни на что, построенное раньше) развалится из-за неправильной конструкции. Все, что мог построить древний квалифицированный строитель, его современные коллеги могут построить лучше и с меньшими усилиями. Они также могут соорудить такие строения, о которых он вряд ли мечтал, например, небоскребы или космические станции. Они могут использовать такие материалы, как стекловолокно или железобетон, о которых он никогда не слышал и которые вряд ли смог бы использовать, даже если бы они каким-то образом у него появились, т. к. он имел весьма смутные и неточные представления о поведении материалов. {21}
Мы достигли настоящего уровня знаний не потому, что собрали много теорий, подобных той, что была известна древнему строителю. Наше знание, явное и неявное, не просто больше, оно отличается по своей структуре. Как я уже сказал, современных теорий меньше, но они более обобщенные и более глубокие. В каждой ситуации, с которой сталкивался проектировщик, выполняя какую-то работу, — к примеру, выбирая толщину несущей стены, — он пользовался довольно специфической интуицией или эмпирической зависимостью, которая применительно к нестандартным случаям могла дать безнадежно неправильные ответы. В наше время проектировщик принимает такие решения, используя теорию, обобщенную настолько, что её можно применить к стенам, сделанным из любых материалов, в любой среде: на Луне, под водой и где угодно ещё. Эта теория настолько обобщена, потому что основана на достаточно глубоких объяснениях принципа поведения материалов и конструкций. Чтобы найти оптимальную толщину стены из незнакомого материала, используют ту же теорию, что и для любой другой стены, но расчеты начинают, принимая различные факты — используя различные численные значения разных параметров. Приходится смотреть в справочнике такие факты, как предел прочности на растяжение и упругость материала, но в дополнительном понимании нет необходимости.
Именно поэтому современный архитектор не нуждается в более длительной или трудоемкой подготовке, даже несмотря на то, что понимает гораздо больше, чем древний строитель. Возможно, типичную теорию из учебной программы современного студента понять сложнее, чем любую из эмпирических зависимостей древнего строителя; но современных теорий гораздо меньше, а их объяснительная способность придает им такие качества, как красота, внутренняя логика и связь с другими предметами, благодаря которым эти теории проще изучать. Сейчас мы знаем, что некоторые древние эмпирические зависимости были ошибочными, другие — истинными или близкими к истине, и мы знаем причины этого. Некоторыми эмпирическими правилами мы до сих пор пользуемся, но ни на одном из них уже не основывается понимание того, почему конструкции не рушатся.
Я, конечно, не отрицаю, что во многих предметах, где увеличивается знание, включая архитектуру, появляются специализации. Однако это не односторонний процесс, т. к. специализации часто исчезают: колеса уже не проектируют и не изготавливают колесные мастера, {22} плуги — мастера по плугам, а письма уже не пишут писцы. Тем не менее, достаточно очевидно, что тенденция углубления и объединения, которую я описывал, не единственная: параллельно ей происходит непрерывное расширение. Поясню: новые идеи часто не просто вытесняют, упрощают или объединяют существующие. Они также расширяют человеческое понимание до областей, которые раньше не были поняты совсем или о существовании которых даже не догадывались. Они могут открывать новые возможности, новые проблемы, новые специализации и даже новые предметы. И когда это происходит, мы можем получить. по крайней мере на время, больше информации для изучения, чтобы понять все это.
Возможно, медицина — наиболее распространенный пример растущей специализации, которая кажется неизбежным следствием роста знания, когда открывают новые способы лечения многих болезней. Но даже в медицине присутствует противоположная тенденция объединения, которая непрерывно усиливается. Общеизвестно, что многие функции тела, как, впрочем, и механизмы многих болезней, ещё мало изучены. Следовательно, некоторые области медицинского знания всё ещё состоят, главным образом, из собрания записанных фактов, навыков и интуиции врачей, имеющих опыт в лечении определенных болезней и передающих эти навыки и интуицию из поколения в поколение. Другими словами, бóльшая часть медицины всё ещё не вышла из эпохи эмпирических правил, и вновь обнаруженные эмпирические правила стимулируют появление специализаций. Но когда в результате медицинских и биохимических исследований появляются более глубокие объяснения процессов болезни (и здоровых процессов) в теле, увеличивается и понимание. Когда в различных частях тела, в основе разных болезней обнаруживают общие молекулярные механизмы, на смену узким теориям приходят более обобщенные. Как только болезнь понимают настолько, что могут вписать её в общую структуру, роль специалиста уменьшается. Вместо этого врачи, столкнувшись с незнакомой болезнью или редким осложнением, могут положиться на объяснительные теории. Они могут посмотреть эти факты в справочнике. Но затем они смогут применить обобщенную теорию, чтобы разработать необходимое лечение и ожидать, что оно будет эффективным, даже если никогда раньше оно не применялось.
Таким образом, вопрос о том, сложнее или проще становится понять все, что понято, зависит от равновесия двух противоположных {23} результатов роста знания: расширения и углубления наших теорий. Из-за расширения наших теорий понять их сложнее, из-за углубления — проще. Одно из положений этой книги состоит в том, что углубление медленно, но уверенно побеждает. Другими словами, утверждение, в которое я отказывался поверить, будучи ребенком, в самом деле ложно, а истинно практически противоположное. Мы не удаляемся от состояния, когда один человек способен понять все, что понято, мы приближаемся к нему.
Я не утверждаю, что скоро мы поймем все. Это совсем другой вопрос. Я не верю, что сейчас мы близки или когда-то приблизимся к пониманию всего, что существует. Я говорю о возможности понимания всего, что понято. Это скорее зависит не от содержания нашего знания, а от его структуры. Но структура нашего знания — независимо от возможности его выражения в теориях, составляющих понятное целое — безусловно зависит от самой структуры реальности. Если свободный рост знания должен продолжаться и если мы, несмотря ни на что приближаемся к тому состоянию, когда один человек сможет понять все, что понято, значит, глубина наших теорий должна увеличиваться достаточно быстро, чтобы обеспечить эту возможность. Это может произойти, если только сама структура реальности настолько едина, что по мере роста нашего знания мы сможем понимать её все больше и больше. Если это произойдет, то в конечном итоге наши теории станут настолько общими, глубокими и составляющими друг с другом единое целое, что превратятся в единственную теорию единой структуры реальности. Эта теория не объяснит все аспекты реальности: это недостижимо. Но она охватит все известные объяснения и будет применима ко всей структуре реальности настолько, насколько последняя будет понята. В то время как все предыдущие теории относились к конкретным предметам, это будет теория всех предметов: Теория Всего.
Эта теория, безусловно, не будет последней в своем роде, она будет первой. В науке считается доказанным, что даже наши лучшие теории обречены быть в некотором роде несовершенными и проблематичными, и мы ожидаем, что в свое время их вытеснят более глубокие и точные теории. И этот прогресс не остановится, когда мы откроем универсальную теорию. Например, Ньютон дал нам первую универсальную теорию тяготения и объединил, помимо всего прочего, небесную и земную механику. Но его теории вытеснила общая теория относительности Эйнштейна, которая включает ещё и геометрию (которую раньше {24} считали отраслью математики) в физике, и поэтому наряду с большей точностью дает более глубокие объяснения. Первая универсальная теория — которую я буду называть Теорией Всего — подобно всем нашим теориям, которые были до неё и будут после неё, не будет ни абсолютно истинной, ни бесконечно глубокой, а потому, в конечном итоге, её заменит другая теория. Но эта замена произойдет не через объединение с теориями других предметов, ибо она сама будет теорией всех предметов. В прошлом значительный прогресс в понимании иногда имел место при значительных объединениях. Иногда прогресс был вызван структурными изменениями в понимании конкретного предмета, как, например, когда мы перестали считать Землю центром Вселенной. После первой Теории Всего уже не будет значительных объединений. Все последующие великие открытия будут переменами в понимании мира в целом: изменениями в нашем мировоззрении. Создание Теории Всего будет последним большим объединением и в то же время первым шагом к возникновению нового мировоззрения. Я считаю, что именно такое объединение и изменение происходят сейчас. Подобное мировоззрение и является темой этой книги.
Считаю своей обязанностью сразу подчеркнуть, что я говорю не просто о «теории всего», которую в ближайшее время надеются открыть специалисты в области физики элементарных частиц. Их «теория всего» стала бы объединенной теорией всех основных сил, известных физике, а именно: гравитационных, электромагнитных и ядерных сил. Она также описала бы все типы существующих дробноатомных частиц, их массы, спины, электрические заряды и другие свойства, а также принцип их взаимодействия. При наличии достаточно точного описания начального состояния любой изолированной физической системы, такая теория сможет предсказать будущее поведение системы в принципе. В случае, когда точное поведение системы предсказать невозможно, теория опишет все возможные варианты поведения системы и предскажет вероятность их возникновения. На практике нередки случаи, когда начальные состояния интересующих нас систем невозможно определить точно, да и предсказать их слишком сложно во всех случаях, кроме простейших. Тем не менее, такая объединенная теория частиц и сил вместе с определением начального состояния Вселенной к моменту Большого Взрыва (сильный взрыв, от которого произошла Вселенная), в принципе, содержала бы всю информацию, необходимую для предсказания всего, что можно предсказать (рисунок 1.1). {25}
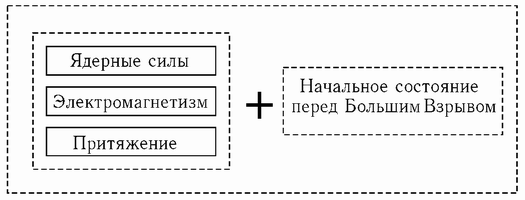
|
|
Рис. 1.1. Неадекватное понимание «теории всего» |
Но предсказание — ещё не объяснение. «Теория всего», на которую так надеются, даже совместно с теорией начального состояния, в лучшем случае представит лишь крошечную грань истинной Теории Всего. Эта теория сможет предсказать все (в принципе). Но нельзя ожидать, что она объяснит гораздо больше, чем существующие теории, за исключением нескольких явлений, вызванных особенностями внутриатомных взаимодействий, как-то: столкновения внутри ускорителей частиц и необычная история трансмутаций частиц во время Большого Взрыва. Что побуждает ученых использовать термин «теория всего» для названия столь малого, хотя и захватывающего отрезка знания? Я полагаю, ещё один ошибочный взгляд на природу науки, который не одобряют многие научные критики, но (увы!) одобряют многие ученые: наука по существу является редукционной. Это все равно, что сказать, что наука сомнительно упрощает все объяснения, раскладывая их на составляющие. Например, сопротивление стены проникновению или сбиванию объясняется тем, что стена — это огромное скопление взаимодействующих молекул. Свойства этих молекул объясняют на основе составляющих их атомов, взаимодействия этих атомов друг с другом и так далее до мельчайших частиц и самых основных сил. Редукционисты считают, что все научные объяснения и, возможно, любые достаточно глубокие объяснения принимают именно такую форму.
Концепция редукционистов естественно приводит к созданию иерархии предметов и теорий в соответствии с тем, насколько они близки к «самому низкому уровню» известных предсказательных теорий. В этой иерархии логика и математика образуют непоколебимые принципы, на которых строится система научных взглядов. Фундаментом станет упрощенная «теория всего», универсальная теория частиц, сил, {26} пространства и времени вместе с некоторой теорией начального состояния Вселенной. Остальная физика образует первые несколько этажей. Астрофизика и химия займут более высокий уровень, геология — ещё более высокий и т. д. Здание разделяется на множество башен — предметов ещё более высокого уровня: биохимию, биологию и генетику. В нетвердых слоях стратосферы примостились такие предметы, как теория эволюции, экономика, психология и вычислительная техника, которые на этой картине почти немыслимо вторичны.
В настоящее время у нас есть только приближения к упрощенной «теории всего». Они уже достаточно точно могут предсказывать законы движения отдельных дробноатомных частиц. Используя эти законы, современные компьютеры могут рассчитать движение любой изолированной группы из нескольких взаимодействующих частиц некоторого элемента, если известно их начальное состояние. Но даже мельчайшая частичка материи, видимая невооруженным глазом, содержит триллионы атомов, каждый из которых состоит из множества дробноатомных частиц и непрерывно взаимодействует с внешним миром, так что предсказать поведение этой частички не представляется возможным. Дополняя точные законы движения различными приближениями, мы можем предсказать некоторые аспекты общего поведения достаточно крупных объектов, например, температуру плавления или кипения данного химического соединения. Большая часть основной химии была таким образом сведена к физике. Для наук более высокого уровня программа редукционистов — всего лишь дело принципа. Никто на самом деле не собирается выводить принципы биологии, психологии или политики из принципов физики. Причина, по которой предметы более высокого уровня вообще поддаются изучению, состоит в том, что в определенных условиях непостижимо сложное поведение огромного количества частиц становится мерой простоты и удобопонятности. Это называется исходом: простота высокого уровня «исходит» из сложности низкого уровня. Явления высокого уровня с понятными фактами, которые нельзя просто вывести из теорий низкого уровня, называются исходящими явлениями. Например, стена могла быть крепкой, потому что те, кто её строил, боялись, что их враги могут попытаться преодолеть эту стену. Это объяснение прочности стены высокого уровня невыводимо из объяснения низкого уровня, которое я привел выше (хотя и сопоставимо с ним). «Строители», «враги», «страх», «пытаться» — это исходящие явления. Цель наук высокого уровня — дать нам возможность понять {27} исходящие явления, самыми важными из которых, как мы увидим, являются жизнь, мысль и вычисление.
Кстати, противоположность редукционизма — холизм, идея о том, что единственно правильные объяснения составлены на основе систем высокого уровня, — ещё более ошибочна, чем редукционизм. Чего ожидают от нас холисты? Того, что мы прекратим наши поиски молекулярного происхождения болезней? Что мы откажемся от того, что люди состоят из дробноатомных частиц? Там, где существуют упрощенные объяснения, они столь же желанны, как любые другие. Там, где целые науки упрощаются до наук низкого уровня, мы, ученые, обязаны найти эти упрощения, так же как обязаны открывать любое знание.
Редукционист считает, что наука заключается в том, чтобы разложить все на составляющие. Инструменталист считает, что цель науки — предсказывать события. Для каждого из них существование наук высокого уровня — вопрос удобства. Сложность мешает нам использовать элементарную физику для получения предсказаний высокого уровня, поэтому мы гадаем, каковы были бы эти предсказания, если бы мы могли их получить, — исход дает нам возможность преуспеть в этом — именно в этом предположительно заключается смысл наук высокого уровня. Таким образом, для редукционистов и инструменталистов, которые проигнорировали как истинную структуру, так и истинную цель научного знания, основой предсказывающей иерархии физики является, по определению, «теория всего». Но для всех остальных научное знание состоит из объяснений, а структура научного объяснения не отражает иерархию редукционистов. Объяснения существуют на каждом уровне иерархии. Многие из них независимы и относятся только к понятиям конкретного уровня (например, «медведь съел мед, потому что был голоден»). Многие объяснения содержат логические выводы, противоположные направлению упрощенных объяснений. То есть они объясняют вещи, не разделяя их на более маленькие, простейшие, а рассматривают их как составляющие более крупных и сложных вещей, о которых у нас, тем не менее, есть объяснительные теории. Например, рассмотрим конкретный атом меди на кончике носа статуи сэра Уинстона Черчилля, которая находится на Парламентской Площади в Лондоне. Я попытаюсь объяснить, почему этот атом меди находится там. Это произошло потому, что Черчилль был премьер-министром в палате общин, которая расположена неподалеку; и потому, что его идеи и руководство способствовали победе Объединенных сил {28} во Второй Мировой войне; и потому, что принято чествовать таких людей, ставя им памятники; и потому, что бронза, традиционный материал для таких памятников, содержит медь и т. д. Таким образом, мы объясним физическое наблюдение низкого уровня — присутствие атома меди в определенном месте — через теории чрезвычайно высокого уровня о таких исходящих явлениях, как идеи, руководство, война и традиция.
Нет такой причины, почему должно существовать, даже в принципе, какое-либо более низкоуровневое объяснение присутствия этого атома меди, чем то, которое я только что привел. Предположим, что упрощенная «теория всего» в принципе сделала бы низкоуровневое предсказание вероятности, что такая статуя будет существовать, если известно состояние (скажем) солнечной системы в какое-то более раннее время. Точно так же эта теория в принципе описала бы, как эта статуя могла туда попасть. Но такие описания и предсказания (конечно же, абсолютно нереальные) ничего бы не объясняли. Они просто описывали бы траекторию движения каждого атома меди от медного рудника через плавильную печь, мастерскую скульптора и т. д. Они также могли бы сформулировать, какое влияние на эти траектории оказывают силы от окружающих атомов, например, тех, из которых состоят тела шахтеров и скульптора, и, таким образом, предсказать существование и форму статуи. В действительности, такое предсказание следовало бы отнести к атомам по всей планете, вовлеченным, кроме всего прочего, в сложное движение, которое мы называем Второй Мировой войной. Но даже если бы вы обладали сверхчеловеческой способностью следовать таким многословным предсказаниям нахождения атома меди в том месте, вы все равно не смогли бы сказать: «Да, я понимаю, почему он там находится». Вы просто знали бы, что его попадание туда таким образом неизбежно (или вероятно, или что угодно ещё), если известны начальные конфигурации атомов и законы физики. Если бы вы захотели понять, почему он там находится, у вас по-прежнему не было бы другого выбора, кроме как сделать следующий шаг. Вам пришлось бы выяснить все, что касается этой конфигурации атомов и их траекторий, из-за которых атом меди оказался именно в этом месте. Такое исследование стало бы творческой задачей, какой всегда является открытие новых объяснений. Вам пришлось бы обнаружить, что определенные конфигурации атомов подтверждают такие исходящие явления, как руководство и война, связанные друг с другом объяснительными {29} теориями высокого уровня. И только узнав все эти теории, вы смогли бы полностью понять, почему этот атом меди находится именно там.
Редукционисты уверены, что законы, управляющие взаимодействием дробноатомных частиц, имеют первостепенную важность, поскольку они являются основой иерархии всего знания. Но в реальной структуре научного знания и в структуре нашего знания в целом такие законы играют гораздо более скромную роль.
Какова же эта роль? Мне кажется, что ни одна из рассмотренных теорий, претендующих на звание «теории всего», не содержит много нового в способе объяснения. Возможно, самый передовой подход с объяснительной точки зрения — это теория суперструн, в которой элементарными строительными блоками материи являются удлиненные объекты, «струны», а не точечные частицы. Но ни один существующий подход не предлагает нового способа объяснения — нового в смысле объяснения Эйнштейном сил притяжения на основе искривленного пространства и времени. В действительности, ожидается, что «теория всего» унаследует практически всю объяснительную структуру существующих теорий электромагнетизма, ядерных сил и гравитации: их физические концепции, их язык, их математический формализм и форму их объяснений. Значит, мы можем рассчитывать, что эта структура основной физики, которая нам уже известна из существующих теорий, внесет вклад в наше общее понимание.
В физике существует две теории, значительно более глубокие, чем остальные. Первая — это общая теория относительности, по-моему, наша лучшая теория пространства, времени и гравитации. Вторая — ещё более глубокая — квантовая теория. Эти две теории (а никакая другая существующая или ныне рассматриваемая теория дробноатомных частиц) предоставляют подробную объяснительную и формальную систему взглядов, в которой выражаются все остальные теории современной физики, и содержат основные физические принципы, которым подчиняются все остальные теории. Объединение общей теории относительности и квантовой теории — с целью получения квантовой теории относительности — стало в последние десятилетия основным предметом поисков физиков-теоретиков и должно было бы стать частью любой теории всего, как в узком, так и в широком смысле этого термина. Как мы увидим в следующей главе, квантовая теория, как и относительность, предоставляет революционно новый способ объяснения физической реальности. Причина, по которой квантовая теория {30} глубже теории относительности, лежит большей частью не в физике, а вне её, поскольку её отрасли простираются далеко за пределы физики и даже за пределы самой науки в привычном её понимании. Квантовая теория является одной из четырех основных нитей[1], образующих наше настоящее понимание структуры реальности[2].
Прежде чем назвать три других нити, я должен упомянуть ещё один способ искаженного представления структуры научного знания редукционизмом. Редукционизм принимает не только то, что объяснение всегда состоит из разделения системы на более маленькие и простые системы, но и то, что все поздние события объясняются на основе ранних; другими словами, единственный способ что-то объяснить — сформулировать причины этого. А это подразумевает, что, чем раньше произошли события, на основе которых мы что-то объясняем, тем лучше объяснение, так что, в конечном счете, все лучше объяснять на основе первоначального состояния Вселенной.
«Теория всего», исключающая определение первоначального состояния Вселенной, не является полным описанием физической реальности, потому что она содержит только законы движения; а законы движения сами по себе делают лишь условные предсказания. То есть они формулируют не то, что происходит, а только то, что произойдет в какое-то время, если известно, что это происходило раньше. Только если известно полное определение начального состояния, в принципе можно вывести полное описание физической реальности. Существующие космологические теории не обеспечивают полного определения начального состояния даже в принципе, но они утверждают, что изначально Вселенная была очень маленькой, очень горячей и имела однородную структуру. Но мы также знаем, что Вселенная не могла иметь абсолютно однородную структуру, потому что в соответствии с теорией это будет несовместимо с россыпью галактик, которые мы наблюдаем сегодня в небе. На первоначальные изменения плотности, «неоднородность распределения материи», значительное влияние оказало гравитационное сжатие (то есть относительно плотные участки притянули {31} бы больше материи и стали бы более плотными), так что сначала эти изменения, должно быть, были совсем небольшими. Но какими бы маленькими они ни были, они имеют огромное значение для любых описаний реальности редукционистами, потому что почти все, что мы наблюдаем вокруг от россыпи звезд и галактик в небе до появления бронзовых статуй на планете Земля, с точки зрения основной физики является следствием этих изменений. Если наше редукционное описание стремится охватить нечто большее, чем самые крупные свойства наблюдаемой Вселенной, нам нужна теория, определяющая те важнейшие первоначальные отклонения от однородности.
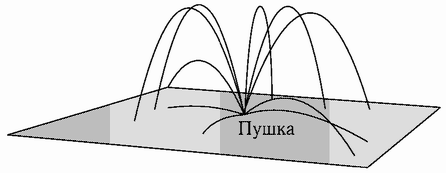 |
|
Рис. 1.2. Некоторые возможные траектории движения пушечного ядра. Каждая траектория совместима с законами движения, но только одна из траекторий относится к конкретному случаю |
Я попытаюсь заново сформулировать последнее требование, не принимая во внимание предубеждения редукционистов. Законы движения любой физической системы дают только условные предсказания и, следовательно, совместимы со многими возможными вариантами развития этой системы. (Это не зависит от ограничений предсказания, которые накладывает квантовая теория и о которых я расскажу в следующей главе). Например, законы движения, которым подчиняется ядро, выпущенное из пушки, совместимы с многими возможными траекториями, каждая из которых соответствует одному из возможных направлений и подъемов ствола пушки при выстреле (рис. 1.2).
Математически законы движения можно выразить системой уравнений, которые называют уравнениями движения. Существует много различных решений этих уравнений, каждое из которых описывает какую-то возможную траекторию. Чтобы определить, какое решение описывает действительную траекторию, необходимо обеспечить дополнительные данные — некоторую информацию о том, что происходит {32} в действительности. Один из способов осуществить это заключается в определении начального состояния, в данном случае направления ствола пушки. Однако существуют и другие способы. Например, мы точно так же могли бы определить конечное состояние — положение и направление движения пушечного ядра в момент его приземления. Или мы могли бы определить положение самой высокой точки траектории. Мы можем давать любые дополнительные данные, если они помогают выбрать одно конкретное решение системы уравнений движения. Объединение любых дополнительных данных такого рода с законами движения равноценно теории, которая описывает все, что происходит с пушечным ядром с момента выстрела до удара.
Точно так же законы движения для физической реальности в целом будут иметь много решений, каждое из которых соответствует конкретному случаю. Для завершения описания нам придется определить, какой случай произошел в действительности, предоставляя достаточно дополнительных данных для получения одного из многих решений уравнений движения. В простых космологических моделях, по крайней мере одним из способов получения таких данных является определение начального состояния Вселенной. Но, кроме того, мы могли бы определить конечное состояние или состояние в любой другой момент времени: или мы могли бы предоставить некоторую информацию о начальном состоянии, какую-то информацию о конечном состоянии и о промежуточных состояниях. В общем, объединив достаточное количество дополнительных данных разного рода с законами движения, мы, в принципе, получили бы описание физической реальности.
Как только мы определим, скажем, конечное состояние пушечного ядра, мы сможем непосредственно вычислить его начальное состояние, и наоборот, поэтому между различными методами определения дополнительных данных не существует практической разницы. Однако бóльшую часть таких вычислений для Вселенной трудно обработать. Я сказал, что мы делаем вывод о существовании «неоднородности распределения материи» в начальных состояниях из сегодняшних наблюдений этой «неоднородности». Но это исключение: большая часть нашего знания о дополнительных данных — о том, что конкретно происходит, — существует в форме теорий высокого уровня об исходящих явлениях и, следовательно, по определению практически не поддается выражению в виде формулировок начального состояния. Например, в большей части решений уравнений движения Вселенная в своем {33} начальном состоянии не обладает свойствами, необходимыми для появления жизни. Следовательно, наше знание того, что жизнь появилась, — значительная часть дополнительных данных. Возможно, мы никогда не узнаем, что это ограничение значит для подробной структуры Большого Взрыва, но мы можем сделать выводы непосредственно из него. Например, первая точная оценка возраста Земли была сделана на основе биологической теории эволюции, которая противоречила самым выдающимся достижениям физики того времени. Только предубеждение редукционистов могло заставить нас считать, что эти доказательства были по какой-то причине менее вескими или, в общем, теории о начальном состоянии были более «фундаментальны», чем теории об исходящих особенностях реальности.
Даже в области основной физики идея о том, что теории начального состояния содержат наши самые глубокие знания, весьма ошибочна. Одна из причин этого состоит в том, что она логически исключает возможность объяснения самого начального состояния: почему было начальное состояние, каким оно было, — однако в действительности у нас есть объяснения многих аспектов начального состояния. В общем, ни одна теория времени не способна давать объяснения на основе чего-то «более раннего»; тем не менее, благодаря общей теории относительности, а также квантовой теории (см. главу 2) у нас есть глубокие объяснения природы времени.
Таким образом, характер многих наших описаний, предсказаний и объяснений реальности не имеет ничего общего с теорией «начального состояния в совокупности с законами движения», к которой приводит редукционизм. Не существует причины рассматривать теории высокого уровня как «второсортные». Наши теории дробноатомной физики и даже квантовая теория относительности не имеют никаких преимуществ перед теориями об исходящих свойствах. Ни одну из этих областей знания нельзя отнести к другим. Каждая теория содержит логические выводы остальных, однако не все эти выводы можно сформулировать, поскольку они являются исходящими свойствами области других теорий. В действительности, неправильно употреблять сами термины «высокий уровень» и «низкий уровень». Законы биологии, например, — исходящие следствия высокого уровня законов физики. Но логически некоторые законы физики являются «исходящими» следствиями законов биологии. Могло быть и так, что законы, которым подчиняются биологические и другие исходящие явления, полностью определяли бы {34} законы основной физики. В любом случае, когда две теории логически связаны между собой, логика не заставляет рассматривать одну из них как определяющую вторую в целом или частично. Это зависит от объяснительных отношений между теориями. Преимущества имеют не теории, которые определяют конкретную шкалу размеров или сложности, и не теории, которые расположены на определенном уровне предсказательной иерархии, а те, которые содержат самые глубокие объяснения. Структура реальности состоит не только из составляющих редукционизма, как-то: пространство, время и дробноатомные частицы, — но и из жизни, мыслей, вычислений и многого другого, к чему относятся эти объяснения. Теория становится в большей степени основной, нежели производной, не из-за своей близости к предсказывающей основе физики, а из-за своей близости к нашим самым глубоким объяснительным теориям.
Квантовая теория, как я уже говорил, является одной из таких теорий. Три другие основные нити объяснения, через которые мы стремимся понять структуру реальности, относятся к «высокому уровню» с точки зрения квантовой теории. Это теория эволюции (первоначально эволюции живых организмов), эпистемология (теория познания) и теория вычисления (о вычислительных машинах и о том, что они могут вычислить, а что не могут). Как вы увидите, между основными принципами этих четырех, на первый взгляд, независимых предметов были обнаружены такие глубокие и разнообразные связи, что наилучшим образом понять один из них, не понимая три оставшиеся, стало невозможно. Все четыре формируют связную объяснительную структуру, которая имеет настолько обширные перспективы, и охватывает значительную часть нашего понимания мира, что, на мой взгляд, её уже можно справедливо назвать первой настоящей Теорией Всего. Таким образом, мы подошли к знаменательному моменту в истории идей — моменту, когда масштаб нашего понимания становится действительно универсальным. До настоящего времени все наше понимание касалось некоторого аспекта реальности, нехарактерного для целого. В будущем оно охватит объединенное понятие реальности: все объяснения будут пониматься на фоне универсальности, а каждая новая идея будет автоматически стремиться освещать не только конкретный предмет, но в различной степени все предметы. Понимание, которое мы в конечном итоге получим из последнего огромного объединения, может значительно превзойти понимание, которое мы получали от предыдущих {35} объяснений. Мы увидим, что здесь объединяется и объясняется не только физика и не только наука, но и отдаленные области философии, логики и математики, этики, политики и эстетики: возможно, все, что мы понимаем в настоящее время, а может быть, и многое из того, что мы ещё не понимаем.
Какой же тогда вывод я адресовал бы себе-ребенку, который отвергал то, что рост знания делает мир менее понятным? Я бы согласился с ним, хотя сейчас я считаю, что важно не то, может ли одна из особей нашего конкретного вида понять все то, что понимает весь вид. Важно то, действительно ли едина и понятна сама структура реальности. Существует множество причин считать, что это так. Будучи ребенком, я просто знал это: сейчас я могу это объяснить.
Эпистемология — наука о природе познания и процессах, которые её создают.
Объяснение — (грубо) утверждение о природе и причинах вещей.
Инструментализм — система взглядов, в соответствии с которой целью научной теории является предсказание результатов экспериментов.
Позитивизм — крайняя форма инструментализма, утверждающая, что все формулировки, отличные от тех, которые что-либо описывают или предсказывают, не имеют смысла. (Этот взгляд сам не имеет смысла по своим же критериям).
Редукционный — редукционное объяснение — это объяснение, которое раскладывает все вещи на составляющие низкого уровня.
Редукционизм — система взглядов, в соответствии с которой научные объяснения изначально являются редукционными.
Холизм — идея о том, что обоснованными являются только объяснения, сделанные на основе систем высокого уровня; противоположность редукционизма.
Исход — исходящим явлением называется такое явление (как жизнь, мысль или вычисление), относительно которого существуют понятные факты или объяснения, которые не просто выводятся из теорий низкого уровня, но которые могут объяснить или предсказать теории высокого уровня, относящиеся непосредственно к этим явлениям. {36}
Научное знание, как и все человеческое знание, состоит главным образом из объяснений. Простые факты можно посмотреть в справочнике, предсказания важны только при проведении решающих экспериментов для выбора более точной научной теории, которая уже прошла проверку на наличие хороших объяснений. По мере того, как новые теории вытесняют старые, наше знание становится как шире (когда появляются новые предметы), так и глубже (когда наши основные теории объясняют больше и становятся более обобщенными). Глубина побеждает. Таким образом, мы не удаляемся от того состояния, когда один человек сможет понять все, что понято, а приближаемся к нему. Наши самые глубокие теории настолько переплетаются друг с другом, что их можно понять только совместно, как единую теорию объединенной структуры реальности. Эта Теория Всего имеет гораздо больший масштаб, чем та «теория всего», которую ищут ученые, занимающиеся физикой элементарных частиц, потому что структура реальности состоит не только из таких составляющих редукционизма, как пространство, время и дробноатомные частицы, но также, например, из жизни, мысли и вычисления. Четыре основных нити объяснения, которые могут составить первую Теорию Всего — это
квантовая физика, Главы 2, 9, 11, 12, 13, 14;
эпистемология, Главы З, 4, 7, 10, 13, 14;
теория вычислений, Главы 5, б, 9, 10, 13, 14;
теория эволюции, Главы 8, 13, 14.
Следующая глава посвящена первой и самой важной из четырех нитей — квантовой физике. {37}
Не существует лучшей, более открытой двери к изучению физики, чем обсуждение физического феномена свечи.
Майкл Фарадей
(Курс из шести лекций по химической истории свечи)
В своих знаменитых научных лекциях в Королевском институте Майкл Фарадей всегда побуждал своих слушателей изучать мир, рассматривая, что происходит при горении свечи. Я заменю свечу электрическим фонариком. Это правомерно, поскольку устройство электрического фонарика во многом основано на открытиях Фарадея.
Я опишу несколько экспериментов, которые иллюстрируют явления лежащие в основе квантовой физики. Такого рода эксперименты со множеством изменений и уточнений в течение многих лет оставались средством к существованию квантовой оптики. В их результатах нет противоречий, однако даже сейчас в некоторые из них трудно поверить. Основные эксперименты удивительно просты. Они в сущности не требуют ни специальных научных инструментов, ни глубокого знания математики или физики, они заключаются всего лишь в отбрасывании теней. Обычный электрический фонарик может производить весьма странные картины света и тени. При более внимательном рассмотрении можно увидеть, что они имеют необычные разветвления. Чтобы объяснить их, нужны не просто новые физические законы, а новый уровень описания и объяснения, выходящий за пределы того, что раньше считали научной сферой. Прежде всего, эти картины открывают существование параллельных миров. Как это возможно? Какая мыслимая картина теней может повлечь за собой подобные выводы?
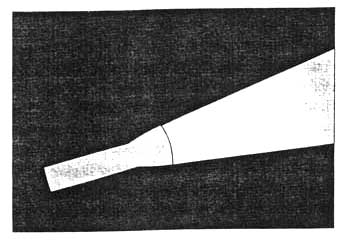 |
Рис. 2.1. Свет от электрического фонарика |
Представьте включенный электрический фонарик в темной комнате где нет других источников освещения. Нить накала лампочки испускает свет, который расширяется, образуя часть конуса. Чтобы не {38} усложнять эксперимент отраженным светом, стены комнаты должны быть матово-черными для полного поглощения света. Или, поскольку мы проводим эти эксперименты только в своем воображении, можно представить комнату астрономических размеров, чтобы до завершения эксперимента свет не успел достигнуть стен и вернуться. Рисунок 2.1 иллюстрирует данный опыт. Но этот рисунок в некоторой степени не соответствует истине: если бы мы смотрели на фонарик со стороны, мы не смогли бы увидеть ни фонарик, ни свет. Невидимость — одно из простейших свойств света. Мы видим свет лишь тогда, когда он попадает в наши глаза (хотя, как правило, мы говорим о последнем объекте, на который воздействовал этот свет и который оказался по линии нашего зрения). Мы не можем увидеть свет, который просто проходит мимо. Если бы в луче оказался отражающий объект или даже пыль или капельки воды, чтобы рассеять свет, мы смогли бы его увидеть. Но поскольку в луче ничего нет, и мы смотрим на него извне, его свет не достигает нас. Наиболее точно то, что мы должны увидеть, следовало бы представить абсолютно черной картинкой. В присутствии второго источника света, мы могли бы увидеть фонарик, но опять же не его свет. Лучи света, даже самого интенсивного света, который мы можем получить (с помощью лазеров), проходят друг через друга, как если бы ничего не было вообще.
На рисунке 2.1 видно, что около фонарика свет наиболее яркий, по мере удаления от него свет тускнеет, так как луч расширяется, чтобы осветить ещё бóльшую площадь. Наблюдателю, находящемуся {39} в луче и отходящему от фонарика спиной вперед, рефлектор показался бы ещё меньше, а когда был бы виден только как точка, ещё слабее. Это в самом деле было бы так? Способен ли свет действительно распространяться неограниченно все более тонкими лучами? Ответ: нет. На расстоянии примерно десяти тысяч километров от фонарика его свет был бы слишком слабым, чтобы человеческий глаз мог его различить, и наблюдатель ничего бы не увидел. То есть человек ничего бы не увидел; а животное с более чувствительным зрением? Глаза лягушки в несколько раз чувствительнее человеческих глаз: этого вполне достаточно, чтобы почувствовать ощутимую разницу при проведении эксперимента. Если бы наблюдателем была лягушка, и она удалялась бы от электрического фонарика, момент, когда она полностью потеряла бы его из вида, никогда бы не наступил. Вместо этого лягушка увидела бы, что фонарик начал мерцать. Вспышки возникали бы через неравные промежутки времени, которые увеличивались бы по мере удаления лягушки от фонарика. Но отдельные вспышки не стали бы менее яркими. На расстоянии ста миллионов километров от фонарика лягушка видела бы в среднем только одну вспышку света в день, но эта вспышка была бы не менее яркой, чем любая другая, наблюдаемая с любого другого расстояния.
Лягушки не могут рассказать нам, что они видят. Поэтому при проведении реальных экспериментов мы используем фотоумножители (световые детекторы, чувствительность которых превышает чувствительность глаз лягушки) и уменьшаем свет, пропуская его через темные фильтры, а не наблюдаем его на расстоянии ста миллионов километров от источника. Однако ни принцип, ни результат от этого не меняются: не мнимая темнота, не однородная тусклость, а мерцание, причем вспышки — одинаково яркие, независимо от того, насколько темный фильтр мы используем. Это мерцание показывает, что существует предел равномерного распространения света. Пользуясь терминологией ювелиров, можно сказать, что свет не является бесконечно «ковким». Подобно золоту небольшое количество света можно равномерно распределить по очень большой площади, но, в конечном итоге, если попытаться растянуть его ещё, он станет неровным. Даже если можно как-нибудь предотвратить группирование атомов золота, существует предел, за которым атомы нельзя разделить без того, чтобы золото не перестало быть золотом. Поэтому единственный способ сделать золотой лист толщиной в один атом ещё тоньше — расположить атомы ещё {40} дальше друг от друга, чтобы между ними было пустое пространство. Когда эти атомы окажутся достаточно далеко друг от друга, заблуждением будет считать, что они образуют сплошной лист. Например, если каждый атом золота находился бы в среднем на расстоянии нескольких сантиметров от своего ближайшего соседа, можно было бы провести рукой через «лист», не прикасаясь к золоту вообще. Точно так же существует элементарный световой шарик или «атом», фотон. Каждая вспышка, которую видит лягушка, вызвана фотоном, воздействующим на сетчатку её глаз. Луч света становится слабее не потому, что сами фотоны ослабевают, а потому, что они отдаляются друг от друга, и пустое пространство между ними увеличивается (рисунок 2.2). Очень слабый луч неправомерно называть «лучом», поскольку он прерывается. Когда лягушка ничего не видит, это происходит не потому, что свет, попадающий в её глаза, слишком слаб, чтобы воздействовать на сетчатку, а потому, что свет просто не попадает в её глаза.
 |
Рис. 2.2. Лягушки могут видеть отдельные фотоны |
Это свойство появления света в виде шариков дискретных размеров называется квантованием. Отдельный шарик, фотон, называется квантом (во множественном числе кванты). Квантовая теория получила свое название от этого свойства, которое она приписывает всем измеримым физическим величинам, а не только количеству света или массе золота, которые квантуются, поскольку на самом деле состоят из частиц, хотя и выглядят непрерывными. Даже для такой величины, как расстояние (например, между двумя атомами), понятие непрерывного диапазона возможных величин оказывается идеализацией. В физике не {41} существует измеримых непрерывных величин. В квантовой физике существует множество новых явлений, и, как мы увидим, квантование — одно из простейших. Однако в некотором смысле оно остается ключом ко всем остальным явлениям, поскольку если все квантуется, каким образом может изменяться значение какой-то величины? Как объект попадает из одного места в другое, если не существует непрерывного диапазона промежуточных положений, где он может находиться по пути? В Главе 9 я объясню, как, но сейчас позвольте мне отложить этот вопрос на некоторое время и вернуться в область, близкую к фонарику, где луч выглядит непрерывным, потому что каждую секунду он испускает около 1014 (ста триллионов) фотонов в глаз, который на него смотрит.
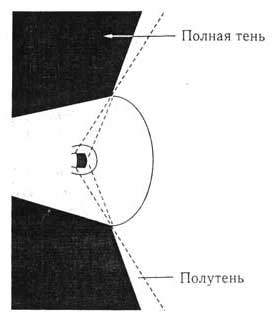 |
Рис. 2.3. Полная тень и полутень тени |
Граница между светом и тенью резкая или существует некоторая серая область? Обычно существует довольно широкая серая область, и одна из причин её существования показана на рисунке 2.3. Там показана темная область (называемая полной тенью), куда не доходит свет от нити накала. Там же присутствует и освещенная область, которая может получать свет от любого участка нити накала. И поскольку нить накала является не геометрической точкой, а имеет определенный размер, между освещенной и неосвещенной областью также присутствует {42} полутень: область, которая может получать свет только от некоторых участков нити накала. Если наблюдать из области полутени, то можно увидеть только часть нити накала, и освещение будет меньше, чем в полностью освещенной области.
Однако размер нити накала — не единственная причина того, почему фонарик отбрасывает полутень. Различное влияние на свет оказывают рефлектор, расположенный позади лампочки, стеклянный колпак фонарика, различные стыки и дефекты и т. д. И поскольку сам фонарик достаточно сложен, мы ожидаем появления сложных картин света и тени. Но побочные свойства фонариков не являются предметом таких экспериментов. За нашим вопросом о свете фонарика скрывается более фундаментальный вопрос о свете вообще: существует ли, в принципе, некий предел резкости границы (другими словами, насколько узкой может быть полутень)? Например, если фонарик сделать из абсолютно черного (неотражающего) материала и если использовать все уменьшающиеся нити накала, возможно ли сужать полутень беспредельно?
Глядя на рисунок 2.3 можно подумать, что это возможно: если бы нить накала не имела размера, не было бы полутени. Но на рисунке 2.3 я сделал некоторое допущение относительно света, а именно, что свет распространяется только прямолинейно. Из повседневного опыта нам известно, что это так и есть, поскольку мы не видим волн. Но точные эксперименты показывают, что свет не всегда распространяется прямолинейно. При некоторых обстоятельствах свет искривляется.
Это сложно продемонстрировать с помощью фонарика, потому что сложно сделать крошечные нити накала и абсолютно черные поверхности. Эти практические сложности скрывают те ограничения, которые основная физика накладывает на резкость теней. К счастью, искривление света можно также показать по-другому. Предположим, что свет фонарика проходит через два последовательных маленьких отверстия в светонепроницаемых экранах, как показано на рисунке 2.4, и что проходящий через эти отверстия свет падает на третий экран. Вопрос состоит в следующем: если этот эксперимент повторять, уменьшая диаметр отверстий и увеличивая расстояние между первым и вторым экранами, можно ли беспредельно сужать полную тень (область абсолютной темноты) до тех пор, пока она не превратится в прямую линию между центрами двух отверстий? Может ли освещенная область между вторым и третьим экраном быть ограничена произвольно узким конусом? Говоря языком ювелиров, сейчас мы спрашиваем что-то {43} вроде того, «насколько пластичен свет», в насколько тонкую нить можно растянуть свет? Из золота можно получить нити толщиной в одну десятитысячную миллиметра.
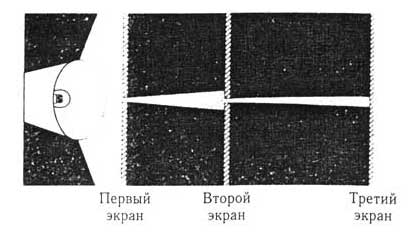
|
|
Рис. 2.4. Получение узкого луча света, проходящего через два последовательных отверстия |
Оказывается, что свет не так пластичен, как золото! Задолго до того, как диаметр отверстий приблизится к десятитысячной доле миллиметра, а в действительности, уже при диаметре отверстий около одного миллиметра свет начинает оказывать заметное противодействие. Вместо того чтобы проходить через отверстия прямыми линиями, свет сопротивляется ограничению и распространяется за каждым отверстием. И распространяясь, свет «рассеивается». Чем меньше диаметр отверстия, тем сильнее свет рассеивается от прямолинейного пути. Появляются сложные картины света и тени. Вместо освещенной и темной областей с полутенью между ними на третьем экране мы видим концентрические кольца разной толщины и яркости. Кроме того, там присутствует цвет, так как белый свет состоит из фотонов разных цветов, каждый из которых распространяется и рассеивается немного по-разному. На рисунке 2.5 показана типичная картина, которую может образовать на третьем экране белый свет, пройдя через отверстия в первых двух экранах. Не забывайте, здесь всего лишь отбрасывается тень. Рисунок 2.5 — это всего лишь тень, отброшенная вторым экраном, изображенным на рисунке 2.4. Если бы свет распространялся только прямолинейно, появилась бы только крошечная белая точка (гораздо меньше, чем яркое пятно в центре рисунка 2.5), окруженная очень {44} узкой полутенью. Всё остальное было бы полной тенью — совершенной темнотой.
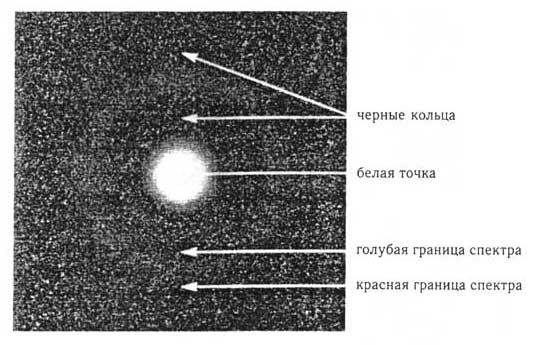 |
|
Рис. 2.5. Картина света и тени, образованная белым светом после прохождения через маленькое круглое отверстие |
Как бы ни озадачивало то, что лучи света искривляются, проходя через маленькие отверстия, я не считаю, что это нарушает сами основы. В любом случае, для наших настоящих целей важно, что свет действительно искривляется. Это означает, что тени вообще не должны выглядеть как силуэты предметов, которые их отбрасывают. Более того, дело даже не в размывании изображения, вызванном полутенью. Оказывается, что перегородка с отверстиями сложной формы может отбрасывать тень совершенно другой формы. {45}

|
|
Рис. 2.6. Тень, отбрасываемая перегородкой с двумя прямыми параллельными щелями |
Рисунок 2.6 показывает приблизительно в натуральную величину часть картины тени, отбрасываемой светонепроницаемой перегородкой с двумя прямыми параллельными щелями, находящейся на расстоянии трех метров от экрана. Щели находятся на расстоянии одной пятой миллиметра друг от друга и освещаются прямым красным лучом лазера расположенного по другую сторону перегородки. Почему используется свет лазера, а не электрического фонарика? Только потому, что точная форма тени также зависит и от цвета света, который её производит, белый свет фонарика содержит весь спектр видимых цветов, поэтому он может отбрасывать тени с интерференционными полосами различного цвета. Значит, для получения точной формы тени во время эксперимента лучше использовать свет одного цвета. Можно было бы поместить цветной фильтр (например, цветное оконное стекло) перед фонариком так, чтобы проходил свет только одного цвета. Это могло бы помочь, но фильтры не стопроцентно селективны. Лучше воспользоваться светом лазера, поскольку лазер можно очень точно настроить на испускание монохроматического света.
Если бы свет распространялся прямолинейно, картина, изображенная на рисунке 2.6, представляла бы две ярких полосы с резкими границами, расположенные на расстоянии одной пятой миллиметра друг от друга (что было бы невозможно увидеть при таком масштабе), а остальная часть экрана осталась бы в тени. Но в действительности свет искривляется так, что образует много ярких и темных полос без резких границ. Если увеличить расстояние между щелями так, чтобы они оставались в пределах лазерного луча, расстояние между полосами на экране увеличится на столько же. В этом отношении тень ведет себя как обычная тень, отбрасываемая крупным предметом. А какую тень мы получим, если прорежем в перегородке между двумя существующими щелями ещё две идентичные щели, так, что у нас будет четыре щели, расположенные на расстоянии одной десятой миллиметра друг от друга? Можно ожидать, что картина, изображенная на рисунке 2.6, останется практически неизменной. Как-никак первая пара щелей отбрасывает тени, показанные на рисунке 2.6, и, как я уже сказал, вторая пара щелей должна произвести подобную картину тени, сдвинутую в сторону на одну десятую миллиметра — почти на том же самом месте. Кроме того, мы знаем, что лучи света пересекаются, не оказывая никакого воздействия друг на друга. Так что две пары щелей должны дать ту же самую картину тени, но в два раза ярче и чуть более размытую. {46}
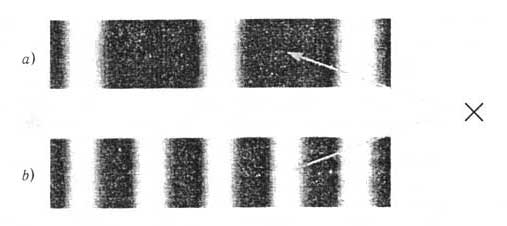 |
|
Рис. 2.7. Тени отбрасываемые перегородкой с (а) четырьмя и (b) двумя параллельными щелями |
В действительности происходит нечто отличное. Действительная тень, отбрасываемая перегородкой с четырьмя прямыми параллельными щелями, показана на рисунке 2.7 (а). Для сравнения ниже я снова привожу рисунок тени от перегородки с двумя щелями (рисунок 2.7(b)). Ясно, что тень от четырех щелей представляет собой отнюдь не комбинацию двух слегка отдаленных друг от друга теней от двух щелей, а имеет новую и более сложную картину. В этой картине есть такие участки, как точка X. которая не освещена на картине тени от четырех щелей и освещена на картине тени от двух щелей. Эти участки освещались при наличии в перегородке двух щелей, но перестали освещаться, когда в перегородке прорезали ещё две щели, пропускающие свет. Появление этих щелей воспрепятствовало попаданию света в точку X.
Таким образом, появление ещё двух источников света затемняет точку X, а их удаление снова освещает её. Каким образом? Можно представить два фотона, направляющиеся к точке Х и отскакивающие друг от друга как бильярдные шары. Только один из фотонов мог бы попасть в точку X, но они мешали друг другу, и потому ни один из них туда не попал. Скоро я покажу, что это объяснение не может быть истинным. Тем не менее, основной идеи избежать невозможно: через вторую пару щелей должно проходить что-то, препятствующее попаданию света из первой пары щелей в точку X. Но что? Это мы можем выяснить с помощью дальнейших экспериментов.
Во-первых, картина тени от перегородки с четырьмя щелями, изображенная на рисунке 2.7 (а), появляется только в том случае, если {47} все четыре щели освещены лазерным лучом. Если освещены только две щели, появляется картина, соответствующая тени от двух щелей Еcли освещены три щели, появится картина тени от трех щелей которая в свою очередь будет отличаться от двух предыдущих. Таким образом, в луче света находится нечто, вызывающее интерференцию. Картина тени от двух щелей также появляется, если две щели заполнить светонепроницаемым материалом, но она изменяется при заполнении этих щелей прозрачным материалом. Другими словами, интерференции препятствует нечто, препятствующее свету, это может быть даже что-то столь же несущественное, как туман. Но оно может пройти через все, что пропускает свет, даже через непроницаемый (для материи) алмаз. Если в аппарате расположить сложную систему зеркал и линз так, чтобы свет мог распространяться от каждой щели до конкретной точки на экране, то в этой точке наблюдалась бы часть картины тени от четырех щелей. Если конкретной точки достигает свет только от двух щелей, на экране мы увидим часть картины тени от двух щелей и т. д.
Таким образом, что бы ни вызывало интерференцию, оно ведет себя как свет. Оно присутствует в луче света, но отсутствует вне него. Оно отражается, передается или блокируется тем, что отражает, передает или блокирует свет. Возможно, вы удивитесь, почему я столь досконально разбираю этот вопрос. Абсолютно очевидно, что это свет то есть фотонам из одной щели мешают фотоны из других. Но, возможно вы поставите под сомнение очевидное после следующего эксперимента, расшифровки спектров.
Что нам ожидать при проведении этих экспериментов только с одним фотоном? Например, предположим, что наш фонарик расположен так далеко от экрана, что за целый день на экран попадает только один фотон. Что увидит наша лягушка, наблюдающая за экраном? Если то, что каждому фотону мешают другие фотоны, — правда, то не уменьшится ли интерференция, когда фотоны будут появляться реже? Не прекратится ли она вовсе, если через аппарат за раз будет проходить только один фотон? Мы по-прежнему можем ожидать появления полутеней, т. к. фотон при прохождении через щель может отклониться от своего курса (например, ударившись о край щели). Но на экране мы точно не должны увидеть участок, подобный точке X, который получает фотоны, когда открыты две щели, и становится темным когда открывают две другие. {48}
Однако именно это мы и наблюдаем. Независимо от того, насколько редко появляются фотоны, картина тени остается неизменной. Даже при проведении эксперимента с появлением одного фотона за раз этот фотон не попадает в точку X, когда открыты все четыре щели. Но стоит только закрыть две щели, и вспышки в точке Х возобновляются.
Возможно ли, чтобы фотон расщеплялся на фрагменты, которые после прохождения через щели изменяли бы свою траекторию и рекомбинировались? Эту возможность мы тоже можем исключить. Если снова выпустить из аппарата один фотон и у каждой щели установить по детектору, то зарегистрировать сигнал сможет максимум один из них. Поскольку при подобном эксперименте никогда не наблюдались сигналы на двух детекторах одновременно, можно сказать, что обнаруживаемые ими объекты не расщепляются.
Таким образом, если фотоны не расщепляются на фрагменты и отклоняются от траектории не под действием других фотонов, то что же вызывает это отклонение? Когда через аппарат проходит один фотон за раз, что может проходить через другие щели, чтобы помешать ему?
Давайте подойдем к рассмотрению этого вопроса критически. Мы обнаружили, что когда один фотон проходит через этот аппарат,
он проходит через одну щель, затем что-то воздействует на него, заставляя отклониться от своей траектории, и это воздействие зависит от того, какие ещё щели открыты;
воздействующие объекты прошли через другие щели;
воздействующие объекты ведут себя так же, как фотоны ...,
... но они не видимы.
С этого момента я буду называть воздействующие объекты «фотонами». Именно фотонами они и являются, хотя на данный момент представляется, что существует два вида фотонов, один из которых я временно назову реальными фотонами, а другой теневыми фотонами. Первые мы можем увидеть или обнаружить с помощью приборов, тогда как вторые — неосязаемы (невидимы): их можно обнаружить только косвенно через их воздействие на видимые фотоны. (Далее мы увидим, что между реальными и теневыми фотонами не существует особой разницы: каждый фотон осязаем в одной Вселенной и не осязаем во всех параллельных Вселенных — но я опережаю события). Пока мы пришли только к тому, что каждый реальный фотон находится под сопровождением эскорта теневых фотонов и что при прохождении фотона через одну из четырех щелей некоторые теневые фотоны проходят {49} через три оставшиеся. Поскольку при изменении положения щелей (при условии, что они находятся в пределах луча) на экране появляются различные интерференционные картины, теневые фотоны должны попадать на всю освещенную часть экрана, куда попадает реальный фотон. Следовательно, теневых фотонов гораздо больше, чем реальных. Сколько же их? Эксперименты не могут определить верхнюю границу этого числа, но устанавливают приблизительную нижнюю границу. Максимальная площадь, которую мы могли осветить с помощью лазера в лаборатории, составила около квадратного метра, а минимальный достижимый размер отверстий мог быть около одной тысячной миллиметра. Таким образом, возможно получить около 1012 (одного триллиона) положений отверстий на экране. Следовательно, каждый реальный фотон должен сопровождать, по крайней мере, триллион теневых.
Таким образом, мы узнали о существовании бурлящего, непомерно сложного скрытого мира теневых фотонов. Они распространяются со скоростью света, отскакивают от зеркал, преломляются линзами и останавливаются, встретив светонепроницаемые барьеры или фильтры другого цвета. Однако они не оказывают никакого воздействия даже на самые чувствительные детекторы. Единственная вещь во вселенной, через которую можно наблюдать теневой фотон, — это воздействие, которое он оказывает на реальный фотон, им сопровождаемый. В этом и заключается явление интерференции. Если бы не это явление и не странные картины теней, которые мы наблюдаем, теневые фотоны были бы абсолютно незаметными.
Интерференция свойственна не только фотонам. Квантовая теория предсказывает, а эксперимент подтверждает, что интерференция происходит с любой частицей. Так что каждый реальный нейтрон должны сопровождать массы теневых нейтронов, каждый электрон — массы теневых электронов и т. д. Каждую из этих теневых частиц можно обнаружить лишь косвенно через её воздействие на движение реального двойника.
Следовательно, реальность гораздо больше, чем кажется, и большая её часть невидима. Те объекты и события, которые мы можем наблюдать с помощью приборов, — не более чем вершина айсберга.
Реальные частицы обладают свойством, которое дает нам право называть их совокупность Вселенной. Это определяющее свойство заключается просто в их реальности, то есть во взаимодействии друг с другом и, следовательно, в том, что их можно непосредственно {50} обнаружить с помощью приборов и чувствительных датчиков, созданных из других реальных частиц. Из-за явления интерференции они не отделяются от остальной реальности (то есть, от теневых частиц) полностью. В противном случае мы бы никогда не узнали, что реальность — это нечто большее, чем реальные частицы. Но в хорошем приближении они напоминают Вселенную, которую мы видим вокруг ежедневно, и Вселенную, на которую ссылается классическая (доквантовая) физика.
По тем же причинам мы могли бы назвать совокупность теневых частиц параллельной Вселенной, ибо теневые частицы оказываются под воздействием реальных частиц только через явление интерференции. Но мы можем сделать ещё лучше. Оказывается, что теневые частицы разделяются между собой точно так же, как отделяется от них вселенная реальных частиц. Другими словами, они образуют не одну однородную параллельную вселенную, гораздо бóльшую чем реальная, а огромное количество параллельных вселенных, каждая из которых по составу похожа на реальную и подчиняется тем же законам физики, но отличается от других расположением частиц.
Замечание относительно терминологии. Слово «вселенная» традиционно использовали для обозначения «всей физической реальности». В этом смысле может существовать не более одной вселенной. Придерживаясь этого определения, мы могли бы сказать, что то, что мы привыкли называть «вселенной», а именно: вся непосредственно ощутимая материя и энергия вокруг нас, все окружающее нас пространство, — далеко не вся вселенная, а лишь небольшая её часть. В этом случае нам пришлось бы придумать новое название для этой маленькой реальной части. Но большинство физиков предпочитает продолжать пользоваться словом «вселенная» для обозначения того, что оно всегда обозначало, несмотря на то, что сейчас эта сущность оказывается лишь маленькой частью физической реальности. Для обозначения физической реальности в целом создали неологизм — мультиверс[3].
Опыты с интерференцией одной частицы, подобные описанным мной, показывают, что мультиверс существует и содержит множество двойников каждой частицы реальной вселенной. Чтобы прийти к следующему выводу о разделении мультиверса на параллельные вселенные, следует рассмотреть явление интерференции нескольких реальных {51} частиц. Самый простой способ осуществить это — спросить при «мысленном эксперименте», что должно происходить на микроскопическом уровне, когда теневые фотоны встречают светонепроницаемый объект. Безусловно, они останавливаются: мы знаем это, поскольку интерференция прекращается, когда на пути теневых фотонов появляется светонепроницаемая перегородка. Но почему? Что их останавливает? Мы можем исключить прямой ответ, что реальные атомы перегородки поглощают их так же, как поглотили бы реальные фотоны. Одно нам известно: теневые фотоны не взаимодействуют с реальными атомами. Кроме того, мы можем проверить, измерив атомы перегородки (или точнее, заменив перегородку детектором), что они не поглощают энергию и не изменяют свое состояние до тех пор, пока не встретят реальный фотон. Теневые фотоны не оказывают на них никакого влияния.
Другими словами, перегородка одинаково воздействует, как на реальные, так и на теневые фотоны, но эти два вида фотонов воздействуют на неё по-разному. В действительности, насколько нам известно, теневые фотоны вообще не оказывают на неё никакого воздействия. Это и является определяющим свойством теневых фотонов, поскольку, если бы они оказывали реальное воздействие хоть на какой-то материал, то этот материал можно было бы использовать как детектор теневых фотонов, а само явление теней и интерференции не существовало бы в том виде, в каком я его описал.
Следовательно, в месте существования реальной перегородки находится и теневая. Без особых усилий можно сделать вывод, что эта теневая перегородка состоит из теневых атомов, которые, как нам уже известно, должны присутствовать как двойники реальных атомов перегородки. У каждого реального атома существует множество двойников. В действительности, общая плотность теневых атомов даже в слабом тумане более чем достаточна, чтобы остановить танк, что уж говорить об одном фотоне, если бы эти атомы могли воздействовать на него. Поскольку мы обнаружили, что частично светопроницаемые перегородки имеют равную степень светопроницаемости как для реальных, так и для теневых фотонов, значит, не все теневые атомы на пути определенного теневого фотона могут помешать его движению. Каждый теневой фотон встречает перегородку, во многом подобную той, которую встречает его реальный двойник, перегородку, состоящую из крошечного количества существующих теневых атомов. {52}
По той же причине каждый теневой атом в перегородке может взаимодействовать лишь с небольшим количеством других теневых атомов, находящихся около него, и те, с которыми он взаимодействует, образуют перегородку, весьма похожую на реальную. И так далее. Вся материя и все физические процессы имеют такую структуру. Если реальной перегородкой является сетчатка глаза лягушки, значит, должно быть много теневых сетчаток, каждая из которых способна остановить только одного теневого двойника каждого фотона. Каждая теневая сетчатка взаимодействует только с соответствующими теневыми фотонами, с соответствующей теневой лягушкой и т. д. Другими словами, частицы группируются в параллельные вселенные. Они «параллельны» в том смысле, что в пределах каждой вселенной частицы взаимодействуют друг с другом так же, как в реальной вселенной, но воздействие, оказываемое каждой вселенной на остальные, весьма слабое, и проявляется оно через явление интерференции.
Таким образом, мы вывели цепочку умозаключений, которая начинается со странных картин тени и заканчивается параллельными вселенными. На каждом этапе мы обнаруживаем, что поведение наблюдаемых нами объектов можно объяснить только присутствием невидимых объектов и их определенными свойствами. Основная идея заключается в том, что интерференция одной частицы определенно исключает возможность существования только реальной вселенной, которая нас окружает. А факт существования такого явления интерференции неоспорим. Тем не менее, теория существования мультиверса не пользуется особой популярностью у физиков. Почему?
Ответ, к сожалению, окажется нелицеприятным для большинства. Я ещё вернусь к этому в главе 13, но сейчас мне хотелось бы подчеркнуть, что аргументы, представленные мной в этой главе, обращены лишь к тем, кто ищет объяснений. Те, кого устраивают обычные предсказания и у кого нет особого желания понять, как получаются предсказанные результаты экспериментов, могут при желании просто отрицать существование всего, кроме того, что я называю «реальными» объектами. Некоторые люди, например, инструменталисты и позитивисты, принимают эту линию как сущность философского принципа. Я уже сказал, что я думаю о таких принципах и почему. Другие люди просто не хотят думать об этом. Как-никак, это столь грандиозный вывод, и он вызывает беспокойство, когда о нем слышишь впервые. Но я полагаю, что все эти люди ошибаются. Я надеюсь убедить читателей, {53} которые терпеливо относятся ко мне, что понимание мультиверса — это предварительное условие наилучшего возможного понимания реальности. Я говорю это не в духе суровой определенности искать истину независимо от того, насколько неприятной она может оказаться (хотя надеюсь, что приму и такую позицию, если до этого дойдет). Напротив, я говорю это потому, что итоговое мировоззрение намного более цельно и обладает гораздо большим смыслом, чем все предыдущие мировоззрения. Оно возвышается над циничным прагматизмом, который в наше время зачастую является суррогатом мировоззрения ученых.
«Почему нельзя просто сказать, — спрашивают некоторые физики-практики, — что фотоны ведут себя так, словно сталкиваются с невидимыми объектами? Почему нельзя оставить это в таком виде? Почему мы должны идти дальше и принимать теорию о существовании невидимых объектов?» Более экзотический вариант этой же по сути идеи заключается в следующем. «Реальный фотон осязаем, теневой фотон — это просто способ возможного, но не осуществленного поведения реального фотона. Тогда квантовая теория заключается во взаимодействии реального с возможным». Это, по меньшей мере, звучит достаточно глубоко. Но, к сожалению, люди, которые придерживаются какого-то из этих взглядов (включая выдающихся ученых, которые должны бы быть лучше осведомлены), во всем, что касается этого вопроса, неизменно начинают нести чушь. Поэтому давайте будем рассудительными. Ключевой момент состоит в том, что реальный, видимый фотон ведет себя по-разному в соответствии с тем путем, который открыт где-то в аппарате, чтобы пропустить что-то, что, в конце концов, задержит видимый фотон. Что-то перемещается по этим путям, и отказаться называть это «реальным» все равно, что играть в слова. «Возможное» не может взаимодействовать с реальным: несуществующие объекты не могут изменять траекторию движения существующих. Если фотон отклоняется от своей траектории, на него должно что-то воздействовать, и это что-то я назвал «теневым фотоном». Название ещё не делает это реальным, но не может быть, чтобы действительное событие, как-то: появление и обнаружение реального фотона, — было вызвано воображаемым событием, тем, что фотон «мог сделать», но не сделал. Причиной других событий может стать только то, что действительно происходит. Если сложное движение теневых фотонов в эксперименте с интерференцией было бы просто возможностью, которая на самом деле не имела места, {54} то наблюдаемое нами явление интерференции в действительности не произошло бы.
Причину того, что эффект интерференции обычно столь слаб, и его сложно обнаружить, можно найти в законах квантовой механики, которые им управляют. Существенны два частных следствия этих законов. Первое: каждая дробноатомная частица имеет двойников в других вселенных, и только эти двойники ей мешают. Любые другие частицы этих вселенных не оказывают на неё непосредственного воздействия. Следовательно, интерференцию можно наблюдать лишь в особых случаях, когда траектории частицы и её теневых двойников расходятся и затем вновь сходятся (так же, как фотон и теневой фотон стремятся к одной и той же точке на экране). Даже время должно быть синхронизировано: если на одной из двух траекторий возникнет задержка, интерференция ослабнет или прекратится. Второе: для того, чтобы обнаружить интерференцию между любыми двумя вселенными, необходимо, чтобы между всеми их частицами, положение и другие свойства которых не идентичны, произошло взаимодействие. На практике это означает, что можно обнаружить интерференцию только между двумя очень похожими вселенными. Например, во всех описанных мною экспериментах интерферирующие вселенные отличаются положением только одного фотона. Если фотон при движении воздействует на другие частицы, и, в частности, если мы видим его, то эти частицы или наблюдатель тоже станут различными в различных вселенных. Если это так, то последующую интерференцию, включающую этот фотон, на практике невозможно будет обнаружить, потому что требуемое взаимодействие между всеми частицами, которые подверглись влиянию, будет слишком сложно обеспечить. Здесь я должен упомянуть, что стандартная фраза, описывающая этот факт, а именно: «наблюдение разрушает интерференцию», — весьма обманчива по трем причинам. Во-первых, она предполагает некоторое психокинетическое влияние сознательного «наблюдателя» на основные физические явления, хотя такого влияния не существует. Во-вторых, интерференция не «разрушается»: её просто (гораздо!) сложнее увидеть, потому что для этого необходимо управлять точным поведением гораздо большего количества частиц. И, в-третьих, не только «наблюдение», но и любое воздействие фотона на его окружение, зависящее от выбранной им траектории, делает то же самое. {55}
Ради читателей, которые могли видеть другие формы изложения квантовой физики, я должен кратко показать связь между аргументами, приведенными мной в этой главе, и обычным способом представления этого предмета. Возможно, из-за споров, возникших среди физиков-теоретиков, традиционно отправной точкой была сама квантовая теория. Сначала теорию формулируют как можно точнее, а затем пытаются понять, что она говорит нам о реальности. Это единственный возможный подход к пониманию мельчайших деталей квантовых явлений. Но в отношении вопроса о том, состоит ли реальность из одной вселенной или из многих, этот подход излишне сложен. Именно поэтому в данной главе я отошел от него. Я даже не сформулировал ни одного постулата квантовой теории, я просто описал некоторые физические явления и сделал неизбежные выводы. Но если начинать с теории, существуют две вещи, которые никто не будет оспаривать. Первая заключается в том, что квантовая теория не имеет равных себе в способности предсказывать результаты экспериментов даже при слепом использовании её уравнений без особых размышлений об их значении. Вторая состоит в том, что квантовая теория рассказывает нам нечто новое и необычное о природе реальности. Спор заключается лишь в том, что именно. Физик Хью Эверетт первым ясно осознал (в 1957 году, через тридцать лет после того, как эта теория стала основой физики дробноатомных частиц), что квантовая теория описывает мультиверс. С тех самых пор бушевал спор о том, допускает ли эта теория какую-то другую интерпретацию (повторную интерпретацию, или формулировку, или модификацию и т. д.), по которой она описывает единственную вселенную, но продолжает правильно предсказывать результаты экспериментов. Другими словами, действительно ли принятие предсказаний квантовой теории вынуждает нас принять существование параллельных вселенных?
Мне кажется, что этот вопрос, а следовательно, и преобладающая тональность спора относительно этой проблемы имеет ошибочное направление. Признаться, для физиков-теоретиков, подобных мне, допустимо и оправданно прикладывать огромные усилия, чтобы достичь понимания формальной структуры квантовой теории, но не за счет того, чтобы потерять из вида нашу главную цель — понять реальность. Даже если предсказания квантовой теории можно было бы каким-то образом получить, не ссылаясь на другие вселенные, отдельные фотоны все равно отбрасывали бы описанные мной тени. Даже ничего не зная {56} о квантовой теории, можно увидеть, что эти тени не могут быть результатом какого-то одного случая движения фотона от фонарика к глазу наблюдателя. Их нельзя совместить ни с одним объяснением только на основе тех фотонов, которые мы видим. Или только на основе перегородки, которую мы видим. Или только на основе видимой нами вселенной. Следовательно, если лучшая теория, имеющаяся в распоряжении физиков, не ссылалась бы на параллельные вселенные, это просто значило бы, что нам нужна теория лучше, теория, которая ссылалась бы на параллельные вселенные, чтобы объяснить то, что мы видим.
Таким образом, принятие предсказаний квантовой теории заставляет нас принять существование параллельных вселенных? Не само по себе. Любую теорию мы всегда можем истолковать в соответствии с принципами инструменталистов так, что она не заставит нас принимать что-либо относительно реальности. Но это отступление. Как я уже сказал, чтобы узнать, что параллельные вселенные существуют, нам не нужны глубокие теории: об этом нам говорят явления интерференции одной частицы. Глубокие теории нужны нам, чтобы объяснить и предсказать такие явления — рассказать: каковы другие вселенные, каким законам они подчиняются, как влияют друг на друга и как все это укладывается в теоретические основы других предметов. Именно это и делает квантовая теория. Квантовая теория параллельных вселенных — это не задача, это решение. Это толкование нельзя назвать ненадежным и необязательным, исходящим из скрытых теоретических соображений. Это объяснение — единственно надежное объяснение — замечательной и противоречащей интуиции реальности.
Пока я использовал временную терминологию, предполагающую, что одна из множества параллельных вселенных отличается от других тем, что она «реальна». Пришло время разорвать последнюю связь с классическим понятием реальности, основанном на существовании одной вселенной. Вернемся к нашей лягушке. Мы поняли, что история лягушки, которая смотрит на далекий от неё фонарик в течение многих дней, ожидая вспышку, которая появляется в среднем раз в день, — ещё не вся история, потому что должны также существовать теневые лягушки в теневых вселенных, сосуществующие с реальной лягушкой и тоже ждущие появления фотонов. Допустим, что нашу лягушку научили подпрыгивать при появлении вспышки. В начале эксперимента у реальной лягушки будет множество теневых двойников, и изначально {57} все они будут похожи. Но уже через короткий промежуток времени они не будут так похожи. Невозможно, чтобы каждая лягушка увидела фотон мгновенно. Но событие, редкое в одной вселенной, является обычным в мультиверсе. В любой момент где-то в мультиверсе существует несколько вселенных, в каждой из которых в определенный момент фотон воздействует на сетчатку глаза лягушки, находящейся в этой вселенной. И эта лягушка подпрыгивает.
Почему же она подпрыгивает? Потому что в пределах своей вселенной она подчиняется тем же законам физики, что и реальная лягушка: на её теневую сетчатку попал теневой фотон, принадлежащий этой вселенной. Одна из светочувствительных теневых молекул этой теневой сетчатки отреагировала появлением сложных химических изменений, на что, в свою очередь, отреагировал зрительный нерв теневой лягушки. В результате этого процесса в мозг теневой лягушки поступило сообщение, и у лягушки появилось ощущение, что она видит вспышку.
Или мне следует сказать «теневое ощущение того, что она видит вспышку»? Конечно, нет. Если «теневые» наблюдатели, будь то лягушки или люди, реальны, то все их ощущения тоже должны быть реальными. Когда они наблюдают то, что мы можем назвать теневым объектом, для них этот объект реален. Они наблюдают его при помощи тех же средств и в соответствии с тем же определением, что и мы, когда говорим, что вселенная, которую мы наблюдаем, «реальна». Понятие реальности относительно для данного наблюдателя. Поэтому объективно не существует ни двух видов фотонов, реального и теневого, ни двух видов лягушек, ни двух видов вселенных, одна из которых — реальная, а все остальные — теневые. В описании, которое я привел относительно образования теней или каких-то схожих явлений, не существует ничего, что разграничивает области «реальных» и «теневых» объектов, кроме простого допущения, что одна из копий «реальна». Говоря о реальных и теневых фотонах, я, очевидно, разделил их потому, что мы видим первые, но не вторые. Но кто «мы»? Пока я писал все это, множество теневых Дэвидов писали то же самое. Они тоже подразделяли фотоны на реальные и теневые; но среди фотонов, которые они называли теневыми, есть фотоны, которые я назвал «реальными», а те фотоны, которые они называли реальными, оказались среди тех, которые я назвал «теневыми».
Ни одна копия объекта не занимает привилегированного положения ни при объяснении теней, которое я только что изложил, ни во всем {58} математическом объяснении квантовой теории. Субъективно я могу считать, что выделяюсь среди копий, поскольку я — «реальный», поскольку я могу непосредственно воспринимать себя, а не других, но я должен смириться с тем, что все остальные копии чувствуют то же самое.
Многие из этих Дэвидов пишут эти же самые слова в это мгновение. У некоторых это получается лучше. А некоторые пошли выпить чашку чая.
Фотон — световая частица.
Реальный/Теневой — в целях объяснения только в этой главе, я назвал частицы этой вселенной реальными, а частицы других вселенных — теневыми.
Мультиверс — вся физическая реальность. В ней находится много параллельных вселенных.
Параллельные вселенные — они «параллельны» в том смысле, что в пределах каждой вселенной частицы взаимодействуют друг с другом так же, как и в реальной вселенной, но каждая вселенная оказывает на остальные весьма слабое влияние через явление интерференции.
Квантовая теория — теория физики мультиверса.
Квантование — свойство иметь дискретный (а не непрерывный) набор возможных значений. Квантовая теория получила название от допущения, что все измеряемые величины квантуются. Однако наиболее важным эффектом является не квантование, а интерференция.
Интерференция — влияние, оказываемое частицей одной вселенной на своего двойника из другой вселенной. Интерференция фотона может стать причиной появления теней более сложной формы, чем просто силуэты препятствий, вызывающих их появление.
При экспериментах с интерференцией на картине тени могут присутствовать такие участки, которые перестают освещаться при появлении в перегородке новых щелей. Это остается неизменным, даже если эксперимент проводят с отдельными частицами. Цепочка рассуждений, {59} основанных на этом факте, исключает возможность того, что вселенная, окружающая нас, — это вся реальность. В действительности, вся физическая реальность, мультиверс, содержит огромное количество параллельных вселенных.
Квантовая физика — одна из четырех основных нитей объяснения. Следующая основная нить — это эпистемология, теория познания. {60}
Я даже не знаю, что более странно: поведение самих теней или тот факт, что несколько картин света и тени могут заставить нас столь радикально изменить наши представления о структуре реальности. Доказательства, которые я привел в предыдущей главе, несмотря на свои противоречивые выводы, представляют собой типичный отрезок научного рассуждения. Стоит поразмышлять над характером этого рассуждения, которое само по себе является естественным явлением, по крайней мере, столь же удивительным и обширным, как и физика теней.
Тем, кто предпочел бы, чтобы структура реальности была более прозаичной, может показаться немного непропорциональным, даже нечестным, что такие грандиозные выводы могут последовать из того, что крошечное световое пятно окажется на экране здесь, а не там. Тем не менее, это действительно так, и это далеко не первый подобный случай в истории науки. В этом отношении открытие других вселенных очень напоминает открытие других планет древними астрономами. Прежде чем послать межпланетные научно-исследовательские станции на Луну и другие планеты, мы получили всю информацию о планетах из световых пятен (или другого излучения), которое наблюдали в одном месте, а не в другом. Рассмотрим, как было открыто первое определяющее свойство планет, которое отличает их от звезд. Если наблюдать за ночным небом в течение нескольких часов, можно увидеть, что звезды движутся вокруг определенной точки в небе. Траектория их движения остается постоянной, не изменяется и их положение относительно друг друга. Традиционное объяснение заключалось в том, что ночное небо — это огромная «небесная сфера», которая вращается вокруг неподвижной Земли, а звезды — это либо отверстия в сфере, либо вкрапленные сияющие кристаллы. Однако среди тысяч световых точек, которые можно увидеть в небе невооруженным глазом, есть несколько самых ярких, которые остаются неподвижными в течение более долгих промежутков времени, словно прикрепленные к небесной сфере. Их блуждающее {61} движение по небу более сложно. Их называют «планеты», от греческого слова «странник». Их блуждающее движение по небу стало признаком неадекватности объяснения, основанного на небесной сфере.
Последующие объяснения движения планет сыграли важную роль в истории науки. Гелиоцентрическая теория Коперника расположила планеты и Землю на круговых орбитах вокруг Солнца. Кеплер обнаружил, что орбиты — скорее эллипсы, чем круги. Ньютон объяснил эллипсы через свой закон обратных квадратов сил тяготения, и впоследствии его теория помогла предсказать то, что взаимное гравитационное притяжение планет вызывает небольшие отклонения от эллиптических орбит. Наблюдение этих отклонений привело в 1846 году к открытию новой планеты, Нептун, — одному из многих открытий, наглядно подтвердивших теорию Ньютона. Однако несколько десятилетий спустя общая теория относительности Эйнштейна предоставила нам принципиально новое объяснение тяготения на основе искривленного пространства и времени и, таким образом, вновь предсказала немного другое движение планет. Например, эта теория предсказала, что каждый год планета Меркурий будет отклоняться на одну десятитысячную градуса от положения, которое она должна занимать в соответствии с теорией Ньютона. Эта теория также показала, что свет звезд, проходящий близко с Солнцем, из-за тяготения будет отклоняться на величину, в два раза превышающую значение, предсказанное теорией Ньютона. Наблюдение этого отклонения Артуром Эддингтоном в 1919 году часто называют событием, из-за которого мировоззрение Ньютона утратило свою рациональную состоятельность. (Ирония состоит в том, что современные оценки точности эксперимента Эддингтона говорят о том, что такие выводы могли быть преждевременными). Эксперимент, который с тех пор повторяли с большой точностью, заключался в измерении положения пятен (изображений звезд, близких к нимбу Солнца во время солнечного затмения) на фотоснимке.
По мере того, как предсказания астрономов становились более точными, уменьшалась разница между тем, что предсказывали следующие друг за другом теории относительно объектов в ночном небе. Чтобы обнаружить разницу, приходилось строить ещё более мощные телескопы и измерительные приборы. Однако объяснения, на которых были основаны эти предсказания, не совпадали. Напротив, как я только что показал, революционные перемены следовали одна за другой. Таким образом, наблюдения даже меньших физических эффектов вызывали даже {62} бóльшие изменения в нашем мировоззрении. Следовательно, может показаться, что мы делаем грандиозные выводы, исходя из недостаточного количества доказательств. Что оправдывает такие выводы? Можно ли быть уверенным, что только из-за того, что звезда на фотошаблоне Эддингтона оказалась смещенной на доли миллиметра, пространство и время должны быть искривленными; или из-за того, что фотодетектор в определенном положении не регистрирует «удар» слабого света, должны существовать параллельные вселенные?
В самом деле, то, о чем я только что говорил, преуменьшает как слабость, так и косвенность всех результатов наблюдений. Дело в том, что мы не воспринимаем звезды, пятна на фотоснимках или любые другие внешние объекты и события непосредственно. Мы видим что-либо только тогда, когда изображение этого появляются на сетчатке наших глаз, но даже эти изображения мы не воспринимаем, пока они не вызовут электрические импульсы в наших нервных окончаниях и пока наш мозг не получит и не поймет эти импульсы. Таким образом, вещественное доказательство, из-за которого мы склоняемся к тому, чтобы принять одну теорию мировоззрения, а не другую, измеряется даже не в миллиметрах: оно измеряется в тысячных долях миллиметра (расстояние между нервными волокнами глазного нерва) и в сотых долях вольта (изменение электрического потенциала наших нервов, из-за которого мы чувствуем разницу в восприятии двух разных вещей). Однако мы не придаем равного значения всем нашим сенсорным ощущениям. При научных экспериментах мы заходим достаточно далеко, чтобы приблизиться к восприятию тех аспектов внешней реальности, которые, как нам кажется, могут нам помочь при выборе одной из конкурирующих теорий. Перед наблюдением мы решаем, где и когда нам следует наблюдать и что искать. Часто мы используем комплексные, специально спроектированные приборы, как-то: телескопы и фотоумножители. Но как бы ни сложны были эти приборы и как бы ни значительны были внешние причины, которым мы приписываем показания этих приборов, мы воспринимаем эти показания только через свои органы чувств. Мы не можем избежать этого, что мы — люди — маленькие создания с несколькими несовершенными каналами, через которые мы получаем информацию о том, что нас окружает. Мы интерпретируем эту информацию как свидетельство существования большой и сложной внешней вселенной (или мультиверса). Но когда мы пытаемся уравновесить это свидетельство, мы буквально не находим {63} ничего, кроме слабого электрического тока, проникающего в наш мозг.
Что оправдывает те выводы, которые мы делаем из этих картин? Дело определенно не в логическом выведении. Ни из этих и ни из каких-нибудь других наблюдений нельзя доказать даже то, что внешняя вселенная или мультиверс вообще существует; что уж говорить о каком-то отношении к ней электрических токов, получаемых нашим мозгом. Все что мы воспринимаем, может быть иллюзией или сном. Как-никак иллюзии и сны — обычное дело. Солипсизм, теорию о том, что существует один только разум, а то, что кажется внешней реальностью, — не более чем сон этого разума, невозможно логически опровергнуть. Реальность может состоять из одного человека (возможно этим человеком будете вы), которому снится жизненный опыт. Или она может состоять из вас и меня. Или из планеты Земля и её жителей. И если бы нам снились свидетельства — любые свидетельства — существования других людей, или других планет, или других вселенных, они ничего не доказали бы относительно того, сколько всего этого существует на самом деле.
Поскольку солипсизм и многие схожие теории логически совместимы с вашим восприятием любых возможных результатов наблюдений, из них логически невозможно вывести ничего, что касалось бы реальности. Как же тогда я мог сказать, что наблюдаемое поведение теней «исключает» теорию о том, что существует только одна вселенная или что наблюдения солнечного затмения делают мировоззрение Ньютона «рационально несостоятельным»? Как это возможно? Если «исключение» не означает «опровержение», что оно означает? Почему нужно заставлять себя менять свое мировоззрение или вообще любое мнение из-за чего-то, что было «исключено» таким образом? Создается впечатление, что такая критика подвергает сомнению всю науку, любое рассуждение о внешней реальности, которое обращается к результатам наблюдений. Если научное рассуждение не равносильно последовательности логических выводов из того, что мы видим, чему оно равносильно? Почему мы должны принять его выводы?
Это называется «задачей индукции». Метод берет свое название от теории, которая на протяжении бóльшей части истории науки являлась общепринятой теорией того, как работает наука. Теория заключалась в существовании математически недоказанной, меньшей, но, тем не менее достойной внимания формы доказательства, называемой индукцией. С одной стороны, индукции противостояли предположительно {64} совершенные доказательства, предоставленные дедукцией, а с другой стороны, предположительно более слабые философские или интуитивные формы рассуждения, не имевшие даже результатов наблюдений, которые поддержали бы их. В индуктивной теории научного знания наблюдения играют двоякую роль: сначала — при открытии научных теорий, затем — при их доказательстве. Предполагается, что теорию открывают, «экстраполируя» или «обобщая» результаты наблюдений. Тогда, если множество наблюдений соответствует теории и ни одно из них не отклоняется от неё, теорию считают доказанной — более верной, вероятной или надежной. Схема индукции показана на рисунке 3.1.
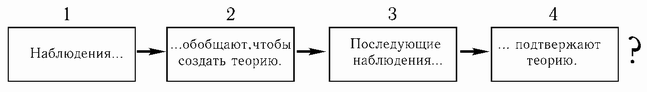 |
Рис. 3.1. Схема индукции |
Индуктивный анализ моего обсуждения теней должен тогда выглядеть примерно следующим образом: «Мы проводим ряд наблюдений теней и видим явление интерференции (этап 1). Результаты соответствуют тому, что следовало бы ожидать, если бы существовали параллельные вселенные, определенным образом воздействующие друг на друга. Но сначала никто этого не замечает. В конечном итоге, (этап 2) кто-то делает обобщение, что интерференция всегда будет иметь место при данных условиях, а следовательно, путем индукции выводит теорию, что за это ответственны параллельные вселенные. С каждым последующим наблюдением интерференции (этап 3) мы немного больше убеждаемся в справедливости этой теории. После достаточно большого количества таких наблюдений и при условии, что ни одно из них не противоречит теории, мы делаем вывод (этап 4), что эта теория истинна. Хотя мы никогда не можем быть уверены абсолютно, мы убеждены настолько, что для практических целей этого достаточно».
Трудно определить, где начать критиковать индуктивное представление о науке: оно настолько глубоко ложно, ложно по-разному. Возможно, самый большой недостаток, с моей точки зрения, — это чистой воды вывод, не соответствующий посылкам относительно того, что обобщенное предсказание равносильно новой теории. Подобно всем научным теориям, разным по глубине, теория существования параллельных вселенных просто не имеет формы, в которую её можно {65} облечь, исходя из наблюдений. Разве мы наблюдали сначала одну вселенную, потом вторую и третью, а потом сделали вывод, что существуют триллионы вселенных? Разве обобщение относительно того, что планеты «блуждают» по небу, создавая одну, а не другую картину, было эквивалентно теории о том, что планеты — это миры, вращающиеся по орбите вокруг Солнца и что Земля — один из них? Также не является истиной то, что повторение наших наблюдений — это способ убедиться в справедливости научных теорий. Как я уже сказал, теории — это объяснения, а не просто предсказания. Если предложенное объяснение ряда наблюдений не принято, то вряд ли полезно продолжать вести наблюдения. Еще меньше это способно помочь нам создать удовлетворительное объяснение, если мы не можем придумать вообще никакого.
Более того, даже простые предсказания нельзя доказать с помощью результатов наблюдений, как показал в своей истории о цыпленке Бертран Рассел. (Во избежание возможных недоразумений позвольте мне подчеркнуть, что это метафорический, антропоморфный цыпленок, представляющий собой человека, который пытается понять регулярности вселенной). Цыпленок заметил, что фермер каждый день приходит, чтобы накормить его. Это говорило о том, что фермер будет продолжать каждый день приносить еду. Индуктивисты полагают, что цыпленок «экстраполировал» свои наблюдения в теорию, и каждый раз, когда его кормят, эта теория получает все больше доказательств. Затем однажды пришел фермер и свернул цыпленку шею. Разочарование, которое испытал цыпленок Рассела, испытали триллионы других цыплят. Это индуктивно доказывает вывод, что индукция не может доказать ни одного вывода!
Однако эта критическая линия недостаточна, чтобы сбросить индуктивизм со счетов. Она действительно иллюстрирует тот факт, что многократно повторенные наблюдения не способны доказать теории, но при этом она полностью упускает (или даже принимает) самое основное неправильное представление, а именно: новые теории можно образовать с помощью индуктивной экстраполяции наблюдений. На самом деле, экстраполировать наблюдения невозможно, пока их не поместят в рамки объяснений. Например, чтобы «вывести» свое ложное предсказание, цыпленок Рассела должен был сначала придумать ложное объяснение поведения фермера. Возможно, фермер испытывал к цыплятам добрые чувства. Придумай он другое объяснение — что фермер старался откормить цыплят, чтобы потом зарезать, например, — и поведение было {66} бы «экстраполировано» совсем по-другому. Допустим, однажды фермер начинает приносить цыплятам больше еды, чем раньше. Экстраполяция этого нового ряда наблюдений для предсказания будущего поведения фермера полностью зависит от того, как его объяснить. В соответствии с теорией доброго фермера очевидно, что доброта фермера по отношению к цыплятам увеличилась, и цыплятам теперь совсем нечего переживать. Но в соответствии с теорией откармливания такое поведение — зловещий признак: очевидно, что смерть близка.
То, что те же самые результаты наблюдений можно «экстраполировать», чтобы дать два диаметрально противоположных предсказания в зависимости от принятого объяснения, причем ни одно из них невозможно доказать, — не просто случайное ограничение, связанное со средой обитания фермера: это относится ко всем результатам наблюдений, при любых обстоятельствах. Наблюдения не могут играть ни одну роль, которую им приписывает схема индуктивизма, даже в отношении простых предсказаний, не говоря уже о настоящих объяснительных теориях. Надо признаться, что индуктивизм основан на разумной теории роста знания (которое мы получаем из жизненного опыта), и исторически он ассоциировался с освобождением науки от догмы и тирании. Но если мы хотим понять истинную природу знания и его место в структуре реальности, мы должны признать, что индуктивизм абсолютно ложен. Ни одно научное объяснение, а в действительности, и ни одно успешное объяснение любого рода никогда не подходило под описание индуктивистов.
Какова же тогда картина научных рассуждении и открытий? Мы поняли, что индуктивизм и все остальные теории знания, направленные на предсказания, основаны на неправильном представлении. Нам необходима теория знания, нацеленная на объяснение: теория о том, как появляются объяснения и как их доказывают; как, почему и когда нам следует позволить своему восприятию изменить наше мировоззрение. Как только у нас будет такая теория, отдельная теория предсказаний нам больше не понадобится. При наличии объяснения какого-то наблюдаемого явления метод получения предсказаний уже не является загадкой. И если объяснение доказано, то любые предсказания, полученные из этого объяснения, тоже автоматически доказаны.
К счастью, общепринятую теорию научного познания, которая своей современной формулировкой обязана главным образом философу Карлу Попперу (и которая является одной из моих четырех «основных {67} нитей» объяснения структуры реальности), в этом смысле действительно можно считать объяснительной теорией. Она рассматривает науку как процесс решения задач. Индуктивизм рассматривает список наших прошлых наблюдений как некий скелет теории, считая, что вся наука состоит в заполнении пробелов этой теории путем интерполяции и экстраполяции. Решение задач начинается с неадекватной теории — а не с понятийной «теории», состоящей из прошлых наблюдений. Оно начинается с наших лучших существующих теорий. Когда некоторые из этих теорий кажутся нам неадекватными и мы начинаем нуждаться в новых, это и составляет задачу. Таким образом, в противовес схеме индукции, показанной на рисунке 3.1, научное открытие не должно начинаться с результатов наблюдений. Но оно всегда начинается с задачи. Под «задачей» я понимаю не обязательно практическую трудную ситуацию или источник трудностей. Я имею в виду набор идей, который выглядит неадекватным и который стоит попытаться усовершенствовать. Существующее объяснение может показаться слишком многословным или слишком трудным; оно также может показаться излишне конкретным или нереально амбициозным. Может промелькнуть возможное объединение с другими идеями. Или объяснение, удовлетворительное в одной области, может оказаться несовместимым с таким же удовлетворительным объяснением из другой области. Или, может быть, были удивительные наблюдения, как-то: блуждающие планеты, — которые существующие теории не могли ни предсказать, ни объяснить.
Последний тип задачи напоминает первый этап схемы индуктивистов, но лишь поверхностно. Неожиданное наблюдение никогда не порождает научное открытие, если только существующие до него теории уже не содержат зачатки задачи. Например, облака блуждают даже больше, чем планеты. Это непредсказуемое блуждание, по-видимому, было известно задолго до того, как открыли планеты. Более того, прогнозы погоды всегда ценили фермеры, моряки и солдаты, так что всегда существовал стимул создать теорию движения облаков. Тем не менее, не метеорология, а астрономия оставила след для современной науки. Результаты наблюдений метеорологии были гораздо более легко доступными, чем результаты наблюдений астрономии, но никто не обращал на них особого внимания и никто не выводил из них теорий относительно холодных фронтов или антициклонов. История науки не была загружена спорами, догмами, ересью, размышлениями и тщательно {68} продуманными теориями о природе облаков и их движения. Почему? Потому что при установившейся объяснительной теории погоды было совершенно ясно, что движение облаков непредсказуемо. Здравый смысл подсказывает, что движение облаков зависит от ветра. Когда они движутся в разных направлениях, разумно предположить, что на разной высоте разный ветер, и это вряд ли возможно предугадать, а потому легко сделать вывод, что объяснять больше нечего. Некоторые люди несомненно переносили этот взгляд на планеты и считали их просто сияющими объектами на небесной сфере, которые на большой высоте разгонял ветер, или, возможно, перемещали ангелы, и большего объяснения не требовалось. Но других это не удовлетворяло: они предполагали, что за блужданием планет стоят более глубокие объяснения. Поэтому они искали такие объяснения и находили их. В разные времена в истории астрономии появлялись то массы необъясненных результатов наблюдений, то лишь крупицы таких свидетельств, а то их и вовсе не было. Но выбирая предмет создания теории, соответствующий собранным наблюдениям конкретного явления, они неизменно должны были бы выбирать облака, а не планеты. Тем не менее, они выбирали планеты и делали это по различным причинам. Некоторые причины зависели от предубеждений относительно того, какой должна быть космология, или от споров древних философов, или от мистической нумерологии. Некоторые основывались на физике того времени, другие — на математике или геометрии. Некоторые причины оказались объективными, другие — нет. Но каждая из них означала следующее: кому-то казалось, что существующие объяснения требуют усовершенствования и они должны его получить.
При решении задачи мы ищем новые или усовершенствованные теории, которые содержат объяснения без недостатков, но сохраняют достоинства существующих теорий (рисунок 3.2). Таким образом, за постановкой задачи (этап 1) следует гипотеза: высказывание новых теорий, изменение или новое толкование старых для решения задачи (этап 2). Затем гипотезы подвергают критике, что позволяет (если критика рациональна) исследовать и сравнить теории, чтобы выбрать ту, которая содержит лучшие объяснения относительно критериев задачи (этап 3). Выдвинутую теорию, не прошедшую испытание критикой, то есть предлагающую худшие объяснения по сравнению с другими теориями, исключают. Заменив одну из первоначально принятых теорий на вновь предложенную (этап 4), мы предварительно считаем, что {69} делаем успехи в решении задачи. Я говорю «предварительно», потому что последующее решение задачи возможно потребует корректировки или замены даже этих новых, на первый взгляд, удовлетворительных теорий, а иногда даже возврата к некоторым, ранее признанным неудовлетворительными. Таким образом, решение, каким бы хорошим оно ни было, ещё не конец процесса: это начало процесса решения следующей задачи (этап 5). Это иллюстрирует ещё одно ошибочное представление индуктивизма. Задача науки заключается не в том, чтобы найти теорию, которая будет считаться вечной истиной, а в том, чтобы найти лучшую на данный момент теорию и если это возможно, внести поправки во все имеющиеся теории. Научная дискуссия необходима, чтобы убедиться, что данное объяснение — лучшее из имеющихся. Она ничего не говорит, да и не может сказать, относительно того, выдержит ли это объяснение впоследствии новую критику и сравнение с вновь найденными объяснениями. Хорошее объяснение может дать хорошие предсказания относительно будущего, но ни одно объяснение не способно предугадать содержание или качество своих будущих конкурентов.
 |
Рис. 3.2. Процесс решения задачи |
То, что я описал до настоящего момента, применимо к решению любых задач независимо от темы рассматриваемого предмета или методов рациональной критики. Решение научных задач всегда содержит конкретный метод рациональной критики — экспериментальную проверку. Когда две или более конкурирующих теории дают противоположные предсказания результатов эксперимента, этот эксперимент проводят, а теорию или теории, предсказания которых оказались ложными, отвергают. Сама структура научных гипотез направлена на нахождение объяснений, предсказания которых можно проверить экспериментально. В идеале мы всегда ищем решающие экспериментальные проверки — эксперименты, результат которых, каким бы он ни был, заявит о несостоятельности одной или нескольких конкурирующих теорий. Этот процесс показан на рисунке 3.3. Независимо от того, включала ли постановка задачи наблюдения (этап 1) и были ли конкурирующие теории придуманы только для экспериментальной проверки, именно на {70} этой критической фазе научного открытия (этап 3) экспериментальные проверки играют решающую и определяющую роль. Эта роль состоит в том, чтобы объявить некоторые конкурирующие теории неудовлетворительными, обнаружив, что их объяснения приводят к ложным предсказаниям. Здесь я должен упомянуть об асимметрии, которая очень важна в философии и методологии науки: асимметрии между экспериментальным опровержением и экспериментальным подтверждением. Тогда как неправильное предсказание автоматически переводит лежащее в его основе объяснение в разряд неудовлетворительных, правильное предсказание вообще ничего не говорит об объяснении, лежащем в его основе. Еще хуже неправильные объяснения, дающие правильные предсказания, что должны бы иметь в виду разные любители НЛО, теоретики-конспираторы и псевдоученые (но чего они никогда не делают).
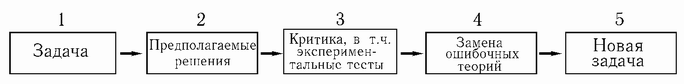 |
|
Рис. 3.3. Последовательность научного открытия |
Если теорию о наблюдаемых событиях невозможно проверить, то есть ни одно возможное наблюдение её не исключает, значит она сама не может объяснить, почему эти события происходят именно так, как наблюдается, а не иначе. Например, «ангельскую» теорию движения планет проверить невозможно, потому что независимо от того, как планеты движутся, это движение можно приписать влиянию ангелов; следовательно, теория ангелов не может объяснить конкретное движение планет, которое мы видим, пока его не дополнит теория о том, как движутся ангелы. Именно поэтому в науке есть методологическое правило, которое гласит, что как только теория, которую можно экспериментально проверить, прошла соответствующую проверку, любые другие менее проверяемые теории, конкурирующие с ней и касающиеся того же явления, отвергают сразу же, поскольку их объяснения, несомненно, окажутся хуже. На это правило часто ссылаются как на правило, которое отличает науку от других видов создания знания. Но, принимая то, что наука заключается в объяснениях, мы понимаем, что это правило — действительно особый случай, применимый к решениям любых задач: теории, способные дать {71} более подробные объяснения, автоматически становятся предпочтительными. Эти теории предпочитают по двум причинам. Первая состоит в том, что теория, которая «заметна» своей конкретностью относительно большего числа явлений, открывает себя и своих соперников большему проявлению критики, а следовательно, у неё больше шансов продвинуть процесс решения задачи вперед. Вторая причина просто в том, что если такая теория выдержит критику, она получит ещё большее количество объяснений, что и является задачей науки.
Я уже отметил, что даже в науке экспериментальные проверки не составляют бóльшую часть критики. Так происходит потому, что научная критика большей частью направлена не на предсказание теорий, а непосредственно на объяснения, которые лежат в их основе. Проверка предсказаний — это лишь косвенный способ (хотя при возможности его использования исключительно мощный) проверки объяснений. В главе 1 я привел пример «лечения травой» — теории о том, что, съев килограмм травы, можно вылечиться от обычной простуды. Эту теорию и множество других, ей подобных, легко проверить. Но мы можем критиковать и отбрасывать их, даже не проводя эксперименты, просто на основе того, что они объясняют не больше предшествующих теорий, противоречащих им, но делают новые допущения, которые невозможно объяснить.
Научное открытие редко проходит последовательно все стадии, показанные на рисунке 3.3, с первой попытки. До завершения или даже решения каждого этапа обычно применяют повторяющийся поиск с возвратом, поскольку на каждом этапе может возникнуть задача, для решения которой необходимо пройти все пять этапов вспомогательного процесса решения задач. Это применимо даже к этапу 1, поскольку первоначальную задачу нельзя назвать непреложной. Если мы не можем придумать хорошие варианты решения, мы можем вернуться на первый этап и попытаться сформулировать задачу иначе, а возможно, и выбрать другую задачу. На самом деле, кажущаяся нерешаемость — только одна из множества причин, почему зачастую мы хотим изменить задачи, которые решаем. Некоторые варианты задачи несомненно более интересны или в большей степени подходят другим задачам; другие — лучше сформулированы; третьи кажутся потенциально более эффективными или более насущными и т. д. Часто вопрос о том, в чем точно заключается задача и какие качества должны быть {72} присущи «хорошему» объяснению, подвергается такой же критике и тем же гипотезам, что и пробные решения.
Точно так же, если критика на этапе 3 не выберет одну из конкурирующих теорий, мы попытаемся изобрести новые методы критики. Если и это не поможет, мы можем вернуться на этап 2 и попытаться уточнить предлагаемые нами решения (и существующие теории) так, чтобы извлечь из них больше объяснений и предсказаний и облегчить поиск их недостатков. Мы также можем вновь вернуться к этапу 1 и попытаться найти лучшие критерии объяснений. И так далее.
Существует не только постоянный возврат, многие подзадачи остаются действующими одновременно, и к ним приходится обращаться по мере возможности. И лишь когда открытие сделано, четкую его последовательность можно представить так, как показано на рисунке 3.3. Эта последовательность может начаться с самого последнего и наилучшего варианта постановки задачи; затем она может показать, каким образом некоторые из отвергнутых теорий не выдержали критики; представить победившую теорию и сказать, почему она выдержала критику; объяснить, как обойтись без вытесненной теории; и, наконец, указать несколько новых задач, которые создает или предусматривает это открытие.
В процессе решения задачи мы имеем дело с огромным неоднородным набором идей, теорий и критериев, представленных в разных конкурирующих между собой вариантах. Существует непрерывная смена теорий по мере того, как они изменяются или их вытесняют новые теории. Таким образом, все теории подвергаются изменению или отбору в соответствии с критериями, которые тоже подвергаются изменению или отбору. Весь процесс напоминает биологическую эволюцию. Задача подобна экологической нише, а теория — гену или виду, который проверяют на жизнеспособность в этой нише. Подобно генетическим мутациям постоянно возникают новые варианты теорий, и менее удачные варианты отмирают, когда им на смену приходят более удачные. «Удача» — это способность выживать под постоянным избирательным давлением — критикой, — властвующим в этой нише, причем её критерии частично зависят от физических характеристик ниши, частично от качеств, присущих другим генам и видам (т. е. другим идеям), которые уже там присутствуют. Новое мировоззрение, которое неявно может присутствовать в теории, решающей задачу, и отличительные черты нового вида, занимающего нишу, — исходящие свойства задачи {73} или ниши. Другим словами, процесс получения решений изначально сложен. Не существует простого способа открыть истинную природу планет, задаваясь, скажем, критикой теории небесной сферы и некоторыми дополнительными наблюдениями, так же, как не существует простого способа составить ДНК коалы, опираясь на свойства эвкалиптов. Эволюция или метод проб и ошибок — особенно сконцентрированная, целенаправленная форма этого метода, называемая научным открытием, — единственный способ осуществить это.
Именно по этой причине Поппер назвал свою теорию о том, что знание может увеличиться только через гипотезы и опровержения, как показано на рисунке 3.3, эволюционной эпистемологией. Это важное объединяющее понимание. Мы увидим, что между этими фундаментальными теориями существуют и другие связи. Но я не хочу преувеличивать сходство научного открытия и биологической эволюции, поскольку между ними существуют и значительные отличия. Одно из отличий заключается в том, что в биологии вариации (мутации) происходят беспорядочно, слепо и бесцельно, тогда как при решении задач создание новых гипотез — процесс сам по себе комплексный, основанный на знаниях и движимый намерениями людей, в нем заинтересованных. Но, может быть, даже более важное отличие заключается в отсутствии биологического эквивалента аргумента. Все гипотезы необходимо проверять экспериментально, что является одной из причин того, что биологическая эволюция протекает в астрономическое число раз более медленно и менее эффективно. Тем не менее, между этими двумя процессами существует не просто аналогия, а более глубокая связь: они входят в число тесно связанных между собой «основных нитей» объяснения структуры реальности.
Как в науке, так и в биологической эволюции эволюционный успех зависит от возникновения и выживания объективного знания, которое в биологии называется адаптацией. То есть способность теории или гена выжить в нише — не бессистемная функция его структуры, она зависит от того, достаточно ли истинная и полезная информация о нише явно или неявно закодирована там. К этому я вернусь в главе 8.
Теперь становится понятнее, что оправдывает те выводы, которые мы делаем из наблюдений. Мы никогда не делаем выводов из одних наблюдений, но наблюдения могут сыграть значительную роль в процессе доказательства, показывая недостатки некоторых конкурирующих объяснений. Мы выбираем научную теорию, потому что аргументы {74} (только некоторые из которых зависят от наблюдений) убедили нас (на данный момент), что объяснения, предлагаемые всеми остальными конкурирующими теориями менее точны, менее обширны или глубоки.
Давайте сравним рисунки 3.1 и 3.3. Посмотрите, насколько отличаются эти две концепции научного процесса. Индуктивизм основывается на наблюдениях и предсказаниях, тогда как наука в действительности основывается на задачах и объяснениях. Индуктивизм предполагает, что теории каким-то образом извлекают или получают из наблюдений, или доказывают с помощью наблюдений, тогда как в действительности теории начинаются с недоказанных гипотез, возникших в чьем-то разуме и, как правило, предшествующих наблюдениям, исключающим конкурирующие теории. Индуктивизм ищет доказательства предсказаний как вероятных будущих событий. Процесс решения задач доказывает объяснение, которое превосходит все остальные имеющиеся на данный момент объяснения. Индуктивизм — опасный источник повторяющихся ошибок разного рода потому что на первый взгляд, он весьма правдоподобен. Но это не так.
Успешно решая задачу, научную или любую другую, в конечном итоге мы получаем набор теорий, которые предпочитаем начальным теориям несмотря на то, что они снова содержат задачи. Следовательно, новые качества, которые будут присущи новым теориям, зависят от того, что мы посчитаем недостатками наших первоначальных теорий, то есть от того, в чем заключалась задача. Наука характеризуется как своими задачами, так и своими методами. Астрологи, решающие задачу составления более интригующих гороскопов без риска быть уличенными в неправоте, вряд ли создали много того, что заслуживает названия научного знания, даже если они использовали настоящие научные методы (например, исследование рынка) и сами в достаточной степени удовлетворены найденным решением. Задача настоящей науки всегда заключается в том, чтобы понять какой-то аспект структуры реальности, изыскивая объяснения, настолько обширные и глубокие, истинные и точные, насколько это возможно.
Когда мы считаем, что решили задачу, мы естественно принимаем новый набор теорий вместо старого. Именно поэтому наука, если её рассматривать как ищущую объяснений и решающую задачи, не ставит «задачи индукции». И нет никакого секрета в том, почему у нас должно появиться непреодолимое желание экспериментально принять объяснение, превосходящее все объяснения, которые мы можем придумать. {75}
Солипсизм — теория о том, что существует только один разум, а то, что кажется внешней реальностью, — не более чем сон этого разума.
Задача индукции — поскольку научные теории невозможно логически доказать с помощью наблюдений, как их можно доказать?
Индукция — придуманный процесс, с помощью которого, как считалось, были получены из накопленных наблюдений или доказаны с их помощью общие теории.
Задача — задача существует, когда кажется, что некоторые наши теории, особенно их объяснения, неадекватны и требуют усовершенствования.
Критика — рациональная критика сравнивает конкурирующие теории с целью определения, какая из них предлагает лучшие объяснения в соответствии с критериями задачи.
Наука — цель науки — понять реальность через объяснения. Характерный (хотя и не единственный) метод критики, используемый в науке — экспериментальная проверка.
Экспериментальная проверка — эксперимент, результат которого может признать ложным одну или несколько конкурирующих теорий.
В фундаментальных областях науки наблюдение даже небольших, едва различимых эффектов приводит нас к более грандиозным выводам относительно природы реальности. Тем не менее, эти выводы невозможно логически получить только из наблюдений. Что же делает их неопровержимыми? «Задача индукции». Согласно индуктивизму научные теории открывают, экстраполируя результаты наблюдений, и доказывают, получая подтверждающие их наблюдения. На самом деле индуктивное рассуждение неправильно: невозможно экстраполировать наблюдения до тех пор, пока для них не существует объяснительного стержня. Однако опровержение индуктивизма, а также действительное решение задачи индукции зависит от признания того, что наука — это не процесс выведения предсказаний из наблюдений, а процесс поиска объяснений. Сталкиваясь с задачей, мы ищем объяснения среди {76} уже существующих. Затем мы начинаем процесс решения задачи. Новые объяснительные теории начинаются с недоказанных гипотез, которые мы критикуем и сравниваем в соответствии с критериями задачи. Теории, которые не выдерживают критики, мы отбрасываем. Теории, выдержавшие критику, становятся общепринятыми, некоторые из них содержат задачи и потому приводят нас к поиску ещё лучших объяснений. Весь процесс напоминает биологическую эволюцию.
Таким образом, решая задачи и находя объяснения, мы приобретаем даже больше знаний о реальности. Но когда все сказано и сделано, задачи и объяснения размещаются в человеческом разуме, который своей способностью рассуждать обязан подверженному ошибкам мозгу, а доставкой информации — подверженным ошибкам чувствам. Что же тогда дает человеческому разуму право делать выводы об объективной внешней реальности, исходя из своего чисто субъективного опыта и рассуждения? {77}
Великий физик Галилео Галилей, которого также можно считать первым физиком в современном смысле, сделал много открытий не только в самой физике, но и в методологии науки. Он воскресил древнюю идею о выражении общих теорий, касающихся природы, в математической форме и усовершенствовал её, разработав метод систематических экспериментальных проверок, характеризующий науку, как мы её знаем. Он удачно назвал такие проверки cimenti, или «тяжелые испытания». Он одним из первых начал использовать телескопы для изучения небесных тел, он собрал и проанализировал данные для гелиоцентрической теории, теории о том, что Земля движется по орбите вокруг Солнца и вращается вокруг своей собственной оси. Он широко известен как защитник этой теории, из-за которой он и вступил в ожесточенный конфликт с Церковью. В 1633 году Инквизиция судила его как еретика и под угрозой пыток принудила встать на колени и вслух прочитать длинное унизительное отречение, в котором говорилось, что он «отрекается» от гелиоцентрической теории и «проклинает» её. (Легенда гласит, может и ошибочно, что, поднявшись на ноги, он пробормотал «eppur si muove...», что значило «и всё-таки она вертится...».) Несмотря на это отречение, его осудили и приговорили к домашнему аресту, под которым он оставался до конца своей жизни. Хотя это наказание было сравнительно мягким, оно вполне достигло своей цели. Как сказал об этом Якоб Броновски:
«В результате среди всех ученых-католиков на долгие годы воцарилось молчание... Цель суда и заключения состояла в том, чтобы положить конец научной традиции Средиземноморья» (The Ascent of Man [4], с. 218).
Каким образом спор об устройстве солнечной системы мог иметь столь далеко идущие последствия, и почему спорщики столь страстно отстаивали свои позиции? Дело в том, что на самом деле спор шел не об {78} устройстве солнечной системы, а о том, как блестяще Галилео защищал новый и опасный взгляд на реальность. Спор шел не о существовании реальности, поскольку как Галилео, так и Церковь верили в реализм, разумно полагая, что видимая физическая вселенная действительно существует и воздействует на наши чувства, включая и чувства, усиленные такими приборами, как телескоп. Галилео расходился с церковью в своем понимании отношения между физической реальностью, с одной стороны, и человеческими мыслями, наблюдениями и рассуждениями, с другой. Он считал, что вселенную можно понять, основываясь на универсальных, математически сформулированных законах, и что все люди могут получить надежное знание этих законов, если применят его метод математической формулировки и систематических экспериментальных проверок. Говоря его словами: «Книга Природы написана математическими символами». Это было сознательное сравнение с той другой Книгой, на которую традиционно полагались.
Галилео понимал, что если его метод действительно надежен, то, где бы его ни применяли, его выводы всегда будут более предпочтительны, чем все остальные, полученные с помощью других методов. Поэтому он настаивал, что научное рассуждение превосходит не только интуицию и здравый смысл, но и религиозные доктрины и откровения. Именно эту идею, а не гелиоцентрическую теорию, как таковую, власти сочли опасной. (И они были правы, если и существует идея, способная вызвать научную революцию и Просвещение, создать нецерковную основу современной цивилизации, то это была именно она.) Было запрещено «придерживаться» гелиоцентрической теории или «защищать» её как объясняющую вид ночного неба. Разрешено было использовать эту теорию, писать о ней, считать её «математическим допущением» или защищать её как метод предсказания. Именно поэтому книга Галилео «Dialogue of the Two World Systems»[5], которая сравнивала гелиоцентрическую теорию с официальной геоцентрической, была изъята из печати церковной цензурой. Папа дал свое согласие ещё до написания Галилео этой книги (хотя на суде и был создан вводивший в заблуждение документ о том, что Галилео было запрещено вообще обсуждать этот предмет).
С точки зрения истории интересна следующая сноска: во времена Галилея вопрос о том, давала ли гелиоцентрическая теория лучшие {79} предсказания, чем геоцентрическая, ещё не считался бесспорным. Имеющиеся наблюдения были не слишком точными. Для повышения точности геоцентрической теории предлагались специальные изменения, и было сложно определить предсказательные способности двух конкурирующих теорий. Более того, когда дело доходит до мелочей, оказывается, что существует нечто большее, чем гелиоцентрическая теория. Галилео считал, что планеты движутся по окружности, тогда как на самом деле их орбиты весьма близки к эллипсам. Таким образом, эти данные не вписывались в ту частную гелиоцентрическую теорию, которую защищал Галилео. (Многовато за то, в чем он был убежден из-за собранных наблюдений!) Но несмотря на все это, Церковь не заняла в этом споре никакой позиции. Инквизиции было безразлично, где, как казалось, находятся планеты; их заботила только реальность. Их заботило, где действительно находятся планеты, и они хотели понять планеты через объяснения, как это делал Галилео. Инструменталисты и позитивисты сказали бы, что, поскольку Церковь была готова принять наблюдательные предсказания Галилео, дальнейший спор между ними был нецелесообразен, и что его слова «и всё-таки она вертится» были абсолютно бессмысленны. Но Галилео, да и Инквизиция, знали больше. Отрицая надежность научного знания, инквизиторы подразумевали именно объяснительную часть этого знания.
Их мировоззрение было ошибочным, но оно не было нелогичным. Следует признать, что они считали откровение и традиционный авторитет источниками надежного знания. Но у них была и независимая причина критиковать надежность знания, полученного методами Галилео. Они могли просто обратить всеобщее внимание на то, что никакое количество наблюдений или споров не способно доказать, что одно объяснение физического явления истинно, а другое ложно. Как они выразились бы, Бог мог осуществить те же самые наблюдения бесконечно большим количеством разных способов, а потому заявлять о своем знании того метода, который Он выбрал, основываясь только на своих собственных ошибочных наблюдениях и причинах — это чистой воды тщеславие и самоуверенность.
В некоторой степени они спорили за скромность, за признание подверженности человека ошибкам. И, если уж Галилео заявлял, что гелиоцентрическая теория была каким-то образом доказана или близка к тому, чтобы быть доказанной, в некотором индуктивном смысле, то их спор не был бесцельным. Если Галилео считал, что его методы могут {80} обеспечить любой теории авторитет, сравнимый с тем, которого Церковь требовала для своих доктрин, они имели право критиковать его за самоуверенность (или, как они говорили, за богохульство), хотя, безусловно, по этим меркам сами они были самоуверенны даже в бóльшей степени.
Так как же мы можем защитить Галилео от Инквизиции? Какой должна была быть защита Галилео перед обвинением в том, что он слишком много берет на себя, заявляя, что научные теории содержат надежное знание реальности? Попперианская защита науки как процесса решения задач и поиска объяснений сама по себе недостаточна. Дело в том, что сама Церковь была прежде всего заинтересована в объяснениях, а не в предсказаниях и не препятствовала тому, чтобы Галилео решал задачи с помощью любой выбранной им теории. Она попросту не соглашалась с тем, что решения Галилео (которые она называла простыми «математическими гипотезами») имели хоть какое-то отношение к внешней реальности. Как-никак решение задач — процесс, полностью происходящий в человеческом разуме. Возможно, Галилео видел весь мир как книгу, в которой законы природы написаны математическими символами. Однако это всего лишь метафора, поскольку там нет объяснений нахождения планет на орбите. Мы сами создали тот факт, что все задачи и решения находятся в нас. Решая научные задачи, через обсуждение мы приходим к тем теориям, объяснения которых кажутся нам наилучшими. То есть, ни в коей мере не отрицая, что решать задачи необходимо и полезно, Инквизиция и современные скептики вправе спросить нас, как связано решение научных задач с реальностью. Мы можем счесть наши «лучшие объяснения» психологически удовлетворительными. Мы можем посчитать их полезными для предсказания. Мы, безусловно, находим их жизненно важными в любой области технического творчества. Все это оправдывает наш непрерывный поиск этих решений и использование их именно в этих целях. Но почему мы обязаны воспринимать их как факт? В действительности, Инквизиция вынудила Галилео сделать следующее заявление: Земля неподвижна, а остальные планеты движутся вокруг нее; но траектории движения этих небесных тел расположены некоторым сложным образом, который, с точки зрения наблюдателя на Земле, также согласуется с тем, что Солнце неподвижно, а Земля и другие планеты движутся. Я назову это «Инквизиционной теорией» солнечной системы. Если бы Инквизиционная теория была истинной, мы всё ещё ждали бы от гелиоцентрической {81} теории точных предсказаний относительно результатов всех астрономических наблюдений с Земли, даже если фактически они были бы ложными. Следовательно, может показаться, что любые наблюдения, на первый взгляд подтверждающие гелиоцентрическую теорию, в равной степени подтверждают и Инквизиционную теорию.
Можно расширить теорию Инквизиции для объяснения более детальных наблюдений в поддержку гелиоцентрической теории, как-то: наблюдение фаз Венеры и маленьких дополнительных движений (называемых «собственными движениями») некоторых звезд относительно небесной сферы. Для этого необходимо постулировать, что даже более сложные движения в пространстве управляются законами физики, весьма отличными от тех, которые действуют на нашей предположительно неподвижной Земле. Но эти движения могут отличаться ровно настолько, чтобы оставаться согласованными с наблюдениями на Земле, находящейся в движении, а их законы будут аналогичны тем, которые существуют здесь. Возможны многие подобные теории. В самом деле, если бы правильные предсказания были нашим единственным ограничением, мы могли бы изобрести теории о том, что в космическом пространстве происходит все, что нам угодно. Например, одни наблюдения никогда не смогли бы исключить теорию о том, что Земля заключена в гигантский планетариум, представляющий собой модель гелиоцентрической солнечной системы, и что вне этого планетариума находится все что вашей душе угодно или вообще ничего. Чтобы учесть современные наблюдения, следует признать, что планетарию также пришлось бы переориентировать импульсы наших радаров и лазеров, захватывать наши космические исследовательские ракеты и даже космонавтов, посылать обратно ложные сообщения от них и возвращать их с подходящими образцами лунного грунта, изменять наши воспоминания и т. д. Возможно, эта теория абсурдна, но её невозможно исключить с помощью эксперимента. Кроме того, ни одну теорию нельзя исключить, основываясь только на том, что она «абсурдна»: Инквизиция, да и большинство людей во времена Галилео, считали верхом абсурда заявлять, что Земля движется. Ведь мы не можем почувствовать её движение, не так ли? Когда она движется, как при землетрясении, мы чувствуем это безошибочно. Говорят, что Галилео в течение нескольких лет откладывал публичную защиту гелиоцентрической теории не из-за боязни Инквизиции, а из-за боязни быть осмеянным. {82}
Нам теория Инквизиции кажется безнадежно запутанной. Почему мы должны принять столь сложную и специфическую оценку именно такого вида неба, когда неприукрашенная гелиоцентрическая космология дает то же самое, только с меньшим ажиотажем? Мы можем сослаться на принцип бритвы Оккама: «не нужно придумывать ничего лишнего, если в этом нет необходимости», — или, как мне больше нравится, — «не усложняйте объяснения, если в этом нет необходимости», потому что в противном случае излишние усложнения останутся без объяснения. Однако наличие или отсутствие «запутанности» или «излишней усложненности» объяснения зависит от всех остальных идей и объяснений, которые составляют мировоззрение человека. Инквизиция считала, что идея о движущейся Земле — излишнее усложнение. Эта идея противоречит здравому смыслу; она противоречит Священным Писаниям; и (они сказали бы) существует прекрасное объяснение, которое вполне обходится без неё.
Но существует ли? Действительно ли теория Инквизиции дает альтернативные объяснения, лишенные противоречащих интуиции «усложнений», присущих гелиоцентрической системе? Давайте рассмотрим поподробнее, каким образом теория Инквизиции рассматривает все. Она объясняет видимую неподвижность Земли, говоря, что она является неподвижной. Как полно и глубоко! Безусловно, это объяснение превосходит объяснение Галилео, которому пришлось немало потрудиться и опровергнуть некоторые общепринятые понятия о силе и инерции, чтобы объяснить, почему мы не ощущаем движение Земли. Но как теория Инквизиции справится с более сложной задачей объяснения движения планет?
Гелиоцентрическая теория объясняет их движение тем, что мы видим, как планеты движутся по небу сложными петлями, потому что, в действительности, они движутся в пространстве по маленьким окружностям (или эллипсам), но и Земля тоже движется. Объяснение Инквизиции заключается в том, что мы видим, как планеты движутся по небу сложными петлями, потому что они и в пространстве движутся сложными петлями; но (и здесь в соответствии с Инквизицией следует суть объяснения) этим сложным движением управляет простой основной принцип, а именно: планеты движутся так, что, когда мы смотрим на них с Земли, кажется, что и они, и Земля движутся по простым орбитам вокруг Солнца. {83}
Чтобы понять движение планет на основе теории Инквизиции, необходимо понять этот принцип, поскольку налагаемые им ограничения — основа всех детальных объяснений, которые можно сделать в рамках этой теории. Например, если бы кого-то спросили, почему парад планет произошел такого-то числа или почему планета изменила траекторию своего движения по небу на петлю определенной формы, ответ всегда был бы следующим: «потому что именно так все выглядело бы, если бы гелиоцентрическая теория была истинной». Итак, это и есть космология — космология Инквизиции, — которую можно понять только на основе отличной от неё, гелиоцентрической космологии, которой она противоречит, но которую полностью копирует.
Если бы Инквизиция всерьез попыталась понять мир на основе теории, которую она пыталась навязать Галилео, она бы тоже поняла её губительную слабость, а именно: что она не решает ту задачу, которую имеет целью решить. Она не объясняет движение планет «без усложнений, присущих гелиоцентрической системе». Напротив, она неизбежно включает эту систему как часть своего собственного принципа объяснения движения планет. Невозможно понять мир через теорию Инквизиции, не поняв прежде гелиоцентрическую теорию.
Следовательно, мы не ошибаемся, когда считаем теорию Инквизиции скрытым усложнением гелиоцентрической теории, а не наоборот. Мы пришли к такому выводу, не сравнивая теорию Инквизиции с современной космологией, что было бы равноценно замкнутому кругу, а всерьез воспринимая эту теорию как объяснение мира. Я уже упоминал теорию о лечении с помощью травы, которую можно исключить без экспериментальной проверки, поскольку она не содержит объяснений. И вновь у нас есть теория, которую можно исключить без экспериментальной проверки, поскольку она дает плохие объяснения — объяснения, которые сами по себе хуже, чем те, которые предлагает конкурирующая теория.
Как я уже сказал, инквизиторы были реалистами. Тем не менее, их теория имеет общую с солипсизмом черту: и та и другая проводят произвольную границу, за которую, как они утверждают, человеческий разум не имеет доступа, или за которой, по крайней мере, решение задач — это не путь к пониманию. Для солипсистов эта граница окружает их собственный мозг, или, возможно, их абстрактный разум, или нематериальную душу. Для Инквизиции эта граница {84} охватывает всю Землю. Некоторые современные представители теории креационизма верят в существование такой же границы, только не пространственной, а временной, поскольку они считают, что вселенная была создана всего шесть тысяч лет назад и дополнена вводящими в заблуждение свидетельствами о более ранних событиях. Бихевиоризм — это теория о том, что не имеет смысла объяснять поведение людей на основе внутренних психических процессов. Для бихевиористов единственной приемлемой психологией является изучение наблюдаемых реакций человека на внешние раздражители. Таким образом, они проводят точно такую же границу, как и солипсисты, отделяя человеческий разум от внешней реальности; только солипсисты говорят о бессмысленности рассуждений, о чем-то, находящемся по другую сторону этой границы, а бихевиористы говорят о бессмысленности рассуждений о том, что находится по эту сторону границы.
В связи с этим существует большой класс родственных теорий, но мы вполне можем рассматривать их как варианты солипсизма. Они отличаются друг от друга тем, где проводят границу реальности (или границу той части реальности, которая понятна через решение задач) и тем, по какую сторону этой границы они ищут знание. Но все они считают, что научный рационализм и другие решения задач неприменимы за пределами этой границы — это просто игра. Они могут допустить, что эта игра может быть удовлетворительной и полезной, но она остается всего лишь игрой, из которой невозможно сделать обоснованных выводов относительно реальности, находящейся по другую сторону границы.
Они очень похожи в своем основном возражении решению задач как средству создания знания, состоящему в том, что решение задач не делает выводов из каких бы то ни было первичных источников мотивации. В рамках выбранных ими границ сторонники всех этих теорий полагаются на методологию решения задач, будучи уверенными в том, что поиск лучшего из имеющихся объяснений — это также и способ найти самую истинную из имеющихся теорий. Но истину относительно того, что находится за пределами этих границ, они ищут где-то ещё, и все они ищут источник первичной мотивации. Для религиозных людей роль такого источника может сыграть божественное откровение. Солипсисты доверяют только непосредственному опыту своих собственных мыслей, как это выражено в классическом аргументе Рене Декарта cogito ergo sum («мыслю, следовательно, существую»). {85}
Несмотря на стремление строить свою философию на этой предположительно твердой основе, в действительности, Декарт позволял себе делать много других допущений и определенно не был солипсистом. На самом деле в истории было очень мало истинных солипсистов, если таковые вообще были. Солипсизм обычно защищали лишь как средство нападок на научное рассуждение или как средство к получению одного из многих его вариантов. По тому же принципу хороший способ защитить науку от всевозможной критики и понять истинную связь между разумом и реальностью — это рассмотреть аргументы против солипсизма.
Есть стандартная философская шутка о профессоре, читающем лекцию в защиту солипсизма. Лекция настолько убедительна, что как только она заканчивается, несколько студентов спешат пожать руку профессора. «Великолепно. Я согласен с каждым словом», — искренне признается один студент. — «Я тоже», — говорит другой. «Мне очень приятно это слышать, — говорит профессор. — Так редко представляется возможность встретить собратьев-солипсистов».
В этой шутке неявно присутствует веский аргумент против солипсизма. Его можно сформулировать следующим образом. В чем же конкретно заключалась теория, с которой соглашались эти студенты? Была ли это теория профессора о том, что студентов не существует, потому что существует только профессор? Чтобы в это поверить, прежде всего, им необходимо было каким-то образом обойти аргумент Декарта cogito ergo sum. И если бы у них это получилось, они уже не были бы солипсистами, поскольку основное положение солипсизма заключается в том, что солипсист существует. Или каждый студент был убежден в теории, противоречащей теории профессора, теории о том, что существует конкретный студент, но нет ни профессора, ни других студентов? Это на самом деле сделало бы их всех солипсистами, но ни один из студентов не согласился бы с теорией, которую предлагал профессор. Следовательно, ни один из этих возможных вариантов не означает, что защита солипсизма профессором убедила студентов. Если они согласятся с мнением профессора, они не будут солипсистами, а если они станут солипсистами, они убедятся в том, что профессор ошибается.
Этот аргумент нацелен на то, чтобы показать, что солипсизм невозможно защитить буквально, потому что, соглашаясь с подобной защитой, человек неявно противоречит ей. Но наш профессор-солипсист мог попытаться избежать этого аргумента, сказав что-то вроде: «Я могу {86} защитить солипсизм и неизменно делаю это. Я защищаю его не от других людей, поскольку других людей не существует, но от противоположных аргументов. Эти аргументы попадают в поле моего внимания от людей из сна, которые ведут себя как мыслящие существа, часто противопоставляющие свои мысли моим. Моя лекция и аргументы, в ней содержащиеся, направлены не на то, чтобы убедить этих людей из сна, а на то, чтобы убедить себя — помочь себе прояснить свои мысли».
Однако, если существуют источники мыслей, которые ведут себя, как если бы они были независимы от кого-либо, то они непременно являются независимыми от кого-либо. Если я определяю «себя» как сознательную сущность, обладающую мыслями и чувствами, наличие которых я осознаю, то «люди из сна», с которыми я, по-видимому, взаимодействую, по определению — нечто отличное от узко определенного «меня», а потому я должен допускать, что кроме меня существует что-то ещё. Если бы я был ярым солипсистом, у меня остался бы единственный выход: считать людей из сна созданиями моего подсознательного разума и, следовательно, частью «меня» в более свободном смысле. Но тогда я вынужден был бы допустить, что у «меня» очень могущественная структура, бóльшая часть которой не зависит от моего сознательного «я». В рамках этой структуры присутствуют некоторые сущности — люди из сна, — которые, несмотря на то, что являются всего лишь составляющими разума предполагаемого солипсиста, ведут себя словно ярые антисолипсисты. Я не мог бы назвать себя солипсистом целиком и полностью, поскольку этого взгляда придерживалась бы только узко определенная часть меня. Множество, по-видимому, большинство мнений, находящихся в пределах моего разума, в целом противостояли бы солипсизму. Я мог бы изучить «наружную» часть себя и обнаружить, что она, по-видимому, подчиняется определенным законам, тем же законам, которые, по словам учебников из сна, применимы к тому, что они называют физической вселенной. Я обнаружил бы, что внешняя часть гораздо больше внутренней. Помимо того, что она содержит больше мыслей, она также более сложна, более разнообразна и обладает буквально в астрономическое число раз бóльшим количеством измеримых переменных по сравнению с внутренней областью.
Более того, эта наружная часть поддается научному изучению с помощью методов Галилео. Поскольку я вынужден теперь определить эту область как часть себя, солипсизм уже не имеет аргумента против обоснованности такого изучения, которое теперь определяется просто как {87} форма самоанализа. Солипсизм допускает, а в действительности, принимает, что знание о самом себе можно получить посредством самоанализа. Он не может объявить, что изучаемые сущности и процессы нереальны, поскольку реальность самого себя — его основной постулат.
Таким образом, мы видим, что если воспринять солипсизм всерьез — если принять, что это истина и что все обоснованные объяснения должны ему в точности соответствовать, — он разрушит сам себя. Чем же солипсизм, если принять его всерьез, отличается от своего разумного соперника реализма? Всего лишь схемой переименования. Солипсизм настаивает на том, чтобы называть объективно различные вещи (например, внешнюю реальность и мой подсознательный разум или самоанализ и научное наблюдение) одинаковыми именами. Но затем ему приходится показывать, чем отличаются эти категории, посредством объяснений на основе чего-то вроде «наружной части себя». Но такие дополнительные объяснения не понадобились бы, если бы он не настаивал на необъяснимом переименовании. Кроме того, солипсизм мог бы постулировать существование ещё одного класса процессов: невидимых, необъяснимых процессов, которые дают разуму иллюзию жизни во внешней реальности. Солипсист, уверенный, что не существует ничего, кроме содержимого его разума, также должен верить, что этот разум — явление гораздо более многообразное, чем это обычно считается: он содержит мысли, подобные мыслям других людей, мысли о свойствах планет, мысли, подобные законам физики. Эти мысли реальны. Они развиваются сложным образом (или делают вид, что развиваются), и они достаточно независимы, чтобы удивлять, разочаровывать, просвещать или противоречить тому классу мыслей, которые называют себя «я». Таким образом, солипсистское объяснение мира основано скорее на взаимодействии мыслей, чем на взаимодействии предметов. Но эти мысли реальны и взаимодействуют в соответствии с теми же законами, которые, по словам реалиста, управляют взаимодействием предметов. Таким образом, солипсизм, далекий от того, чтобы стать мировоззрением, разложенным на основные элементы, — это реализм, искаженный и отягощенный дополнительными излишними допущениями, — никчемным багажом, который используют только в целях оправдания.
Этот аргумент дает нам возможность обойтись без солипсизма и всех родственных ему теорий, которые невозможно защитить. Между прочим, на этой основе мы уже отвергли одно из мировоззрений, {88} позитивизм (теорию о том, что бессмысленны все утверждения, кроме тех, которые описывают или предсказывают наблюдения). Как я заметил в главе 1, позитивизм провозглашает свою собственную бессмысленность, и, следовательно, его невозможно стойко защищать.
А потому мы, успокоившись, можем продолжать придерживаться разумного реализма и искать объяснения с помощью научных методов. Однако в свете этого вывода, что мы можем сказать об аргументах, сделавших солипсизм и родственные ему теории на первый взгляд правдоподобными, то есть такими, что невозможно ни доказать их ложность, ни исключить их после проведения эксперимента? Каков статус этих аргументов в настоящий момент? Если мы так и не доказали, что солипсизм ложен, и не исключили его с помощью эксперимента, что же мы сделали?
Этот вопрос содержит в себе допущение относительно того, что теории можно расположить в виде иерархии: «математические» ® «научные» ® «философские», — в зависимости от уменьшения свойственной им надежности. Многие люди воспринимают существование такой иерархии как должное, несмотря на то, что суждения о сравнительной надежности полностью зависят от философских аргументов, аргументов, которые сами себя классифицируют как весьма ненадежные! В действительности, мысль об этой иерархии сродни ошибке редукционистов, о которой я рассказывал в главе 1 (теории о том, что микроскопические законы и явления более фундаментальны, чем исходящие). То же допущение присутствует в индуктивизме, который полагает, что мы можем быть абсолютно уверены в выводах математических доказательств, потому что они дедуктивны, в разумных пределах уверены в научных доказательствах, потому что они «индуктивны» и испытывать вечную нерешительность относительно философских доказательств, которые индуктивизм считает почти делом вкуса.
Но ни одно из этих утверждений не соответствует истине. Объяснения не доказывают средства, с помощью которых они были получены; их доказывает их лучшая, по сравнению с конкурирующими объяснениями, способность решать задачи, которым они адресованы. Именно поэтому таким непреодолимым может быть аргумент, связанный с тем, что теорию невозможно защитить. Предсказание или любое допущение, которое невозможно защитить, тем не менее, может оставаться истинным, но объяснение, которое невозможно защитить, — это не объяснение. Отказ от «простых» объяснений на основе их недоказанности {89} каким-то первичным объяснением неизбежно толкает человека к тщетным поискам первичного источника доказательства. А такового не существует.
Не существует и иерархии надежности от математических аргументов к научным и философским. Некоторые философские доказательства, включая доказательство ложности солипсизма, гораздо более неопровержимы, чем научные. В действительности, каждое научное доказательство принимает ложность не только солипсизма, но и других философских теорий, включая любое количество вариантов солипсизма, которые могли бы противоречить особым частям научного доказательства. Я также покажу (в главе 10), что даже чисто математические доказательства получают свою надежность из физических и философских теорий, поддерживающих их, и, следовательно, не могут обеспечить абсолютную определенность.
Приняв реализм, мы постоянно сталкиваемся с принятием решений относительно реальности категорий, на которые ссылаемся при конкурирующих объяснениях. Принять решение об их нереальности (как мы сделали это в случае с «ангельской» теорией движения планет) — все равно, что отвергнуть соответствующие объяснения. Таким образом, при поиске и сравнении объяснений нам нужно нечто большее, чем опровержение солипсизма. Нам нужно найти причины принятия или отвержения факта существования тех категорий, которые могут появиться в конкурирующих теориях; другими словами, нам необходим критерий реальности. Безусловно, нельзя ожидать, что мы найдем конечный или безошибочный критерий. Наши суждения о том, что реально, а что — нет, всегда зависят от различных объяснений, которые нам доступны и иногда меняются по мере того, как наши объяснения становятся более совершенными. В девятнадцатом веке мало что с большей уверенностью посчитали бы реальнее силы тяготения. Она не только фигурировала в системе законов Ньютона, которая в то время не имела конкурентов, её мог почувствовать каждый, постоянно, даже с закрытыми глазами — или так всем казалось. Сегодня мы понимаем тяготение не через теорию Ньютона, а через теорию Эйнштейна, и мы знаем, что такой силы не существует. Мы её не чувствуем! Мы просто чувствуем сопротивление, которое препятствует нашему проникновению в землю под нашими ногами. Ничто не тянет нас вниз. Единственная причина, почему мы падаем, когда теряем опору, заключается в том, что структура {90} пространства и времени, в которой мы существуем, искривлена.
Изменяются не только объяснения, постепенно изменяются (становятся более совершенными) наши критерии и представление о том, что должно считаться объяснением. Таким образом, список приемлемых способов объяснения всегда будет оставаться открытым сверху, а потому и список приемлемых критериев реальности должен оставаться таким же. Но что же присутствует в объяснении, — если по каким-то причинам мы считаем его удовлетворительным, — что должно заставить нас классифицировать одни вещи как реальные, а другие как иллюзорные или воображаемые?
Джеймс Босуэлл в своей книге «Johnson's Life»[6] рассказывает, как он и доктор Джонсон обсуждали солипсистскую теорию епископа Беркли о несуществовании материального мира. Босуэлл заметил, что, хотя никто не верит в эту теорию, никто всё же не может её опровергнуть. Доктор Джонсон пнул большой камень и, почувствовав отдачу в ноге, сказал: «Я опровергаю её вот так». Он имел в виду, что отрицание существования камня Беркли несовместимо с обнаруженным им объяснением в виде отдачи, которую он почувствовал сам. Солипсизм не в состоянии дать ни одного объяснения того, почему этот или любой другой эксперимент имеет именно такой результат. Чтобы объяснить то воздействие, которое оказал на него камень, доктор Джонсон был вынужден сформировать какую-либо точку зрения относительно природы камней. Были ли они частью независимой внешней реальности или плодом его воображения? В последнем случае ему пришлось бы сделать вывод, что «его воображение» само по себе — громадная, сложная, автономная вселенная. Та же дилемма возникла бы перед профессором-солипсистом, который, если бы стремился к объяснениям, вынужден был бы сформировать свою точку зрения относительно природы слушателей. И Инквизиции пришлось бы принять точку зрения источника закономерности, лежащей в основе движения планет, закономерности, которую можно объяснить, только ссылаясь на гелиоцентрическую теорию. Принятие своей собственной позиции в качестве объяснения мира привело бы всех этих людей непосредственно к реализму и рационализму Галилео. Но идея доктора Джонсона — это нечто большее, чем опровержение солипсизма. Она также показывает критерий реальности, {91} используемый в науке, а именно: если что-то может оказать ответное воздействие, значит оно существует. «Оказать ответное воздействие» в данном случае не обязательно означает, что так называемый объект реагирует на то, что его пнули — что на него оказали физическое воздействие, как на камень доктора Джонсона. Достаточно того, что, когда мы «пинаем» что-то, этот объект воздействует на нас способами, которые требуют независимого объяснения. Например, у Галилео не было средств воздействия на планеты, но он мог воздействовать на свет, исходящий от них. Его эквивалентом пинания камня было преломление этого света через линзы телескопов и глаза. Этот свет реагировал, «воздействуя» на сетчатку его глаз. И это ответное воздействие позволило ему сделать вывод не только о реальности света, но и о реальности гелиоцентрического движения планет, необходимого для объяснения картин падающего света.
Кстати, доктор Джонсон тоже непосредственно не пинал камня. Человек — это разум, а не тело. Доктор Джонсон, который провел этот эксперимент, был разумом, и этот разум непосредственно «воздействовал» всего лишь на несколько нервов, которые передали сигнал мускулам, подтолкнувшим его ногу к камню. Вскоре после этого доктор Джонсон ощутил, что камень «оказал ответное воздействие», но опять лишь косвенно, после того, как удар создал давление в его ботинке, потом в его коже, а потом привел к появлению электрических импульсов в его нервах и так далее. Разум доктора Джонсона, как и разум Галилео и разум любого другого человека, «воздействовал» на нервы, «получал от них ответное воздействие» и делал вывод о существовании и свойствах реальности, основываясь на одних взаимодействиях. Какой вывод относительно реальности имел право сделать доктор Джонсон, зависит от того, какое наилучшее объяснение он мог дать происшедшему. Например, если бы ему показалось, что ощущение зависит только от растяжения ноги, а не от внешних факторов, то он, возможно, счел бы это свойством своей ноги или только своего разума. Возможно, он страдал от болезни, которая проявлялась в ощущении отдачи, когда бы он ни протягивал ногу определенным образом. Но в действительности отдача зависела от того, что делал камень: например, находился в определенном месте, что, в свою очередь, было связано с другими действиями, производимыми камнем, например, он был видим или воздействовал на людей, которые его пинали. Доктор Джонсон ощущал, что эти действия автономны (независимы от него) и достаточно сложны. Следовательно, {92} объяснение реалистов, почему камень дает ощущение отдачи, включает в себя сложную историю о чем-то автономном. Но и объяснение солипсистов делает то же самое. В действительности, любое объяснение явления отдачи ноги — обязательно «сложная история о чем-то автономном». В сущности оно должно бы стать историей камня. Солипсист назвал бы его камнем из сна, но, не считая этого названия, истории солипсиста и реалиста имели бы один и тот же сценарий.
Мой рассказ о тенях и параллельных вселенных в главе 2 был связан с вопросом о том, что существует, а что нет; и неявно с тем, что считать доказательством существования, а что нет. Я воспользовался критерием доктора Джонсона. Вернемся к точке Х на экране, изображенном на рисунке 2.7 (с. 46). Эта точка освещена только при двух открытых щелях, но становится темной, когда открывают ещё две щели. Я сказал, что «неизбежен» вывод о том, что через вторую пару щелей должно проходить что-то, что мешает свету, проходящему через первую пару щелей, достигнуть точки X. Такой вывод логически нельзя назвать неизбежным, поскольку если бы мы не искали объяснений, мы просто могли бы сказать, что фотоны, которые мы видим, ведут себя так, словно нечто, проходящее через вторую пару щелей, отклонило траекторию их движения, но на самом деле этого нечто там нет. Точно так же доктор Джонсон мог сказать, что он почувствовал отдачу в ноге, словно там побывал камень, но на самом деле там ничего не было. Инквизиция утверждала, что только кажется, что планеты движутся так, словно и они, и Земля находятся на орбите вокруг Солнца, но на самом деле они движутся вокруг неподвижной Земли. Но если наша цель — объяснить движение планет или движение фотонов, то мы должны сделать то же самое, что сделал доктор Джонсон. Мы должны принять методологическое правило, что если что-то ведет себя так, словно оно существует, оказывая ответное воздействие, то это воздействие следует рассматривать как доказательство существования этого объекта. Теневые фотоны оказывают ответное воздействие на реальные фотоны, а, значит, теневые фотоны существуют.
Можем ли мы подобным образом сделать вывод из критерия доктора Джонсона, что «планеты движутся так, словно их толкают ангелы, а, следовательно, ангелы существуют»? Нет, но только потому, что у нас есть объяснение лучше. Нельзя сказать, что ангельская теория движения планет полностью лишена достоинств. Она объясняет, почему планеты движутся независимо от небесной сферы, и это действительно {93} поднимает её над солипсизмом. Но она не объясняет, почему ангелы толкают планеты по данному набору орбит, а не по какому-то другому, или, в частности, почему они толкают планеты, словно их движение определяется кривизной пространства и времени, универсальными законами теории относительности. Вот почему теория ангелов как объяснение не может конкурировать с теориями современной физики.
Точно так же постулировать, что ангелы проходят через вторую пару щелей и отклоняют наши фотоны, будет лучше, чем ничего. Но мы можем сделать ещё лучше. Мы точно знаем, как эти ангелы должны вести себя: совсем как фотоны. Таким образом, у нас есть выбор между объяснением, основанным на невидимых ангелах, притворяющихся фотонами, и объяснением, основанным на невидимых фотонах. При отсутствии независимого объяснения, почему ангелы должны притворяться фотонами, последнее объяснение считаем лучше первого.
Мы не чувствуем присутствия своих двойников в других вселенных. Точно так же инквизиторы не чувствовали, что Земля под их ногами вертится. И всё-таки она вертится! Теперь рассмотрим, что бы мы чувствовали, если бы существовали во множестве копий, взаимодействуя только через незаметные слабые воздействия квантовой интерференции. Это эквивалентно тому, что делал Галилео, когда анализировал, как бы мы почувствовали Землю, если бы она двигалась в соответствии с гелиоцентрической теорией. Он открыл, что движение было бы неощутимо. Но, возможно, слово «неощутимо» в данном случае не совсем уместно. Ни движение Земли, ни присутствие параллельных вселенных невозможно ощутить непосредственно, но тогда нельзя ощутить ничего (кроме, пожалуй, своего собственного пустого существования, если справедлив аргумент Декарта). Но и то и другое можно ощутить в том смысле, что они ощутимо «оказывают ответное воздействие» на нас, если мы изучаем их с помощью научных инструментов. Мы можем видеть, как маятник Фуко раскачивается в плоскости, которая постепенно поворачивается, показывая этим вращение Земли, которая под ней находится. Мы можем обнаружить фотоны, которые отклонились из-за интерференции со своими двойниками из другой вселенной. И то, что чувства, с которыми мы родились, не приспособлены ощущать все это «непосредственно», — всего лишь случайность, которая произошла в результате эволюции.
Неоспоримой теорию существования делает не сила ответной реакции чего бы то ни было. Важна роль такой теории в объяснениях. {94} Я уже приводил примеры из физики, когда совсем крошечная «ответная реакция» приводила нас к грандиозным выводам относительно реальности, потому что других объяснений у нас не было. Может произойти и обратное: если среди конкурирующих объяснений нет определенного победителя, то даже очень сильная «ответная реакция» может не убедить нас в том, что предполагаемый источник имеет независимую реальность. Например, однажды вы можете увидеть, что на вас напали ужасные чудовища — а потом вы проснетесь. Даже если объяснение, которое они породили в вашем разуме, кажется адекватным, все равно нерационально делать вывод о существовании таких чудовищ в физическом мире. Если идя по оживленной улице, вы почувствовали внезапную боль в плече, и оглянувшись, не обнаружили ничего, что объяснило бы эту боль, вы, возможно, захотели бы узнать, была ли боль вызвана подсознательной частью вашего разума, вашим телом или чем-то извне. Вы могли счесть возможным, что какой-то спрятавшийся шутник выстрелил в вас из пневматического ружья, но вы не могли сделать вывод о реальном существовании этого человека. Но если бы вы увидели катящуюся по тротуару дробинку от пневматического ружья, вы могли бы заключить, что ни одно объяснение не решает задачу лучше, чем объяснение с пневматическим ружьем, и в этом случае вы бы приняли это объяснение. Другими словами, предварительно вы высказали бы догадку о существовании человека, которого не видели и не могли видеть из-за его роли в наилучшем (из имеющихся у вас) объяснении. Ясно, что теория существования такого человека не является логическим следствием результата наблюдений (в качестве которого в данном случае выступает отдельное наблюдение). Кроме того, эта теория не принимает форму «индуктивного обобщения», например, если вы проведете тот же самый эксперимент, вы можете получить другой результат. Эту теорию также нельзя проверить экспериментально: эксперимент не может доказать отсутствие спрятавшегося шутника. Несмотря на все это, аргумент в пользу этой теории мог бы быть чрезвычайно убедительным, если бы представлял собой лучшее объяснение.
Всякий раз, когда я пользовался критерием доктора Джонсона для приведения доводов в защиту реальности чего-либо, особенно важным всегда оказывалось одно свойство — сложность. Мы предпочитаем простые объяснения сложным. Кроме того, мы предпочитаем объяснения, которые способны учесть детали и сложность, объяснениям, которые могут учесть только простые аспекты явлений. В соответствии {95} с критерием доктора Джонсона следует считать реальными те сложные категории, которые, если мы не сочтем их реальными, усложнят наши объяснения. Например, мы должны считать реальными планеты, потому что в противном случае мы будем вынуждены принять сложные объяснения о космическом планетарии, об измененных законах физики, об ангелах или о чем-то ещё, что при этом допущении давало бы нам иллюзию того, что в космическом пространстве есть планеты.
Таким образом, наблюдаемая сложность структуры или поведения какого-либо объекта — это часть доказательства реальности этого объекта. Но это не достаточное доказательство. Мы, например, не считаем свои отражения в зеркале реальными людьми. Безусловно, сами иллюзии — это реальные физические процессы. Но иллюзорные объекты которые они нам показывают, не нужно считать реальными, потому что их сложность проистекает из чего-то ещё. Их сложность не является автономной. Почему мы принимаем «зеркальную» теорию отражений, но отвергаем теорию Солнечной системы «как планетария»? Потому что, имея простое объяснение действия зеркал, мы можем понять, что ничего из того, что мы видим в них, в действительности за ними не находится. В дальнейших объяснениях нет необходимости, потому что отражения, несмотря на всю свою сложность, не являются автономными — всю свою сложность они просто переняли с нашей стороны зеркала. С планетами все обстоит иначе. Теория о том, что космический планетарий реален и что за ним ничего нет, только усугубляет задачу. Поскольку, приняв эту теорию, вместо того чтобы просто узнать принцип действия Солнечной системы, нам сначала пришлось бы спросить о принципе действия планетария и только потом о принципе действия Солнечной системы, которую этот планетарий представляет. Мы не смогли бы избежать последнего вопроса, повторяющего тот вопрос на который мы пытались ответить в первую очередь. Теперь мы можем перефразировать критерий доктора Джонсона следующим образом:
Если, в соответствии с простейшим объяснением, какая-либо категория является сложной и автономной, значит, эта категория реальна.
Теория сложности вычислений — это отрасль теории вычислительных систем, которая связана с тем, какие ресурсы (как-то: время, объем памяти или энергия) необходимы для выполнения данных классов вычислений. Сложность отрезка информации определяется на основе вычислительных ресурсов (как-то: длина программы, количество {96} вычислительных этапов или объем памяти), которые понадобились бы компьютеру для воспроизведения этого отрезка информации. Используют несколько различных определений сложности, каждое из которых имеет свою область применения. В данном случае нас не волнуют точные определения, но все они основаны на идее о том, что сложный процесс — это процесс, который в действительности представляет нам результаты обширного вычисления. Планетарий хорошо иллюстрирует смысл, в котором движение планет «представляет нам результаты обширного вычисления». Предположим, что планетарием управляет компьютер, вычисляющий точное изображение того, что прожекторы должны представить в качестве изображения ночного неба. Чтобы сделать это достоверно, компьютер должен использовать формулы, предоставленные астрономическими теориями. В действительности такое вычисление идентично тому, которое осуществили бы при определении предсказаний, куда обсерватории следует направить свои телескопы, чтобы увидеть реальные планеты и звезды. Говоря, что внешний вид планетария так же «сложен», как и вид ночного неба, которое он представляет, мы имеем в виду, что оба этих вычислительных процесса, — один из которых описывает ночное небо, а второй — модель Солнечной системы, — весьма идентичны. Таким образом, мы опять можем переформулировать критерий доктора Джонсона на основе гипотетических вычислений:
Если для обретения иллюзии того, что определенная категория реальна, потребуется значительное количество вычислений, то эта категория реальна.
Если бы в ноге доктора Джонса всякий раз, когда он её вытягивал, появлялась отдача, то источнику его иллюзий (Богу, машине виртуальной реальности или чему-то еще) пришлось бы проделать всего лишь простое вычисление, чтобы определить, когда давать ему ощущение отдачи (что-то вроде «ЕСЛИ нога вытянута, ТО отдача...»). Но чтобы воспроизвести то, что испытал доктор Джонсон, в практическом эксперименте, необходимо принять во внимание, где находится камень, попадет ли по нему нога доктора Джонсона, насколько он тяжел, тверд и прочно ли вдавлен в землю, пинал ли его кто-то до доктора Джонсона и т. д. — огромное вычисление.
Физики, склонные к мировоззрению, подразумевающему существование одной вселенной, иногда пытаются объяснить явление квантовой {97} интерференции следующим образом: «Теневых фотонов не существует, — говорят они, — а то, что переносит влияние отдаленных щелей на реальный фотон, — ничто. Некое действие на расстоянии (как в законе тяготения Ньютона) просто заставляет фотоны изменять траекторию, когда открывают отдаленную щель». Но в этом предполагаемом действии на расстоянии нет ничего «простого». Соответствующий физический закон не может не сказать, что отдаленные объекты воздействуют на фотон так, словно что-то проходит через отдаленные щели и отскакивает от отдаленных зеркал так, чтобы остановить этот фотон в нужное время в нужном месте. Для определения реакции фотона на эти отдаленные объекты потребовался бы тот же объем вычислений, что и для создания истории о большом количестве теневых фотонов. Вычислению пришлось бы пройти через всю историю поведения каждого фотона: он отскакивает от этого, его останавливает то и т. д. Следовательно, как и в случае с камнем доктора Джонсона и с планетами Галилео, история о теневых фотонах обязательно появляется в любом объяснении наблюдаемых результатов. Минимальная сложность этой истории делает отрицание существования этих объектов неприемлемым с философской точки зрения.
Физик Дэвид Бом создал теорию с предсказаниями, идентичными предсказаниям квантовой теории, в которой некая волна сопровождает каждый фотон, переливается через всю перегородку, проходит через щели и препятствует движению видимого фотона. Теорию Бома часто представляют как вариант квантовой теории, основанный на существовании одной вселенной. Но эта теория ошибочна в соответствии с критерием доктора Джонсона. Отработка поведения невидимой волны Бома потребует тех же вычислений, что и отработка поведения триллионов теневых фотонов. Некоторые части волны описывают нас, наблюдателей, обнаруживающих фотоны и реагирующих на них; другие части волны описывают другие варианты нас, реагирующих на фотоны в других положениях. Скромная терминология Бома — отношение к бóльшей части реальности как к волне — не меняет того факта, что в его теории реальность состоит из огромного набора сложных категорий, каждая из которых способна ощущать другие категории из своего набора, но категории из остальных наборов она может ощущать только косвенно.
Я описал новую концепцию Галилео нашей связи с внешней реальностью как великое методологическое открытие. Это открытие {98} предоставило нам новую надежную форму рассуждения, содержащего результаты наблюдений. Один из аспектов его открытия действительно заключается в следующем: научное рассуждение надежно не в том смысле, что оно удостоверяет, что любая конкретная теория останется неизменной до будущих времен, а в том смысле, что мы правы, когда полагаемся на него. Ибо мы правы, когда ищем решения задач, а не источники первичного доказательства. Результаты наблюдений — это действительно свидетельства, но не в том смысле, что из них с помощью дедукции, индукции или любого другого метода можно вывести любую теорию, а в том смысле, что они могут стать истинной причиной предпочтения одной теории другой.
Но у открытия Галилео есть другая сторона, про которую чаще всего забывают. Надежность научного рассуждения — это не только качество нас: нашего знания и наших взаимоотношений с реальностью. Это также и новый факт о самой физической реальности, факт, который Галилео выразил фразой: «Книга Природы написана математическими символами». Как я уже сказал, буквально в природе невозможно «прочитать» и частицы теории: это ошибка индуктивизма. Но там есть нечто другое: свидетельства, или, выражаясь более точно, реальность, которая предоставляет нам эти свидетельства, если мы взаимодействуем с ней должным образом. Если нам дана крупица теории или даже крупицы нескольких конкурирующих теорий, мы можем использовать результаты наблюдений, чтобы сделать выбор. При желании любой человек может искать такие свидетельства, находить их и совершенствовать. Для этого не нужно ни полномочий, ни посвящения, ни священных текстов. Единственное, что нужно, — смотреть в нужном направлении, не забывая про плодородные задачи и обещающие теории. Эта открытая доступность не только свидетельств, но и всего механизма обретения знания, — ключевое свойство концепции реальности Галилео.
Возможно, Галилео считал это само собой разумеющимся, но это не так. Это независимое допущение о том, какова физическая реальность. Логически реальности не нужно этого свойства, помогающего науке, но оно у неё присутствует — и присутствует в изобилии. Вселенная Галилео насыщена свидетельствами. Коперник собрал свидетельства своей гелиоцентрической теории в Польше. Тихо Браге собрал свои свидетельства в Дании, а Кеплер — в Германии. Направив свой телескоп в небо над Италией, Галилео получил больший доступ к тем же свидетельствам. Каждый кусочек поверхности Земли в каждую ясную ночь {99} в течение миллиардов лет утопал в свидетельствах фактов и законов астрономии. Для множества других наук свидетельства тоже были на поверхности, но увидеть их стало возможно только в современности с помощью микроскопов и других приборов. Там, где свидетельств физически ещё нет, мы можем создать их с помощью таких приборов, как лазеры и перегородки с отверстиями — приборов, которые может построить каждый где угодно и в любое время. И свидетельства будут одни и те же, независимо от того, кто их обнаружит. Чем более фундаментальна теория, тем доступнее её свидетельства (для тех, кто знает, как смотреть) не только на Земле, но и во всем мультиверсе.
Таким образом, физическая реальность самоподобна на нескольких уровнях: несмотря на колоссальную сложность вселенной и мультиверса, некоторые картины бесконечно повторяются. Земля и Юпитер — весьма непохожие планеты, но они движутся по орбите и состоят из одинакового набора примерно ста химических элементов (правда, в различных пропорциях). То же самое относится и к их двойникам из параллельных вселенных. Свидетельства, которые произвели столь сильное впечатление на Галилео и его современников, также существуют на других планетах и в отдаленных галактиках. Свидетельства, которые сейчас изучают физики и астрономы, были доступны миллиард лет назад и будут доступны ещё через миллиард лет. Само существование общих объяснительных теорий означает, что несравнимые объекты и события некоторым образом физически схожи. Свет, попадающий к нам из отдаленных галактик, — это всего лишь свет, но нам он кажется галактиками. Таким образом, реальность содержит не только свидетельства, но и средства (например, наш разум и продукты нашей жизнедеятельности) её понимания. В физической реальности существуют математические символы. И то, что именно мы помещаем их туда, не умаляет их физическую суть. В этих символах — в наших планетариях, книгах, фильмах, в памяти наших компьютеров и в нашем мозге — существуют образы физической реальности в целом, образы не только внешнего вида объектов, но и структуры реальности. Существуют законы и объяснения, редукционные и исходящие. Существуют описания и объяснения Большого Взрыва и субъядерных частиц и процессов; существуют математические абстракции; домыслы; искусство; этика; теневые фотоны и параллельные вселенные. Степень истинности всех этих символов, образов и теорий, — то есть определенное сходство с конкретными или абстрактными вещами, к которым они относятся, {100} — определяет новую самоподобность, которую дает реальности их существование. Эту самоподобность мы называем знанием.
Гелиоцентрическая теория — теория о том, что Земля движется вокруг Солнца и вращается вокруг своей собственной оси.
Геоцентрическая теория — теория о том, что Земля неподвижна, а все остальные небесные тела движутся вокруг неё.
Реализм — теория о том, что внешняя физическая вселенная объективно существует и воздействует на нас через наши чувства.
Бритва Оккама (моя формулировка) — не усложняйте объяснения, если в этом нет необходимости, потому что в противном случае излишние усложнения останутся необъясненными.
Критерий доктора Джонсона (моя формулировка) — если что-либо дает ответную реакцию, значит, оно существует. Уточненный вариант: если в соответствии с простейшим объяснением какая-либо категория является сложной и автономной, значит, эта категория реальна.
Самоподобность — некоторые части физической реальности (например, символы, картины или человеческие мысли) похожи на другие её части. Сходство может быть конкретным, когда образы в планетарии похожи на ночное небо; но важнее то, что это сходство может быть абстрактным, когда некое положение квантовой теории, напечатанное в книге, правильно объясняет один из аспектов структуры мультиверса. (Возможно, некоторые читатели знакомы с фрактальной геометрией; понятие самоподобности, определенное здесь, гораздо шире понятия, используемого в этой области).
Теория сложности — раздел теории вычислительных систем, занимающийся ресурсами (такими, как время, объем памяти или энергия), которые необходимы для выполнения данных классов вычислений.
Несмотря на то, что солипсизм и родственные ему доктрины логически самосогласованны, их можно полностью опровергнуть, просто воспринимая как серьезные объяснения. Хотя все они претендуют на {101} звание упрощенного мировоззрения, такой анализ показывает, что они не более чем чрезмерно усложненные формы реализма, которые невозможно защитить. Реальные категории ведут себя сложным и автономным образом, который можно принять как критерий реальности: если что-либо «дает ответную реакцию», оно существует. Научное рассуждение, использующее наблюдение не как основу экстраполяции, а как средство поиска отличий в объяснениях, не уступающих друг другу по остальным параметрам, может дать нам истинное знание о реальности.
Таким образом, особое свойство самоподобности физического мира делает возможной науку и другие формы знания. Однако впервые это свойство признали и изучили вовсе не физики, а математики и теоретики в области вычислительной техники. Они назвали это свойство универсальностью вычислений. Теория вычислений — наше третье основное направление. {102}
Теорию вычислений традиционно изучали абстрактно, как раздел, относящийся только к математике. Однако при этом теряется её смысл. Компьютеры — физические объекты, а вычисления — физические процессы. То, что могут или не могут вычислить компьютеры, определяется законами физики, а не законами чистой математики. Универсальность — одна из важнейших концепций теории вычислений. Универсальный компьютер обычно определяют как абстрактную машину, способную имитировать вычисления любой другой абстрактной машины в конкретном четко определенном классе. Однако важность универсальности заключается в том, что универсальные компьютеры, или, по крайней мере, хорошие приближения к ним, можно на самом деле построить и использовать для вычисления поведения не только друг друга, но и интересующих физических и абстрактных категорий. Эта возможность — часть самоподобности физической реальности, о которой я упомянул в предыдущей главе.
Самое известное физическое проявление универсальности — область технологии, которая обсуждалась в течение многих десятилетий, но начинает развиваться только сейчас, — виртуальная реальность. Этот термин относится к любой ситуации, когда искусственно создается ощущение пребывания человека в определенной среде. Например, пилотажный тренажер — машина, которая дает летчику ощущение полета на самолете без отрыва от земли, — это один из видов генератора виртуальной реальности. В такую машину (или точнее, компьютер, который ею управляет) можно ввести характеристики реального или вымышленного самолета. В программе также можно определить окружающую самолет среду, как-то: погоду и схему аэропортов. По мере того, как пилот практикует перелеты из одного аэропорта в другой, тренажер вызывает определенные изображения в окнах, ощущения возникающих при полете толчков и ускорений, соответствующие показания приборов и т. д. Он может включать эффекты, например, турбулентности, {103} механического повреждения и предложенных модификаций самолета. Таким образом, пилотажный тренажер может дать пользователю широкий диапазон ощущений от полета, включая такие ощущения, которые невозможно получить в реальном самолете: имитационный самолет может обладать техническими характеристиками, нарушающими законы физики, например, он может лететь сквозь горы, быстрее света или без горючего.
Поскольку мы ощущаем окружающую нас среду через наши чувства, любой генератор виртуальной реальности должен обладать способностью манипулировать нашими чувствами, доминируя над их нормальным функционированием, чтобы мы могли почувствовать определенную окружающую среду. Возможно, это звучит как выкладка из книги Олдоса Хаксли Brave New World[7], но технологии искусственного управления сенсорным ощущением человека безусловно развивались в течение тысячелетий. Все методики предметно-изобразительного искусства и связи на длинные расстояния можно считать «доминирующими над нормальным функционированием чувств». Даже доисторические пещерные рисунки давали зрителю некоторое ощущение того, что он видит животных, которых на самом деле там не было. Сегодня мы можем осуществить это более точно, используя фильмы и звукозапись, хотя и не настолько точно, чтобы имитацию можно было перепутать с оригиналом.
Я буду использовать термин генератор изображений для обозначения любого прибора, как-то: планетарий, система класса Hi-Fi или полочка для специй, — который может формировать точно определенный сенсорный ввод для пользователя: заданные картинки, звуки, запахи и т. п., которые считают «изображениями». Например, чтобы генерировать обонятельное изображение (т. е. запах) ванили, нужно открыть баночку с ванилью, которая стоит на полочке для специй. Чтобы генерировать слуховое изображение (т. е. звук) двадцатого концерта для фортепьяно Моцарта, нужно поставить соответствующий компакт-диск на систему класса Hi-Fi. Любой генератор изображений — это рудиментарный вид генератора виртуальной реальности, но термин «виртуальная реальность» обычно оставляют на тот случай, когда присутствуют и широкий охват сенсорного диапазона пользователя, и ощутимый элемент взаимодействия («ответная реакция») между пользователем и имитируемой категорией. {104}
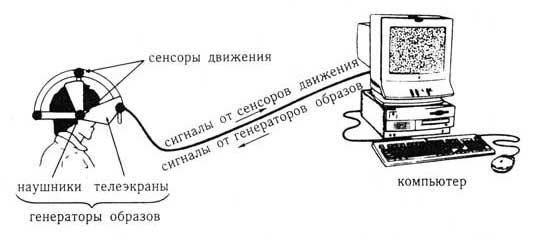 |
Рис. 5.1. Виртуальная реальность в современном исполнении |
Современные видеоигры позволяют осуществить взаимодействие между игроком и объектом игры, но они, как правило, используют только небольшую часть сенсорного диапазона пользователя. Такая «окружающая среда» состоит из изображений на небольшом экране и частично звуков, которые слышит пользователь. Однако уже существуют виртуальные видеоигры, более достойные этого названия. Обычно пользователь надевает шлем со встроенными наушниками и двумя телевизионными экранами (по одному для каждого глаза), иногда — специальные перчатки и другую одежду, изнутри обшитую электрически управляемыми эффекторами (приборами, создающими давление). Там также присутствуют сенсорные датчики, которые фиксируют движение частей тела пользователя, особенно головы. Информация о том, что делает пользователь, передается компьютеру, который вычисляет, что должен видеть, слышать и чувствовать пользователь, и реагирует, посылая соответствующие сигналы генераторам изображения (рисунок 5.1). Когда пользователь смотрит налево или направо, изображения на двух телевизионных экранах следуют за его взглядом, как и реальное поле зрения, чтобы показать, что находится слева и справа от него в виртуальном мире. Пользователь может протянуть руку и поднять виртуальный объект, он будет как настоящий на ощупь, потому что эффекторы перчатки генерируют «тактильную обратную связь», соответствующую тому положению и ориентации, в которой виден объект. {105}
В настоящее время игры и имитация средств передвижения — основные области применения виртуальной реальности, но в ближайшем будущем предвидится огромное количество новых областей её применения. Для архитекторов скоро станет обычным делом создавать виртуальные прототипы зданий, по которым клиенты смогут пройтись и проверить модификации на той стадии, когда их можно будет внедрить без особых усилий. Покупатели смогут пройти (или даже пролететь) по виртуальным супермаркетам, не выходя из дома, даже не встречаясь с толпой других покупателей и не слушая музыку, которая им не нравится. Но совсем не обязательно, что они останутся в виртуальном супермаркете в одиночестве: в виртуальной реальности за покупками могут пойти вместе сколько угодно человек, у каждого будут как изображения остальных, так и изображение супермаркета, но никому из них не придется выходить из дома. Концерты и конференции будут проводить, не назначая места встречи; и выгода здесь не только в экономии на стоимости аудиторий, гостиниц и перелетов, но и в том что все участники смогут сидеть на самом лучшем месте одновременно.
Если бы епископ Беркли или инквизиторы знали о виртуальной реальности, они, возможно, ухватились бы за неё, как за совершенную иллюстрацию обманчивости чувств, подтверждающую их аргументы против научного рассуждения. Что произошло бы, если бы летчик пилотажного тренажера попытался использовать проверку на реальность доктора Джонсона? Несмотря на то, что виртуальный самолет и окружающая его среда в действительности не существуют, они «дают ответную реакцию» летчику, как если бы они существовали. Летчик может открыть дроссель и услышать ответный рев двигателей, почувствовать их давление через сиденье, увидеть в окно, как они вибрируют и выбрасывают горячий газ, несмотря на то, что их не существует. Летчик может ощутить полет самолета во время шторма, слышать гром и видеть дождь, бьющий по ветровому стеклу, хотя в реальности ничего этого нет. В реальности снаружи кабины находится только компьютер, несколько гидравлических домкратов, телевизионные экраны, громкоговорители и совершенно сухое неподвижное помещение.
Делает ли это опровержение солипсизма доктором Джонсоном недействительным? Нет. Его разговор с Босуэллом мог также произойти и в пилотажном тренажере. «Я опровергаю это вот так», — мог сказать он, открывая дроссель и чувствуя ответную реакцию виртуального двигателя. Там нет двигателя. А ответную реакцию дает {106} компьютер, обрабатывающий программу, которая вычисляет, что сделал бы двигатель, если бы на него «оказали воздействие». Но эти расчеты, внешние для разума доктора Джонсона, реагируют на управление дросселем так же сложно и автономно, как и двигатель. Следовательно, они выдерживают проверку на реальность, и это справедливо, потому что в действительности эти вычисления — физические процессы внутри компьютера, а компьютер — обычный физический объект (не менее физический, чем двигатель), и объект совершенно реальный. Тот факт, что это не реальный двигатель, не имеет никакого отношения к аргументу против солипсизма. Как-никак, не все реальное должно легко поддаваться распознаванию. Даже если бы то, что показалось камнем, впоследствии оказалось бы животным, замаскировавшимся под камень, или голографической проекцией, скрывающей садового гномика, это не имело бы особого значения в первоначальной демонстрации доктора Джонсона. Поскольку его реакция была сложной и автономной, доктор Джонсон мог бы совершенно оправданно сделать вывод, что эта реакция была вызвана чем-то реальным, находящимся вне него, и, следовательно, реальность состоит не только из него.
Тем не менее, существование виртуальной реальности может показаться неудобным для тех, чье мировоззрение основано на науке. Только подумайте, что такое генератор виртуальной реальности с точки зрения физики. Конечно, это физический объект, который подчиняется тем же законам физики, что и все остальные объекты. Но, кроме того, он может «притворяться». Он может притвориться совершенно другим объектом, который подчиняется ложным законам физики. Более того, этот процесс может протекать сложно и автономно. Когда пользователь воздействует на него, чтобы проверить реальность того, чем он притворяется, он оказывает ответную реакцию, как если бы он был тем другим, несуществующим объектом, и как если бы ложные законы были истинными. Если бы мы изучали физику только на основе таких объектов, мы вывели бы ошибочные законы. (В самом деле? Удивительно, но дело обстоит не совсем так. Я вернусь к этому вопросу в следующей главе, но, прежде всего, мы должны рассмотреть явление виртуальной реальности поподробнее).
Если принять это во внимание, может показаться, что епископ Беркли имел в виду, что виртуальная реальность — это символ грубости человеческих способностей, что её существование должно предупредить нас о внутренних ограничениях способности людей понимать {107} физический мир. Может показаться, что ссылка на виртуальную реальность относится к той же философской категории, что и иллюзии, ложные следы и совпадения, поскольку все это явления, которые вроде бы показывают нам нечто реальное, но на самом деле вводят нас в заблуждение. Мы уже видели, что научное мировоззрение может принять (а в действительности, ожидает) существование явлений, в высшей степени вводящих в заблуждение. Это par excellence мировоззрение, способное согласовать ошибочность, свойственную человеку, и внешние источники ошибок. Тем не менее, явления, вводящие в заблуждение, приветствуются в своей основе. Помимо того, что они любопытны, или того, что мы узнаем из них, почему они вводят в заблуждение, мы пытаемся избежать этих явлений и предпочитаем обходиться без них. Но виртуальная реальность не относится к этой категории. Мы увидим, что существование виртуальной реальности показывает не то, что человеческая способность понимания мира изначально ограничена, а напротив, то, что изначально она безгранична. Это не аномалия, привнесенная случайными свойствами человеческих органов чувств, а фундаментальное свойство мультиверса в целом. И тот факт, что мультиверс обладает этим свойством, нисколько не смущающим реализм или науку, необходим для обоих: это именно то свойство, которое делает науку возможной. Это не нечто, «без чего мы предпочли бы обойтись»; это нечто, без чего мы буквально не можем обойтись.
Такие заявления могут показаться достаточно претенциозными, если учесть, что их делают, основываясь на пилотажных тренажерах и видеоиграх. Но в общей схеме центральное место занимает виртуальная реальность в целом, а не частный генератор виртуальной реальности. Поэтому я хочу рассмотреть виртуальную реальность в максимально обобщенном виде. Каковы её наивысшие пределы, если таковые имеются? Какую окружающую среду, в принципе, можно искусственно получить и с какой точностью? Говоря «в принципе», я имею в виду, игнорируя преходящие ограничения технологии, но принимая во внимание все ограничения, которые могут наложить принципы логики и физики.
По моему определению генератор виртуальной реальности — это машина, которая дает пользователю ощущение какой-то реальной или вымышленной окружающей среды (например, самолета), которая находится, или кажется, что находится, вне разума пользователя. Я буду называть это внешними ощущениями. Внешние ощущения должны {108} противопоставляться внутренним ощущениям, как-то: нервозность при первой самостоятельной посадке или удивление при внезапном появлении грозы на ясном голубом небе. Генератор виртуальной реальности становится косвенной причиной появления у пользователя как внутренних, так и внешних ощущений, но его невозможно запрограммировать так, чтобы он обеспечивал точно определенные внутренние ощущения. Например, летчик, который совершает почти один и тот же полет на тренажере дважды, получит в обоих случаях примерно одни и те же внешние ощущения, но во второй раз он, возможно, меньше удивится появлению грозы. Возможно, во второй раз летчик также по-другому отреагирует на появление грозы, что, в свою очередь, изменит последующие внешние ощущения. Но дело в том, что хотя и можно запрограммировать машину на появление грозы в поле зрения летчика, когда это желательно, невозможно запрограммировать желаемую ответную реакцию летчика.
Можно представить технологию за пределами виртуальной реальности, которая могла бы вызывать точно определенные внутренние ощущения. Некоторые внутренние ощущения, например, настроения, вызванные определенными наркотиками, уже можно получить искусственно, и в будущем этот диапазон несомненно расширится. Но генератору точно определенных внутренних ощущений в общем пришлось бы иметь способность доминировать над нормальным функционированием как разума, так и чувств пользователя. Другими словами, он замещал бы пользователя другим человеком. Это свойство помещает такие машины в категорию, отличную от категории генераторов виртуальной реальности. Для них потребуется совсем другая технология, они поднимут совсем другие философские проблемы, поэтому я исключил их из своего определения виртуальной реальности.
Еще один вид ощущений, которые несомненно нельзя передать искусственно, — это логически невозможные ощущения. Я сказал, что пилотажный тренажер может создать ощущение физически неосуществимого полета сквозь гору. Но ничто не сможет создать ощущение разложения на множители числа 181, потому что это логически невозможно: 181 — это простое число. (Поверить, что кто-то разложил число 181 на множители, — логически возможное ощущение, но оно внутреннее, а потому не входит в сферу виртуальной реальности). Другое логически невозможное ощущение — бессознательность, поскольку, когда человек находится в бессознательном состоянии, он по определению {109} ничего не испытывает. Состояние, когда человек ничего не испытывает, отличается от состояния, когда человек испытывает полное отсутствие ощущений, — сенсорная изоляция, — которая, безусловно, является физически осуществимой средой.
После исключения ощущений, логически невозможных, и ощущений внутренних у нас остался обширный класс логически возможных, внешних ощущений — ощущений сред, получение которых логически возможно, но физически не всегда осуществимо (таблица 5.1). Что-либо является физически возможным, если оно не запрещено законами физики. В этой книге я сделаю допущение, что «законы физики» включают одно, ещё неизвестное, правило, определяющее начальное состояние или другие дополнительные данные, необходимые, в принципе, для полного описания мультиверса (иначе эти данные стали бы набором внутренне необъяснимых фактов). В таком случае получение среды физически возможно тогда и только тогда, когда она действительно существует где-то в мультиверсе (т. е. в какой-то вселенной или нескольких вселенных). Что-либо является физически невозможным, если это не происходит нигде в мультиверсе.
|
Таблица 5.1. Классификация ощущений с примерами. Виртуальная реальность связана с получением логически возможных, внешних ощущений (верхняя левая часть таблицы) |
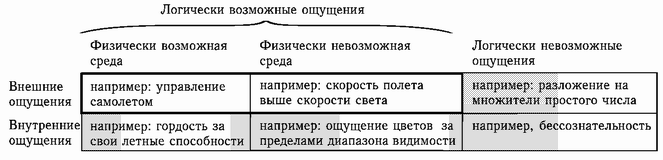 |
Я определяю репертуар генератора виртуальной реальности как набор реальных или вымышленных сред, ощущение нахождения в которых пользователя можно запрограммировать в генератор. Мой вопрос о наивысших пределах виртуальной реальности можно сформулировать следующим образом: какие ограничения, если таковые имеются, законы физики накладывают на репертуар генераторов виртуальной реальности?
Виртуальная реальность всегда включает создание искусственных ощущений — формирование изображений, — поэтому с него мы и {110} начнём. Какие ограничения законы физики накладывают на способность генераторов изображений создавать искусственные изображения, передавать подробности и охватывать соответствующие сенсорные диапазоны? Существуют очевидные способы улучшения передачи каких-то подробностей с помощью современного пилотажного тренажера, например, применение телевизоров с более высокой резкостью. Но возможно ли, хотя бы в принципе, передать реальный самолет и его среду в высшей степени подробно, т. е. с максимальными подробностями, которые могут воспринять чувства летчика? Для слуха этот наивысший предел был почти достигнут в системах Hi-Fi. Что касается зрения, этот предел достижим. А что касается других чувств? Возможно ли физически построить универсальный химический завод, который сможет производить любую точно определенную комбинацию миллионов различных душистых химикатов в одно мгновение? Или создать машину, которая, будучи помещена в рот гурмана, может передать вкус и состав любого возможного блюда, не говоря уже о создании чувств голода и жажды, предшествующих приему пищи, и последующего физического удовлетворения? (Голод, жажда и другие ощущения, например, равновесие и напряжение мускулов, воспринимаются как внутренние по отношению к телу, но они являются наружными по отношению к разуму и потому потенциально относятся к сфере виртуальной реальности).
Сложность при создании таких машин может заключаться просто в технологии, но что вы думаете о следующем: предположим, что летчик пилотажного тренажера направляет виртуальный самолет вертикально вверх на высокой скорости, а затем отключает двигатели. Самолет должен продолжать подниматься до тех пор, пока его восходящий момент не будет исчерпан, а потом он начнет падать с возрастающей скоростью. Все движение в целом называется свободным падением, несмотря на то, что первоначально самолет двигался вверх, потому что движение происходит только под влиянием тяготения. Когда самолет находится в состоянии свободного падения, его экипаж находится в состоянии невесомости и может плавать по кабине как космонавты на орбите. Вес восстанавливается только тогда, когда к самолету снова прикладывается направленная вверх сила, что вскоре должно произойти под действием аэродинамики или неумолимой земли. (В практике состояния свободного падения обычно достигают при полете самолета под давлением по той же параболической траектории, по которой он летел бы при отсутствии силы двигателя и сопротивления воздуха.) {111} Свободно падающие самолеты используют для тренировки космонавтов в условиях невесомости перед отправкой в космос. Настоящий самолет может находиться в состоянии свободного падения пару или больше минут, потому что он может подниматься вверх и падать вниз в пределах нескольких километров. Но пилотажный тренажер, находящийся на земле, может находиться в состоянии свободного падения всего одно мгновение, пока он может подняться на своих опорах до их максимального растяжения, а потом упасть. Пилотажные тренажеры (по крайней мере, современные) нельзя использовать для тренировок в условиях невесомости: для этого необходим реальный самолет.
Можно ли исправить этот недостаток пилотажных тренажеров, предоставив им возможность имитировать свободное падение на земле (в этом случае их можно было бы использовать и в качестве тренажеров космических полетов)? Это не так просто, поскольку на пути встают законы физики. Известная физика даже в принципе не дает другого способа устранения веса тела, кроме свободного падения. Единственный способ поместить пилотажный тренажер в состояние свободного падения, чтобы он оставался неподвижным на поверхности Земли, — это каким-то образом подвесить над ним массивное тело, например, другую планету такой же массы или черную дыру. Даже если бы это было возможно (не забывайте, что нас занимает не немедленный практический интерес, а то, что позволяют или не позволяют законы физики), реальный самолет также мог бы осуществлять частые, сложные изменения в величине и направлении веса экипажа путем маневрирования и включения и выключения двигателей. Для имитации этих изменений массивное тело пришлось бы вращать почти с такой же частотой, и, по-видимому, скорость света (если не что-то другое) наложила бы абсолютный предел на частоту этого вращения.
Однако для имитации свободного падения пилотажный тренажер должен создавать не настоящую невесомость, а ощущение невесомости, поэтому, чтобы приблизиться к состоянию невесомости, используются различные методы, не включающие свободное падение. Например, космонавты тренируются под водой в космических скафандрах, настолько тяжелых, что их плавучесть равна нулю. Другой метод заключается в использовании специальных ремней, которые поднимают космонавта в воздух под управлением компьютера для имитации невесомости. Но все это весьма грубые методы, и ощущения, которые они обеспечивают, вряд ли можно спутать с реальными. Человека неизбежно {112} поддерживают силы, которые он не может не чувствовать. Точно так же совсем не передается характерное ощущение падения, испытываемое через органы чувств внутреннего уха. Можно представить дальнейшие усовершенствования: использование несущих жидкостей с очень низкой вязкостью: транквилизаторов, создающих ощущение падения. Но возможно ли вообще передать ощущение свободного падения совершенным образом в пилотажном тренажере, который прочно стоит на земле? Если нет, то, должно быть, существует абсолютный предел достоверности искусственной передачи впечатления полета. Чтобы отличить реальный самолет от имитации, летчику достаточно пролететь по траектории свободного падения и посмотреть, появится состояние невесомости или нет.
В общей формулировке задача заключается в следующем. Для доминирования над нормальным функционированием органов чувств мы должны посылать им изображения, похожие на те, которые произвела бы имитируемая среда. Мы также должны перехватывать и подавлять изображения, произведенные действительной средой, окружающей пользователя. Но такие манипуляции с изображениями представляют собой физические операции, которые можно осуществить только при помощи процессов, имеющихся в реальном физическом мире. Свет и звук можно довольно просто физически поглотить и заместить. Но как я уже сказал, это не относится к тяготению: законы физики этого не позволяют. Похоже, что пример с невесомостью наводит на мысль о том, что точная имитация невесомости с помощью машины, которая в действительности неподвижна, может нарушить законы физики.
Но это не так. Невесомость и все другие ощущения, в принципе, можно передать искусственно. В конце концов, станет возможным обойти все органы чувств и оказать непосредственное воздействие на нервы, связывающие их с мозгом.
Таким образом, нам не нужны универсальные химические заводы или невероятные машины искусственной гравитации. Как только мы поймем органы обоняния настолько, чтобы расшифровать код сигналов, которые они посылают в мозг при обнаружении запахов, компьютер, должным образом подсоединенный к соответствующим нервам, сможет посылать в мозг те же самые сигналы. Тогда мозг сможет ощутить запахи без присутствия соответствующих химических веществ, такие вещества могли даже никогда не существовать. Точно так же мозг сможет {113} испытать настоящее ощущение невесомости даже при нормальном тяготении. И, конечно, не нужны будут ни телевизоры, ни наушники.
Таким образом, законы физики не накладывают ни малейшего ограничения на диапазон и точность генераторов изображений. Не существует возможного ощущения или ряда ощущений, присущих людям, которые в принципе невозможно было бы передать искусственно. Когда-нибудь в качестве обобщения всех фильмов появится то, что Олдос Хаксли в книге Brave New World назвал «фили» (feelie)[8] — фильмы для всех чувств. Можно будет почувствовать покачивание лодки под ногами, услышать шорох волн, ощутить запах моря, увидеть, как изменяется цвет заката на горизонте, почувствовать как ветерок перебирает ваши волосы (неважно есть они у вас или нет) — и все это, оставаясь на суше или дома. И это ещё не все: фили также легко смогут изобразить сцены, которые никогда не существовали и не могли существовать. Или они смогут сыграть нечто, подобное музыке: прекрасные абстрактные сочетания ощущений, предназначенные для услады чувств.
То, что каждое возможное ощущение можно передать искусственно — это одно; а то, что когда-нибудь станет возможным однажды и навсегда создать отдельную машину, способную передавать любые возможные ощущения, — это уже нечто большее: это универсальность. Машина фили, обладающая такой возможностью, стала бы универсальным генератором изображений.
Возможность существования универсального генератора изображений вынуждает нас изменить наши взгляды на вопрос, касающийся наивысших пределов технологии фили. В настоящее время прогресс такой технологии заключается в изобретении более разнообразных и более точных способов стимуляции органов чувств. Но этот класс задач исчезнет, как только мы расшифруем коды, используемые нашими органами чувств, и разработаем достаточно тонкий метод стимуляции нервов. Как только мы научимся искусственно генерировать сигналы нервов настолько точно, чтобы мозг не мог уловить разницу между искусственными сигналами и сигналами, посылаемыми нашими органами чувств, в повышении точности этого метода не будет необходимости. К этому времени технология станет более совершенной, и следующая задача будет состоять не в том, как передать данные ощущения, а в том, какие ощущения передавать. В ограниченной области это происходит {114} уже сегодня, когда задача получения максимально возможной точности воспроизведения звука уже близка к тому, чтобы быть решенной с помощью компакт-дисков и современного поколения звуковоспроизводящего оборудования. Скоро уже не станет такого понятия как любитель Hi-Fi. Любителей воспроизведения звука скоро будет заботить не точность воспроизведения (воспроизведение будет обыденно точным до предела человеческого распознавания), а то, какие звуки должны быть записаны в первую очередь.
Если в генератор изображений поставить запись, взятую из жизни, её точность можно определить как близость передаваемых изображений к тем изображениям, которые человек получил бы в реальной ситуации. В более общем случае, если генератор передает искусственно созданные изображения, например, мультфильм или музыку с записи, точность — это близость передаваемых образов к тем, которые нужно передать. Под «близостью» мы подразумеваем близость, воспринимаемую пользователем. Если передача настолько близка к оригиналу, что пользователь не может отличить одно от другого, то мы можем назвать эту передачу совершенно точной. (Таким образом, передача, точная для одного пользователя, может содержать неточности, которые может ощутить другой пользователь с более острым слухом или другими обостренными чувствами).
Универсальный генератор изображений, конечно, не содержит записи всех возможных изображений. Универсальным его делает следующее: при наличии записи любого возможного изображения он может вызвать у пользователя соответствующие ощущения. В универсальном генераторе слуховых ощущений — совершенной системе Hi-Fi — запись можно представить в виде компакт-диска. Для удобства слуховых ощущений, которые длятся дольше, чем это позволяет объем памяти диска, мы должны включить механизм, способный последовательно загружать в машину любое количество дисков. Это же условие остается в силе для всех остальных универсальных генераторов изображений, т. к., строго говоря, генератор изображений не является универсальным, пока в нем нет механизма бесконечно долгого воспроизведения записей. Более того, когда машина будет работать в течение долгого времени, ей понадобится уход, иначе воспроизводимые ею изображения будут ухудшаться или вовсе исчезнут. Эти и подобные им соображения связаны с тем, что, если мы рассматриваем отдельный физический объект изолированно от остальной вселенной, то мы всегда {115} получаем аппроксимацию. Универсальный генератор изображений универсален только в определенном внешнем контексте, в котором допускается, что его обеспечивают, например, энергией, механизмом охлаждения, и периодически обслуживают. Такие внешние нужды машины не запрещают считать её «отдельной универсальной машиной» при условии, что законы физики не препятствуют удовлетворению этих нужд и для удовлетворения этих нужд не нужно изменять конструкцию машины.
Как я уже сказал, формирование изображений — всего лишь одна составляющая виртуальной реальности: существует ещё и крайне важный интерактивный элемент. Генератор виртуальной реальности можно посчитать генератором изображений, изображения которого определяются не полностью в самом начале, а частично зависят от действий пользователя. Такой генератор не проигрывает для пользователя заранее определенную последовательность изображений, как это произошло бы при просмотре фильма или фили. Он придумывает эти изображения по пути, учитывая непрерывный поток информации о действиях пользователя. Современные генераторы виртуальной реальности, например следят за положением головы пользователя, используя сенсоры движения, как показано на рисунке 5.1. В конечном счете, им приходится следить за всеми действиями пользователя, которые могут повлиять на субъективный внешний вид имитируемой среды. Эта среда может состоять из собственного тела пользователя: поскольку тело находится вне разума, описание среды виртуальной реальности вполне может включать требование, что тело пользователя должно казаться замещенным новым телом с определенными свойствами.
Человеческий разум воздействует на тело и на внешний мир, испуская нервные импульсы. Следовательно, генератор виртуальной реальности, в принципе, может получить всю необходимую информацию о действиях пользователя, воспринимая нервные сигналы, выходящие из мозга пользователя. Эти сигналы, вместо того, чтобы попасть в тело пользователя, могут быть переданы компьютеру и расшифрованы с целью точного определения следующего движения тела пользователя. Сигналы, которые компьютер отправляет обратно в мозг, могут быть подобны сигналам, которые послало бы тело, если бы находилось в этой точно определенной среде. Виртуальное тело могло бы реагировать отлично от реального, если бы этого потребовало определение, например оно смогло бы выжить в виртуальной среде, которая убила бы реальное {116} человеческое тело, или имитировать неправильное функционирование тела.
Я признаю, что говорить о взаимодействии человеческого разума с внешним миром только через испускание и получение нервных импульсов, было бы, пожалуй, слишком большой идеализацией. В обоих направлениях проходят и химические сообщения. Я допускаю, что, в принципе, эти сообщения тоже можно перехватить и заместить в некоторой точке между мозгом и остальным телом. Таким образом, пользователь останется неподвижным, подсоединенным к компьютеру, но у него возникнет ощущение полного взаимодействия с виртуальным миром — реальной жизни в этом мире. Рисунок 5.2 иллюстрирует представляемое мной. Кстати, несмотря на то, что такая технология — дело будущего, идея о ней гораздо старее самой теории вычисления. В начале семнадцатого века Декарт уже рассматривал философские следствия манипулирующего чувствами «демона», который по сути был генератором виртуальной реальности, подобным показанному на рисунке 5.2, со сверхъестественным разумом, заменявшим компьютер.
Из предшествующего рассказа ясно, что любой генератор виртуальной реальности должен иметь, по крайней мере, три главных составляющих:
набор сенсоров (которыми могут быть детекторы нервных импульсов), чтобы узнать о действиях пользователя:
набор генераторов изображений (в роли которых могут выступить приборы стимуляции нервов);
управляющий компьютер.
До настоящего времени мое внимание концентрировалось на первых двух составляющих: сенсорах и генераторах изображений. Дело в том, что при современном примитивном состоянии технологии исследование виртуальной реальности всё ещё заключается в формировании изображений. Но заглянув за преходящие технологические ограничения, мы увидим, что генераторы изображений просто напросто обеспечивают интерфейс — «соединительный кабель» — между пользователем и настоящим генератором виртуальной реальности, которым является компьютер. Виртуальная среда полностью создается внутри компьютера. Именно компьютер обеспечивает сложную и независимую «ответную реакцию», которая оправдывает использование слова «реальность» в сочетании «виртуальная реальность». Соединительный кабель {117} ничего не вносит в среду, воспринимаемую пользователем, с точки зрения пользователя он «прозрачен» в той же степени, в какой пользователь не считает свои собственные нервы частью окружающей его среды. Таким образом, будущие генераторы виртуальной реальности лучше всего описать как генераторы с одной главной составляющей, компьютером с несколькими обычными периферийными устройствами.
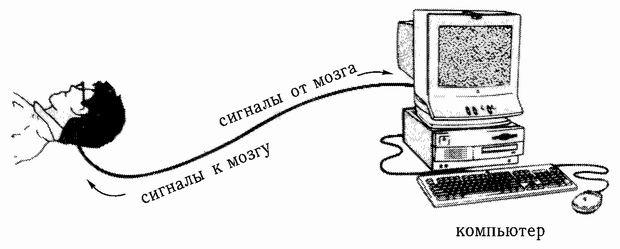
|
|
Рис. 5.2. Вариант возможного будущего исполнения виртуальной реальности |
Я не хочу недооценивать практические задачи, связанные с перехватом всех нервных сигналов, поступающих в человеческий мозг и выходящих из него, и расшифровкой различных кодов таких процессов. Но это конечный набор задач, которые нам придется решить только один раз. Кроме того, основное внимание технологии виртуальной реальности сдвинется раз и навсегда к компьютеру, к задаче его программирования для передачи различных сред. Какие среды мы сможем передавать, уже будет зависеть не от того, какие сенсоры и генераторы изображений мы сможем построить, а от того, какие среды мы сможем точно определить. «Точное определение» среды будет означать наличие программы для компьютера, являющегося сердцем генератора виртуальной реальности.
Из-за интерактивной природы виртуальной реальности понятие точной передачи для неё не столь просто, как для формирования изображений. Как я уже сказал, точность генератора изображений — это мера близости переданных изображений к тем, которые следовало передать. Но в виртуальной реальности обычно не существует изображений, которые нужно передать: нужно передать пользователю ощущение {118} нахождения в определенной среде. Точное определение среды виртуальной реальности означает не определение того, что должен ощущать пользователь, а скорее определение того, как среда должна отреагировать на каждое возможное действие пользователя. Например, при виртуальной игре в теннис заранее можно определить внешний вид корта, погоду, поведение публики и уровень игры противника. Но ход игры не определяют: он зависит от множества решений, принимаемых пользователем во время игры. Каждый набор решений приведет к различным реакциям виртуальной среды и, следовательно, к различным вариантам игры.
Количество возможных вариантов игры в одной окружающей среде, т. е. переданное одной программой, огромно. Рассмотрим передачу Центрального Корта Уимблдона с точки зрения игрока. Предположим, что в каждую секунду игры игрок может двигаться одним из двух заметных способов (заметных для игрока). Затем через две секунды количество возможных вариантов игры станет равным четырем, через три секунды — восьми и т. д. Примерно через четыре минуты количество возможных вариантов игры, заметно отличающихся друг от друга, превысит количество атомов во вселенной и продолжит расти в экспоненциальной зависимости. Чтобы программа точно передала одну такую среду, она должна иметь возможность реагировать на любой из несметного количества заметно отличающихся вариантов в зависимости от поведения пользователя. Если две программы одинаково реагируют на каждое возможное действие пользователя, значит, они передают одну и ту же среду: если же их реакции даже на одно возможное действие заметно отличаются друг от друга, значит, они передают различные среды.
Это свойство остается неизменным, даже если пользователь никогда не произведет то действие, которое выявит разницу. Окружающая среда, передаваемая программой (для данного вида пользователей, с данным соединительным кабелем), — это логическое свойство программы, которое не зависит от того, выполнялась ли когда-нибудь эта программа. Передаваемая среда точна настолько, насколько она способна отреагировать предполагаемым образом на каждое возможное действие пользователя. Таким образом, её точность зависит не только от ощущений, действительно возникающих у пользователей, но и от ощущений, которые у них не возникают, но возникли бы, поведи они себя иначе во время передачи. Возможно, это звучит парадоксально, но, как {119} я уже сказал, это прямое следствие того, что виртуальная реальность, как и сама реальность, интерактивна.
Этот факт порождает важное отличие между формированием изображений и формированием виртуальной реальности. Пользователь в принципе может почувствовать, измерить и констатировать точность передачи изображения генератором изображений, но не точность передачи виртуальной реальности. Например, если вы любите музыку и достаточно хорошо знаете определенное музыкальное произведение, вы можете послушать его исполнение и подтвердить совершенно точную его передачу, в принципе, вплоть до последней ноты, выражения, динамики и т. п. Но если вы фанат тенниса, в совершенстве знающий Центральный Корт Уимблдона, вы все равно не сможете подтвердить абсолютную точность вышеназванной передачи. Даже если вы сможете исследовать виртуальный Центральный Корт сколь угодно долго и «воздействовать» на него всевозможными способами и даже если вы получите равный доступ на реальный Центральный Корт для сравнения, вы не сможете даже констатировать, что программа действительно передала его реальное расположение. Дело в том, что вы не можете знать, что произошло бы, если бы вы исследовали его чуточку дольше или вовремя оглянулись. Возможно, если бы вы сели в кресло судьи и закричали «фолт!», ядерная подводная лодка всплыла бы на поверхность травы и торпедировала бы табло.
С другой стороны, если вы обнаружите хотя бы одно отличие между виртуальной и реальной средой, вы можете немедленно заявить о неточной передаче. Если только виртуальной среде не присущи некоторые умственно непредсказуемые черты. Например, рулетка сконструирована так, что её поведение предсказать невозможно. Если мы снимем фильм о рулетке, на которой играют в казино, этот фильм можно назвать точным, если числа, которые выпадают на рулетке в фильме, совпадают с числами, которые действительно выпадали на рулетке во время съемок фильма. При каждом показе фильма числа будут те же самые: это абсолютно предсказуемо. Таким образом, точное изображение непредсказуемой среды должно быть предсказуемым. Но какое это имеет значение для точной передачи рулетки в виртуальной реальности? Как и раньше, это означает, что пользователь не должен обнаруживать заметные отличия от оригинала. Но это предполагает, что передача не должна вести себя идентично оригиналу: если бы это происходило, либо её, либо этот оригинал можно было бы использовать {120} для предсказания поведения оставшегося, и не осталось бы ничего непредсказуемого. Кроме того, передача не должна вести себя одинаково каждый раз, когда её осуществляют. Совершенно переданная рулетка должна быть столь же применима для азартных игр, сколь и реальная. Следовательно, она должна быть столь же непредсказуема. А также она должна быть столь же беспристрастна, т. е. все числа должны появляться абсолютно беспорядочно, с равной степенью вероятности.
Каким образом мы узнаем непредсказуемые среды, и как мы доказываем беспристрастное распределение случайных чисел? Мы проверяем, соответствует ли передача рулетки её точному определению. Эта проверка осуществляется точно так же, как проверка на реальность какой-либо вещи: мы воздействуем на неё и смотрим, реагирует ли она так, как сказано. Мы проводим значительное количество подобных наблюдений и осуществляем статистические проверки результатов. И опять, сколько бы проверок мы ни провели, мы не сможем констатировать точность передачи или даже вероятность точности передачи. Ибо как бы беспорядочно, на первый взгляд, ни выпадали числа, они, тем не менее, могут выпадать по какой-то тайной схеме, которая позволила бы пользователю, знакомому с ней, предсказывать эти числа. Или, возможно, спроси мы вслух дату битвы при Ватерлоо, следующие два числа неизменно показали бы эту дату: 18, 15. С другой стороны, если появляющаяся последовательность кажется небеспристрастной, мы не можем быть уверены в том, что она таковой и является, но мы можем говорить о вероятности неточности передачи. Например, если на нашей виртуальной рулетке десять раз подряд выпадает ноль, нам следует сделать вывод, что вероятно, мы неточно передали беспристрастную рулетку.
При обсуждении генераторов изображений я сказал, что точность переданного изображения зависит от остроты и других характеристик чувств пользователя. Для виртуальной реальности это простейшая задача. Безусловно, генератор виртуальной реальности, в совершенстве передающий данную среду для человека, не сможет этого сделать для дельфинов или инопланетных существ. Чтобы передать данную среду для пользователя с данным видом органов чувств, генератор виртуальной реальности должен быть физически приспособлен к таким органам чувств, а в его компьютере должны быть запрограммированы их характеристики. Однако модификации, которые необходимо осуществить для данного вида пользователей, конечны, и их нужно осуществить лишь {121} однажды. Они эквивалентны тому, что я назвал сооружением нового «соединительного кабеля». При рассмотрении даже более сложных сред задача их передачи для данного типа пользователей становится решаемой с помощью написания программ вычисления поведения этих сред; причем зависящая от вида часть задачи, в которой и состоит сложность, становится по сравнению с этими программами пренебрежимо малой. Сейчас мы говорим о наивысших пределах виртуальной реальности, поэтому мы рассматриваем сколь угодно точные, длинные и сложные передачи. Именно поэтому имеет смысл говорить о «передаче данной среды», не определяя, для кого эта среда передается.
Мы видели, что существует четко определенное понятие точности передачи виртуальной реальности: точность — это близость (в пределах восприятия) передаваемой среды к той, которую необходимо передать. Но эта точность должна быть близка при каждом возможном варианте поведения пользователя, поэтому, каким бы наблюдательным ни был человек, находящийся в виртуальной среде, он не сможет констатировать её точность (или вероятную точность). Но ощущение иногда может показать неточность (или вероятную неточность) передачи.
Этот разговор о точности в виртуальной реальности отражает отношение между теорией и экспериментом в науке. Там тоже можно экспериментально доказать ложность общей теории, но никогда нельзя доказать её истинность. Кроме того, поверхностный взгляд на науку также заключается в том, что она состоит только из предсказаний наших чувств-впечатлений. Правильный же взгляд следующий: несмотря на то, что чувства-впечатления играют свою роль, наука состоит в понимании всей реальности, только бесконечно малая часть которой нам знакома.
Программа в генераторе виртуальной реальности воплощает общую предсказательную теорию поведения виртуальной среды. Остальные составляющие следят за поведением пользователя, зашифровывают и расшифровывают сенсорные данные; выполняют, как я уже сказал, довольно тривиальные функции. Таким образом, если среда физически возможна, её передача, в сущности, эквивалентна нахождению правил предсказания результатов каждого эксперимента, который можно осуществить в этой среде. Из-за определенного способа создания научного знания даже более точные правила предсказания можно обнаружить только через лучшие объяснительные теории. Такая точная передача физически возможной среды зависит от понимания её физики. {122}
Обратное также верно: открытие физики среды зависит от осуществления её передачи в виртуальной реальности. Обычно говорят, что научные теории только описывают и объясняют физические объекты и процессы, но не передают их. Например, объяснение солнечных затмений можно напечатать в книге. В компьютерную программу можно заложить астрономические данные и физические законы предсказания затмения и распечатать описание этого затмения. Но чтобы передать затмение в виртуальной реальности, потребуется дальнейшее программное и аппаратное обеспечение. Однако все это уже есть в нашем мозге! Слова и числа, напечатанные компьютером, эквивалентны «описаниям» затмения только потому, что кто-то знает значение этих символов. То есть символы пробуждают в разуме читателя некое подобие какого-то предсказанного эффекта затмения, по отношению к которому и проверяют настоящий эффект затмения. Более того, пробуждаемое «подобие» интерактивно. Затмение можно наблюдать разными способами: невооруженным глазом, с помощью фотографий или различных научных инструментов; из некоторых мест на Земле видно полное затмение, из других мест — частичное, а из третьих — затмение не видно вообще. В каждом случае наблюдатель будет видеть различные изображения, каждое из которых можно предсказать с помощью теории. Компьютерное описание вызывает в разуме читающего не просто отдельное изображение или ряд изображений, а общий метод создания множества различных изображений, соответствующих множеству способов размышления пользователя при осуществлении наблюдений. Другими словами, это передача в виртуальной реальности. Таким образом, в достаточно широком смысле, если принять во внимание процессы, которые должны происходить внутри разума ученого, наука и передача физически возможных сред в виртуальной реальности — это два термина, обозначающие одно и то же.
А как же быть с передачей физически невозможных сред? В принципе, существует два различных вида передачи в виртуальной реальности: меньшинство, описывающее физически возможные среды, и большинство, описывающее физически невозможные среды. Но не исчезнет ли это различие при ближайшем рассмотрении? Рассмотрим генератор виртуальной реальности в процессе передачи физически невозможной среды. Это может быть пилотажный тренажер, обрабатывающий программу вычисления вида, который открывается из кабины самолета, когда его скорость превышает скорость света. Пилотажный {123} тренажер — это передача той среды. Но пилотажный тренажер — это физический объект, окружающий пользователя, и в этом смысле он сам является средой, которую ощущает пользователь. Давайте рассмотрим эту среду. Ясно, что эта среда физически возможна. Поддается ли такая среда передаче? Безусловно. В действительности, её на редкость легко передать: достаточно просто использовать второй тренажер той же конструкции, работающий по идентичной программе. При таких обстоятельствах второй пилотажный тренажер можно считать передающим либо физически невозможный самолет, либо физически возможную среду, то есть первый пилотажный тренажер. Подобным образом первый пилотажный тренажер можно рассмотреть как передающий физически возможную среду, то есть второй пилотажный тренажер. Если допустить, что любой генератор виртуальной реальности, который в принципе, можно построить, можно, в принципе, построить и ещё раз, то из этого следует, что каждый генератор виртуальной реальности, работающий по любой программе из своего репертуара, передает какую-то физически возможную среду. Он может передавать и другие вещи, включая физически невозможные среды, но, в частности, всегда есть некая физически возможная среда, которую он передает.
Так какие же физически невозможные среды можно передать в виртуальной реальности? В точности те, которые заметно не отличаются от физически возможных сред. Следовательно, физический мир и миры, которые можно передать в виртуальной реальности, связаны между собой гораздо более тесно, чем кажется. Мы считаем одни передачи в виртуальной реальности описывающими факт, а другие — описывающими вымысел, но вымысел — это всегда интерпретация в разуме наблюдателя. В виртуальной реальности не существует такой среды, которую пользователь вынужден был бы интерпретировать как физически невозможную.
По своему выбору мы могли бы передавать некоторую среду как предсказанную какими-то «законами физики», отличными от истинных. Мы можем сделать это ради тренировки, развлечения или аппроксимации, потому что осуществить истинную передачу слишком сложно или слишком дорого. Если используемые нами законы близки к истинным настолько, насколько это возможно, и известны ограничения наших действий, мы можем назвать такие передачи «прикладной математикой» или «вычислительной техникой». Если переданные объекты значительно отличаются от физически возможных, мы можем назвать {124} такую передачу «чистой математикой». Если физически невозможную среду передают ради развлечения, мы называем это «видео игрой» или «компьютерным искусством». Все это интерпретации. Они могут быть полезны или даже необходимы для объяснения наших мотивов при осуществлении определенной передачи. Но что касается самой передачи, всегда существует альтернативная интерпретация: эта передача точно описывает какую-то физически возможную среду.
Математиков не принято считать формой виртуальной реальности. Мы обычно думаем, что математики занимаются абстрактными категориями, например, числами и множествами, не воздействующими на чувства; а потому, может показаться, что проблемы об искусственной передаче их воздействия на нас возникнуть не может. Однако, несмотря на то, что математические категории не воздействуют на чувства, ощущение занятий математикой является внешним в той же степени, в какой является внешним ощущение занятий физикой. Мы делаем заметки на бумаге, смотрим на них или представляем, что смотрим на них: на самом деле мы не можем заниматься математикой, не представляя абстрактных математических категорий. Но тем самым мы представляем среду, «физика» которой воплощает сложные и автономные свойства этих категорий. Например, представляя абстрактное понятие отрезка прямой нулевой толщины, мы можем представить прямую, которая видима, но её ширина незаметна. Это уже можно вместить в физическую реальность. Но математически толщина этой прямой должна оставаться нулевой даже при произвольно выбранном увеличении. Это свойство не является свойством любой физической прямой, но его можно достичь в виртуальной реальности нашего воображения.
Воображение — это непосредственная форма виртуальной реальности. Может быть это не так очевидно, но наше «непосредственное» восприятие мира через наши чувства — тоже виртуальная реальность. Дело в том, что наше внешнее ощущение никогда не бывает непосредственным; мы никогда не воспринимаем непосредственно даже сигналы наших нервов — иначе мы просто не знали бы, что делать с потоками электрических потрескиваний, создаваемых ими. Непосредственно мы ощущаем только передачу в виртуальной среде, удобно созданную для нас нашим бессознательным разумом из совокупности сенсорных данных и сложных теорий их интерпретации, рожденных в разуме и приобретенных извне (т. е. программ). {125}
Мы, реалисты, придерживаемся мнения, что реальность где-то там: объективная, физическая, независимая от того, что мы о ней думаем. Но мы никогда не ощущаем эту реальность непосредственно. Каждая отдельная частичка нашего внешнего ощущения — часть виртуальной реальности. И каждая отдельная крупинка нашего знания — включая знание нефизических миров логики, математики, философии, воображения, вымысла, искусства и фантазии — закодирована в виде программ для передачи этих миров с помощью генератора виртуальной реальности нашего собственного мозга.
Таким образом, виртуальная реальность является частью не только науки — рассуждения о физическом мире. Все рассуждение, все мышление и все внешние ощущения — формы виртуальной реальности. Все это физические процессы, которые до сих пор наблюдались только в одном месте вселенной, вблизи планеты Земля. В главе 8 мы увидим, что все жизненные процессы тоже связаны с виртуальной реальностью, но у людей с ней особые взаимоотношения. С биологической точки зрения передача их окружающей среды в виртуальной реальности — это характеристическое средство выживания людей. Другими словами, это причина существования людей. Экологическая ниша, занимаемая людьми, зависит от виртуальной реальности так же непосредственно и абсолютно, как экологическая ниша, занимаемая коалами, зависит от эвкалиптовых листьев.
Генератор изображений — прибор, способный создавать у пользователя точно определенные ощущения.
Универсальный генератор изображений — генератор изображений, который можно запрограммировать на создание любого ощущения, которое способен испытать пользователь.
Внешнее ощущение — ощущение чего-либо, что находится за пределами собственного разума.
Внутреннее ощущение — ощущение чего-либо, что находится в собственном разуме.
Физически возможный — не запрещенный законами физики. Среда физически возможна тогда и только тогда, когда она существует где-либо в мультиверсе (допуская, что начальное состояние и другие {126} дополнительные данные мультиверса определяются какими-то, ещё неизвестными законами физики).
Логически возможный — самосогласованный. Виртуальная реальность — любая ситуация, в которой пользователь ощущает нахождение в точно определенной среде.
Репертуар — репертуар генератора виртуальной реальности — это набор сред, ощущение нахождения пользователя в которых может создать генератор.
Изображение — что-либо, рождающее ощущения. Точность — изображение является точным настолько, насколько создаваемые им ощущения близки к тем, которые нужно было создать. Виртуальная среда является точной настолько, насколько она способна отреагировать должным образом на каждое возможное действие пользователя.
Совершенная точность — точность настолько высокая, что пользователь не может отличить изображение или виртуальную среду от реальной.
Виртуальная реальность — это не просто технология моделирования поведения физических сред с помощью компьютеров. Возможность существования виртуальной реальности — важная черта структуры реальности. Это основа не только вычислений, но и человеческого воображения, внешних ощущений, науки и математики, искусства и вымысла.
Каковы же наивысшие пределы — полный масштаб — виртуальной реальности (а следовательно, вычисления, науки, воображения и всего остального)? В следующей главе мы увидим, что в одном отношении масштаб виртуальной реальности безграничен, а в другом — чрезмерно ограничен. {127}
Сердце генератора виртуальной реальности — его компьютер, и вопрос о том, какие среды можно передать в виртуальной реальности, в конечном итоге, должен сводиться к вопросу о том, какие вычисления можно осуществить. Даже сегодня репертуар генераторов виртуальной реальности ограничен как их генераторами изображений, так и их компьютерами. Как только к генератору виртуальной реальности подключают новый, более быстрый компьютер, с бóльшим объемом памяти и более современным аппаратным обеспечением обработки изображений, репертуар генератора расширяется. Но будет ли это продолжаться непрерывно или, в конце концов, мы столкнемся с абсолютной универсальностью, чего, как я говорил, нам следует ожидать в случае с генераторами изображений? Другими словами, существует ли отдельный генератор виртуальной реальности, который можно построить раз и навсегда и запрограммировать для передачи любой среды, которую способен ощутить человеческий разум?
Как и в случае с генераторами изображений под вышесказанным мы не подразумеваем, что этот единственный генератор виртуальной реальности мог бы содержать в себе точные определения всех логически возможных сред. Мы только имеем в виду, что этот генератор можно было бы запрограммировать для передачи любой логически возможной среды. Можно предусмотреть кодирование таких программ, например, на магнитных дисках. Чем выше сложность среды, тем больше понадобится дисков для хранения соответствующей программы. Таким образом, для передачи сложных сред машина должна обладать механизмом (который я уже описал для универсального генератора изображений), способным прочитать неограниченное количество дисков. В отличие от генератора изображений генератору виртуальной реальности может понадобиться увеличение объема «рабочей памяти» для хранения результатов промежуточных вычислений. Для этого можно предусмотреть наличие чистых дисков. И снова энергия, чистые диски и обслуживание, необходимые машине, не препятствуют тому, чтобы считать эту {128} машину «отдельной» при условии, что все эти действия не равносильны изменению конструкции машины и не запрещены законами физики.
В этом смысле, в принципе, можно было бы рассмотреть компьютер с эффективно неограниченной емкостью памяти. Но нельзя рассматривать компьютер с неограниченной скоростью вычислений. Компьютер определенной конфигурации всегда будет иметь фиксированную максимальную скорость, которую могут увеличить только изменения этой конфигурации. Следовательно, данный генератор виртуальной реальности не сможет выполнять неограниченное количество вычислений в единицу времени. Разве это не будет ограничивать его репертуар? Если среда настолько сложна, что вычисление того, что должен увидеть пользователь через секунду, занимает у машины больше секунды, каким образом машина сможет точно передать эту среду? Для достижения универсальности нам необходим следующий технологический трюк.
Чтобы расширить свой репертуар до максимально физически возможных пределов, генератору виртуальной реальности пришлось бы взять под контроль ещё одно свойство сенсорной системы пользователя: скорость обработки информации мозгом пользователя. Если бы человеческий мозг был подобен электронному компьютеру, достаточно было бы изменить частоту испускания синхронизирующих импульсов его «генератором». Несомненно, «генератор синхронизирующих импульсов» мозга контролировать не так просто. Но в принципе это не проблема. Мозг — конечный физический объект, и все его функции — физические процессы, которые, в принципе, можно замедлить или остановить. Предельный генератор виртуальной реальности должен обладать такой способностью.
Для достижения совершенной передачи сред, требующей множества вычислений, генератор виртуальной реальности должен был бы действовать приблизительно следующим образом. Каждый сенсорный нерв физически способен передавать сигналы с определенной максимальной частотой, поскольку возбудившаяся нервная клетка сможет вновь возбудиться только через одну миллисекунду. Следовательно, сразу после возбуждения определенного нерва у компьютера есть, по крайней мере, одна миллисекунда, чтобы решить, возбудится ли этот нерв снова и когда это произойдет. Если он вычислил решение, скажем, за половину миллисекунды, то в корректировке скорости работы мозга нет необходимости, и компьютер просто возбуждает этот нерв в нужное время. {129} В противном случае, компьютер заставляет мозг замедлить (или при необходимости остановить) свою работу до завершения вычисления следующего события: затем компьютер восстанавливает нормальную скорость работы мозга. Как бы это почувствовал пользователь? По определению никак. Пользователь получил бы ощущение нахождения в среде, точно определенной в программе, без каких бы то ни было замедлений, остановок или повторных пусков. К счастью, генератору виртуальной реальности не нужно заставлять мозг работать быстрее нормального: из-за этого, в конце концов, возникли бы принципиальные проблемы, потому что, кроме всего прочего, ни один сигнал не может перемещаться быстрее скорости света.
Этот метод позволяет нам заранее определить произвольно усложненную среду, для моделирования которой потребуется любой конечный объем вычислений, и получить ощущение нахождения в этой среде при любой субъективной скорости и уровне детализации, которые способен усвоить наш разум. Если необходимых вычислений слишком много, чтобы компьютер смог выполнить их в течение субъективно воспринимаемого времени, ощущение будет естественным, но пользователь заплатит за его сложность реально потерянным временем. Пользователь может выйти из генератора виртуальной реальности после пятиминутного, на его субъективный взгляд, пребывания там и обнаружить, что в физической реальности прошли годы.
Пользователь, мозг которого отключается на любой период времени, а потом снова включается, будет ощущать непрерывное пребывание в какой-то среде. Но пользователь, мозг которого отключился навсегда, с момента его отключения ничего не чувствует. Это значит, что программа, которая в какой-то момент может отключить мозг пользователя и уже никогда не включить его, не создает среду, которую пользователь почувствовал бы и, следовательно, не может считаться адекватной программой для генератора виртуальной реальности. Но программа, которая в конечном итоге всегда включает мозг пользователя, позволяет генератору виртуальной реальности передавать какую-то среду. Даже программа, которая вообще не испускает нервных сигналов передает темную безмолвную среду абсолютной сенсорной изоляции.
В поисках пределов виртуальной реальности мы проделали очень долгий путь от того, что осуществимо сегодня, или даже от того, что находится на обозримом горизонте технологии. Поэтому я ещё раз хочу подчеркнуть, что технологические трудности не мешают нашим настоящим {130} целям. Мы не исследуем, какие виды генераторов виртуальной реальности можно построить или какие виды генераторов виртуальной реальности когда-нибудь построят инженеры. Мы изучаем, что позволяют, а что не позволяют законы физики в области виртуальной реальности. Причина важности всего этого никак не связана с перспективой создания лучших генераторов виртуальной реальности. Причина в том, что отношение между виртуальной реальностью и «обычной» реальностью — часть глубокого, неожиданного устройства мира, о котором и рассказывает эта книга.
Рассматривая всевозможные трюки — стимуляцию нервов, остановку и запуск мозга и т. д. — мы смогли представить физически возможный генератор виртуальной реальности, репертуар которого охватывает весь сенсорный диапазон. Кроме того, этот генератор полностью интерактивен и не ограничен ни скоростью, ни емкостью памяти своего компьютера. Существует ли что-либо, что не входит в репертуар такого генератора виртуальной реальности? Возможно ли, что этот репертуар мог бы стать набором всех логически возможных сред? Нет. Репертуар даже этой фантастической машины резко ограничен хотя бы тем, что она являет собой физический объект. Она даже поверхностно не затрагивает то, что возможно логически, и сейчас я докажу это.
Основная идея такого доказательства — известного как диагональное доказательство — предшествует идее виртуальной реальности. Впервые это доказательство использовал математик девятнадцатого века Георг Кантор, чтобы доказать, что существуют бесконечно большие величины, превышающие бесконечность натуральных чисел (1,2,3...). Такое же доказательство лежит в основе современной теории вычисления, разработанной Аланом Тьюрингом и другими в 1930-х годах. Им также пользовался Курт Гёдель для доказательства своей знаменитой «теоремы о неполноте», о которой я более подробно расскажу в главе 10.
Каждая среда в репертуаре нашей машины формируется некой программой, заложенной в её компьютер. Представьте набор всех адекватных программ для этого компьютера. С точки зрения физики каждая из этих программ точно определяет конкретный набор значений физических переменных на дисках или других носителях, где записана компьютерная программа. Из квантовой теории нам известно, что все такие переменные квантуются, и, следовательно, независимо от того, как работает компьютер, набор возможных программ дискретен. {131} Значит, каждую программу можно выразить как конечную последовательность символов в дискретном коде или на языке компьютера. Существует бесконечное множество таких программ, но каждая из них может содержать только конечное количество символов. Так происходит потому, что символы — это физические объекты, созданные из вещества в узнаваемых конфигурациях, а бесконечное количество символов создать невозможно. Как я поясню в главе 10, эти интуитивно очевидные физические требования: что программы должны квантоваться, что каждая должна состоять из конечного числа символов и выполняться последовательно по этапам, — гораздо более материальны, чем кажутся. Они являются единственными следствиями законов физики, которые необходимы в качестве исходных данных доказательства, но их достаточно, чтобы наложить резкие ограничения на репертуар любой физически возможной машины. Другие физические законы могут наложить даже бóльшие ограничения, но они никак не повлияют на выводы этой главы.
Теперь давайте представим, что из этого бесконечного набора возможных программ составлен бесконечно длинный нумерованный список: Программа 1, Программа 2 и т. д. Эти программы можно расположить, например, в «алфавитном порядке» по отношению к символам, в которых они выражены. Поскольку каждая программа формирует среду, этот список можно рассматривать и как список всех сред из репертуара данной машины; мы можем называть их Среда 1, Среда 2 и т. д. Может случиться и так, что некоторые среды будут повторяться в этом списке, потому что две разные программы в действительности могут осуществлять одинаковые вычисления, но это никак не повлияет на доказательство. Важно, что каждая среда из репертуара нашей машины должна появиться в списке хотя бы один раз.
Виртуальная среда может быть как ограниченной, так и неограниченной в видимом физическом размере и видимой длительности. Виртуальным домом, созданным архитектором, например, можно будет пользоваться сколько угодно, но объем этой среды, вероятно, будет ограничен. Видеоигра может выделить пользователю только ограниченное время для игры до её окончания или передать игру-вселенную неограниченных размеров, предоставить неограниченное количество исследований и закончиться только тогда, когда её закончит сам пользователь. Для упрощения доказательства мы будем рассматривать только непрерывно работающие программы. Это не такое уж большое {132} ограничение, потому что, если программа останавливается, то мы всегда можем рассматривать отсутствие ответной реакции с её стороны как среду сенсорной изоляции.
Мне хотелось бы определить класс логически возможных сред, которые я назову средами Кантгоуту[9], частично в честь Кантора (Cantor), Геделя (Gödel) и Тьюринга (Turing), а частично по причине, которую я вкратце объясню. Эти среды я определяю следующим образом. В течение первой субъективной минуты среда Кантгоуту ведет себя не так, как Среда 1 (созданная Программой 1 нашего генератора). Не важно, как она себя ведет, важно, что пользователь ощущает отличие её поведения от поведения Среды 1. В течение второй минуты эта среда ведет себя отлично от Среды 2 (хотя сейчас она может вести себя как Среда 1). В течение третьей минуты она ведет себя отлично от Среды 3 и т. д. Любую среду, которая удовлетворяет этим условиям, я назову средой Кантгоуту.
Далее, поскольку среда Кантгоуту не ведет себя в точности как Среда 1, она не может быть Средой 1; поскольку она не ведет себя в точности как Среда 2, она не может быть Средой 2. Поскольку рано или поздно она точно будет вести себя не так, как Среда 3, Среда 4 и любая другая среда из списка, значит, она не может быть ни одной из этих сред. Однако этот список содержит все среды, созданные каждой возможной программой для этой машины. Следовательно, ни одна среда Кантгоуту не входит в репертуар машины. Среды Кантгоуту — это среды, в которые мы не можем пойти[9a], используя генератор виртуальной реальности.
Ясно, что существует невообразимо много сред Кантгоуту, потому что определение оставляет огромную свободу выбора возможного поведения этих сред, единственное ограничение состоит в том, что их поведение должно изменяться по прошествии каждой минуты. Можно доказать, что для каждой среды из репертуара данного генератора виртуальной реальности существует бесконечно много сред Кантгоуту, которые генератор не может передать. Да и места для расширения репертуара путем использования ряда различных генераторов виртуальной реальности не так уж много. Допустим, что у нас есть сто таких генераторов, причем каждый (в целях доказательства) имеет свой {133} репертуар. Тогда весь набор генераторов вместе с программируемой системой управления, определяющей, какие из них нужно использовать для обработки данной программы, — это просто более крупный генератор виртуальной реальности. Такой генератор подходит к приведенному мной доказательству, поэтому, для каждой среды, которую он может передать, будет существовать бесконечно много сред которые он передать не сможет. Более того, допущение о том, что различные генераторы виртуальной реальности могут иметь различные репертуары, оказывается чрезмерно оптимистичным. Как мы скоро увидим все достаточно сложные генераторы виртуальной реальности имеют по сути один и тот же репертуар.
Таким образом, наш гипотетический проект создания предельного генератора виртуальной реальности, который столь уверенно продвигался вперед, внезапно наткнулся на кирпичную стену. Какие бы усовершенствования ни произошли в ближайшем будущем, репертуар всей технологии виртуальной реальности никогда не выйдет за пределы определенного набора сред. Следует признать, что этот набор бесконечно велик и весьма разнообразен по сравнению с опытом, предшествующим появлению технологии виртуальной реальности. Тем не менее это всего лишь бесконечно малая частица набора всех логически возможных сред.
На что было бы похоже пребывание в среде Кантгоуту? Хотя законы физики и не позволяют нам оказаться в такой среде, логически это возможно, а потому вопрос об ощущениях правомерен. Безусловно она не смогла бы дать нам никаких новых ощущений, поскольку универсальный генератор изображений является возможным и считается частью нашего высокотехнологичного генератора виртуальной реальности. Таким образом, среда Кантгоуту показалась бы нам загадочной только после того, как мы оказались в ней и поразмышляли над результатами. Это было бы примерно так. Допустим, что вы фанат виртуальной реальности из далекого будущего с ультра-технологиями. Вы пресытились: вам кажется, что вы уже испробовали все интересное. Но вдруг однажды появляется джинн и заявляет, что он может перенести вас в среду Кантгоуту. Вы сомневаетесь, но согласны проверить его способности. Вас мгновенно переносят в эту среду. После нескольких экспериментов вам кажется, что вы узнаете её: она реагирует как одна из ваших любимейших сред, которая на вашей домашней системе виртуальной реальности создается при запуске программы под номером {134} X. Однако вы продолжаете экспериментировать, и, в конце концов, по окончании минуты Х реакция среды становится весьма отличной от той, которую могла бы предложить Среда X. Тогда вы отказываетесь от мысли о том, что это Среда X. Потом вы можете заметить, что все происшедшее очень напоминает другую среду, которую можно передать, — Среду Y. Но по истечении минуты Y вы понимаете, что вновь ошиблись. Характеристика среды Кантгоуту просто в следующем: сколько бы вы ни гадали, какой бы сложной ни была программа, которую вы приняли за программу, передающую именно эту среду, вы всегда будете ошибаться, потому что ни одна программа не передаст её ни на вашем генераторе виртуальной реальности, ни на каком-то другом.
Рано или поздно вам придется завершить свою проверку. К тому времени, вы, может быть, справедливо решите признать способности джинна. Я не хочу сказать, что вы когда-либо сможете доказать, что были в среде Кантгоуту, поскольку всегда существует даже более сложная программа, которую мог обрабатывать джинн, и которая могла бы соответствовать полученным вами ощущениям. То, о чем я сейчас говорил, всего лишь общая черта виртуальной реальности, — ощущение не может доказать пребывание человека в данной среде, будь это Центральный Корт Уимблдона или среда типа Кантгоуту.
В любом случае не существует таких джиннов и таких сред. Таким образом, мы должны сделать вывод, что физика не позволяет репертуару генератора виртуальной реальности приблизиться к тому огромному репертуару, который позволяет одна логика. Насколько же велик может быть этот репертуар?
Поскольку мы не можем надеяться на передачу всех логически возможных сред, давайте рассмотрим меньшую (но в конечном счете более интересную) степень универсальности. Давайте определим универсальный генератор виртуальной реальности как генератор, репертуар которого содержит репертуары всех остальных физически возможных генераторов виртуальной реальности. Может ли существовать такая машина? Может. Размышление о фантастических устройствах, основанных на стимуляции нервов, управляемой компьютером, делает это очевидным — в действительности, почти слишком очевидным. Такую машину можно было бы запрограммировать на воспроизведение характеристики любой конкурирующей с ней машины. Она смогла бы вычислить реакцию той машины при {135} любой данной программе, при любом поведении пользователя и, следовательно, смогла бы передать эти реакции с совершенной точностью (с точки зрения любого данного пользователя). Я говорю, что это «почти слишком очевидно», потому что здесь содержится важное допущение относительно того, на выполнение каких действий можно запрограммировать предложенное устройство, точнее, его компьютер: при наличии подходящей программы, достаточного времени и средств хранения информации компьютер смог бы подсчитать результат любого вычисления, выполненного любым другим компьютером, в том числе и компьютером конкурирующего генератора виртуальной реальности. Таким образом, возможность реализации универсального генератора виртуальной реальности зависит от существования универсального компьютера — отдельной машины, способной вычислить все, что только можно вычислить.
Как я уже сказал, такая универсальность была впервые изучена не физиками, а математиками. Они пытались создать точное интуитивное понятие «решения» (или «вычисления», или «доказательства») чего-либо в математике. Они не учитывали, что математическое вычисление — это физический процесс (в частности, как я уже объяснил, процесс передачи в виртуальной реальности), поэтому, путем математического рассуждения невозможно определить, что можно вычислить математически, а что нельзя. Это полностью зависит от законов физики. Но вместо того чтобы пытаться получить какие-то результаты из законов физики, математики сформулировали абстрактные модели «решения» и определили «вычисление» и «доказательство» на основе этих моделей. (Я вернусь к этой интересной ошибке в главе 10). Вот так и получилось, что за несколько месяцев 1936 года три математика, Эмиль Пост, Алонцо Черч и, главное, Алан Тьюринг независимо друг от друга создали первые абстрактные схемы универсальных компьютеров. Каждый из них считал, что его «вычислительная» модель действительно правильно формализовала традиционное интуитивное понятие математического «вычисления». Следовательно, каждый из них также полагал, что его модель эквивалентна (имеет тот же репертуар) любой другой разумной формализации подобной интуиции. Сейчас это известно как гипотеза Черча—Тьюринга.
Модель вычислений Тьюринга и концепция природы задачи, которую он решал, была наиболее близка к физике. Его абстрактный компьютер, машина Тьюринга, представлял собой бумажную ленту, разделенную на квадраты, причем на каждом квадрате был написан один из {136} конечного числа легко различимых символов. Вычисление осуществлялось следующим образом: проверялся один квадрат, затем лента перемещалась вперед или назад, стирая или записывая один из символов в соответствии с простыми недвусмысленными правилами. Тьюринг доказал, что один конкретный компьютер такого типа, универсальная машина Тьюринга, имеет объединенный репертуар всех других машин Тьюринга. Он предположил, что этот репертуар в точности состоит из «каждой функции, которую естественно посчитали бы вычислимой». Он имел в виду вычислимой математиками.
Однако математики — это достаточно нетипичные физические объекты. Почему мы должны допускать, что их передача при выполнении вычислений — предел вычислительных задач? Оказывается, что не должны. Как я объясню в главе 9, квантовые компьютеры могут выполнять вычисления, которые ни один математик (человек) никогда, даже в принципе, не сможет выполнить. В работе Тьюринга неявно выражено его ожидание, что то, что «естественно сочли бы вычислимым», могло бы, по крайней мере в принципе, быть вычисленным и в природе. Это ожидание эквивалентно более сильной физической версии гипотезы Черча-Тьюринга. Математик Роджер Пенроуз предложил назвать его принципом Тьюринга:
Принцип Тьюринга (для абстрактных компьютеров, имитирующих физические объекты)
Существует абстрактный универсальный компьютер, репертуар которого включает любые вычисления, которые может осуществить любой физически возможный объект.
Тьюринг считал, что «универсальный компьютер», о котором идет речь, — это универсальная машина Тьюринга. Чтобы принять во внимание более широкий репертуар квантовых компьютеров, я сформулировал принцип в такой форме, которая точно не определяет, какой частный «абстрактный компьютер» выполняет вычисления.
Приведенным мной доказательством существования сред Кантгоуту я, в сущности, обязан Тьюрингу. Как я уже сказал, он не думал непосредственно о виртуальной реальности, но «среда, которую можно передать», относится к классу математических вопросов, ответ на которые можно вычислить. Эти вопросы вычислимы. Все остальные вопросы — вопросы, ответы на которые невозможно вычислить, называются невычислимыми. Если вопрос невычислим, это не значит, что на {137} него нет ответа или что этот ответ в каком-то смысле плохо определен или сомнителен. Напротив, это значит, что у этого вопроса определенно есть ответ. Дело просто в том, что физически, даже в принципе не существует способа получить этот ответ (или точнее, поскольку человек всегда может высказать удачную, не поддающуюся проверке догадку, доказать, что это и есть ответ). Например, простые двойники — это два простых числа, разность которых равна 2, например, 3 и 5 или 11 и 13. Математики тщетно пытались ответить на вопрос, существует ли бесконечно много таких пар или их количество всё же конечно. Неизвестно даже, вычислим ли этот вопрос. Предположим, что нет. Это все равно, что сказать, что ни один человек и ни один компьютер никогда не смогут создать доказательство существования конечного или бесконечного количества простых двойников. Но даже в этом случае ответ на этот вопрос существует: можно сказать определенно, что есть либо наибольшая пара простых двойников, либо бесконечно большое количество таких пар; другого варианта не существует. Вопрос остается четко определенным, несмотря на то, что, возможно, мы никогда не узнаем ответа.
Что касается виртуальной реальности: ни один физически возможный генератор виртуальной реальности не сможет передать среду, в которой ответы на невычислимые вопросы даются по запросу пользователя. Такие среды относятся к средам Кантгоуту. Верно и обратное: каждая среда Кантгоуту соответствует классу математических вопросов («что произошло бы далее в среде, определенной так-то и так-то?»), на которые физически невозможно дать ответ.
Несмотря на то, что невычислимых вопросов бесконечно больше, чем вычислимых, они относятся к разряду эзотерических. Это не случайно. Так происходит потому, что разделы математики, которые мы склонны считать в меньшей степени эзотерическими, — это разделы, отражение которых мы видим в поведении физических объектов в знакомых ситуациях. В таких случаях мы часто можем воспользоваться этими физическими объектами, чтобы ответить на вопросы о соответствующих математических отношениях. Например, мы можем считать на пальцах, потому что физика пальцев естественным образом имитирует арифметику целых чисел от нуля до десяти.
Вскоре была доказана идентичность репертуаров трех очень разных абстрактных компьютеров, определенных Тьюрингом, Черчем и Постом. Таковыми же являются и репертуары всех абстрактных {138} моделей математического вычисления, которые с тех пор предлагались. Это считается аргументом в поддержку гипотезы Черча-Тьюринга и универсальности универсальной машины Тьюринга. Однако, вычислительная мощность абстрактных машин не имеет никакого отношения к тому, что вычислимо в реальности. Масштаб виртуальной реальности и её расширенное применение для постижимости природы и других аспектов структуры реальности зависит от того, реализуемы ли необходимые компьютеры физически. В частности, любой настоящий универсальный компьютер должен быть физически реализуем сам по себе. Это ведет к более определенному варианту принципа Тьюринга:
Принцип Тьюринга (для физических компьютеров, имитирующих друг друга)
Возможно построить универсальный компьютер: машину, которую можно запрограммировать для выполнения любого вычисления, которое может выполнить любой другой физический объект.
Следовательно, если бы универсальный компьютер управлял универсальным генератором изображений, то получившаяся в результате машина стала бы универсальным генератором виртуальной реальности. Другими словами, справедлив и следующий принцип:
Принцип Тьюринга (для генераторов виртуальной реальности, передающих друг друга)
Возможно построить генератор виртуальной реальности, репертуар которого включает репертуар каждого другого физически возможного генератора виртуальной реальности.
Далее, любую среду можно передать с помощью генератора виртуальной реальности некоторого рода (например, всегда можно рассматривать копию этой самой среды как генератор виртуальной реальности с очень маленьким репертуаром). Таким образом, из этого варианта принципа Тьюринга также следует, что любую физически возможную среду можно передать с помощью универсального генератора виртуальной реальности. Следовательно, чтобы выразить стабильную самоподобность, которая существует в структуре реальности, охватывающей не только вычисления, но и все физические процессы, принцип Тьюринга можно сформулировать во всеобъемлющей форме:
Принцип Тьюринга
Возможно построить генератор виртуальной реальности, репертуар которого включает каждую физически возможную среду. {139}
Это наиболее жизнестойкая форма принципа Тьюринга. Она не только говорит нам, что различные части реальности могут походить друг на друга. Она говорит нам, что отдельный физический объект, который можно построить раз и навсегда (не считая обслуживания и при необходимости поставки дополнительной памяти), с неограниченной точностью может выполнять задачу описания или имитирования любой другой части мультиверса. Набор всех вариантов поведения и реакций одного этого объекта в точности отображает все варианты поведения и реакции всех остальных физически возможных объектов и процессов.
Это просто род самоподобности, которая необходима, если мои надежды на то, что структура реальности должна быть действительно единой и понятной, оправданны. Если законы физики и их применимость к любому физическому объекту или процессу должны быть поняты, должна существовать возможность их воплощения в другом физическом объекте — объекте, который будет их знать. Также необходимо, чтобы процессы, способные создать такое знание, были физически возможны. Такие процессы называются наукой. Наука зависит от экспериментальных проверок: физической передачи предсказаний закона и её сравнения с реальностью (ее передачей). Она также зависит от объяснений, и для того, чтобы суметь передать их в виртуальной реальности, необходимы сами абстрактные законы, а не просто их предсказательное содержание. Это серьезный запрос, но реальность удовлетворяет его. То есть законы физики удовлетворяют его. Законы физики, согласуясь с принципом Тьюринга, дают тем же самым законам физическую возможность стать физическими объектами. Таким образом, можно сказать, что законы физики ручаются за свою собственную постижимость.
Поскольку построить универсальный генератор виртуальной реальности физически возможно, в некоторых вселенных он действительно должен быть построен. Здесь я должен сделать предостережение. Как я объяснил в главе 3, мы можем нормально определить физически возможный процесс как процесс, который действительно происходит где-то в мультиверсе. Но, строго говоря, универсальный генератор виртуальной реальности — это граничный случай, требующий для своего функционирования сколь угодно больших ресурсов. Поэтому, говоря «физически возможный», мы в действительности подразумеваем, что в мультиверсе существуют генераторы виртуальной реальности, {140} репертуары которых сколь угодно близки к набору всех физически возможных сред. Подобным образом, поскольку законы физики можно передать, где-то их передают. Таким образом, из принципа Тьюринга (более определенной его формы, которую я доказал) следует, что законы физики не просто ручаются за свою собственную постижимость в каком-то абстрактном смысле — постижимость абстрактными учеными, как это было. Их следствием является физическое существование где-то в мультиверсе категорий, которые понимают их сколь угодно хорошо. К этому следствию я вернусь в следующих главах.
Сейчас я возвращаюсь к вопросу, который задал в предыдущей главе, а именно: правда ли то, что если бы наша передача в виртуальной реальности, основанная на неправильных законах физики, была единственным источником получения знаний, нам следовало бы ожидать изучения неправильных законов. Первое, что мне хотелось бы выделить, — это то, что виртуальная реальность, основанная на неправильных законах, и есть наш единственный источник получения знаний! Как я уже сказал, все наши внешние ощущения связаны с виртуальной реальностью, созданной нашим мозгом. А поскольку наши концепции и теории (будь они врожденные или приобретенные) никогда не совершенны, все наши передачи на самом деле неточны. То есть, они дают нам ощущение среды, которая значительно отличается от среды, в которой мы действительно находимся. Миражи и другие оптические иллюзии — тому примеры. Далее, мы ощущаем, что Земля под нашими ногами находится в состоянии покоя, несмотря на то, что в действительности она совершает быстрое и сложное движение. Кроме того, мы ощущаем отдельную вселенную и отдельный пример нашего сознательного «я», тогда как в реальности этого много. Но эти неточные и вводящие в заблуждение ощущения не доказывают ложность научного рассуждения. Напротив, такие недостатки являются отправной точкой.
Нам приходится решать задачи о физической реальности. Если окажется, что все это время мы просто изучали программирование космического планетария, то это будет просто означать, что мы изучали меньшую часть реальности, чем нам казалось. Ну и что? Такое происходило много раз в истории науки, когда наши горизонты расширялись за пределы Земли, включая солнечную систему, нашу галактику, другие галактики, скопления галактик и т. д. и, конечно, параллельные вселенные. Еще одно подобное расширение может произойти завтра; оно действительно может произойти в соответствии с одной из бесконечного {141} множества возможных теорий, а может и не произойти никогда. Логически мы должны согласиться с солипсизмом и родственными ему доктринами в том, что изучаемая нами реальность может быть непредставительной частью большей, недостижимой или непостижимой структуры. Но мое общее опровержение таких доктрин показывает, что нерационально основываться на возможности. Следуя Оккаму, мы примем эти теории тогда и только тогда, когда они обеспечат объяснения лучшие, чем объяснения их более простых конкурентов.
Однако, существует вопрос, который мы всё ещё можем задать. Допустим, кого-либо заключили в небольшую, непредставительную часть нашей реальности, например, в универсальный генератор виртуальной реальности, запрограммированный по неправильным законам физики. Что могли бы узнать эти пленники о нашей внешней реальности? На первый взгляд, кажется невозможным, что они могли бы открыть хоть что-нибудь. Может показаться, что самое большее, что они могли бы открыть, — это законы управления, т. е. компьютерную программу, управляющую их заключением.
Но это не так! Мы снова должны принять во внимание, что если эти пленники — ученые, то они будут искать как предсказания, так и объяснения. Другими словами, они не будут удовлетворены простым знанием программы, управляющей местом их заключения: они захотят объяснить происхождение и свойства различных объектов (включая и самих себя), наблюдаемых ими в той реальности, в которой они живут. Но в большинстве сред виртуальной реальности таких объяснений не существует, поскольку переданные объекты возникают не там, они создаются во внешней реальности. Предположим, что вы играете в виртуальную видео игру. Для упрощения допустим, что, по сути, это игра в шахматы (возможно, это игра от первого лица, в которой вы играете роль короля). Вы воспользуетесь нормальными методами науки, чтобы открыть «физические законы» этой среды и следствия, вытекающие из них. Вы узнаете, что шах, мат и пат — «физически» возможные явления (т. е. возможные при вашем лучшем понимании действия среды), но положение с девятью белыми пешками «физически» невозможно. Как только вы поймете законы достаточно хорошо, вы заметите, что шахматная доска — слишком простой объект, чтобы, например, думать, и, следовательно, ваши собственные мыслительные процессы не могут находиться под управлением только законов шахмат. Подобным образом, вы могли бы сказать, что за время любого количества шахматных {142} партий фигуры никогда не создадут самовоспроизводящиеся конфигурации. И если уж жизнь не может развиться на шахматной доске, то что говорить о развитии там разума. Следовательно, вы могли бы также сделать вывод, что ваши собственные мыслительные процессы не могли возникнуть во вселенной, в которой вы себя обнаружили. Таким образом, даже если бы вы прожили всю свою жизнь в переданной среде и не имели бы своих собственных воспоминаний о внешнем мире, на которых можно было бы основать объяснения, ваше знание не ограничилось бы этой средой. Вы бы знали, что несмотря на то, что вселенная вроде бы имеет определенный вид и подчиняется определенным законам, вне её должна существовать более обширная вселенная, которая подчиняется другим законам физики. И вы могли бы даже догадаться о некоторых отличиях этих более обширных законов от законов шахматной доски.
Артур К. Кларк однажды заметил, что «любую достаточно перспективную технологию невозможно отличить от волшебства». Это правда, но вводит в некоторое заблуждение. Такое заявление делается с точки зрения донаучного мыслителя и являет собой ошибочный обходной путь. В действительности, для любого, кто понимает, что такое виртуальная реальность, даже настоящее волшебство будет неотличимо от технологии, поскольку в постижимой реальности нет места волшебству. Все, что кажется непостижимым, наука рассматривает просто как свидетельство того, что есть что-то, что мы ещё не поняли, будь это магический трюк, перспективная технология или новый закон физики.
Рассуждение, исходящее из условия своего собственного существования, называется «антропным». Хотя оно некоторым образом применимо в космологии, обычно его необходимо дополнять самостоятельными допущениями о природе «себя», чтобы получить определенные выводы. Однако антропное рассуждение — не единственный способ, с помощью которого обитатели нашего гипотетического виртуального места заключения могли бы получить знание о внешнем мире. Любое из развившихся объяснений их небольшого мира могло бы моментально достигнуть внешней реальности. Например, сами правила шахмат, содержащие то, что может осознать внимательный игрок, — это «ископаемое свидетельство» того, что эти правила эволюционировали: существуют «незаурядные» ходы, например, рокировка и взятие на проходе, которые увеличивают сложность правил, но и совершенствуют игру. Объясняя эту сложность, справедливо сделать вывод, что правила шахмат не всегда были такими, как сейчас. {143}
В попперианской схеме всего объяснения всегда ведут к новым задачам, которые, в свою очередь, требуют новых объяснений. Если через некоторое время пленники не смогут усовершенствовать существующие у них объяснения, они, конечно, могут сдаться, возможно, ошибочно заключив, что объяснения вообще недоступны. Но если они не сдадутся, то они будут размышлять над теми аспектами окружающей их среды, которые, как им кажется, не имеют адекватного объяснения. Таким образом, если бы тюремщики высоких технологий хотели быть уверенными, что переданная ими среда, вечно будет заставлять их пленников думать, что внешнего мира не существует, они просто загрузили бы их работой по горло. Чем более долгую иллюзию они хотели создать, тем более изощренной должна была быть программа. Недостаточно просто оградить пленников от наблюдения внешнего мира. Переданная среда должна быть такой, чтобы никакие объяснения того, что находится внутри, никогда не потребовали бы от пленника формулировки того, что находится снаружи. Другими словами, эта среда должна быть самосодержащей во всем, что касается объяснений. Но Я сомневаюсь, что хоть какая-то часть реальности, не говоря уже о всей реальности, обладает таким свойством.
Универсальный генератор виртуальной реальности — это генератор, репертуар которого содержит каждую физически возможную среду.
Среды Кантгоуту — логически возможные среды, которые не сможет передать ни один физически возможный генератор виртуальной реальности.
Диагональное доказательство — вид доказательства, при котором представляют список категорий, а затем используют этот список для создания родственной категории, которой не может быть в этом списке.
Машина Тьюринга — одна из первых абстрактных моделей вычисления.
Универсальная машина Тьюринга — машина Тьюринга с репертуаром, содержащим репертуары всех машин Тьюринга.
Принцип Тьюринга (в самой жизнестойкой форме) — построить Универсальный генератор виртуальной реальности физически возможно. {144} При сделанных мной допущениях это означает, что не существует верхней границы универсальности генераторов виртуальной реальности, которые действительно будут построены где-то в мультиверсе.
Диагональное доказательство показывает, что подавляющее большинство логически возможных сред невозможно передать в виртуальной реальности. Я назвал такие среды средами Кантгоуту. Тем не менее, в физической реальности существует постижимая самоподобность. выраженная в принципе Тьюринга: можно построить генератор виртуальной реальности, репертуар которого включает каждую физически возможную среду. Таким образом, отдельный физический объект, который можно построить, способен имитировать все варианты поведения и реакции любого другого физически возможного объекта или процесса. Именно это делает реальность постижимой.
Это также делает возможной эволюцию живых организмов. Однако прежде чем обсуждать теорию эволюции, четвертую основную нить объяснения структуры реальности, я должен сделать краткое отступление в эпистемологию. {145}
Я считаю, что я решил насущную философскую проблему: задачу индукции.
Карл Поппер
Как я объяснил в предисловии, основная цель этой книги не защита четырех основных нитей, а исследование того, что говорят эти нити и какого рода реальность они описывают. Именно поэтому я никоим образом не обращаюсь к враждебным теориям. Тем не менее, существует одна враждебная теория, а именно: здравый смысл, — подробного опровержения которой требует мой разум, когда она вступает в конфликт с моими утверждениями. Поэтому в главе 2 я в пух и прах разбил логичную идею существования одной вселенной. В главе 11 та же участь ожидает идею о том, что время «течет» или что наше сознание «движется» во времени. В главе 3 я раскритиковал индуктивизм, разумную идею о том, что мы создаем теории о физическом мире, обобщая результаты наблюдений, и доказываем свои теории, повторяя эти наблюдения. Я объяснил, что индуктивное обобщение на основе наблюдений невозможно и что индуктивное доказательство необоснованно. Я объяснил, что индуктивизм основывается на ошибочном представлении о том, что наука ищет предсказания на основе наблюдений, а не объяснения в ответ на задачи. Я также объяснил (следуя Попперу), как наука делает прогресс, придумывая новые объяснения и затем выбирая лучшие с помощью экспериментов. Все это почти полностью принимают ученые и философы. Но большинство философов не принимают то, что этот процесс доказан. Сейчас я объясню это.
Наука ищет лучшие объяснения. Научное объяснение толкует наши наблюдения, постулируя что-либо относительно того, какова наша реальность и как она действует. Мы считаем какое-либо объяснение {146} лучше других, если оно оставляет меньше белых пятен (например, категорий с необъясненными свойствами), требует меньшего количества более простых постулатов, является более обобщенным, проще согласуется с хорошими объяснениями из других областей и т.д. Но почему лучшее объяснение должно быть тем, чем мы всегда считаем его на практике, — показателем более истинной теории? Почему, коли на то пошло, откровенно плохое объяснение (скажем, не имеющее ни одного из вышеназванных качеств) обязательно должно быть ложным? Логически необходимой связи между истиной и объяснительными возможностями в действительности не существует. Плохое объяснение (такое, как солипсизм) может быть истинным. Даже самая лучшая имеющаяся теория в определенных случаях может дать ложные предсказания, и это могут быть как раз те случаи, когда мы полагаемся на эту теорию. Ни одна обоснованная форма рассуждения логически не может ни исключить такой возможности, ни хотя бы доказать её невероятность. Но в таком случае, как мы можем оправдать то, что полагаемся на свои лучшие объяснения как на ведущие к практическому принятию решений? В общем, какие бы критерии мы ни использовали для суждения о научных теориях, как можно, основываясь на том, что эти критерии удовлетворяют какой-то теории сегодня, подразумевать хоть что-нибудь относительно того, что произойдет, если мы будем полагаться на эти теории завтра?
Это современная форма «задачи индукции». Большинство современных философов согласны с точкой зрения Поппера, что новые теории не из чего не выводят, это просто гипотезы. Они также принимают, что научный прогресс создается посредством гипотез и опровержений (как описано в главе 3) и что теории принимают после опровержения всех их конкурентов, а не после получения многочисленных подтверждающих их примеров. Они согласны, что полученное таким образом знание стремится быть надежным. Проблема в том, что они не понимают, почему это знание должно быть надежным. Обычные индуктивисты пытались сформулировать «принцип индукции», который гласит, что подтверждающие примеры повышают вероятность теории, или что «будущее будет похоже на прошлое», или что-то в этом роде. Они также пытались сформулировать методологию индуктивной науки, устанавливая правила о том, какие выводы можно обоснованно сделать из «данных». Все они потерпели неудачу по причинам, которые я уже объяснил. Но даже если бы они достигли успеха, в смысле {147} построения схемы успешного создания научного знания, это не решило бы задачу индукции в современном её понимании. Поскольку в этом случае «индукция» была бы ещё одним возможным способом выбора теорий, а задача, почему эти теории следует считать надежной основой действий, осталась бы нерешенной. Другими словами, философы, которых волнует эта «задача индукции», — не индуктивисты в старом смысле этого слова. Они не пытаются получить или доказать теории индуктивно. Они не ждут, что небо обрушится, но они не знают, как это доказать.
Современные философы жаждут получить это отсутствующее доказательство. Они уже не верят, что получат его от индукции, но, тем не менее, в их схеме всего отсутствует индукция, от чего они страдают так же, как религиозные люди, потерявшие свою веру, страдают от «отсутствия Бога» в своей схеме всего. Но, по-моему, разница между отсутствием Х в схеме всего и верой в Х слишком мала. Поэтому, чтобы приспособиться к более сложной концепции задачи индукции, мне хотелось бы дать новое определение термину «индуктивист», подразумевая под ним человека, который считает необоснованность индуктивных доказательств проблемой основ науки. Другими словами, индуктивист считает, что существует некоторый пробел, который необходимо заполнить если не принципом индукции, то чем-то ещё. Некоторые индуктивисты ничего не имеют против такой определенности. Другие с этим не согласны, поэтому я буду называть их крипто-индуктивистами.
Большинство современных философов — крипто-индуктивисты. Хуже того, они (как и многие ученые) весьма недооценивают роль объяснения в научном процессе. Подобным образом ведет себя и большинство попперианских анти-индуктивистов, которые в связи с этим пришли к отрицанию существования доказательства (даже экспериментального доказательства). Это открывает новый объяснительный пробел в их схеме всего. Философ Джон Уоррал инсценировал свое видение этой задачи в воображаемом диалоге Поппера и ещё нескольких философов под названием «Почему Поппер и Уоткинс не смогли решить задачу индукции»[10]. Место действия — вершина Эйфелевой башни. Один из участников — назовем его «Парящим» — решает спуститься с башни не на лифте, как обычно, а спрыгнуть. Остальные пытаются убедить Парящего, что прыжок вниз означает верную смерть. Они используют {148} лучшие научные и философские аргументы. Но неугомонный Парящий по-прежнему ожидает, что будет безопасно парить в воздухе, и продолжает указывать на то, что на основе прошлого опыта логически невозможно доказать предпочтительность конкурирующего результата.
Я считаю, что мы можем доказать наше ожидание гибели Парящего. Доказательство (конечно, всегда экспериментальное) приходит из объяснений, предоставленных важными научными теориями. В той степени, в какой эти объяснения хороши, рационально оправданно полагаться на предсказания соответствующих теорий. Поэтому в ответ Уорралу я привожу свой собственный диалог, проходящий в том же самом месте.
ДЭВИД: Поскольку я читал то, что Поппер имел сказать об индукции, я верю, что он действительно, как и заявлял, решил задачу индукции. Но лишь немногие философы с этим согласны. Почему?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Потому что Поппер никогда не обращался к задаче индукции в нашем понимании. То, что он делал, было представлено как критика индуктивизма. Индуктивизм гласил, что существует «индуктивная» форма рассуждения, способная вывести общие теории о будущем и доказать их при наличии свидетельств в виде отдельных наблюдений, сделанных в прошлом. Он считал, что существует принцип природы, принцип индукции, который гласит что-то вроде «наблюдения сделанные в будущем, вероятнее всего будут похожи на наблюдения, сделанные при сходных условиях в прошлом». Были сделаны попытки сформулировать этот принцип так, чтобы он действительно позволил вывести, или доказать, общие теории из отдельных наблюдений. Все они потерпели неудачу. Критика Поппера, хотя и имевшая влияние среди ученых (особенно в связи с другой его работой, проливающей свет на методологию науки), вряд ли была оригинальной. Ошибочность индуктивизма была известна почти со времен его изобретения и уж конечно с начала восемнадцатого века, когда он подвергся критике Дэвида Юма. Задача индукции не в том, как доказать или опровергнуть принцип индукции, а скорее в том (считая доказанным его необоснованность), как доказать любой вывод о будущем, основываясь на прошлых свидетельствах. И прежде чем вы скажете, что в этом нет необходимости ...
ДЭВИД: В этом нет необходимости.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Нет есть. Это-то как раз и раздражает в вас, последователях Поппера: вы отрицаете очевидное. Очевидно, что {149} причина того, что в этот раз вы даже не пытаетесь прыгать с башни, частично состоит в том, что вы считаете оправданным полагаться на нашу лучшую теорию гравитации и неоправданным полагаться на некоторые другие теории. (Конечно, под «нашей лучшей теорией гравитации» в данном случае я имею в виду нечто большее, чем общая относительность. Я также подразумеваю сложный набор теорий о таких вещах, как сопротивление воздуха, человеческая психология, упругость бетона и наличие в воздухе спасательных средств).
ДЭВИД: Да, я счел бы оправданным полагаться на такую теорию. В соответствии с методологией Поппера в таких случаях следует полагаться на лучшую подтвержденную теорию, т. е. на ту, которая подверглась самым строгим проверкам и выдержала их, тогда как её соперники были опровергнуты.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Вы сказали «следует» полагаться на лучшую подтвержденную теорию, но почему, объясните поточнее? По-видимому, потому что в соответствии с Поппером, процесс подтверждения доказал теорию в том смысле, что вероятность получения от неё истинных предсказаний выше, чем от других теорий.
ДЭВИД: Ну, не выше, чем от всех других теорий, потому что несомненно когда-нибудь у нас появятся даже лучшие теории гравитации ...
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Слушайте. Давайте договоримся не использовать уловки, не относящиеся к обсуждаемой нами теме. Конечно, когда-нибудь может появиться лучшая теория гравитации, но вы должны решить, чего придерживаться сейчас, сейчас. И имея свидетельства, доступные сейчас, вы выбрали определенную теорию, в соответствии с которой действуете. И вы выбрали её по критериям Поппера, потому что считаете, что только по этим критериям вероятнее всего выбрать теорию, дающую правильные предсказания.
ДЭВИД: Да.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Итак, подведем итог: вы считаете, что свидетельство, имеющееся у вас в настоящий момент, доказывает предсказание, что, спрыгнув с башни, вы погибнете.
ДЭВИД: Нет, не доказывает.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Черт побери, вы противоречите сами себе. Только что вы сказали, что это предсказание доказано.
ДЭВИД: Оно доказано. Но оно доказано не свидетельством, если под «свидетельством» вы подразумеваете все эксперименты, результаты {150} которых теория правильно предсказала в прошлом. Как всем нам известно, это свидетельство согласуется с бесконечным множеством теорий, включая теории, предсказывающие каждый логически возможный результат моего прыжка вниз.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Принимая это во внимание, я повторяю, что вся проблема заключается в том, чтобы найти то, что доказывает предсказание. Это и есть задача индукции.
ДЭВИД: Эту задачу и решил Поппер.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Я глубоко изучил труды Поппера, но это для меня новость. И каково же решение? Мне не терпится его услышать. Что доказывает предсказание, если не свидетельство?
ДЭВИД: Аргумент.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Аргумент?
ДЭВИД: Только аргумент способен доказать что-либо и, конечно, условно. Все теоретическое подвержено ошибкам. Но аргумент, тем не менее, иногда может доказать теории. Для этого он и нужен.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Я считаю, что это очередная ваша уловка. Вы не можете иметь в виду, что теорию, как и математическую теорему, доказывают с помощью чистого аргумента[11]. Свидетельство определенно играет свою роль.
ДЭВИД: Конечно. Это эмпирическая теория, поэтому, в соответствии с научной методологией Поппера решающие эксперименты играют основную роль при выборе теории. Когда конкурирующие теории опровергают, остается только одна теория.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: И как следствие этого опровержения и выбора, которые имели место в прошлом, доказывается практическое применение этой теории для предсказания будущего.
ДЭВИД: Полагаю, что так, хотя мне кажется, неверно говорить «как следствие», когда мы не говорим о логической дедукции.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Это уже новый вопрос: какого рода это следствие? Я попытаюсь поймать вас на слове. Вы признаете, что теорию доказывают как с помощью аргумента, так и с помощью результатов экспериментов. Если бы результаты экспериментов были другими, аргумент доказал бы другую теорию. Таким образом, принимаете ли вы, что в этом смысле (да, через аргумент, но я не хочу повторять это условие) результаты прошлых экспериментов доказали предсказание? {151}
ДЭВИД: Да.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Что же в точности было в тех действительных прошлых результатах, доказавших предсказание, в противоположность другим возможным прошлым результатам, которые точно так же могли доказать противоположное предсказание?
ДЭВИД: Действительные результаты опровергли все конкурирующие теории и подтвердили ту теорию, которая преобладает сейчас.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Хорошо. Теперь слушайте внимательно, потому что вы только что сказали нечто, ложность чего не только доказуема, но что вы сами считали ложным несколько мгновений тому назад. Вы говорите, что результаты экспериментов «опровергли все конкурирующие теории». Но вы отлично знаете, что никакой набор результатов экспериментов не может опровергнуть всех возможных конкурентов и оставить одну общую теорию. Вы сами сказали, что любой набор прошлых результатов (я цитирую) «согласуется с бесконечным множеством теорий, включая теории, предсказывающие каждый логически возможный результат моего прыжка вниз». Следовательно, предпочитаемое вами предсказание не было доказано результатами экспериментов, потому что у вашей теории бесконечно много ещё не опровергнутых конкурентов, которые дают противоположные предсказания.
ДЭВИД: Я рад, что по вашей просьбе я внимательно слушал, поскольку сейчас я понимаю, что, по крайней мере, частично наши разногласия вызваны неправильным пониманием терминологии. Когда Поппер говорит о «теориях-конкурентах» данной теории, он подразумевает не набор всех логически возможных конкурентов: он имеет в виду только фактических конкурентов, предложенных во время рациональной полемики. (Сюда входят теории, «предложенные» чисто ментально одним человеком во время «полемики», проходящей в его разуме).
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Понятно. Ладно, я принимаю вашу терминологию. Но в этой связи (не думаю, что это имеет значение для наших настоящих целей, мне просто любопытно) разве не странное утверждение вы приписываете Попперу о том, что надежность теории зависит от случайности того, какие другие теории — ложные теории — люди предложили в прошлом, а не только от содержания рассматриваемой теории и экспериментальных свидетельств?
ДЭВИД: Не совсем так. Даже вы, индуктивисты, говорите о...
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Я не индуктивист!
ДЭВИД: Нет, индуктивист. {152}
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Уф! Я повторяю, что приму вашу терминологию, если вы настаиваете. Но вы можете точно так же назвать меня дикобразом. Называть «индуктивистом» человека, который всего лишь полагает, что необоснованность индуктивного рассуждения дает нам нерешенную философскую задачу, — настоящее извращение.
ДЭВИД: Я так не считаю. Я думаю, что основная идея — это то, что определяет и всегда определяло индуктивиста. Но я вижу, что по крайней мере одного Поппер достиг: слово «индуктивист» стало оскорбительным! В любом случае, я объяснял, почему не так уж странно то, что надежность теории должна зависеть от того, какие ложные теории были предложены в прошлом. Даже индуктивисты говорят о надежности или ненадежности теории при наличии определенных «свидетельств». Ну а попперианцы могли говорить о лучшей теории, доступной для использования на практике, при наличии определенной проблемной ситуации. А самые важные черты проблемной ситуации — это: какие теории и объяснения конкурируют; какие аргументы выдвинуты; какие теории опровергнуты. «Подтверждение» — это не просто принятие победившей теории. Для подтверждения необходимо экспериментальное опровержение конкурирующих теорий. Подтверждающие примеры сами по себе не имеют никакого значения.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Очень интересно. Теперь я понимаю роль, которую играют опровергнутые конкуренты теории при доказательстве её предсказаний. При индуктивизме первостепенная важность принадлежала наблюдению. Человек представлял массу прошлых наблюдений, из которых путем индуктивного рассуждения выводилась теория, и эти же наблюдения составляли свидетельство, которое каким-то образом доказывало теорию. В картине научного прогресса Поппера первостепенная важность принадлежит не наблюдениям, а задачам, полемике, теориям и критике. Эксперименты придумывают и проводят только для разрешения спора. Следовательно, любые экспериментальные результаты, которые фактически опровергают теорию — и не просто любую теорию, а теорию, которая должна быть истинным претендентом на победу в рациональной полемике, — составляют «подтверждение». И только эти эксперименты становятся свидетельством надежности победившей теории.
ДЭВИД: Правильно. Но даже тогда «надежность», которую обеспечивает подтверждение, не абсолютна, а лишь относительна по сравнению с конкурирующими теориями. То есть, мы ожидаем, что, полагаясь {153} на подтвержденные теории, мы отберем лучшие из предложенных. Это достаточная основа для действия. Нам не нужна (да мы и не сможем обрести) уверенность в том, насколько хорошим будет предложенный порядок действий. Более того, мы всегда можем ошибаться, ну и что? Мы не можем ни использовать ещё непредложенные теории, ни исправить те ошибки, которые ещё не видим.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Вполне согласен. Я рад, что узнал кое-что о научной методологии. Но теперь (надеюсь, вы не сочтете меня невежливым) я должен ещё раз обратить ваше внимание на вопрос, который я все время задаю. Допустим, что теория прошла весь этот процесс. Когда-то у неё были конкуренты. Затем провели эксперименты и опровергли всех её конкурентов. Но её не опровергли. Таким образом, она подтвердилась. Что особенного в её подтверждении, что оправдывает то, что мы будем полагаться на неё в будущем?.
ДЭВИД: Поскольку всех её конкурентов опровергли, они уже не являются рационально надежными. Подтвержденная теория — это единственная рационально надежная теория.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Но ведь это просто переключает внимание с будущей значимости прошлого подтверждения на будущую значимость прошлого опровержения. Остается та же самая задача. Почему экспериментально опровергнутая теория «не является рационально надежной»? Неужели всего лишь одно ложное следствие означает, что вся теория не может быть истинной?
ДЭВИД: Да.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Но в отношении будущей применимости теории эта критика логически несущественна. Вероятно, опровергнутая теория не может быть универсально истинной — в частности, она могла не быть истинной в прошлом, когда её проверяли[12]. Но, тем не менее, она могла иметь много истинных следствий и, в частности, могла стать универсально истинной в будущем.
ДЭВИД: Эта терминология «прошлой истинности» и «будущей истинности» вводит в заблуждение. Каждое конкретное предсказание теории либо истинно, либо ложно — это неизменно. В действительности вы имеете в виду, что, хотя опровергнутая теория ложная, т. к. она дает некоторые ложные предсказания, все её предсказания относительно будущего, тем не менее, могут оказаться истинными. Иными словами, {154} другая теория, которая делает те же самые предсказания относительно будущего, но другие предсказания относительно прошлого, может быть истинной.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Пусть так. Тогда вместо того чтобы спрашивать, почему опровергнутая теория не является рационально надежной, мне, строго говоря, следует спросить: почему опровержение теории также переводит в разряд ненадежных все варианты этой теории, которые согласуются с ним в отношении будущего, — даже те варианты, которые не были опровергнуты.
ДЭВИД: Не опровержение переводит такие теории в разряд ненадежных. Просто иногда они уже ненадежны, например, из-за плохих объяснений. И именно тогда наука может сделать прогресс. Чтобы теория победила в споре, все её конкуренты должны быть ненадежными, это касается и всех вариантов конкурирующих теорий, которые только придумали. Но не забывайте, ненадежными должны быть только те конкурирующие теории, которые уже придумали. Например, в случае с гравитацией никто даже не предложил надежную теорию, которая не противоречила бы общепринятой во всех её проверенных предсказаниях, но отличалась бы своими предсказаниями относительно будущих экспериментов. Я уверен, что такие теории возможны, например, теория, которая последует за общепринятой сейчас, по-видимому, будет одной из них. Но если никто ещё не придумал такую теорию, как можно действовать в соответствии с ней?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Что вы имеете в виду, говоря, что «никто ещё не придумал такую теорию»? Я прямо сейчас могу её придумать.
ДЭВИД: Я очень сильно в этом сомневаюсь.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Конечно, могу. Вот она. «Когда бы вы, Дэвид, ни спрыгнули с большой высоты так, что, в соответствии с общепринятой теорией, вы бы погибли, вы не погибнете, вы будете парить в воздухе. Независимо от универсальности общепринятой теории». Я говорю вам, что каждая прошлая проверка вашей теории была проверкой моей, поскольку все предсказания как вашей, так и моей теорий относительно прошлых экспериментов идентичны. Следовательно, опровергнутые конкуренты вашей теории являются опровергнутыми конкурентами моей теории. И, следовательно, моя новая теория подтверждается точно так же, как и ваша общепринятая. Почему моя {155} теория может быть «ненадежной»? Какие у неё могут быть недостатки, которых нет у вашей теории?
ДЭВИД: Практически все недостатки, которые указаны в книге Поппера! Ваша теория создана из общепринятой путем прибавления необъясненной модификации, что я буду парить в воздухе. Эта модификация, в действительности, является новой теорией, но вы не привели ни одного аргумента ни в противовес общепринятой теории моих гравитационных свойств, ни в пользу новой теории. Вы не подвергали свою новую теорию ни критике (помимо той, которую я провожу сейчас), ни экспериментальной проверке. Она не решает — и даже не претендует на решение — хоть какой-то текущей задачи, и вы не предлагаете никакой новой интересной задачи, которую она могла бы решить. И хуже всего то, что ваша модификация ничего не объясняет, но портит объяснение гравитации, лежащее в основе общепринятой теории. Именно это объяснение оправдывает то, что мы полагаемся на общепринятую теорию, а не на вашу. Таким образом, по всем рациональным критериям, вместе взятым, предложенную вами модификацию можно отвергнуть.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Разве я не могу сказать то же самое о вашей теории? Ваша теория отличается от моей всего лишь той же самой незначительной модификацией, но в обратном направлении. Вы считаете, что я должен объяснить свою модификацию. Но почему мы находимся в неравном положении?
ДЭВИД: Потому что ваша теория, в отличие от моей, не дает объяснений своим предсказаниям.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Но если бы мою теорию предложили первой, оказалось бы, что это ваша теория содержит необъясненную модификацию, и именно вашу теорию «отвергли» бы.
ДЭВИД: Это просто неправда. Любой рационально мыслящий человек, который сравнивал бы вашу теорию с общепринятой, даже если бы ваша была предложена первой, немедленно отказался бы от вашей теории в пользу общепринятой. Ибо тот факт, что ваша теория — это необъясненная модификация другой теории, проявляется в самой её формулировке.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Вы имеете в виду, что моя теория представлена в форме «такая-то теория универсально справедлива, за исключением такой-то ситуации», но я не объясняю справедливость этого исключения? {156}
ДЭВИД: Точно.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Ага! Я думаю, что могу доказать, что здесь вы ошибаетесь (с помощью философа Нельсона Гудмена). Рассмотрим вариант русского языка, в котором нет глагола «падать». Вместо этого есть глагол «х-падать», который означает «падать» всегда, кроме того случая, когда его применяют по отношению к вам, в этом случае он значит «парить». Подобным образом «х-парить» значит «парить» всегда, кроме того случая, когда его применяют по отношению к вам, тогда он означает «падать». На этом новом языке я мог бы выразить свою теорию как немодифицированное утверждение, что «все объекты х-падают, когда теряют опору». Но общепринятая теория (которая по-русски звучит как «все объекты падают, когда теряют опору») на новом языке должна быть модифицирована: «все объекты х-падают, когда теряют опору, кроме Дэвида, который х-парит». Таким образом, то, какая из этих двух теорий модифицирована, зависит от языка, на котором они выражены, не так ли?
ДЭВИД: По форме, так. Но это тривиально. По сути ваша теория содержит необъясненное утверждение, которое модифицирует общепринятую теорию. Общепринятая теория — это по сути ваша теория, лишенная необъясненной модификации. Как бы там ни было, это объективный факт, который не зависит от языка.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Не понимаю, почему. Вы сами воспользовались формой моей теории, чтобы указать «излишнюю модификацию». Вы сказали, что она «проявляется» в виде дополнительного условия в самой формулировке теории — на русском языке. Но после перевода теории на мой язык модификация не проявляется; напротив, явная модификация появляется в самой формулировке общепринятой теории.
ДЭВИД: Это так. Но не все языки равны. Языки — это теории. В своем словарном запасе и грамматике они содержат существенные утверждения о мире. Когда бы мы ни сформулировали теорию, лишь небольшая часть её содержания выражается явно: остальное передает язык. Как и все теории, языки изобретают и отбирают по их способности решать определенные задачи. В этом случае задачами является выражение других теорий в формах, в которых их удобно применять, сравнивать и критиковать. Один из самых важных способов решения таких задач языками — это неявная реализация непротиворечивых и доказанных теорий при одновременном лаконичном и ясном выражении того, что нужно сформулировать и аргументировать. {157}
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Это я принимаю.
ДЭВИД: Не случайно язык реализует концептуальную основу с помощью одного набора идей, а не другого. Он отражает текущее состояние проблемной ситуации говорящего. Именно поэтому форма вашей теории на русском языке — это хорошее указание на её статус по отношению к текущей проблемной ситуации — решает ли она задачи или усложняет их. Но меня не устраивает не форма вашей теории. Мне не нравится её суть. Меня не устраивает то, что ваша теория ничего не решает, а только усложняет проблемную ситуацию. Этот недостаток явно проявляется при выражении теории на русском языке и неявно при её выражении на вашем языке. Но от этого он не становится менее ощутимым. С тем же успехом я мог бы выразить свое недовольство на русском языке, на научном жаргоне, на предложенном вами языке или на любом языке, способном выразить нашу с вами беседу. (Поппер считает, что всегда следует стремиться вести беседу, используя терминологию оппонента).
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Возможно, в этом есть смысл. Но не могли бы вы уточнить, каким образом моя теория усложняет проблемную ситуацию и почему это должно быть очевидно даже для человека, для которого мой гипотетический язык является родным?
ДЭВИД: Ваша теория утверждает, что существует физическая аномалия, которой нет в соответствии с общепринятой теорией. Аномалией является мой так называемый иммунитет к притяжению. Безусловно, вы можете изобрести язык, который выражает эту аномалию неявно, так что в утверждениях вашей теории гравитации вам не придется ссылаться на неё явно. Но ссылаться на неё вам придется. Хоть как назови розу, аромат её будет столь же сладок. Допустим, что придуманный вами язык — ваш родной язык (пусть даже родной язык всех людей) и что придуманная вами теория гравитации истинна. Допустим, что все мы считаем её доказанной и настолько естественной, что используем это же слово «х-падать» для описания того, что произошло бы с вами или со мной, если бы мы спрыгнули с башни. Ничто ни в малейшей степени не меняет очевидную разницу между моей реакцией на притяжение и реакцией на него любого другого человека. Если бы вы спрыгнули с башни, падая вниз, вы, возможно, позавидовали бы мне. Вы могли бы подумать: «Если бы я только мог реагировать на притяжение так же, как Дэвид, а не так, как реагирую я, абсолютно по-другому!» {158}
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Это правда. Только из-за того, что одно и то же слово «х-падение» описывает как вашу реакцию на притяжение, так и мою, я бы не подумал, что действительная реакция будет одинаковой. Напротив, свободно говоря на предполагаемом языке, я бы очень хорошо знал, что «х-падение» физически будет разным для меня и для вас, так же как человек, родной язык которого русский, знает, что слово «напиться» означает физически разные вещи для человека и для стакана воды. Я бы не подумал, что «если это произошло с Дэвидом, значит, он будет х-падать так же, как я». Я бы подумал: «Если это произошло с Дэвидом, он х-упал и остался в живых, а если я х-упаду, то я погибну».
ДЭВИД: Более того, несмотря на вашу уверенность в том, что я буду парить в воздухе, вы не понимаете, почему это произойдет. Знать — не значит понимать. Вам было бы любопытно узнать объяснение этой «хорошо известной» аномалии. Это касается и остальных людей. Физики со всего мира съехались бы, чтобы изучить мою аномальную реакцию на притяжение. На самом деле, если бы ваш язык действительно был общепринятым и все считали бы вашу теорию действительно доказанной, научный мир, вероятно, с нетерпением ждал бы моего рождения, и ученые становились бы в очередь, чтобы получить привилегию выбросить меня из самолета! Но, конечно, сама предпосылка того, что ваша теория считается доказанной и выражается на общепринятом языке, — нелепа. Будь это теория или не теория, язык или не язык, в действительности ни один рационально мыслящий человек не примет возможность такой явной физической аномалии при отсутствии очень веского объяснения в её пользу. Следовательно, так же, как объективно отвергнут вашу теорию, отвергнут и ваш язык, поскольку это просто другой способ формулировки вашей теории.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: А может всё-таки здесь скрывается решение задачи индукции? Давайте посмотрим. Что меняет то, что мы узнали о языке? Мой аргумент был основан на видимой симметрии между вашей и моей позициями. Мы оба принимали теории, которые согласовывались с существующими результатами экспериментов и противники которых (кроме друг друга) были опровергнуты. Вы сказали, что я нерационально мыслю, потому что моя теория содержит необъясненное утверждение, но я возразил, сказав, что на другом языке такое утверждение будет содержать ваша теория, поэтому симметрия сохранилась. Но теперь вы сказали, что языки — это теории и что сочетание {159} предложенного мной языка с теорией утверждает существование объективной физической аномалии, в отличие от того, что утверждает сочетание русского языка с общепринятой теорией. Здесь нарушается симметрия между нашими позициями, и разбивается приводимый мной аргумент.
ДЭВИД: Это действительно так.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Я попробую ещё чуть-чуть прояснить это. Вы называете принципом рациональности то, что теория, утверждающая существование объективной физической аномалии, при всех остальных равных условиях имеет меньше шансов дать истинные предсказания, чем теория, которая этого не утверждает?
ДЭВИД: Не совсем так. Теории, содержащие аномалии без их объяснения имеют меньше шансов, чем их конкуренты, дать истинные предсказания. В общем, принцип рациональности заключается в том, что теории постулируют для решения задач. Значит, любой постулат, не решающий задачи, следует отвергать. Это необходимо потому, что хорошее объяснение, модифицированное таким постулатом, становится плохим объяснением.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Теперь, когда я понимаю, что между теориями, дающими необъясненные предсказания, и остальными теориями есть объективная разница, я должен признать, что это выглядит обещающим для решения задачи индукции. Похоже, вы открыли способ оправдать то, что в будущем вы будете полагаться на теорию гравитации при наличии только прошлых проблемных ситуаций (включая свидетельство прошлых наблюдений) и разницы между хорошим объяснением и плохим. Вам не придется делать допущения вроде «будущее, вероятно, будет похоже на прошлое».
ДЭВИД: Это открыл не я.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Но, по-моему, и не Поппер. Во-первых, Поппер считал, что научные теории вообще нельзя доказать. Вы сделали четкое разграничение теорий, доказываемых с помощью наблюдений (как считают индуктивисты) и теорий, доказываемых с помощью аргументов. Поппер такого различия не делал. А в отношении задачи индукции он действительно говорил, что несмотря на то, что будущие предсказания теории невозможно доказать, мы должны действовать так, словно они уже доказаны!
ДЭВИД: Я не думаю, что он говорил именно так. А если и говорил, то на самом деле не имел это в виду. {160}
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Что?
ДЭВИД: Или если имел это в виду, то ошибался. Почему это вас так расстраивает? Человек может открыть новую теорию (в данном случае эпистемологию Поппера), но вместе с тем придерживаться убеждений, ей противоречащих. Чем глубже теория, тем более вероятен такой исход.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Вы заявляете, что понимаете теорию Поппера лучше самого Поппера?
ДЭВИД: Я не знаю, да и мне нет до этого дела. Почтение, которое философы оказывают историческим источникам идей, весьма извращенно, знаете ли. Мы, ученые, не считаем, что человек, открывший некую теорию, обладает каким-то особым её пониманием. Напротив, мы редко обращаемся к оригинальным источникам. Они неизменно устаревают по мере того, как проблемные ситуации, вызвавшие их, преобразуются под влиянием открытий. Например, большинство ученых в области теории относительности понимают теорию Эйнштейна лучше него. Основатели квантовой теории привели в полнейший беспорядок понимание своей собственной теории. Такое непрочное начало не неожиданность, и, встав на плечи гигантов, возможно, не так уж и трудно увидеть дальше, чем видели они. Но в любом случае, гораздо интереснее спорить о том, что есть истина, а не о том, что думал или не думал какой-то конкретный мыслитель, каким бы великим он ни был.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Хорошо, я согласен. Но одну минуточку, я думаю, что я поторопился, сказав, что вы не постулируете никакой разновидности принципа индукции. Послушайте: вы доказали, что теория о будущем (общепринятая теория гравитации) более надежна, чем другая теория (предложенная мной), даже несмотря на то, что обе они согласуются со всеми наблюдениями, известными в настоящий момент. Поскольку общепринятая теория применима как к будущему, так и к прошлому, вы доказали высказывание о том, что в отношении гравитации будущее похоже на прошлое. И то же самое будет верно всякий раз, когда вы доказываете надежность теории на основе того, что она подтверждена. Далее, чтобы перейти от «подтвержденной» к «надежной», вы исследовали объяснительную способность теорий. Таким образом, вы показали, что то, что мы могли бы назвать «принципом поиска лучших объяснений», в совокупности с некоторыми наблюдениями — да, и аргументами — подразумевает, что будущее во многих отношениях будет похоже на прошлое. А это и есть принцип индукции! {161} Если ваш «объяснительный принцип» неявно выражает принцип индукции, значит, логически это и есть принцип индукции. Так что индуктивизм всё-таки истинен, а принцип индукции действительно следует постулировать, явно или неявно, прежде чем мы сможем предсказать будущее.
ДЭВИД: Дорогой мой! Этот индуктивизм — действительно страшная болезнь. После ремиссии, длившейся несколько секунд, болезнь обострилась ещё сильнее.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Рационализм Поппера точно также оправдывает «переход на личности» вместо разумных аргументов? Я спрашиваю только, чтобы получить информацию.
ДЭВИД: Прошу прощения. Позвольте мне обратиться непосредственно к сути вашего высказывания. Да, я доказал утверждение о будущем. Вы говорите, что это означает, что «будущее похоже на прошлое». Ну, если не задумываться о сути, да, так как любая теория о будущем утверждала бы, что в некотором смысле будущее похоже на прошлое. Но это заключение, что будущее похоже на прошлое, не есть искомый принцип индукции, поскольку из него мы не можем ни вывести, ни доказать ни одну теорию или предсказание относительно будущего. Например, мы не смогли бы им воспользоваться, чтобы отличить вашу теорию гравитации от общепринятой, так как и та, и другая по-своему утверждают, что будущее похоже на прошлое.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Разве мы не можем вывести из «объяснительного принципа» некую разновидность принципа индукции, которую можно было бы использовать для отбора теорий? Как насчет: «если необъясненная аномалия не имела места в прошлом, то её присутствие в будущем невероятно»?
ДЭВИД: Нет, наше доказательство не зависит от того, имела ли место в прошлом какая-то конкретная аномалия. Оно связано с тем, существует ли объяснение существования этой аномалии.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Хорошо. Тогда я сформулирую поточнее: «если в настоящее время не существует объяснительной теории, предсказывающей, что конкретная аномалия будет иметь место в будущем, то маловероятно, что она будет иметь место в будущем».
ДЭВИД: В принципе это может быть и так. Лично я согласен с этим. Однако это не разновидность того, что «будущее вероятно будет похоже на прошлое». Более того, пытаясь максимально приблизить этот принцип к такому виду, вы ограничили его случаями «в настоящем», «в будущем» {162} и «аномалия». Но его истинность не уменьшается и без этих специализаций. Это просто общее утверждение относительно эффективности аргумента. Короче, если не существует аргумента в пользу какого-то постулата, значит, этот постулат ненадежен. Прошлое, настоящее или будущее. Аномалия или не аномалия. Период.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Понятно.
ДЭВИД: В понятиях «рационального аргумента» или «объяснения» нет ничего, что как-то особенно связывало бы будущее с прошлым. Не постулируют «похожесть» чего-либо на что-либо. И даже если бы это сделали, это бы не помогло. Говоря на обыденном языке, само понятие «объяснения» подразумевает, что будущее «похоже на прошлое», но, тем не менее, оно не имеет в виду ничего особенного относительно будущего, а потому, это не принцип индукции. Принципа индукции не существует. Не существует и процесса индукции. Никто не пользуется ими или чем-то похожим. И больше не существует задачи индукции. Теперь это ясно?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Да. Мне нужно немного времени, чтобы привести в порядок свое мировоззрение.
ДЭВИД: Я думаю, вам поможет более подробное рассмотрение вашей альтернативной «теории гравитации».
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: ...
ДЭВИД: Как мы решили, ваша теория объективно состоит из теории гравитации (общепринятой теории), модифицированной необъясненным предсказанием относительно меня. Она гласит, что, потеряв опору, я буду парить. «Потеря опоры» означает «отсутствие воздействия на меня силы, направленной вверх», таким образом, предложение заключается в том, что я не буду воспринимать «силу» гравитации, которая, в противном случае, потянула бы меня вниз. Но в соответствии с общей теорией относительности, гравитация — это не сила, а проявление искривленности пространства-времени. Эта искривленность объясняет, почему предметы, не имеющие опоры, как я или Земля, со временем приближаются друг к другу. Следовательно, в свете современной физики ваша теория, по-видимому, утверждает, что на меня воздействует направленная вверх сила, которая необходима, чтобы удерживать меня на постоянном расстоянии от Земли. Но откуда берется эта сила, и как она себя ведет? Например, что такое «постоянное расстояние»? Если бы Земля начала двигаться вниз, отреагировал бы я мгновенно, чтобы остаться на той же высоте (что допустило бы связь более {163} быструю, чем скорость света, что противоречит другому принципу относительности) или информация о том, где находится Земля, сначала достигла бы меня со скоростью света? Если так, то что переносит эту информацию? Если это новый вид волны, испускаемой Землей, то каким уравнениям он подчиняется? Переносит ли он энергию? Каково его квантово-механическое поведение? Или я особым образом отреагирую на существующие волны, например, световые? В этом случае исчезнет ли аномалия, если между мной и Землей поместить светонепроницаемую перегородку? Да и разве Земля большей частью не светонепроницаема? Где начинается «Земля»: что определяет поверхность над которой я должен парить?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: ...
ДЭВИД: Коли на то пошло, что определяет то, где начинаюсь я? Если я буду держать тяжелый предмет, он тоже будет парить? Если так, то самолет, в котором я летел, мог бы выключить двигатели и аварии бы не произошло. Что следует считать «держанием»? Упадет ли самолет, если я вдруг отпущу ручки кресла? А если это воздействие не распространяется на вещи, которые я держу, то как быть с моей одеждой? Она потянет меня вниз и в конце концов погубит меня, если я спрыгну с башни? А как насчет последнего обеда?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: ...
ДЭВИД: Я мог бы продолжать до бесконечности. Суть в том, что чем дольше мы рассматриваем последствия предложенной вами аномалии, тем больше мы находим вопросов, на которые нет ответов. И дело даже не в том, что ваша теория не закончена. Эти вопросы — дилеммы. Как бы на них ни ответили, они создают новые задачи и тем самым портят удовлетворительные объяснения других явлений.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: ...
ДЭВИД: Таким образом, ваш дополнительный постулат является не просто излишним, а положительно плохим. В общем случае, извращенные, но не опровергнутые теории, которые могут быть предложены без подготовки, распадаются на две категории. Одна — это теории которые постулируют ненаблюдаемые категории, как частицы, не взаимодействующие с любой другой материей. Их можно отвергнуть за то, что они ничего не решают («бритва Оккама», если хотите). А есть теории, подобные вашей, которые предсказывают необъясненные наблюдаемые аномалии. Их можно отвергнуть за то, что они ничего не решают и портят существующие решения. Поспешу добавить, что они не {164} конфликтуют с существующими объяснениями. Они лишают объяснительной способности существующие теории, утверждая, что предсказания этих теорий имеют исключения, но не объясняя, почему. Нельзя просто сказать: «геометрия пространства-времени сводит вместе объекты, лишенные опоры, если только одним из них не является Дэвид, в этом случае она никак на них не воздействует». И неважно, объясняется ли гравитация кривизной пространства-времени или чем-то другим. Просто сравните свою теорию с совершенно обоснованным утверждением, что перо будет парить, медленно спускаясь вниз, потому что к нему действительно будет приложена достаточная направленная вверх сила со стороны воздуха. Это утверждение — следствие нашей существующей объяснительной теории о том, что такое воздух, поэтому, в отличие от вашей теории, оно не вызывает появления новой задачи.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Я понимаю это. Вы не могли бы помочь мне привести в порядок мое мировоззрение?
ДЭВИД: Вы читали мою книгу Структура реальности?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Я собираюсь это сделать, но сейчас я прошу помощи в разрешении весьма специфического затруднения.
ДЭВИД: Я вас слушаю.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Сложность в следующем. Когда я вспоминаю наш с вами разговор, я полностью убежден, что ваше предсказание того, что произойдет, если вы или я спрыгнем с башни, не было выведено из такой индуктивной гипотезы, как «будущее похоже на прошлое». Но возвращаясь и осмысливая общую логику ситуации, я боюсь, что по-прежнему не понимаю, как это возможно. Рассмотрим сырье для доказательства. Первоначально я допустил, что прошлые наблюдения и дедуктивная логика — это просто сырье. Затем я признал, что важна и текущая проблемная ситуация, потому что нам необходимо доказать свою теорию, как более надежную по сравнению с её существующими конкурентами. А потом мне пришлось учесть, что огромные классы теорий можно исключить с помощью одного только аргумента, потому что они представляют собой плохие объяснения, и что принципы рациональности можно включить уже в сырье. Чего я не могу понять, так это того, как из этого сырья — прошлых наблюдений, настоящих проблемных ситуаций и вечных принципов логики и рациональности, которые не доказывают выводы из прошлого в будущее — появляется доказательство будущих предсказаний. Кажется, что здесь не хватает логического звена. Мы где-то делаем скрытое допущение? {165}
ДЭВИД: Нет, с логикой все в порядке. То, что вы называете «сырьем», на самом деле уже содержит утверждения о будущем. Лучшие из существующих теорий, от которых нельзя легко отказаться, потому что они решают задачи, уже содержат предсказания относительно будущего. И эти предсказания нельзя отделить от остального содержания теорий, что вы пытались сделать, потому что в этом случае будет испорчена объяснительная способность этих теорий. Следовательно, любая новая теория, которую мы предлагаем, должна быть либо согласована с существующими теориями, содержащими некоторые намеки на то, что может сказать о будущем новая теория, либо она должна противоречить некоторым существующим теориям, но обращаться к задачам, поставленным ею, давая альтернативные объяснения, которые вновь ограничивают то, что она может сказать о будущем.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Таким образом, у нас нет никакого принципа рассуждения, который говорит, что будущее будет похоже на прошлое, но у нас есть фактические теории, которые это утверждают. А есть ли у нас фактические теории, которые неявно содержат ограниченную разновидность индуктивного принципа?
ДЭВИД: Нет. Наши теории просто утверждают что-то относительно будущего. Поверхностно любая теория о будущем неявно содержит то, что будущее каким-то образом будет «похоже на прошлое». Но мы узнаем, в каком отношении, по утверждению теории, будущее будет похоже на прошлое, только тогда, когда у нас есть эта теория. Точно так же вы могли бы сказать, что поскольку наши теории считают, что определенные черты реальности одинаковы во всем космическом пространстве, они неявно содержат «пространственный принцип индукции» относительно того, что «ближнее похоже на дальнее». Мне хотелось бы выделить, что в любом практическом смысле слова «похожий» наши настоящие теории говорят, что будущее не будет похоже на прошлое. Например, космологическое «Большое Сжатие» (повторное разрушение вселенной до превращения в отдельную точку) — это событие, которое предсказывают некоторые космологи, но которое во всех физических смыслах настолько маловероятно в настоящее время, насколько это только возможно. Сами законы, исходя из которых мы предсказываем его появление, к этому неприменимы.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: В этом я убедился. Попробую использовать последний аргумент. Мы видели, что будущие предсказания можно доказать, взывая к принципам рациональности. А что доказывает {166} их? Они же как-никак не являются чисто логическими истинами. Поэтому возможны два варианта: они либо тоже не доказаны; либо доказаны с помощью каких-то ещё неизвестных средств. В любом случае доказательство здесь отсутствует. Я уже не подозреваю здесь скрытую задачу индукции. Тем не менее, уничтожив задачу индукции, не открыли ли мы под ней другую фундаментальную задачу, которая тоже связана с отсутствием доказательств?
ДЭВИД: Что доказывает принципы рациональности? Как обычно, аргумент. Что, например, оправдывает то, что мы полагаемся на законы дедукции, кроме того, что любая попытка доказать их логически должна вести либо к порочному кругу, либо к бесконечной регрессии? Они доказаны, потому что заменой законов дедукции невозможно улучшить ни одно объяснение.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: По-моему, это не слишком надежная основа для чистой логики.
ДЭВИД: Она не абсолютна надежна. И нам не следует ожидать этого от неё, поскольку логическое рассуждение — процесс не менее физический, чем рассуждение научное, а потому ему присуща ошибочность. Законы логики не самоочевидны. Есть люди, «математические интуитивисты», которые оспаривают традиционные законы дедукции (логические «правила вывода»). Я вернусь к их странному мировоззрению в главе 10 Структуры реальности. Невозможно доказать, что они ошибаются, но я приведу доводы в пользу того, что они ошибаются, и я уверен, что мой аргумент оправдывает этот вывод.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Тогда, значит, вы считаете, что не существует «задачи дедукции»?
ДЭВИД: Нет. Я не думаю, что при обычных способах доказательства выводов в науке, философии или математике может возникнуть какая-либо задача. Однако, интересен тот факт, что физическая вселенная допускает процессы, создающие знание о самой себе и о других вещах. Мы разумно можем попытаться объяснить этот факт точно так же, как объясняем другие физические факты, то есть через объяснительные теории. В главе 6 Структуры реальности вы видели, что я считаю принцип Тьюринга уместной в данном случае теорией. Он гласит, что можно построить генератор виртуальной реальности, репертуар которого содержит каждую физически возможную среду. Если принцип Тьюринга является физическим законом, что я доказал, значит, мы не должны удивляться, обнаружив, что можем создавать {167} точные теории о реальности, потому что это просто виртуальная реальность в действии. Как факт возможности паровых двигателей — непосредственное выражение принципов термодинамики, так и факт, что человеческий разум способен создавать знание, — непосредственное выражение принципа Тьюринга.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Но откуда нам известно об истинности принципа Тьюринга?
ДЭВИД: Конечно, это нам неизвестно... Но вы боитесь, что если мы не сможем доказать принцип Тьюринга, то опять потеряем оправдание того, что полагаемся на научные предсказания?
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Э, да.
ДЭВИД: Но мы уже перешли к совсем другому вопросу! Сейчас мы обсуждаем очевидный факт о физической реальности, а именно, что она может давать надежные предсказания о самой себе. Мы пытаемся объяснить этот факт, чтобы поместить его в те же рамки, в которых находятся все остальные известные нам факты. Я говорил о том, что, возможно, здесь действует определенный закон физики. Но если я ошибался, на самом деле, даже если бы мы совсем не могли объяснить это замечательное свойство реальности, это ни на йоту не повлияло бы на доказательство любой научной теории. Поскольку это ни на йоту не ухудшило бы объяснения такой теории.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: У меня закончились аргументы. Мой интеллект убежден. Тем не менее, я должен сознаться, что всё ещё чувствую нечто, что могу описать как «эмоциональное сомнение».
ДЭВИД: Возможно, вам поможет мое последнее замечание, не о тех специфических аргументах, о которых вы говорили, а о неправильном представлении, лежащем в основе многих из них. Вы знаете, что это неправильное представление, но, возможно, вы ещё не включили в свое мировоззрение следствия этого. Может быть, именно это и является источником вашего «эмоционального сомнения».
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Продолжайте.
ДЭВИД: Неправильное представление о самой природе аргумента и объяснения. Кажется, что вы допускаете, что аргументы и объяснения, которые оправдывают действия в соответствии с конкретной теорией, имеют форму математических доказательств, направленных от допущений к выводам. Вы ищете «сырье» (аксиомы), из которого мы делаем выводы (теоремы). Логическая структура такого типа, связанная с каждым удачным аргументом или объяснением, действительно {168} существует. Но процесс доказательства не начинается с «аксиом» и не заканчивается «выводом». Он скорее начинается где-то посредине с варианта, изобилующего несоответствиями, пробелами, неопределенностями и неуместными выкладками. Все эти недостатки подвергают критике. Делаются попытки заменить ошибочные теории. Теории, которые критикуют и заменяют, обычно содержат некоторые аксиомы. Поэтому ошибочно полагать, что доказательство начинается с теорий, которые, в конечном итоге, служат его «аксиомами», или что эти теории оправдывают доказательство. Доказательство заканчивается — экспериментально — когда кажется, что оно показало удовлетворительность связанного с ним объяснения. Принятые «аксиомы» не являются окончательными и неоспоримыми убеждениями. Это просто экспериментальные объяснительные теории.
КРИПТО-ИНДУКТИВИСТ: Понятно. Доказательство — это нечто, отличное от дедукции и несуществующей индукции. Оно ни на чем не основывается и ничем не оправдывается. Да этого и не нужно, потому что его цель — решать задачи, показать, что данное объяснение решает данную задачу.
ДЭВИД: Добро пожаловать в нашу компанию.
ЭКС-ИНДУКТИВИСТ: Все эти годы я чувствовал себя так уверенно в своей великой Задаче. Я чувствовал себя настолько выше древних индуктивистов и выскочки Поппера. И все это время я сам был крипто-индуктивистом, даже не подозревая этого! Индуктивизм — действительно болезнь. Он ослепляет.
ДЭВИД: Не судите себя слишком строго. Теперь вы излечились. Если бы только всех остальных больных можно было излечить столь же легко с помощью простого аргумента!
ЭКС-ИНДУКТИВИСТ: Но как я мог быть столь слеп? Только подумать, что я как-то номинировал Поппера на Дерридовскую премию за Нелепые Утверждения в то время, как он решил задачу индукции! О mea culpa! Спаси нас Бог, ибо мы сожгли святого! Мне ужасно стыдно. Я не вижу иного выхода, кроме как спрыгнуть с башни.
ДЭВИД: Я уверен, что в этом нет необходимости. Мы, последователи Поппера, считаем, что вместо нас должны умирать наши теории. Просто выбросите с башни индуктивизм.
ЭКС-ИНДУКТИВИСТ: Так я и сделаю! {169}
Крипто-индуктивист — человек, который считает, что необоснованность индуктивного рассуждения поднимает серьезную философскую задачу, а именно, как оправдать то, что мы полагаемся на научные теории.
Следующее, четвертое основное направление, — теория эволюции, которая отвечает на вопрос «что такое жизнь?» {170}
С древнейших времен почти до девятнадцатого века считалось доказанным, что требуется какая-то особая оживляющая сила или оживляющий фактор, чтобы заставить материю, из которой состоят живые организмы, вести себя весьма отлично от другой материи. В действительности это означало бы, что во вселенной существует два вида материи: живая материя и неживая материя с существенно отличающимися физическими свойствами. Рассмотрим живой организм, например, медведя. Фотография медведя в некоторых отношениях похожа на живого медведя. Точно так же на него похожи все неживые объекты, например, мертвый медведь или, весьма ограниченно, созвездие Большой Медведицы. Но только живая материя может погнаться за вами в лесу, когда вы прячетесь за деревьями, поймать вас и разорвать на куски. Неживые предметы никогда не делают ничего столь целенаправленного — по крайней мере, так думали в древности. Конечно, древние люди никогда не видели управляемых ракет.
Для Аристотеля и других древних философов наиболее заметным качеством живой материи была её способность инициировать движение. Они полагали, что когда неживая материя, например, камень, находится в состоянии покоя, она не придет в движение, пока кто-нибудь не окажет на неё воздействие. Но живая материя, например, медведь в состоянии зимней спячки, может находиться в состоянии покоя, а затем начать двигаться без оказываемого на него воздействия. Благодаря современной науке мы легко можем обнаружить слабые места таких обобщений, и даже сама идея «инициации движения» теперь кажется понятой ошибочно: мы знаем, что медведь просыпается из-за электрохимических процессов, происходящих в его теле. Они могут возникнуть из-за внешних «воздействий», например, повышения температуры, или под влиянием внутренних биологических часов, которые задействуют медленные химические реакции для сохранения ритма. Химические реакции — не более чем движение атомов, поэтому медведь никогда не {171} находится в состоянии полного покоя. С другой стороны, ядро урана, которое живым определенно не является, может оставаться неизменным в течение миллиардов лет, а потом, без какого бы то ни было влияния резко и внезапно изменит свою структуру. Таким образом, основное содержание идеи Аристотеля сегодня ничего не стóит. Однако он верно уловил одну важную вещь, которую большинство современных мыслителей понимают неправильно. Пытаясь связать жизнь с основной физической концепцией (хотя и ошибочной — движением), он признал, что жизнь — это фундаментальное явление природы.
Явление «фундаментально», когда от его понимания зависит достаточно глубокое понимание мира. Мнения относительно того, какие аспекты мира стóит понять, а следовательно, и относительно того, что является глубоким и фундаментальным, безусловно разделяются. Одни говорят, что любовь — самое фундаментальное явление в мире. Другие считают, что когда человек выучит наизусть определенные священные тексты, он поймет все, что стóит понять. Понимание, о котором говорю я, выражается в законах физики, в принципах логики и философии. «Более глубокое» понимание — это понимание, которое обладает бóльшей обобщенностью, содержит больше связей между, на первый взгляд, различными истинами, объясняет больше с меньшим количеством необъясненных допущений. Самые фундаментальные явления входят в объяснение многих других явлений, но их можно объяснить только с помощью основных законов и принципов.
Не все фундаментальные явления имеют значительные физические следствия. Гравитация имеет такие следствия и, действительно, является фундаментальным явлением. Но прямые следствия квантовой интерференции, например, картины теней, описанные в главе 2, не столь велики. Их даже достаточно сложно обнаружить точно. Тем не менее, мы видели, что квантовая интерференция — фундаментальное явление. Только поняв его, мы можем понять основной факт о физической реальности — существование параллельных вселенных.
Для Аристотеля было очевидно, что теоретически жизнь — фундаментальна и имеет значительные физические следствия. Как мы увидим, он был прав. Но эта очевидность имела весьма ошибочные причины: предположительно отличные механические свойства живой материи и превосходство земной поверхности из-за жизненных процессов. Аристотель полагал, что вселенная главным образом состоит из того, что сейчас мы называем биосферой (область, содержащая жизнь) Земли, {172} с некоторыми дополнительными вкраплениями — небесными сферами и внутренней частью Земли, — прикрепленными сверху и снизу. Если биосфера Земли — для вас основная составляющая космоса, вы, естественно, будете думать, что деревья и животные по крайней мере так же важны, как скалы и звезды в великой схеме всего, особенно если вы не очень хорошо знаете физику или биологию. Современная наука привела к почти противоположному выводу. Революция Коперника определила Землю в подчинение к центральному неживому Солнцу. Последующие открытия в физике и астрономии показали не только, что вселенная огромна по сравнению с Землей, но и что она с огромной точностью описана всеобъемлющими законами, которые вообще не упоминают о жизни. Теория эволюции Чарльза Дарвина объяснила происхождение жизни на языке, не требующем особой физики, и с тех пор мы открыли множество подробных механизмов жизни, но ни в одном из них также не обнаружили особой физики.
Этот захватывающий научный прогресс и, в частности, великое обобщение физики Ньютона и физики, последовавшей за ней, в значительной мере поспособствовали росту притягательности редукционизма. С тех пор, как обнаружили, что вера в открывшиеся истины несовместима с рационализмом (который требует открытости для критики), многие люди продолжали мечтать о первичной основе всего, в которую они могли бы верить. Если у них ещё и не было упрощенной «теории всего», в которую они могли бы верить, то они, по крайней мере, стремились к ней. Считалось доказанным, что редукционистская иерархия наук, основанная на дробноатомной физике, — неотъемлемая часть научного мировоззрения, и потому её критиковали только псевдоученые и те, кто протестовал против самой науки. Таким образом, ко времени моего изучения биологии в школе статус этого предмета изменился на противоположный тому, что Аристотель считал очевидным. Жизнь вовсе перестали считать фундаментальной. Сам термин «изучение природы», под которым подразумевали биологию, стал анахронизмом. Говоря фундаментально, природой была физика. Я упрощу лишь немного, если охарактеризую общепринятый в то время взгляд следующим образом. У физики есть ответвление — химия, изучающая взаимодействие атомов. У химии есть ответвление — органическая химия, изучающая свойства соединений углерода. Органическая химия, в свою очередь, тоже имеет ответвление — биологию, изучающее химические процессы, которые мы называем жизнью. И это отдаленное ответвление {173} фундаментального предмета интересовало нас лишь потому, что мы сами оказались таким процессом. Физика же, напротив, считалась очевидно важной по праву, так как вся вселенная, включая жизнь, подчиняется её принципам.
Моим одноклассникам и мне приходилось учить наизусть множество «характеристик живых организмов». Все они были просто описательными. Они мало касались фундаментальных концепций. Вероятно, передвижение было одной из таких характеристик — неясным эхом идеи Аристотеля, — однако среди них были и дыхание, и выделение. Также присутствовали воспроизведение, рост и незабвенно названная раздражимость, которая значит, что если вы окажете воздействие на что-либо, то оно окажет ответное воздействие. Этим мнимым характеристикам не хватало ясности и глубины, более того, точностью они тоже не отличались. Как бы сказал нам доктор Джонсон, каждый реальный объект «раздражим». С другой стороны, вирусы не дышат, не растут, не выделяют и не движутся (пока на них не окажут воздействие), но они живые. Бесплодные люди не размножаются, и, тем не менее, они живые.
Причина, по которой ни взгляды Аристотеля, ни то, что было написано в моих школьных учебниках, не представили хотя бы хорошее систематическое различие между живыми и неживыми предметами, не говоря уже о чем-то более глубоком, в том, что и Аристотель, и учебники упустили то, что такое живые предметы (эта ошибка в большей степени простительна Аристотелю, потому что в его времена больше не знал никто). Современная биология не пытается определить жизнь с помощью некоторого характеристического физического свойства или вещества — некой живой «сущности», — которой наделена только живая материя. Мы уже не ожидаем, что такая сущность существует, потому что теперь мы знаем, что «живая материя», материя в форме живых организмов, — это не основа жизни. Она всего лишь одно из следствий жизни, которая имеет молекулярную основу. Общепризнан факт существования молекул, которые побуждают определенные среды к созданию копий этих молекул.
Такие молекулы называются репликаторами. В более общем смысле репликатор — это любой объект, который побуждает определенные среды его копировать. Не все репликаторы биологические, и не все репликаторы — молекулы. Самокопирующая компьютерная программа (например, компьютерный вирус) — это тоже репликатор. Хорошая {174} шутка — это ещё один репликатор, поскольку она заставляет слушателей пересказать себя другим слушателям. Ричард Доукинс придумал термин мим[13] для репликаторов, которые представляют собой человеческие идеи, например, шутки. Однако вся жизнь на Земле основана на репликаторах-молекулах. Они называются генами, а биология — это изучение происхождения, структуры и деятельности генов, а также их влияния на другую материю. В большинстве организмов ген состоит из последовательности более мелких молекул (существует четыре различных вида таких молекул), соединенных в цепочку. Названия составляющих молекул (аденин, цитозин, гуанин и тимин) обычно сокращают до А, Ц, Г и Т. Сокращенное химическое название цепочки из любого количества молекул, расположенных в любом порядке, — ДНК.
В действительности, гены — это компьютерные программы, выраженные в виде последовательности символов А, Ц, Г и Т на стандартном языке, называемом генетическим кодом, который одинаков, с небольшими изменениями, для всей жизни на Земле. (Некоторые вирусы основаны на родственном типе молекул, РНК, тогда как прионы, в некотором смысле, — самовоспроизводящиеся белковые молекулы). Особые структуры внутри клеток каждого организма действуют как компьютеры, выполняя заложенные в этих генах программы. Выполнение заключается в производстве определенных молекул (белков) из более простых молекул (аминокислот) при определенных внешних условиях. Например, последовательность «АТГ» — это команда для включения метионина аминокислоты в создаваемую белковую молекулу.
Обычно ген химически «включается» в определенных клетках тела, а затем дает этим клеткам команды производить соответствующий белок. Например, гормон инсулин, который отвечает за уровень сахара в крови у позвоночных, является именно таким белком. Производящий его ген присутствует почти в каждой клетке тела, но включается только в строго определенных клетках поджелудочной железы и только тогда, когда это необходимо. На молекулярном уровне это все, что любой ген способен заложить в свой клеточный компьютер: произвести определенный химический продукт. Но гены успешно выполняют свои репликаторные функции, потому что эти химические программы низкого уровня, создавая слой за слоем комплексный контроль и обратную связь, в сумме составляют сложные команды высокого уровня. {175} Ген инсулина и гены, которые включают и отключают его, вместе эквивалентны полной программе регулирования уровня сахара в крови.
Точно так же существуют гены, которые содержат особые команды, как и когда должны быть скопированы они сами, а также другие гены и команды для производства следующих организмов того же вида, включая молекулярные компьютеры, которые вновь выполнят все эти команды в следующем поколении. Также существуют команды, сообщающие, каким образом весь организм в целом должен реагировать на раздражители, например, когда и как он должен охотиться, есть, спариваться, драться или убегать. И так далее.
Ген способен функционировать как репликатор только в определенных средах. По аналогии с экологической «нишей» (набором сред, в которых организм может выжить и произвести потомство) я использую термин ниша для набора всех возможных сред, которые данный репликатор побуждал бы к созданию его копий. Ниша гена инсулина содержит среды, где ген расположен в клеточном ядре вместе с другими определенными генами, а сама клетка должным образом расположена внутри функционирующего организма, в естественной среде, подходящей для поддержания жизни и размножения этого организма. Но существуют также и другие среды, например, биотехнологические лаборатории, в которых бактерии генетически изменяют так, чтобы включить их в ген, что также копирует ген инсулина. Такие среды тоже являются частью генной ниши, как и бесконечное множество других возможных сред, весьма отличных от тех, в которых развился ген.
Не все, что можно скопировать, является репликатором. Репликатор побуждает свою среду к тому, чтобы она его скопировала: то есть, он делает причинный вклад в свое собственное копирование. (Моя терминология немного отличается от терминологии Доукинса. Он называет репликатором все, что копируется, по любой причине. То, что я называю репликатором, он назвал бы активным репликатором). Я ещё вернусь к тому, что, в общем, значит делать причинный вклад во что-либо, но здесь я имею в виду, что присутствие и особая физическая форма репликатора очень важны для того, происходит копирование или нет. Другими словами, если репликатор присутствует, то он копируется, но если бы его заместил почти любой другой объект, даже довольно похожий, этот объект не был бы скопирован. Например, ген инсулина побуждает лишь один маленький этап в огромном сложном процессе своей собственной репликации (этот процесс и есть весь жизненный цикл {176} организма). Однако подавляющее большинство вариантов этого гена не дали бы клеткам команды произвести химический продукт, который смог бы выполнить работу инсулина. Если гены инсулина в клетках отдельного организма заместить слегка отличными молекулами, этот организм умрет (если только в нем не поддерживать жизнь с помощью других средств), а, следовательно, он не оставит потомства, и эти молекулы не будут скопированы. Таким образом, копирование весьма чувствительно к физической форме гена инсулина. Присутствие этого гена в должной форме и должном месте очень важно для процесса копирования, который делает его репликатором, хотя существует множество других причин, которые делают свой вклад в его репликацию.
Наряду с генами беспорядочные последовательности А, Ц, Г и Т, иногда называемые дефективными последовательностями, присутствуют в ДНК большинства живых организмов. Они также копируются и передаются организмам потомков. Однако, если такая последовательность замещается почти любой другой последовательностью похожей длины, она тоже копируется. Таким образом, мы можем сделать вывод, что копирование таких последовательностей не зависит от их особой физической формы. В отличие от генов, дефективная последовательность программой не является. Если он и выполняет какую-то функцию (а это неизвестно), то эта функция не может заключаться в переносе любой информации. Хотя такая последовательность копируется, она не вносит причинный вклад в свое собственное копирование, и, следовательно, не является репликатором.
На самом деле это преувеличение. Все, что копируется должно вносить хоть какой-то причинный вклад в это копирование. Дефективные последовательности, например, состоят из ДНК, что позволяет клеточному компьютеру их копировать. Клеточный компьютер не может копировать молекулы, отличные от молекул ДНК. Вряд ли стóит считать что-либо репликатором, если его причинный вклад в свою собственную репликацию мал, хотя строго говоря, репликация зависит от степени адаптации. Я определю степень адаптации репликатора к данной среде как степень вклада, сделанного репликатором в процесс своей собственной репликации в этой среде. Если репликатор хорошо адаптирован к большинству сред ниши, мы можем назвать его хорошо адаптированным к своей нише. Мы только что видели, что ген инсулина в высшей степени адаптирован к своей нише. Дефективная последовательность имеет пренебрежимо малую степень адаптации по сравнению с геном {177} инсулина или другими подлинными генами, но она гораздо лучше адаптирована к этой нише, чем большинство молекул.
Обратите внимание, что для измерения степени адаптации мы должны учесть не только рассматриваемый репликатор, но также и диапазон его возможных вариантов. Чем более чувствительно копирование в данной среде к точной физической структуре репликатора, тем выше адаптация репликатора к этой среде. Для высоко адаптированных репликаторов (которые только и заслуживают названия репликаторов) необходимо рассмотреть только небольшие изменения, потому что при значительных изменениях они уже не будут репликаторами. Так мы размышляем, замещая репликатор объектами, похожими на него в общих чертах. Чтобы определить степень адаптации к нише, необходимо рассмотреть степень адаптации репликатора к каждой среде этой ниши. Следовательно, необходимо рассмотреть как варианты репликатора, так и варианты этой среды. Если бóльшая часть вариантов репликатора не сумеет побудить бóльшую часть сред ниши к копированию репликатора, значит, наша форма репликатора является веской причиной своего собственного копирования в этой нише, что мы и имеем в виду, когда говорим, что он в высшей степени адаптирован к нише. С другой стороны, если большинство вариантов репликатора будут копироваться в большинстве сред ниши, значит, форма нашего репликатора не слишком важна: копирование все равно произойдет. В этом случае наш репликатор делает небольшой причинный вклад в свое копирование, и его нельзя назвать высоко адаптированным к этой нише.
Таким образом, степень адаптации репликатора зависит не только от того, что репликатор делает в своей действительной среде, но также и от того, что делало бы множество других объектов, большинство из которых не существует, во множестве сред, отличных от действительной среды. Мы уже сталкивались с этим любопытным свойством и раньше. Точность передачи в виртуальной реальности зависит не только от тех реакций, которые действительно выдает машина на то, что действительно делает пользователь, но и от реакций, которые она в действительности не выдает, на то, что пользователь в действительности не делает. Такая схожесть между жизненными процессами и виртуальной реальностью не совпадение, и я кратко это объясню.
Самый важный фактор, определяющий нишу гена, обычно заключается в том, что репликация гена зависит от присутствия других генов. Например, репликация гена инсулина медведя зависит не только {178} от присутствия в теле медведя всех других генов, но также и от присутствия во внешней среде генов других организмов. Медведи не могут выжить без пищи, а гены для производства этой пищи существуют только в других организмах.
Различные виды генов, которым для репликации необходимо взаимодействие друг с другом, часто сосуществуют в длинных цепочках ДНК, ДНК организма. Организм — это нечто, — например, животное, растение или микроб, — о чем на обыденном языке мы думаем как о живом. Но из сказанного мной следует, что «живой», применительно к частям организма, отличным от ДНК, — это, в лучшем случае, титул, носимый по обычаю, а не по закону. Организм не является репликатором: он — часть среды репликаторов, обычно самая важная, после всех остальных генов, часть. Оставшаяся часть среды — это тип естественной среды, которую может занять организм (например, вершина горы или дно океана), и конкретный образ жизни в этой среде (например, охотник или паразит), который дает организму возможность прожить там достаточно долго, чтобы произошла репликация его генов.
На повседневном языке мы говорим о «размножении» организмов; это действительно считалось одной из мнимых «характеристик живых объектов». Другими словами, мы считаем организмы репликаторами. Но это ошибочно. Организмы во время размножения не копируются; и ещё меньше они побуждают свое собственное копирование. Они создаются заново по чертежам, заложенным в ДНК организмов родителей. Например, если случайно изменится форма носа медведя, это может изменить весь образ жизни этого медведя, и его шансы на выживание для «размножения» могут как увеличиться, так и уменьшиться. Но у медведя с новой формой носа нет шансов быть скопированным. Если у него будет потомство, то носы его потомков будут обычными. Но стóит только изменить соответствующий ген (если сделать это сразу же после зачатия медведя, необходимо изменить только одну молекулу), и у любого потомка будет не только новая форма носа, но и копии нового гена. Это показывает, что форма каждого носа зависит от этого гена, а не от формы какого-либо предыдущего носа. Таким образом, форма носа медведя не делает причинного вклада в форму носа его потомка. Но форма генов медведя делает вклад как в свое собственное копирование и форму носа медведя, так и в форму носа его потомков.
Таким образом, организм — это непосредственная среда, копирующая реальные репликаторы: гены этого организма. Традиционно нос {179} медведя и его берлогу классифицировали бы как живой и неживой объекты соответственно. Однако корни этого различия не уходят в какую бы то ни было существенную разницу. Роль носа медведя, в основном, не отличается от роли его берлоги. Ни то, ни другое репликатором не является, хотя постоянно создаются новые примеры и того, и другого. И нос, и берлога — это всего лишь части среды, которой манипулируют гены медведя в процессе своей репликации.
Это понимание жизни, основанное на генах, — рассматривающее организмы как часть среды, окружающей гены, — было неявной основой биологии со времен Дарвина, но его не замечали почти до 1960-х годов и не до конца понимали до появления трудов Ричарда Доукинса The Selfish Gene[14] (1976) и The Extended Phenotype[15] (1982).
Теперь я вернусь к вопросу о том, является ли жизнь фундаментальным явлением природы. Я уже предостерег от редукционистского допущения, что исходящие явления, подобные жизни, непременно менее фундаментальны, чем микроскопические физические явления. Тем не менее, все, что я только что говорил о том, что такое жизнь, кажется направленным на то, что это всего лишь побочный эффект в конце длинной цепочки побочных эффектов. Дело не только в том, что предсказания биологии, в принципе, сводятся к предсказаниям физики, а в том, что то же самое происходит с объяснениями. Как я уже сказал, великие объяснительные теории Дарвина (в современных версиях, предложенных, например, Доукинсом) и современной биохимии являются редуктивными. Живые молекулы — гены — это всего лишь молекулы, которые подчиняются тем же самым законам физики и химии, что и неживые. Они не содержат особого вещества и не имеют особых физических свойств. Они просто оказываются репликаторами в определенных средах. Свойство репликации в высшей степени контекстуально, то есть оно зависит от замысловатых деталей окружающей среды репликатора: объект может быть репликатором в одной среде и не быть им в другой. Свойство адаптации к нише также зависит не от простого физического свойства, присущего репликатору в данное время, а от следствий, которые этот репликатор может вызвать в будущем в гипотетических условиях (т. е. в вариантах этой среды). Контекстуальные и гипотетические свойства в сущности производны, поэтому сложно {180} понять, каким образом явление, характеризуемое только такими свойствами, может быть фундаментальным явлением природы.
Что касается физического влияния жизни, вывод тот же самый: следствия жизни кажутся пренебрежимо малыми. Ведь все мы знаем, что планета Земля — это единственное место во вселенной, где существует жизнь. Безусловно, мы не видели свидетельств существования жизни где-то ещё, поэтому, даже если она достаточно широко распространена, её следствия слишком малы для нашего восприятия. За пределами Земли мы видим активную вселенную, переполненную разнообразными мощными, но абсолютно неживыми процессами. Галактики вращаются. Звезды сжимаются, вспыхивают, горят, взрываются и разбиваются на мелкие кусочки. Высокоэнергетические частицы, электромагнитные и гравитационные волны распространяются во всех направлениях. И кажется не очень важным, есть ли среди всех этих титанических процессов жизнь. Кажется, что будь там жизнь, она ничуть не повлияла бы ни на один из этих процессов. Если бы огромная солнечная вспышка окружила Землю, что само по себе с точки зрения астрофизики событие значительное, наша биосфера мгновенно стала бы стерильной, но эта катастрофа повлияла бы на Солнце так же, как капля дождя влияет на извергающийся вулкан. Наша биосфера, принимая во внимание её массу, энергию или любую подобную астрофизическую меру её значимости, — пренебрежимо малая частичка даже Земли, да и трюизм астрономии состоит в том, что солнечная система, в сущности, состоит из Солнца и Юпитера. Все остальное (включая Землю) — «просто примеси». Более того, солнечная система — пренебрежимо малая составляющая нашей Галактики, Млечного Пути, который сам по себе ничем не примечателен среди множества других в известной вселенной. Таким образом, кажется, что, как сказал Стивен Хокинг: «Человеческая раса — это всего лишь химический мусор на планете средних размеров, которая вращается по орбите вокруг весьма средней звезды, в её внешнем пространстве среди сотен миллиардов галактик».
Таким образом, общепринятое в наше время мнение, что жизнь, далекая от того, чтобы быть в центре, геометрически, теоретически или практически, почти непостижимо неважна. В свете этого биология имеет тот же статус, что и география. Знать план Оксфорда важно для тех, кто в нем живет, но безразлично для тех, кто никогда туда не поедет. Подобным образом кажется, что жизнь — это свойство какой-то узкой области или, возможно, областей вселенной, фундаментальное {181} для нас, потому что мы живем, но не имеющее ни теоретической, ни практической фундаментальности в более крупной схеме всего.
Удивительно, но это внешнее проявление вводит в заблуждение. Неправда, что жизнь не важна в своих физических следствиях, да и теоретической производной она не является.
Чтобы сделать первый шаг к объяснению этого, позвольте мне объяснить сделанное мной ранее замечание, что жизнь — это разновидность формирования виртуальной реальности. Я использовал слово «компьютеры» для обозначения механизмов, выполняющих генные программы в живых клетках, но это слишком общая терминология. По сравнению с универсальными компьютерами, которые мы производим искусственно, в некоторых отношениях они делают больше, а в других — меньше. Их не так уж легко запрограммировать для обработки слов или разложения на множители больших чисел. С другой стороны, они осуществляют очень точное интерактивное управление реакциями сложной среды (организма) на все, что только может с ней произойти. И это управление направлено на то, чтобы вызвать определенное ответное воздействие среды на гены (а именно, реплицировать их) так, чтобы суммарное воздействие на них было настолько независимым от происходящего вовне, насколько это возможно. Это больше, чем просто вычисление. Это передача в виртуальной реальности.
Сравнение жизни с человеческой технологией виртуальной реальности не совершенно. Во-первых, хотя гены, как и пользователь виртуальной реальности, находятся в среде, подробное строение и поведение которой определены программой (которую и заключают в себе сами гены), гены не ощущают нахождения в этой среде, потому что они не способны ни чувствовать, ни ощущать. Поэтому, если организм — это передача в виртуальной реальности, определяемая его генами, то это передача без зрителей. Кроме того, организм не просто передается, он создается. Для этого недостаточно «обмануть» ген, чтобы он поверил, что вне его есть организм. Организм там действительно есть.
Однако эти отличия не важны. Как я уже сказал, вся передача в виртуальной реальности физически производит передаваемую среду. Внутренняя часть любого генератора виртуальной реальности в процессе передачи — это в точности реальная физическая среда, произведенная, чтобы иметь свойства, определенные в программе. Дело в том, что мы, пользователи, иногда интерпретируем то, что дает похожие ощущения, как другую среду. Что касается отсутствия {182} пользователя, давайте явно рассмотрим его роль в виртуальной реальности. Во-первых, воздействовать на передаваемую среду, чтобы ощутить ответное воздействие — другими словами, независимо взаимодействовать со средой. В биологии эту роль играет внешняя среда обитания. Во-вторых, обеспечить намерение, стоящее за передачей. Это все равно, что сказать, что бессмысленно говорить о конкретной ситуации как о передаваемой в виртуальной реальности, если не существует понятия точности или неточности передачи. Я сказал, что точность передачи — это близость (как её воспринимает пользователь) переданной среды к той, которую намеревались передать. Но что значит точность для среды, которую никто не воспринимает и не намеревается передать? Точностью здесь является степень адаптации генов к своей нише. Следуя теории эволюции Дарвина, мы можем сделать вывод о «намерении» генов передать среду, которая будет их реплицировать. Гены вымирают, если не осуществляют это «намерение» так же эффективно или решительно, как конкурирующие с ними гены.
Таким образом, жизненные процессы и передачи в виртуальной реальности, хотя, на первый взгляд, и далекие друг от друга, оказываются процессом одного рода. И те и другие содержат физическое воплощение общих теорий об окружающей среде. В обоих случаях эти теории используют для понимания этой среды и интерактивного управления не только её непосредственным внешним проявлением, но и детальной реакцией на общие раздражители.
Гены содержат знание о своих нишах. Все, что имеет фундаментальную важность относительно явления жизни, зависит от этого свойства, а не от репликации как таковой. Таким образом, теперь мы можем попытаться расширить обсуждение за пределы репликаторов. В принципе, можно представить вид, гены которого неспособны к репликации, но вместо этого адаптированы к сохранению своей физической формы, неизменной при постоянной самостоятельности и защите от внешних воздействий. Маловероятно, что такой вид будет развиваться естественно, но его можно было бы создать искусственно. Точно так же как степень адаптации репликатора определяется как степень причинного вклада, который он делает в свою собственную репликацию, можно определить степень адаптации этих нерепликантных генов как степень вклада, который они делают в свое собственное выживание в конкретной форме. Рассмотрим вид, генами которого являются узоры, вытравленные в алмазе. Обычный алмаз случайной формы {183} может выживать в течение многих эр, в широком диапазоне условий, но его форма не адаптирована к выживанию, потому что алмаз другой формы тоже выживет в похожих условиях. Но если гены нашего гипотетического вида, закодированные в алмазе, заставят организм вести себя таким образом, что, например, защитят вытравленную поверхность алмаза от коррозии во враждебной среде, от других организмов, пытающихся вытравить на его поверхности другую информацию или от воров, которые разрежут его, отполируют и сделают из него драгоценный камень, то алмаз будет содержать истинные адаптации для выживания в этих средах. (Кстати, драгоценный камень действительно обладает степенью адаптации для выживания в среде современной Земли. Люди ищут необработанные алмазы и изменяют их форму, создавая драгоценные камни. Но ведь люди ищут драгоценные камни и сохраняют их форму. Так что в этой среде форма драгоценного камня делает причинный вклад в свое собственное выживание).
Как только остановится производство этих искусственных организмов, множество примеров каждого нерепликантного гена уже не сможет увеличиться. Но оно и не уменьшится, пока знание, которое содержат эти гены, будет достаточным для проведения стратегии выживания этих генов в занимаемой ими нише. В конце концов, достаточно крупная перемена в среде обитания или истощение, вызванное несчастными случаями, может стереть этот вид с лица Земли, но вместе с тем он может выживать так же долго, как множество видов, возникающих естественным путем. Гены таких видов обладают всеми свойствами реальных генов, кроме репликации. В частности, они содержат знание, необходимое, чтобы передать их организмы точно так же, как это делают реальные гены.
Общим фактором между репликантными и нерепликантными генами является выживание знания, а не обязательно гена или любого другого физического объекта. Поэтому, строго говоря, к нише адаптируется или не адаптируется какая-то часть знания, а не физический объект. Если адаптация происходит, то у этого знания появляется свойство: однажды реализовавшись в этой нише, знание будет стремиться оставаться там. В случае с репликатором физический материал, его реализующий, непрерывно изменяется: новая копия собирается из нерепликантных составляющих при каждой репликации. Нерепликантное знание также может успешно реализовываться в различных физических формах, как, например, когда запись классического звука переводится {184} с виниловой пластинки на магнитную ленту, а потом на компакт-диск. Можно представить другой искусственный живой организм с нерепликантной основой, который поступал бы точно так же, используя каждую возможность для копирования знания, содержащегося в его генах, на самую надежную из доступных ему сред. Может быть, однажды это сделают наши потомки.
Я считаю неправильным называть организмы этих гипотетических видов «неживыми», однако терминология не так уж важна. Дело в том, что несмотря на то, что вся известная жизнь основана на репликаторах, она строится вокруг одного явления — знания. Мы можем дать определение адаптации непосредственно на основе знания: объект адаптируется к своей нише, если реализует знание, заставляющее эту нишу сохранять существование этого знания. Итак, мы приближаемся к причине фундаментальности жизни. Жизнь состоит в физической реализации знания, а в главе 6 мы встречали закон физики, принцип Тьюринга, который также заключается в физической реализации знания. Он гласит, что можно реализовать законы физики, в их применимости к каждой физически возможной среде, в программах для генератора виртуальной реальности. Гены и есть эти программы. И не только они, но и все остальные программы виртуальной реальности, которые физически существуют или когда-либо будут существовать, — это прямые или косвенные следствия жизни. Например, программы виртуальной реальности, обрабатываемые нашими компьютерами или нашим мозгом, — это косвенные следствия человеческой жизни. Таким образом, жизнь — это средство (по-видимому, необходимое средство) реализации в природе следствий, о которых говорит принцип Тьюринга.
Это обнадеживает, но ещё недостаточно для того, чтобы определять жизнь как фундаментальное явление. Я всё ещё не определил, что сам принцип Тьюринга имеет статус фундаментального закона. Скептик мог бы поспорить, что он не имеет такого статуса. Это закон о физической реализации знания, и скептик мог бы посчитать, что знание — это понятие скорее ограниченное антропоцентрическое, чем фундаментальное. То есть знание — это одна из тех вещей, которые важны для нас из-за того, чем мы являемся — животными, чья экологическая ниша зависит от создания и применения знания, — но которые не важны в абсолютном смысле. Для коалы, экологическая ниша которого зависит от эвкалиптовых листьев, важен эвкалипт; для обладающих знанием приматов Homo sapiens важно знание. {185}
Но скептик ошибся бы. Знание важно не только для Homo sapiens и не только на планете Земля. Я говорил, что наличие или отсутствие значительного физического влияния какого-либо объекта не является решающим для его фундаментальности в природе. Но это существенно. Давайте рассмотрим астрофизические следствия знания.
Теория звездной эволюции — структуры и развития звезд — одна из успешных историй науки. (Обратите внимание на несоответствие терминологии. Слово «эволюция» в физике означает развитие или просто движение, а не изменение и отбор). Всего лишь век назад неизвестен был даже источник солнечной энергии. Лучшая физика того времени давала только ложный вывод, что каким бы ни был источник его энергии, Солнце сможет светить не больше ста миллионов лет. Интересно, что геологи и палеонтологи уже знали из ископаемых свидетельств жизни, что Солнце должно было светить на Земле, по крайней мере, миллиард лет. Затем была открыта ядерная физика, которую полностью применили к физике внутренних областей звезд. С тех пор сформировалась теория звездной эволюции. Сейчас мы понимаем, почему звезды светят. Для большинства типов звезд мы можем определить температуру, цвет, яркость и диаметр на каждой стадии существования звезды, узнать длительность каждой стадии, сказать, какие элементы звезда создает в процессе ядерной трансмутации и т. д. Эта теория была проверена и подтверждена наблюдениями Солнца и других звезд.
Мы можем использовать эту теорию для предсказания будущего развития Солнца. Она гласит, что Солнце будет продолжать светить с большой стабильностью в течение ещё приблизительно пяти миллиардов лет; затем его настоящий диаметр увеличится примерно в сто раз, и оно станет гигантской красной звездой; затем оно будет пульсировать, вспыхнет, превратившись в новую звезду, разрушится и остынет, в конечном итоге, став черным карликом. Но произойдет ли все это с Солнцем на самом деле? Неужели каждая звезда такой же массы и состава, которая сформировалась за несколько миллиардов лет до Солнца, уже стала красным гигантом, как предсказывает теория? Или возможно ли, что некоторые, на первый взгляд, неважные химические процессы на малых планетах, которые вращаются по орбите этих звезд, могли изменить течение ядерных и гравитационных процессов с неизмеримо большей массой и энергией?
Если Солнце станет красным гигантом, оно поглотит и разрушит Землю. И если к тому времени на Земле все ещё, физически или {186} интеллектуально, будут жить наши потомки, они, скорее всего, не захотят, чтобы это произошло. Они будут делать все, что в их силах, чтобы предотвратить это.
Очевидно ли то, что они ничего не смогут сделать? Безусловно, наша современная технология слишком ничтожна, чтобы сделать это. Но ни наша теория звездной эволюции, ни какая-то другая известная нам физика не дает причины считать, что эта задача невозможна. Напротив, мы уже знаем в общих чертах, в чем она будет заключаться (а именно, в удалении материи с Солнца). И у нас есть несколько миллиардов лет, чтобы усовершенствовать наши полусырые планы и применить их на практике. Если наши потомки спасут себя таким образом, значит наша современная теория звездной эволюции в применении к конкретной звезде дает абсолютно неправильный ответ. А причина этого заключается в том, что она не учитывает влияние жизни на звездную эволюцию. Она учитывает такие фундаментальные физические влияния как ядерные и электромагнитные силы, гравитация, гидростатическое и радиационное давление, но не жизнь.
Похоже, что знание, необходимое для управления Солнцем, не смогло бы развиться только путем естественного отбора, поэтому именно от присутствия разумной жизни зависит будущее Солнца. На это можно возразить, что необоснованно допускать, что разум выживет на Земле в течение нескольких миллиардов лет, и даже если выживет, то ещё большее допущение считать, что он будет обладать знанием, необходимым для управления Солнцем. Одна из современных точек зрения заключается в том, что разумная жизнь на Земле уже сейчас находится в опасности саморазрушения, если не от ядерной войны, то от какого-нибудь побочного следствия технического прогресса или научного исследования. Многие люди считают, что если разумной жизни суждено выжить на Земле, то это может произойти только путем подавления технического прогресса. Поэтому они, возможно, боятся, что наше развитие технологии, необходимое для управления звездами, несовместимо с длительностью выживания, достаточной для использования этой технологии, и, следовательно, так или иначе, предопределено, что жизнь на Земле не повлияет на эволюцию Солнца.
Я уверен, что этот пессимизм присущ введенным в заблуждение людям. Как я объясню в главе 14, существует множество причин полагать, что наши потомки, в конце концов, будут управлять Солнцем и даже больше. Вероятно, мы не можем предвидеть ни их технологию, {187} ни их желание. Возможно, они захотят спастись, покинув солнечную систему или заморозив Землю, или с помощью множества методов, непостижимых для нас и не имеющих ничего общего с гибелью вместе с Солнцем. С другой стороны, они могут захотеть управлять Солнцем задолго до того, когда понадобится предотвратить его переход в фазу красного гиганта (например, чтобы более эффективно использовать его энергию или чтобы добывать с его помощью сырье для расширения своего жизненного пространства). Однако положение, которое я здесь доказываю, зависит не от нашей способности предсказывать то, что произойдет. Оно зависит только от того, что то, что произойдет, будет зависеть от того знания, которым будут обладать наши потомки и от того, как они его применят. Таким образом невозможно предсказать будущее Солнца, не принимая во внимание будущее Земли и, в частности, будущее знания. Цвет Солнца через десять миллиардов лет зависит от гравитации и радиационного давления, от конвекции и нуклеосинтеза. Он совсем не зависит от геологии Венеры, химии Юпитера или рисунка кратеров на Луне. Но он зависит от того, что произойдет с разумной жизнью на планете Земля. Он зависит от политики, экономики и результатов войн. Он зависит от того, что делают люди: какие решения они принимают, какие проблемы решают, какие ценности выбирают и как ведут себя по отношению к детям.
Невозможно избежать этого вывода, принимая пессимистическую теорию относительно перспектив нашего выживания. Такая теория не следует ни из законов физики, ни из любого другого известного нам фундаментального принципа: её можно доказать только на человеческом языке высокого уровня (например, «научное знание опередило моральное знание» или что угодно ещё). Таким образом, рассуждая на основе такой теории, человек неявно признает, что для астрофизических предсказаний необходимы теории о человеческих делах. И даже если попытки человеческой расы выжить, в конце концов, окажутся тщетными, применима ли эта пессимистическая теория ко всему внеземному разуму во вселенной? Если нет, если некая разумная жизнь, в некой галактике, когда-либо сумеет выжить в течение миллиардов лет, то жизнь важна в громадном физическом развитии вселенной.
Во всей нашей Галактике и во всем мультиверсе звездная эволюция зависит от того, развилась ли разумная жизнь и где это произошло, а если развилась, то от результатов её войн и от её отношения к своим детям. Например, мы можем приблизительно определить, какие {188} пропорции звезд разных цветов (точнее, разных спектральных типов) должны находиться в Галактике. Чтобы это осуществить, мы должны сделать некоторые допущения относительно того, есть ли там разумная жизнь и что она делает все это время (то есть, что она не погасила слишком много звезд). В настоящий момент наши наблюдения согласуются с тем, что за пределами нашей солнечной системы разумной жизни не существует. Когда наши теории о структуре нашей Галактики станут ещё точнее, мы сможем делать более точные предсказания, но опять только на основе допущений о распределении и поведении разума в Галактике. Если эти допущения будут неточными, мы предскажем неправильное распределение спектральных типов почти так же уверенно, как если бы нам пришлось сделать ошибку относительно состава внутризвездных газов или массы атома водорода. И если мы обнаружим определенные аномалии в распределении спектральных типов, это может быть свидетельством присутствия внеземного разума.
Космологи Джон Барроу и Фрэнк Типлер рассмотрели астрофизические следствия, которые имела бы жизнь, если бы она выжила в течение долгого времени после того, когда Солнце могло бы во всем остальном стать красным гигантом. Они обнаружили, что жизнь, в конечном итоге, внесла бы грандиозные качественные перемены в структуру Галактики, а впоследствии, и в структуру всей вселенной. (К этим результатам я вернусь в главе 14). Итак, ещё раз, любая теория структуры вселенной во всех стадиях, за исключением самых ранних, должна принимать во внимание то, что будет или чего не будет делать жизнь к тому времени. Этого нельзя избежать: будущая история вселенной зависит от будущей истории знания. Астрологи всегда верили, что космические события влияют на дела людей: наука в течение многих веков считала, что ни космос не влияет на людей, ни люди на космос. Теперь мы понимаем, что дела людей влияют на космические события.
Стóит поразмышлять над тем, где мы сбились с пути и начали недооценивать физическое влияние жизни. Это произошло из-за нашей ограниченности. (Ирония состоит в том, что древние консенсусы избегали нашей ошибки, потому что были ещё более ограниченными). Во вселенной, как мы её видим, жизнь не повлияла ни на что, что имело бы хоть какое-то астрофизическое значение. Однако мы видим только прошлое, и более или менее подробно мы видим только то прошлое, которое находится в пространстве, близком к нам. Чем дальше во вселенную мы смотрим, тем в более отдаленное прошлое мы заглядываем {189} и тем меньше подробностей мы видим. Но даже все прошлое — история вселенной от Большого Взрыва до настоящего момента — это всего лишь маленькая частица физической реальности. Настоящий момент и Большое Сжатие (если оно произойдет) разделяет, по крайней мере, в десять раз бóльшая история, а может быть, и ещё больше, не говоря уже о других вселенных. Мы не можем наблюдать ни одну из них, но применяя свои лучшие теории к будущему звезд, галактик и вселенной, мы обнаруживаем огромное пространство, на которое может воздействовать жизнь и после долгого воздействия захватить господство над всем, что происходит, точно так же, как сейчас она господствует в биосфере Земли.
Традиционное доказательство неважности жизни придает слишком большое значение объемным величинам, например, размеру, массе и энергии. В ограниченном прошлом и настоящем такие величины были и остаются хорошей мерой астрофизической важности, но в физике не существует причины, почему это не должно измениться. Более того, сама биосфера уже предоставляет изобилие примеров, противоречащих общей применимости таких мер важности. В третьем столетии до Рождества Христова, например, масса человеческой расы составляла около десяти миллионов тонн. Следовательно, можно сделать вывод, что маловероятно, что на физические процессы, происходившие в третьем веке до Рождества Христова и приводившие к движению во много раз превышающему эту массу, могло значительно повлиять присутствие или отсутствие людей. Однако в то время была построена Великая Китайская Стена, масса которой примерно равна тремстам миллионам тонн. Передвижение миллионов тонн камня — это одна из тех вещей, которыми все время занимаются люди. Сегодня необходимо всего несколько дюжин человек, чтобы выкопать железнодорожный тоннель, убрав миллион тонн земли. (Доказательство этого положения будет ещё более надежным, если мы более справедливо сравним массу передвинутого камня с массой той крошечной частицы мозга инженера или императора, реализующего эти идеи, или мимы, которые заставляют камень сдвинуться). Человеческая раса в целом (или, если пожелаете, её запас Мимов) возможно уже обладает достаточным знанием, чтобы разрушить целые планеты, если бы от этого зависело её выживание. Даже неразумная жизнь уже много раз значительно трансформировала свою собственную массу поверхности и атмосферы Земли. Весь кислород в нашей атмосфере, например, — около тысячи триллионов тонн — был {190} создан растениями и, следовательно, был побочным следствием репликации генов, т. е. молекул, потомков единственной молекулы. Жизнь оказывает влияние не потому, что она более крупная, массивная или энергетическая, чем другие физические процессы, а потому что она обладает бóльшим знанием. По огромному влиянию, которое знание оказывает на результаты физических процессов, оно, по крайней мере, так же важно, как и любая другая физическая величина.
Но существует ли основное физическое различие (которое должно существовать, как допускали древние в случае с жизнью) между объектами, несущими знание и объектами, не несущими знание, различие, которое не зависит ни от среды, окружающей объекты, ни от их влияния на отдаленное будущее, а зависит только от непосредственных физических качеств этих объектов? Удивительно, но существует. Чтобы его увидеть, необходимо принять перспективу (множественности вселенных) мультиверса.
Рассмотрим ДНК живого организма, например, медведя, и предположим, что где-то в одном из его генов мы обнаруживаем последовательность ТЦГТЦГТТТЦ. Эта частная цепочка из десяти молекул, в специальной нише, состоящей из оставшейся части гена и его ниши, является репликатором. Она реализует небольшой, но важный кусочек знания. Теперь предположим, ради доказательства, что мы можем найти в ДНК медведя (негенетический) отрезок дефективной последовательности, который тоже имеет последовательность ТЦГТЦГТТТЦ. Эту последовательность не стоит называть репликатором, потому что она не делает практически никакого вклада в свою собственную репликацию и не реализует знание. Это случайная последовательность. Итак, у нас есть два физических объекта, два отрезка одной и той же цепочки ДНК, один из которых реализует знание, а другой является случайной последовательностью. Но они физически идентичны. Каким образом знание может быть фундаментальной физической величиной, если один объект обладает им, а другой, физически идентичный первому, им не обладает?
Может, так как эти два отрезка в действительности не идентичны. Они только кажутся идентичными, когда на них смотрят из некоторых вселенных, таких, как наша. Давайте посмотрим на них ещё раз так, как они выглядят в других вселенных. Мы не можем наблюдать другие вселенные непосредственно, поэтому нам придется воспользоваться теорией. {191}
Нам известно, что ДНК живых организмов естественно подвержена случайным вариациям — мутациям — в последовательности молекул А, Ц, Г и Т. Согласно теории эволюции адаптации в генах, а следовательно, и само существование генов, зависят от появления таких мутаций. Из-за мутаций популяции любого гена содержат некоторую степень вариаций, и особи — носители генов с более высокой степенью адаптации стремятся оставить больше потомков, чем другие особи. Большая часть вариаций гена делает его неспособным вызывать свою репликацию, потому что измененная последовательность уже не приказывает клетке производить что-то полезное. Остальные вариации просто делают репликацию менее вероятной (т. е. они сужают нишу гена). Однако некоторые могут реализовать новые команды, которые повысят вероятность репликации. Таким образом происходит естественный отбор. С каждым поколением вариации и репликации степень адаптации выживающих генов стремится к возрастанию. В настоящее время случайная мутация, вызванная, например, проникновением космического луча, станет причиной вариации не только внутри популяции организма в одной вселенной, но и между вселенными. Космический «луч» — это высокоэнергетическая дробноатомная частица, и, подобно фотону, испускаемому электрическим фонариком, она перемещается в различных направлениях в различных вселенных. Поэтому, когда частица космического луча проникает в цепочку ДНК и вызывает мутацию, некоторые из её двойников в других вселенных не попадают в свои копии цепочки ДНК, а другие проникают в эти цепочки в других местах, вызывая, следовательно, другие мутации. Таким образом, проникновение одного космического луча в одну молекулу ДНК в общем случае вызовет в различных вселенных огромное количество различных мутаций.
Когда мы размышляем, как конкретный объект может выглядеть в других вселенных, нам не следует заглядывать в мультиверс так далеко, что распознать двойника этого объекта в другой вселенной станет невозможно. Возьмем, например, отрезок ДНК. В некоторых вселенных совсем нет молекул ДНК. Другие вселенные, содержащие ДНК, настолько не похожи на нашу, что не существует способа распознать, какой отрезок ДНК в этой вселенной соответствует тому отрезку, который мы рассматриваем в нашей вселенной. Бессмысленно задаваться вопросом, как наш конкретный отрезок ДНК выглядит в такой вселенной, поэтому, во избежание появления такой неопределенности, мы должны рассматривать только те вселенные, которые достаточно похожи на нашу. {192} Например, мы могли бы рассматривать только те вселенные, в которых существуют медведи и в которых образец ДНК медведя был помещен в устройство для проведения анализа, запрограммированное на распечатку десяти букв, представляющих структуру в точно определенной позиции относительно конкретных ориентиров точно определенной цепочки ДНК. Последующее обсуждение не имело бы места, если бы нам пришлось выбирать любой другой разумный критерий распознавания соответствующих отрезков ДНК в близлежащих вселенных.
По любому такому критерию отрезок гена медведя почти во всех близлежащих вселенных должен иметь такую же последовательность, как и в нашей вселенной. Так происходит потому, что, по-видимому, этот ген обладает высокой степенью адаптации, а это значит, что большая часть его вариантов не сумеет скопироваться в большинстве вариантов окружающей среды, а потому, не сможет появиться именно на этом участке ДНК живого медведя. Наоборот, когда отрезок ДНК, не несущий знание, подвергается почти любой мутации, мутированный вариант, тем не менее, остается способным к копированию. За многие поколения репликации произойдет множество мутаций, и большинство из них не окажут никакого влияния на репликацию. Следовательно, отрезок дефективной последовательности, в отличие от своего генного двойника, будет абсолютно гетерогенным в различных вселенных. Также может случиться, что каждая возможная вариация его последовательности (т. е. того, что мы должны подразумевать под его последовательностью, которая совершенно случайна) будет в равной степени представлена в мультиверсе.
Таким образом, перспектива мультиверса открывает дополнительную физическую структуру ДНК медведя. В этой вселенной она содержит два отрезка с последовательностью ТЦГТЦГТТТЦ. Один из них является частью гена, другой не является. В большинстве других близлежащих вселенных первый из двух отрезков имеет ту же самую последовательность, ТЦГТЦГТТТЦ, как и в нашей вселенной, но второй отрезок сильно отличается в близлежащих вселенных. Таким образом, с перспективы мультиверса два отрезка даже отдаленно не похожи друг на друга (рисунок 8.1).
И вновь размышляя слишком ограниченно, мы пришли к ложному выводу, что объекты, несущие знание, могут быть физически идентичны объектам, не несущим знание; а это, в свою очередь, ставит под сомнение фундаментальность знания. Однако к настоящему моменту мы {193} уже почти завершили полный круг. Мы видим, что древняя идея о том, что живая материя имеет особые физические свойства, почти истинна: физически особенна не живая материя, а материя, несущая знание. В одной вселенной она выглядит нерегулярно; во всех вселенных она имеет регулярную структуру, подобно кристаллу в мультиверсе.
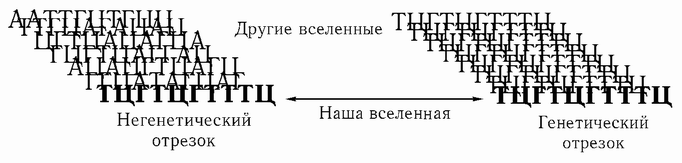 |
|
Рис. 8.1. Взгляд из мультиверса на два отрезка ДНК, которые оказываются идентичными в нашей вселенной, один — случайный, другой находится в гене |
Таким образом, знание — это всё-таки фундаментальная физическая величина, а явление жизни чуть менее фундаментально.
Представьте, что вы смотрите на молекулу ДНК клетки медведя в электронный микроскоп, пытаясь отличить гены от негенетических последовательностей и оценить степень адаптации каждого гена. В любой одной вселенной это невозможно. Свойство быть геном, т. е. иметь высокую адаптацию, настолько, насколько её можно обнаружить в пределах одной вселенной, — чрезвычайно сложно. Это исходящее свойство. Вам пришлось бы сделать множество копий ДНК с вариациями, применить генную инженерию, чтобы создать множество эмбрионов медведей для каждого варианта ДНК, вырастить этих медведей, поселив их в различные среды, представляющие нишу медведя, и посмотреть, какие медведи оставят больше потомков.
Но с волшебным микроскопом, который мог бы заглянуть в другие вселенные (что, я подчеркиваю, невозможно: мы используем теорию, чтобы представить — или передать — то, что, как нам известно, должно там находиться), эта задача стала бы проще. Как на рисунке 8.1, гены отличались бы от «негенов» точно так же, как обрабатываемые поля отличаются от джунглей на фотографиях, сделанных с воздуха, или как кристаллы, выпавшие в осадок из раствора. Они регулярны во многих близлежащих вселенных, тогда как все «негены», отрезки дефективной последовательности, нерегулярны. Что касается степени адаптации гена, {194} оценить её почти так же просто. Гены с лучшей адаптацией будут иметь одну и ту же структуру в более обширном диапазоне вселенных — у них будут более крупные «кристаллы».
Теперь давайте отправимся на другую планету и попытаемся найти местные формы жизни, если таковые там имеются. И опять это известно сложная задача. Вам пришлось бы провести сложные и изощренные эксперименты, бесконечные ошибки которых стали предметом множества научно-фантастических рассказов. Но если только вы могли бы наблюдать в телескоп весь мультиверс, жизнь и её следствия были бы очевидны с первого взгляда. Вам всего лишь необходимо искать сложные структуры, которые кажутся нерегулярными в любой одной вселенной, но идентичными во многих близлежащих вселенных. Если вы увидите что-либо подобное, вы обнаружите некое физически реализованное знание. Где есть знание, там должна быть жизнь, по крайней мере, в прошлом.
Сравним живого медведя с созвездием Большой Медведицы. Живые медведи во многих близлежащих вселенных анатомически очень схожи. Таким свойством обладают не только их гены, но и все тело (хотя другие характеристики тела, например, вес, могут отличаться гораздо больше, чем гены; так происходит потому, что, к примеру, в различных вселенных медведь в большей или меньшей степени преуспел в последних поисках пищи). Но в созвездии Большой Медведицы от одной вселенной к другой не существует такой регулярности. Форма созвездия — это результат начального состояния галактического газа, из которого формировались звезды. Это состояние было случайным — на микроскопическом уровне весьма различным в разных вселенных — и процесс формирования звезд из этого газа включал всевозможные неустойчивости, увеличившие масштаб вариаций. В результате расположение звезд, которое мы наблюдаем в созвездии, существует только в очень ограниченном диапазоне вселенных. В большинстве близлежащих вариантов нашей вселенной в небе тоже есть созвездия, но они выглядят иначе.
И наконец, давайте точно так же посмотрим на вселенную. Что увидит наш магически вооруженный глаз? В отдельной вселенной самые поразительные структуры — это галактики и скопления галактик. Но эти объекты не имеют различимой структуры в мультиверсе. Там, где в одной вселенной есть галактика, в мультиверсе собраны мириады галактик с весьма различной географией. И так во всем мультиверсе. {195} Ближайшие вселенные похожи только в общих чертах, как того требуют законы физики, которые к ним применимы. Таким образом, большинство звезд имеет довольно точную сферическую форму во всем мультиверсе, а большинство галактик имеет спиральную или эллиптическую форму. Но ничто не простирается в отдаленные вселенные, не изменив свою детальную структуру до неузнаваемости. Т.е. кроме тех немногих мест, где есть реализованное знание. В таких местах объекты простираются через огромное количество вселенных, оставаясь при этом узнаваемыми. Возможно в настоящее время Земля — единственное подобное место в нашей вселенной. В любом случае такие места выделяются, в описанном мной смысле, как места расположения процессов (жизни и мышления), породивших самые крупные своеобразные структуры в мультиверсе.
Репликатор — объект, побуждающий определенные среды к своему копированию.
Ген — молекулярный репликатор. Жизнь на Земле основана на генах, которые являются цепочками ДНК (РНК, в случае некоторых вирусов),
Мим — идея, которая является репликатором, например, шутка или научная теория.
Ниша — нишей репликатора является набор всех возможных сред, в которых репликатор вызывает свою собственную репликацию. Ниша организма — это набор всех возможных сред, в которых организм может жить и размножаться, а также всех возможных образов его жизни.
Адаптация — степень адаптации репликатора к нише — это вызванная им степень его собственной репликации в этой нише. В общем, объект адаптируется к своей нише в той степени, в которой он реализует знание, побуждающее эту нишу сохранять это знание.
Кажется, что научный прогресс со времен Галилео отвергал древнюю идею о том, что жизнь — это фундаментальное явление природы. Наука открыла, что масштаб вселенной, по сравнению с биосферой Земли, {196} огромен. Кажется, что современная биология подтвердила это отвержение, объяснив жизненные процессы на основе молекулярных репликаторов, генов, поведением которых управляют те же законы физики, которые применимы и к неживой материи. Тем не менее, жизнь связана с фундаментальным принципом физики — принципом Тьюринга — поскольку она является средством, с помощью которого виртуальная реальность была впервые реализована в природе. Также, несмотря на видимость, жизнь — это важный процесс на гигантских весах времени и пространства. Будущее поведение жизни определит будущее поведение звезд и галактик. И крупномасштабные регулярные структуры во вселенных существуют там, где развилась материя, несущая знание, такая, как мозг или отрезки генов ДНК.
Эта прямая связь между теорией эволюции и квантовой теорией, на мой взгляд, — одна из самых поразительных и неожиданных из множества связей, которые существуют между четырьмя основными нитями. Другая подобная связь — существование самостоятельной квантовой теории вычисления, лежащей в основе существующей теории вычисления. Эта связь — тема следующей главы. {197}
Для любого, кто не знаком с этим предметом, квантовое вычисление звучит как название новой технологии, возможно, самой последней в знаменитом ряду, включающем механическое вычисление, транзисторно-электронное вычисление, вычисление на кремниевых кристаллах и т. д. Но истина в том, что даже существующие компьютерные технологии зависят от микроскопических квантово-механических процессов. (Конечно, все физические процессы являются квантово-механическими, но здесь я имею в виду только те, для которых классическая — т. е. неквантовая — физика дает очень неточные предсказания). Если существует тенденция к получению даже более быстрых компьютеров с более компактным аппаратным обеспечением, технология должна стать в этом смысле даже более «квантовомеханической» просто потому, что квантово-механические эффекты доминируют во всех достаточно маленьких системах. Но если бы дело было только в этом, квантовое вычисление вряд ли смогло бы фигурировать в любом фундаментальном объяснении структуры реальности, поскольку в нем не было бы ничего фундаментально нового. Все современные компьютеры, какие бы квантово-механические процессы они ни использовали, — всего лишь различные технологические исполнения одной и той же классической идеи универсальной машины Тьюринга. Именно поэтому все существующие компьютеры имеют в сущности один и тот же репертуар вычислений: отличие состоит только в скорости, емкости памяти и устройствах ввода-вывода. Это все равно, что сказать, что даже самый непритязательный современный домашний компьютер можно запрограммировать для решения любой задачи или передачи любой среды, которую могут передать наши самые мощные компьютеры, при условии установки на него дополнительной памяти, достаточно долгом времени обработки и наличии аппаратного обеспечения, подходящего для демонстрации результатов работы.
Квантовое вычисление — это нечто большее, чем просто более быстрая и миниатюрная технология реализации машин Тьюринга. {198} Квантовый компьютер — это машина, использующая уникальные квантово-механические эффекты, в особенности, интерференцию, для выполнения совершенно новых видов вычислений, которые, даже в принципе, невозможно выполнить ни на одной машине Тьюринга, а следовательно, ни на каком классическом компьютере. Таким образом, квантовое вычисление — это ни что иное, как принципиально новый способ использования природы.
Позвольте мне конкретизировать это заявление. Самыми первыми изобретениями для использования природы были инструменты, управляемые силой человеческих мускулов. Они вывели наших предков на новый этап развития, но страдали от ограничения, которое заключалось в том, что они требовали постоянного внимания и усилий человека во время их использования. Дальнейшее развитие технологии позволило преодолеть это ограничение: люди сумели приручить некоторых животных и растения, изменив биологическую адаптацию этих организмов, приблизив их к человеку. Таким образом, урожай рос, а сторожевые собаки охраняли дом, пока их владельцы спали. Еще один новый вид технологии появился, когда люди начали не просто использовать существующие адаптации (и существующие небиологические явления, например, огонь), а создали совершенно новые для мира адаптации в виде кирпичей, колес, гончарных и металлических изделий и машин. Чтобы сделать это, они должны были поразмыслить и понять законы природы, управляющие вселенной, включая, как я уже объяснил, не только её поверхностные аспекты, но и лежащую в основе структуру реальности. Последовали тысячи лет развития этого вида техники — использование некоторых материалов, сил и энергий физики. В двадцатом веке, когда изобретение компьютеров позволило осуществить обработку сложной информации вне человеческого мозга, к этому списку добавилась информация. Квантовое вычисление, которое сейчас находится в зачаточном состоянии, — качественно новый этап этого движения. Это будет первая технология, которая позволит выполнять полезные задачи при участии параллельных вселенных. Квантовый компьютер сможет распределить составляющие сложной задачи между множеством параллельных вселенных, а затем поделиться результатами.
Я уже говорил о важности универсальности вычислений — о том, что один физически возможный компьютер может, при наличии достаточного времени и памяти, выполнить любое вычисление, которое может выполнить любой другой физически возможный компьютер. Законы {199} физики, как мы понимаем их сейчас, допускают универсальность вычисления. Однако, настоящего определения универсальности недостаточно, чтобы считать её полезной или важной в общей схеме всего. Она просто означает, что, в конечном итоге, универсальный компьютер сможет делать то, что может делать любой другой компьютер. Другими словами, он универсален при наличии достаточного времени. А что делать, если времени недостаточно? Представьте универсальный компьютер, который мог бы выполнить только одно вычислительное действие за всю жизнь вселенной. Его универсальность по-прежнему оставалась бы глубоким свойством реальности? Вероятно, нет. Говоря в общем, можно критиковать это узкое понятие универсальности, потому что оно относит любую задачу к разряду находящихся в репертуаре компьютера, не принимая во внимание физические ресурсы, которые придется израсходовать компьютеру на выполнение этой задачи. Так, например, мы рассмотрели пользователя виртуальной реальности, который готов отправиться в виртуальную реальность с остановкой мозга на миллиарды лет и повторным его запуском: в течение этого времени компьютер вычислит, что показывать дальше. Такое отношение вполне уместно при обсуждении верхних пределов виртуальной реальности. Но при рассмотрении её полезности, или, что даже более важно, фундаментальной роли, которую она играет в структуре реальности, нам следует быть более разборчивыми. Эволюция никогда бы не произошла, если бы задача передачи определенных свойств самых первых, простейших сред обитания не была легко обрабатываемой (т. е. вычислимой в течение разумного периода времени) при использовании в качестве компьютеров легко доступных молекул. Точно так же никогда не началось бы развитие науки и техники, если бы для создания инструмента из камня понадобились тысячи лет размышлений. Более того, то, что было истиной в самом начале, осталось абсолютным условием прогресса на каждом этапе. Универсальность вычислений была бы бесполезна для генов, независимо от количества содержащегося в них знания, если бы передача их организма не была легко обрабатываемой задачей — скажем, если бы один репродуктивный цикл занимал миллиарды лет.
Таким образом, факт существования сложных организмов и непрерывного ряда постепенно совершенствующихся изобретений и научных теорий (таких, как механика Галилея, механика Ньютона, механика Эйнштейна, квантовая механика, ...) говорит о том, универсальность вычислений какого рода существует в реальности. Он говорит нам, что {200} действительные законы физики, по крайней мере, до сих пор, поддаются последовательной аппроксимации с помощью теорий, дающих лучшие объяснения и предсказания, и что задача открытия каждой теории при наличии предыдущей легко решалась с помощью вычислений при наличии уже известных законов и уже имеющейся технологии. Структура реальности должна быть многоуровневой (какой она и была) для более легкого доступа к самой себе. Подобным образом, если рассматривать саму эволюцию как вычисление, она говорит нам, что существовало достаточно много жизнеспособных организмов, закодированных ДНК, что позволило вычислить (т. е. эволюционировать) организмы с более высокой степенью адаптации, используя ресурсы, предоставленные их предками с низкой степенью адаптации. Таким образом, мы можем сделать вывод, что законы физики, кроме того, что удостоверяют свою собственную постижимость через принцип Тьюринга, гарантируют, что соответствующие эволюционные процессы, такие, как жизнь и мышление, не являются трудоемкими и требуют не слишком много дополнительных ресурсов, чтобы произойти в реальности.
Итак, законы физики не только позволяют (или, как я доказал, требуют) существование жизни и мышления, но требуют от них эффективности, в некотором уместном смысле. Для выражения этого важного свойства реальности современные анализы универсальности обычно постулируют компьютеры, универсальные даже в более строгом смысле, чем того потребовал бы в данной ситуации принцип Тьюринга: универсальные генераторы виртуальной реальности не только возможны, их можно построить так, что они не потребуют нереально больших ресурсов для передачи простых аспектов реальности. С настоящего момента, говоря об универсальности, я буду иметь в виду именно такую универсальность, пока не приведу другого определения.
Насколько эффективно можно передать данные аспекты реальности? Другими словами, какие вычисления можно практически выполнить за данное время и при данных финансовых возможностях? Это основной вопрос теории вычислительной сложности, которая, как я уже сказал, занимается изучением ресурсов, необходимых для выполнения данных вычислительных задач. Теория сложности всё ещё в достаточной степени не объединена с физикой и потому не дает много количественных ответов. Однако она достигла успеха в определении полезного приближенного различия между легко- и труднообрабатываемыми вычислительными задачами. Общий подход лучше всего проиллюстрировать {201} на примере. Рассмотрим задачу умножения двух достаточно больших чисел, скажем, 4 220 851 и 2 594 209. Многие из нас помнят тот метод умножения, которому мы научились в детстве. Нужно по очереди перемножить каждую цифру одного числа на каждую цифру другого и, сложив результаты, дать окончательный ответ, в данном случае 10 949 769 651 859. Вероятно, многие не захотят признать, что эта утомительная процедура делает умножение «легко обрабатываемым» хоть в каком-то обыденном смысле этого слова. (В действительности, существуют более эффективные методы умножения больших чисел, но этот весьма нагляден). Однако с точки зрения теории сложности, которая имеет дело с массивными задачами, решаемыми компьютерами которые не подвержены скуке и почти никогда не ошибаются, этот метод определенно попадает в категорию «легко обрабатываемых».
В соответствии со стандартным определением для «легкости обработки» важно не действительное время, затрачиваемое на умножение конкретной пары чисел, а важен факт, что при применении того же самого метода даже к бóльшим числам, время увеличивается не слишком резко. Возможно это удивит вас, но этот весьма косвенный метод определения легкости обработки очень хорошо работает на практике для многих (хотя и не всех) важных классов вычислительных задач. Например, при умножении нетрудно увидеть, что стандартный метод можно использовать для умножения чисел, скажем, в десять раз больших, приложив совсем незначительные дополнительные усилия. Ради доказательства предположим, что каждое элементарное умножение одной цифры на другую занимает у определенного компьютера одну микросекунду (включая время, необходимое для сложения, переходов и других операций, сопровождающих каждое элементарное умножение). При умножении семизначных чисел 4 220 851 и 2 594 209 каждую из семи цифр первого числа нужно умножить на каждую из семи цифр второго числа. Таким образом, общее время, необходимое для умножения (если операции выполняются последовательно), будет равно семи, умноженному на семь, или 49 микросекундам. При введении чисел, примерно в десять раз больших, содержащих по восемь цифр, время, необходимое для их умножения, будет равно 64 микросекундам: увеличение составляет всего 31%.
Ясно, что числа из огромного диапазона — безусловно содержащего любые числа, которые когда-либо были измерены как численные значения физических переменных — можно перемножить за крошечную долю {202} секунды. Таким образом, умножение действительно легко поддается обработке для любых целей в пределах физики (или, по крайней мере, в пределах существующей физики). Вероятно, за пределами физики могут появиться практические причины умножения гораздо бóльших чисел. Например, для шифровальщиков огромный интерес представляют произведения простых чисел, состоящих примерно из 125 цифр. Наша гипотетическая машина могла бы умножить два таких простых числа, получив произведение, состоящее из 250 цифр, примерно за одну сотую секунды. За одну секунду она могла бы перемножить два тысячезначных числа, а современные компьютеры легко могут осуществить более точный расчет этого времени. Только некоторые исследователи эзотерических областей чистой математики заинтересованы в выполнении таких непостижимо огромных умножений, однако, мы видим, что даже у них нет причины считать умножение трудно обрабатываемым.
Напротив, разложение на множители, по сути процесс, обратный умножению, кажется гораздо сложнее. В начале вводится одно число, скажем, 10 949 769 651 859, задача заключается в том, чтобы найти два множителя, меньших числа, произведение которых равно 10 949 769 651 859. Поскольку мы только что умножили эти числа, мы знаем, что в этом случае ответ будет 4 220 851 и 2 594 209 (и поскольку оба эти числа простые, это единственно правильный ответ). Но не обладая таким внутренним знанием, как мы нашли бы эти множители? В поисках простого метода вы обратитесь к детским воспоминаниям, но впустую, поскольку такого метода не существует.
Самый очевидный метод разложения на множители — делить вводимое число на все возможные множители, начиная с 2 и продолжая каждым нечетным числом, до тех пор, пока введенное число не разделится без остатка. По крайней мере, один из множителей (принимая, что введенное число не является простым) не может быть больше квадратного корня введенного числа, что позволяет оценить, сколько времени может занять этот метод. В рассматриваемом нами случае наш компьютер найдет меньший из двух множителей, 2 594 209, примерно за одну секунду. Однако, если вводимое число будет в десять раз больше, а его квадратный корень примерно в три раза больше, то разложение его на множители по этому методу займет в три раза больше времени. Другими словами, увеличение вводимого числа на один разряд уже утроит время обработки. Увеличение его ещё на один разряд снова утроит это время и т. д. Таким образом, время обработки будет увеличиваться {203} в геометрической прогрессии, т. е. экспоненциально, с увеличением количества разрядов в раскладываемом на множители числе. Разложение на множители числа с 25-значными множителями по этому методу заняло бы все компьютеры на Земле на несколько веков.
Этот метод можно усовершенствовать, однако всем современным методам разложения числа на множители присуще это свойство экспоненциального увеличения. Самое большое число, которое было «в гневе» (а это было действительно так) разложено на множители, — число, множители которого тайно выбрали одни математики, чтобы бросить вызов другим математикам, — имело 129 разрядов. Разложение на множители выполнили с помощью сети Интернет глобальными совместными усилиями, задействовав тысячи компьютеров. Дональд Кнут, специалист по вычислительной технике, подсчитал, что разложение на множители 250-значного числа при использовании самых эффективных из известных методов, с помощью сети, состоящей из миллиона компьютеров, заняло бы более миллиона лет. Такие вещи трудно оценить, но даже если Кнут чрезмерно пессимистичен, то попробуйте хотя бы взять числа на несколько разрядов большие, и задача во много раз усложнится. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что разложение на множители больших чисел с трудом поддается обработке. Все это весьма отличается от умножения, где как мы видели, задачу умножения пары 250-значных чисел можно элементарно решить с помощью домашнего компьютера. Никто не может даже представить себе, как можно разложить на множители числа, состоящие из тысячи или миллиона разрядов.
По крайней мере, этого никто не мог представить до недавнего времени.
В 1982 году физик Ричард Фейнман занимался компьютерным моделированием квантово-механических объектов. Его отправной точкой было нечто, что уже было известно в течение некоторого времени, однако важность чего не оценили, а именно, что задача предсказания поведения квантово-механических систем (или, как мы можем это описать, передача квантово-механических сред в виртуальной реальности), в общем случае, с трудом поддается обработке. Одна из причин того, что важность этого не оценили, в том, что никто и не ожидал, что предсказание интересных физических явлений с помощью компьютера будет особо легким. Возьмите, например, прогноз погоды или землетрясения. Несмотря на то, что известны нужные уравнения, сложность их {204} применения для реальных ситуаций общеизвестна. Все это недавно вынесли на всеобщее обозрение в популярных книгах и статьях по хаосу и «эффекту бабочки». Эти эффекты не ответственны за трудность обработки о которой говорил Фейнман, по простой причине, что они имеют место только в классической физике — т. е. не в реальности, поскольку реальность квантово-механическая. Тем не менее, я хочу сделать несколько замечаний относительно классических «хаотических» движений, только чтобы подчеркнуть достаточно различный характер невозможности получения классических и квантовых предсказаний.
Теория хаоса касается ограничений получения предсказаний в классической физике, проистекающих из факта внутренней неустойчивости всех классических систем. «Неустойчивость», о которой идет речь, не имеет ничего общего с какой-либо тенденцией буйного поведения или распада. Она связана с чрезмерной чувствительностью к начальным условиям. Допустим, что нам известно настоящее состояние какой-то физической системы, например, комплекта бильярдных шаров, катающихся по столу. Если бы система подчинялась законам классической физики, что она и делает в хорошем приближении, то мы смогли бы определить её будущее поведение (скажем, попадет ли определенный шар в лузу) из соответствующих законов движения точно так же, как мы можем предсказать солнечное затмение или парад планет, исходя из этих же законов. Но на практике мы никогда не можем абсолютно точно определить начальные положения и скорости. Таким образом, возникает вопрос: если мы знаем их с некоторой разумной степенью точности, можем ли мы предсказать их будущее поведение с разумной степенью точности? Обычный ответ: не можем. Разница между реальной траекторией и предсказанной траекторией, вычисленной из слегка неточных данных, стремится расти экспоненциально и нерегулярно («хаотически») во времени, так что через некоторое время первоначальное состояние, содержащее небольшую погрешность, уже не сможет быть ключом к поведению системы. Компьютерное предсказание говорит о том, что движение планет, классическая предсказуемость в миниатюре, — нетипичная классическая система. Чтобы предсказать поведение типичной классической системы всего лишь через небольшой промежуток времени, необходимо определить начальное состояние этой системы с невозможно высокой точностью. Поэтому говорят, что, в принципе, бабочка, находящаяся в одном полушарии, взмахом своих крылышек может вызвать ураган в другом полушарии. Неспособность дать прогноз погоды {205} и тому подобное приписывают невозможности учесть каждую бабочку на планете.
Однако реальные ураганы и реальные бабочки подчиняются не классической механике, а квантовой теории. Неустойчивость, быстро увеличивающая небольшие неточности определения классического начального состояния, просто не является признаком квантово-механических систем. В квантовой механике небольшие отклонения от точно определенного начального состояния стремятся вызвать всего лишь небольшие отклонения от предсказанного конечного состояния. А точное предсказание сделать сложно из-за совсем другого эффекта.
Законы квантовой механики требуют, чтобы объект, который первоначально находится в данном положении (во всех вселенных), «распространялся» в смысле мультиверса. Например, фотон и его двойники из других вселенных отправляются из одной и той же точки светящейся нити накала, но затем движутся в миллиардах различных направлений. Когда мы позднее проводим измерение того, что произошло, мы тоже становимся отличными друг от друга, так как каждая наша копия видит то, что произошло в её конкретной вселенной. Если рассматриваемым объектом является атмосфера Земли, то ураган мог произойти, скажем, в 30% вселенных и не произойти в остальных 70%. Субъективно мы воспринимаем это как единственный непредсказуемый или «случайный» результат, хотя если принять во внимание существование мультиверса, все результаты действительно имели место. Это многообразие параллельных вселенных — настоящая причина непредсказуемости погоды. Наша неспособность точно измерить начальные состояния тут абсолютно ни при чем. Даже знай мы начальные состояния точно, многообразие, а следовательно, и непредсказуемость движения, все равно имели бы место. С другой стороны, в отличие от классического случая, поведение воображаемого мультиверса с немного отличными начальными состояниями не слишком отличалось бы от поведения реального мультиверса: он мог пострадать от урагана в 30,000001% своих вселенных и не пострадать в оставшихся 69,999999%.
В действительности взмах крылышек бабочки не вызывает ураганы, потому что классическое явление хаоса зависит от совершенного детерминизма, который не присутствует ни в одной вселенной. Рассмотрим группу идентичных вселенных в тот момент, когда в каждой из них конкретная бабочка взмахнула крылышками вверх. Рассмотрим вторую группу вселенных, которая в этот же самый момент идентична {206} первой за исключением того, что в ней крылышки бабочки опущены вниз. Подождем несколько часов. Квантовая механика предсказывает, что если не возникнут исключительные обстоятельства (например, кто-нибудь, наблюдающий за бабочкой, нажмет кнопку, чтобы взорвать ядерную бомбу при взмахе её крылышек), две группы вселенных, практически идентичные друг другу в начале, останутся практически идентичными. Но каждая группа внутри самой себя значительно видоизменилась. Каждая группа включает вселенные с ураганами, вселенные без ураганов и даже очень маленькое количество вселенных, в которых вид бабочки спонтанно изменился из-за случайной перестановки всех её атомов, или Солнце взорвалось из-за того, что все его атомы случайно вступили в ядерную реакцию в самом его центре. Даже в этом случае эти группы всё ещё очень похожи друг на друга. Во вселенных, где бабочка взмахнула крылышками вверх и произошли ураганы, эти ураганы действительно были непредсказуемы; но они произошли не из-за бабочки, поскольку почти идентичные ураганы произошли в других вселенных, где все было тем же самым, кроме того, что крылышки бабочки были опущены вниз.
Возможно, стóит подчеркнуть различие между непредсказуемостью и трудностью обработки. Непредсказуемость не имеет ничего общего с имеющимися вычислительными ресурсами. Классические системы непредсказуемы (или были бы таковыми, если бы существовали) из-за их чувствительности к начальным условиям. Квантовые системы не обладают такой чувствительностью, но они непредсказуемы, потому что в различных вселенных ведут себя по-разному, и поэтому в большинстве вселенных кажутся случайными. Ни в первом, ни во втором случае никакой объем вычислений не уменьшит непредсказуемость. Трудность обработки, напротив, — проблема вычислительных ресурсов. Она относится к ситуации, когда мы с легкостью могли бы сделать предсказание, если бы только могли выполнить необходимые вычисления, но мы не можем их выполнить, потому что требуются нереально большие ресурсы. Чтобы отделить проблемы непредсказуемости от проблем трудности обработки в квантовой механике, мы должны принять, что квантовые системы, в принципе, предсказуемы.
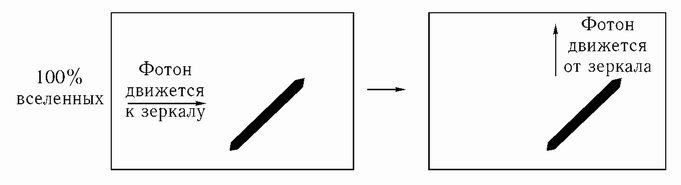 |
|
Рис. 9.1. Действие обычного зеркала одинаково во всех вселенных |
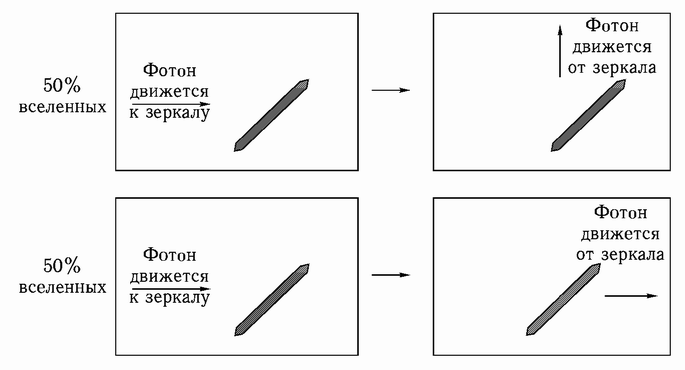 |
|
Рис. 9.2. Полупрозрачное зеркало разделяет первоначально идентичные вселенные на две равные группы, которые отличаются только траекторией движения одного фотона |
Квантовую теорию часто представляют как теорию, которая делает только вероятностные предсказания. Например, в эксперименте по интерференции со светонепроницаемой перегородкой со щелями, описанном в главе 2, можно видеть, что фотон попадает в любое место {207} на «светлом» участке картины теней. Однако важно понимать, что для множества других экспериментов квантовая теория предсказывает единственный определенный результат. Другими словами, она предсказывает, что все вселенные окончатся с одним и тем же результатом, даже если на промежуточных стадиях эксперимента эти вселенные отличались друг от друга, и она предсказывает, каким будет этот результат. В таких случаях мы наблюдаем неслучайное явление интерференции. Такие явления может продемонстрировать интерферометр. Это оптический инструмент, состоящий главным образом из зеркал, {208} как обычных (рисунок 9.1), так и полупрозрачных (какими пользуются фокусники и полицейские) (рисунок 9.2). Если фотон ударяется о полупрозрачное зеркало, то в половине вселенных он отскакивает от него точно так же, как отскочил бы от обычного зеркала. Однако в другой половине вселенных он проходит сквозь это зеркало, словно его нет.
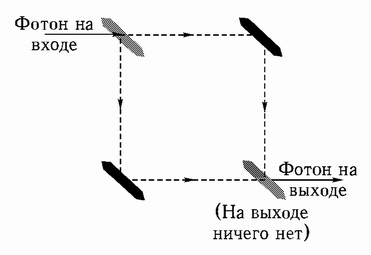
|
|
Рис. 9.3. Один фотон, проходящий через интерферометр. Положение зеркал (обычные зеркала показаны черным цветом, полусеребряные — серым) можно отрегулировать так, что интерференция между двумя разновидностями фотона (из разных вселенных) заставляет обе разновидности двигаться к выходу по одной и той же траектории от нижнего полупрозрачного зеркала |
Один фотон входит в интерферометр сверху слева, как показано на рисунке 9.3. Во всех вселенных, где проводят эксперимент, фотон и его двойники движутся к интерферометру по одной и той же траектории. Следовательно, эти вселенные идентичны. Но как только фотон ударяется о полупрозрачное зеркало, первоначально идентичные вселенные становятся различными. В половине из них фотон проходит через это зеркало и перемещается вдоль верхней стороны интерферометра. В остальных вселенных фотон отскакивает от зеркала и перемещается вдоль левой стороны интерферометра. Затем разновидности фотона в этих группах вселенных ударяются об обычные зеркала справа сверху и слева снизу соответственно и отскакивают от них. Таким образом, в конце они одновременно попадают на полупрозрачное зеркало справа снизу и интерферируют друг с другом. Не забывайте, что мы пускали в аппарат только один фотон, и в каждой вселенной по-прежнему находится только один фотон. Во всех вселенных этот фотон теперь ударился о правое нижнее зеркало. В половине вселенных он ударился об это зеркало слева, в другой половине — сверху. Между разновидностями {209} фотона из этих двух групп вселенных произошла сильная интерференция. Суммарный эффект зависит от точной геометрии ситуации, но на рисунке 9.3 изображен тот случай, когда во всех вселенных фотон в конце движется вправо сквозь зеркало, и ни в одной вселенной он не передается или не отражается вниз. Таким образом, в конце эксперимента все вселенные так же идентичны, как и в начале. Они отличались и взаимодействовали друг с другом всего лишь долю минуты в промежуточном состоянии.
Это замечательное явление неслучайной интерференции — почти такое же неизбежное свидетельство существования мультиверса, как и явление теней. Поскольку результат, описанный мной, несовместим ни с одной из двух возможных траекторий движения частицы в одной вселенной. Если мы, например, направим фотон вправо вдоль нижней стороны интерферометра, он, как и фотон из эксперимента, может пройти сквозь полупрозрачное зеркало. Но может и не пройти — иногда он отклоняется вниз. Точно так же фотон, направленный вниз, вдоль правой стороны интерферометра, может отклониться вправо, как в эксперименте с интерференцией, или просто двигаться прямо вниз. Таким образом, на какую бы траекторию вы ни направили один фотон внутри аппарата, он будет появляться случайно. Результат можно предсказать только в том случае, когда между двумя траекториями произойдет интерференция. Следовательно, непосредственно перед окончанием эксперимента с интерференцией в аппарате присутствует нечто, что не может быть одним фотоном с одной траекторией: например, это не может выть просто фотон, который перемещается вдоль нижней стороны интерферометра. Там должно быть что-то ещё, что мешает ему отскочить вниз. Там не может быть и просто фотон, который перемещается вдоль правой стороны интерферометра; там, опять, должно быть что-то ещё, что мешает ему переместиться прямо вниз, как это могло бы произойти в некоторых случаях, если бы он был там один. Как и в случае с тенями, мы можем придумать дальнейшие эксперименты, чтобы показать, что это «что-то еще» обладает всеми свойствами фотона, который перемещается вдоль другой траектории и интерферирует с видимым нами фотоном, но ни с чем другим в нашей вселенной.
Поскольку в этом опыте присутствуют только два различных вида вселенных, вычисление того, что произойдет, займет только всего в два раза больше времени, чем заняло бы, если бы частица подчинялась классическим законам — скажем, если бы мы вычисляли траекторию {210} движения бильярдного шара. Вряд ли коэффициент два сделает такие вычисления трудно обрабатываемыми. Однако, мы уже видели, что довольно легко достичь и гораздо более высокой степени многообразия. В экспериментах с тенями один фотон проходит через перегородку с несколькими маленькими отверстиями и попадает на экран. Предположим, что в перегородке тысяча отверстий. На экране есть места, куда может попасть фотон (и попадает в некоторых вселенных), и места, куда он попасть не может. Чтобы вычислить, может ли конкретная точка экрана принять фотон, мы должны вычислить эффекты взаимной интерференции разновидностей фотона из тысячи параллельных вселенных. В частности, мы должны вычислить тысячу траекторий движения фотона от перегородки до данной точки экрана, затем вычислить влияния этих фотонов друг на друга так, чтобы определить, всем ли им мешают достигнуть этой точки. Таким образом, мы должны выполнить примерно в тысячу раз больше вычислений, чем нам пришлось бы, если бы мы определяли, попадет ли в конкретную точку классическая частица.
Сложность такого рода вычислений показывает нам, что в квантово-механической среде происходит гораздо больше, чем (буквально) видит глаз. Я доказал, выражая критерий реальности доктора Джонсона на языке вычислительной сложности, что эта сложность — основная причина того, почему бессмысленно отрицать существование оставшейся части мультиверса. Но возможны гораздо более высокие степени многообразия, когда в интерференцию вовлекаются две или более взаимодействующих частицы. Допустим, что для каждой из двух взаимодействующих частиц открыта (скажем) тысяча траекторий. Тогда эта пара на промежуточном этапе эксперимента может оказаться в миллионе различных состояний, так что может быть до миллиона вселенных, которые будут отличаться тем, что делает эта пара частиц. Если бы взаимодействовали три частицы, то количество различных вселенных могло бы увеличиться до миллиарда; для четырех частиц — до триллиона и т. д. Таким образом, количество различных историй, которые нам пришлось бы вычислить, если бы мы захотели предсказать то, что произойдет в таких случаях, увеличивается экспоненциально с ростом числа взаимодействующих частиц. Именно поэтому задача вычисления поведения типичной квантовой системы труднообрабатываема в полном смысле этого слова. {211}
Это именно та трудность обработки, которая волновала Фейнмана. Мы видим, что она не имеет ничего общего с непредсказуемостью: напротив, наиболее ясно она проявляется в квантовых явлениях с высокой степенью предсказуемости. Так происходит потому, что в таких явлениях один и тот же определенный результат имеет место во всех вселенных, однако этот результат — итог интерференции между огромным количеством вселенных, которые отличались друг от друга во время эксперимента. Все это в принципе можно предсказать из квантовой теории, да оно и не страдает излишней чувствительностью к начальным условиям. Но предсказать, что в таких экспериментах результат всегда будет одним и тем же, трудно потому, что для этого необходимо выполнить чрезмерно большой объем вычислений.
Трудность обработки, в принципе, является гораздо бóльшим препятствием для универсальности, чем им когда-либо могла стать непредсказуемость. Я уже сказал, что абсолютно точная передача рулетки не нуждается (а на самом деле, и не должна нуждаться) в последовательности чисел, совпадающей с реальной. Подобным образом, мы не можем заранее подготовить передачу завтрашней погоды в виртуальной реальности. Но мы можем (или однажды сможем) осуществить передачу погоды, которая хотя и не будет такой же, как реальная погода, имевшая место в какой-то исторический день, но тем не менее, будет вести себя столь реалистично, что ни один пользователь, каким бы экспертом он ни был, не сможет отличить её от настоящей погоды. То же самое касается и любой среды, которая не показывает эффекты квантовой интерференции (что означает большинство сред). Передача такой среды в виртуальной реальности — легкообрабатываемая вычислительная задача. Однако оказалось, что невозможно практически передать те среды, которые показывают эффекты квантовой интерференции. Не выполняя экспоненциально большие объемы вычислений, как мы можем быть уверены, что в этих случаях переданная нами среда никогда не сделает того, что из-за некоторого явления интерференции никогда не делает реальная среда?
Может показаться естественным вывод, что реальность всё-таки не показывает настоящей универсальности вычислений, поскольку невозможно полезно передать явления интерференции. Однако, Фейнман сделал противоположный вывод и был совершенно прав! Вместо того, чтобы считать трудность обработки задачи передачи квантовых явлений препятствием, Фейнман счел её благоприятной возможностью. {212} Если, чтобы узнать исход эксперимента с интерференцией, необходимо выполнить так много вычислений, то сам факт проведения такого эксперимента и измерения его результатов равносилен выполнению сложного вычисления. Таким образом, рассуждал Фейнман, наверное всё-таки можно было бы эффективно передать квантовые среды при условии, что компьютеру позволят проводить эксперименты над реальным квантово-механическим объектом. Компьютер выбрал бы, какие измерения сделать на вспомогательной составляющей квантового аппаратного обеспечения во время проведения эксперимента, и включил бы результаты измерений в свои вычисления.
В действительности вспомогательное квантовое аппаратное обеспечение тоже было бы компьютером. Например, интерферометр мог бы действовать, как подобный прибор, и, как любой другой физический объект, его можно было бы считать компьютером. Сегодня мы назвали бы его специализированным квантовым компьютером. Мы «программируем» его, устанавливая зеркала так, чтобы создать определенную геометрию, и затем направляем один фотон на первое зеркало. В эксперименте с неслучайной интерференцией фотон всегда будет появляться в одном конкретном направлении, определяемом установкой зеркал, и мы можем интерпретировать это направление как указывающее результат вычисления. В более сложном эксперименте с несколькими взаимодействующими частицами такое вычисление запросто могло бы, как я уже объяснил, стать «труднообрабатываемым». Но поскольку мы смогли получить его результаты, просто проведя эксперимент, значит, его всё-таки нельзя назвать действительно труднообрабатываемым. Нам теперь следует быть более осторожными в вопросах терминологии. Очевидно, что существуют вычислительные задачи, которые «с трудом поддаются обработке», если мы пытаемся решить их с помощью любого существующего компьютера, но которые перешли бы в разряд легко обрабатываемых, если бы в качестве специализированных компьютеров мы использовали квантово-механические объекты. (Обратите внимание, что возможность использования квантовых явлений для выполнения вычислений с помощью такого метода обусловлена тем, что эти явления не подвержены хаосу. Если бы результат вычислений был функцией, чрезмерно чувствительной к начальному состоянию, «запрограммировать» такое устройство, установив его в подходящее начальное состояние, было бы непосильно сложной задачей). {213}
Использование вспомогательного квантового устройства таким образом можно было бы посчитать надувательством, так как очевидно, что любую среду гораздо проще передать, имея доступ к её запасной копии для проведения измерений во время передачи! Однако Фейнман выдвинул гипотезу, что нет необходимости в использовании точной копии передаваемой среды: что можно найти вспомогательное устройство с гораздо более простой конструкцией, но интерференционные свойства которого, тем не менее, будут аналогичны свойствам передаваемой среды. Оставшуюся часть передачи способен осуществить обычный компьютер, работающий аналогичным образом между вспомогательным устройством и передаваемой средой. Фейнман ожидал, что эта задача будет легкообрабатываемой. Более того, он предполагал, как оказалось, правильно, что все квантово-механические свойства любой передаваемой среды можно смоделировать с помощью вспомогательных устройств конкретного вида, который он точно определил (а именно, совокупности вращающихся атомов, каждый из которых взаимодействует со своими соседями). Он назвал весь класс таких устройств универсальным квантовым имитатором.
Однако этот имитатор не был отдельной машиной, какой он должен был бы быть, чтобы называться универсальным компьютером. Взаимодействия, которым пришлось бы подвергнуться атомам имитатора, нельзя было установить однажды и навсегда, как в универсальном компьютере, их нужно было переустанавливать для каждой передаваемой среды. Однако смысл универсальности в том, что должно быть возможным запрограммировать отдельную машину, точно определенную раз и навсегда, для выполнения любого возможного вычисления или передачи любой возможной среды. В 1985 году я доказал, что в квантовой физике существует универсальный квантовый компьютер. Это доказательство было абсолютно прямым. Все, что мне пришлось сделать, это скопировать устройства Тьюринга, но для определения лежащей в их основе физики воспользоваться не классической механикой, которую неявно принимал Тьюринг, а квантовой теорией. Универсальный квантовый компьютер может выполнить любое вычисление, которое может выполнить любой другой квантовый компьютер (или любой компьютер типа машины Тьюринга), а также он может передать любую конечную физически возможную среду в виртуальной реальности. Более того, с тех пор было показано, что время и остальные ресурсы, которые ему понадобятся для осуществления всего этого, не будут увеличиваться {214} экспоненциально с ростом размеров или числа деталей передаваемой среды, так что важные вычисления будут легкообрабатываемы в соответствии с нормами теории сложности.
Классическая теория вычисления, которая в течение полувека оставалась неоспоримым основанием вычисления, сейчас устарела, превратившись разве что, как и остальная классическая физика, в схему аппроксимации. Сейчас такой теорией вычисления является квантовая теория вычисления. Я сказал, что Тьюринг в своем устройстве неявно использовал «классическую механику». Но, оценив прошедшие события, сейчас мы можем увидеть, что даже классическая теория вычисления не полностью соответствовала классической физике и содержала серьезные предзнаменования квантовой теории. Совсем не совпадение, что слово бит, означающее наименьшее возможное количество информации, которым способен управлять компьютер, в сущности значит то же самое, что и квант, дискретный компонент. Дискретные переменные (переменные, которые не могут принимать непрерывный диапазон значений) чужды классической физике. Например, если переменная имеет только два возможных значения, скажем, 0 и 1, как она вообще попадает из 0 в 1? (Я задавал этот вопрос в главе 2). В классической физике ей пришлось бы переместиться из одного значения в другое с перерывом, что несовместимо с работой сил и движений в классической механике. В квантовой физике нет необходимости в прерывном изменении — даже несмотря на то, что все измеримые величины дискретны. Это происходит следующим образом.
Для начала давайте представим несколько параллельных вселенных, сложенных подобно колоде карт, причем вся колода представляет собой совокупность вселенных. (Такая модель, в которой вселенные располагаются последовательно, весьма преуменьшает сложность мультиверса, но она вполне достаточна, чтобы проиллюстрировать то, о чем я говорю). Теперь давайте изменим эту модель, чтобы учесть тот факт, что мультиверс — это не дискретный набор вселенных, а континуум, и то, что не все вселенные различны. В действительности, для каждой вселенной, которая там присутствует, также существует континуум идентичных вселенных, содержащий определенную крошечную, но отличную от нуля долю мультиверса. В нашей модели эту долю можно представить через толщину карты, причем каждая карта теперь представляет все вселенные данного типа. Однако, в отличие от толщины карты, доля каждого типа вселенных изменяется со временем {215} по квантово-механическим законам движения. Следовательно, доля вселенных, обладающих данным свойством, тоже изменяется, и изменяется непрерывно. В случае с дискретной переменной, которая изменяется от 0 до 1, допустим, что эта переменная принимает значение 0 во всех вселенных до начала изменения, а после изменения она принимает значение 1 во всех вселенных. Во время изменения доля вселенных, в которых значение равно 0, равномерно уменьшается от 100% до нуля, а доля вселенных, в которых это значение равно 1, соответственно растет от нуля до 100%. На рисунке 9.4 показана точка зрения мультиверса на подобное изменение.
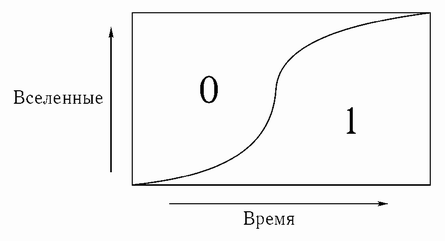 |
|
Рис. 9.4. Перспектива мультиверса на непрерывное изменение бита от 0 до 1 |
Из рисунка 9.4 может показаться, что хотя переход от 0 к 1 объективно непрерывен с перспективы мультиверса, он остается субъективно прерывным с перспективы любой отдельной вселенной — представленной, скажем, горизонтальной линией, доходящей до середины рисунка 9.4. Однако это всего лишь ограничение диаграммы, а не реальная характеристика того, что происходит на самом деле. Хотя диаграмма выглядит так, словно в каждое мгновение существует конкретная вселенная, которая «только что изменилась» от 0 до 1, потому что она только что «пересекла границу», на самом деле это не так. Так быть не может, потому что такая вселенная строго идентична любой другой вселенной, в которой бит в данный момент имеет значение 1. Поэтому, если бы жители одной из них испытывали прерывное изменение, то жители всех других испытывали бы то же самое. Значит, ни одна из них не может иметь такой опыт. Обратите также внимание, что, как я объясню в главе 11, идея о чем-то, что движется через диаграмму, подобную рисунку 9.4, на которой уже представлено время, просто {216} ошибочна. В каждое мгновение бит имеет значение 1 в определенной доле вселенных и 0 — в другой. Все эти вселенные в каждый момент времени уже показаны на рисунке 9.4. Они никуда не движутся!
Еще один показатель неявного присутствия квантовой физики в классическом вычислении — это зависимость всех вариантов практической реализации компьютеров типа машины Тьюринга от таких вещей как твердая материя или намагниченные материалы, которые не могли бы существовать в отсутствие квантово-механических эффектов. Например, любое твердое тело состоит из совокупности атомов, состоящих из электрически заряженных частиц (электроны и протоны в ядре). Но из-за классического хаоса ни одна совокупность заряженных частиц не могла бы оставаться устойчивой при классических законах движения. Положительно и отрицательно заряженные частицы просто вылетали бы со своего места, сталкиваясь друг с другом, и конструкция распалась бы. Только сильная квантовая интерференция между различными траекториями движения заряженных частиц в параллельных вселенных предотвращает такие катастрофы и делает возможным существование твердой материи.
Создание универсального квантового компьютера действительно выходит за рамки современной технологии. Как я уже сказал, чтобы обнаружить явление интерференции, нужно вызвать соответствующее взаимодействие всех переменных, которые были отличными во вселенных, вступивших в интерференцию. Чем больше взаимодействующих частиц, тем сложнее спровоцировать взаимодействие, которое продемонстрировало бы интерференцию, то есть результат вычисления. Среди множества технических сложностей работы на уровне одного атома или электрона одна из важнейших состоит в ограждении среды от воздействия различных интерферирующих субвычислений. Поскольку, когда группа атомов подвергается явлению интерференции, причем эти атомы дифференцированно воздействуют на другие атомы этой среды, то интерференцию уже невозможно обнаружить с помощью измерений только исходной группы, и эта группа уже не выполняет какое бы то ни было полезное квантовое вычисление. Это называется декогерентностью. Следует добавить, что эту проблему часто представляют в ложном свете: нам говорят, что «квантовая интерференция — очень чувствительный процесс, и его следует ограждать от любых внешних воздействий». Но это не так. Внешние воздействия способны вызвать малейшие несовершенства, но именно {217} эффект квантового вычисления внешнего мира вызывает декогерентность.
Таким образом, ставка делается на создание субмикроскопических систем, в которых переменные, несущие информацию, взаимодействуют друг с другом, но оказывают на свою среду возможно меньшее влияние. Другое новое упрощение, уникальное для квантовой теории вычисления, частично компенсирует сложности, вызываемые декогерентностью. Оказывается, что в отличие от классического вычисления, где необходимо разрабатывать точно определенные классические логические элементы, как-то И, или и НЕ, при квантовом вычислении точная форма взаимодействий вряд ли имеет значение. В сущности, любую систему взаимодействующих битов атомного масштаба, если она не декогерирует, можно приспособить для выполнения полезных квантовых вычислений.
Известны интерференционные явления, включающие огромные количества частиц, например, суперпроводимость или супертекучесть, но кажется, что ни одно из них невозможно использовать для выполнения хоть сколь-нибудь интересных вычислений. Во время написания книги в лаборатории можно было без труда выполнить только однобитовые квантовые вычисления. Однако, экспериментаторы уверены, что в течение нескольких последующих лет будут созданы двух- и более битовые квантовые логические элементы (квантовые эквиваленты классических логических элементов). Это основные составляющие квантовых компьютеров. Некоторые физики, особенно Рольф Ландауер из Исследовательского Центра IBM, настроены пессимистично относительно перспектив будущих достижений. Они полагают, что декогерентность никогда не будет сведена до того уровня, где можно будет выполнить больше, чем несколько последовательных этапов квантового вычисления. Большинство исследователей из этой области настроены гораздо более оптимистично (хотя возможно, это связано с тем, что над квантовым вычислением решаются работать только очень большие оптимисты!). Уже были построены некоторые специализированные квантовые компьютеры (смотри ниже), и лично я думаю, что появление более сложных квантовых компьютеров — скорее дело нескольких лет, чем десятилетий. Что касается универсального квантового компьютера, то я считаю, что его создание — это тоже только дело времени, хотя мне не хотелось бы предсказывать, сколько времени на это уйдет: десятилетия или века. {218}
Тот факт, что репертуар универсального квантового компьютера содержит среды, передача которых является труднообрабатываемой для классического вычисления, говорит о том, что новые классы чисто математических вычислений тоже должны стать легкообрабатываемыми на этом компьютере. Как сказал Галилео, законы физики выражаются на языке математики, а передача среды эквивалентна оценке определенных математических функций. Действительно, в настоящее время обнаружено множество математических задач, которые можно было бы эффективно решить с помощью квантового вычисления, так как для всех известных классических методов они являются труднообрабатываемыми. Наиболее эффектной из этих задач является задача разложения на множители больших чисел. В 1994 году Питер Шор, работающий в Bell Laboratories, открыл метод, известный как алгоритм Шора. (Пока эта книга корректировалась, были открыты другие эффектные квантовые алгоритмы, включая алгоритм Гровера для очень быстрого поиска длинных списков).
Алгоритм Шора чрезвычайно прост и довольствуется гораздо более скромным аппаратным обеспечением, чем то, которое понадобилось бы для универсального квантового компьютера. А потому вероятно, что квантовое устройство для разложения на множители будет построено задолго до того, как весь диапазон квантовых вычислений станет технологически осуществимым. Эта перспектива имеет грандиозное значение для криптографии (науки, которая занимается секретной передачей информации и установлением её подлинности). Реальные сети связи могут быть глобальными и иметь огромные, постоянно изменяющиеся наборы участников с непредсказуемыми схемами связи. Непрактично требовать, чтобы каждая пара участников заранее физически обменивалась секретными шифровальными ключами, которые позволили бы им позднее общаться, не боясь, что их подслушают. Криптография с открытым ключом — это любой метод отправки секретной информации, при котором ни отправитель, ни получатель не делятся секретной информацией. Самый надежный из известных методов криптографии с открытым ключом основан на трудности обработки задачи разложения на множители больших чисел. Этот метод известен как криптосистема RSA, которая получила свое название в честь Рональда Ривеста (Rivest), Ади Шамира (Shamir) и Леонарда Адельмана (Adelman), которые впервые предложили её в 1978 году. Этот метод обусловлен математической процедурой, посредством которой сообщение можно закодировать, {219} используя в качестве ключа огромное (скажем, 250-значное) число. Получатель может свободно обнародовать этот ключ, потому что любое сообщение, зашифрованное с его помощью, можно расшифровать, только зная множители этого числа. Таким образом, я могу выбрать два 125-значных простых числа и хранить их в секрете, но перемножив, сообщить всем их 250-значное произведение. Кто угодно может послать мне сообщение, использовав это число как код, но только я смогу прочитать эти сообщения, потому что только мне известны секретные множители.
Как я уже сказал, не существует практической возможности разложения на множители 250-значного числа с использованием классических средств. Но квантовое устройство разложения на множители, работающее по алгоритму Шора, могло бы это сделать, выполнив всего несколько тысяч арифметических операций, что, возможно, было бы минутным делом. Таким образом, любой человек, имеющий доступ к такой машине, смог бы легко прочитать любое перехваченное сообщение, зашифрованное с помощью криптосистемы RSA.
Шифровальщикам не помогло бы даже использование больших чисел в качестве ключей, потому что ресурсы, необходимые для работы алгоритма Шора, очень медленно увеличиваются с увеличением раскладываемого на множители числа. В квантовой теории вычисления разложение на множители — очень легко обрабатываемая задача. Считается, что при данном уровне декогерентности снова появится практическое ограничение величины числа, которое можно разложить на множители, но неизвестен нижний предел технологически достижимой степени декогерентности. Поэтому, мы должны сделать вывод, что однажды в будущем, во время, которое сейчас невозможно предсказать, криптосистема RSA с любой данной длиной ключа может стать несекретной. В определенном смысле это делает её несекретной даже сегодня. Любой человек или организация, которые сейчас записывают сообщения, закодированные в системе RSA, и ждут того времени, когда смогут купить квантовое устройство разложения на множители с достаточно низкой декогерентностью, смогут расшифровать эти сообщения. Возможно, это произойдет только через века, возможно всего через несколько десятилетий, а может, и ещё раньше — кто знает? Но вероятность, что это произойдет ещё не скоро, — это все, что теперь осталось от бывшей абсолютной секретности системы RSA. {220}
Когда квантовое устройство разложения на множители раскладывает на множители 250-значное число, количество интерферирующих вселенных будет порядка 10500, т. е. десять в степени 500. Это ошеломляюще огромное число — причина того, почему алгоритм Шора делает разложение на множители легкообрабатываемым. Я сказал, что этот алгоритм требует выполнения всего нескольких тысяч арифметических операций. Безусловно, я имел в виду несколько тысяч операций в каждой вселенной, которая вносит вклад в ответ. Все эти вычисления выполняются в различных параллельных вселенных и делятся своими результатами через интерференцию.
Возможно, вам интересно, как мы сможем убедить своих двойников из 10500 вселенных начать работать над нашей задачей разложения на множители. Разве у них нет своих собственных задач, чтобы задействовать компьютеры? Нам не нужно их убеждать. Алгоритм Шора изначально действует только в наборе вселенных, идентичных друг другу, и вызывает в них отличия только в пределах устройства разложения на множители. Поэтому мы, точно определившие число, которое нужно разложить на множители, и ждущие ответа, идентичны во всех интерферирующих вселенных. Несомненно, существует много других вселенных, в которых мы запрограммировали другое число или вообще не построили устройство разложения на множители. Но эти вселенные отличаются от нашей слишком большим количеством переменных — или точнее, переменными, которые программирование алгоритма Шора не привело к нужному взаимодействию, — и потому они не интерферируют с нашей вселенной.
Доказательство, приведенное в главе 2, применительно к любому явлению интерференции, разрушает классическую идею существования только одной вселенной. Логически возможность комплексных квантовых вычислений ничего не дает в том случае, на который уже нельзя ответить. Но эта возможность оказывает психологическое влияние. Алгоритм Шора расширяет это доказательство. Для тех, кто всё ещё склонен считать, что существует только одна вселенная, я предлагаю следующую задачу: объясните принцип действия алгоритма Шора. Я не имею в виду, предскажите, что он будет работать, поскольку для этого достаточно решить несколько непротиворечивых уравнений. Я прошу вас дать объяснение. Когда алгоритм Шора разложил на множители число, задействовав примерно 10500 вычислительных ресурсов, которые можно увидеть, где это число раскладывалось на множители? {221} Во всей видимой вселенной существует всего около 1080 атомов, число ничтожно малое по сравнению с 10500. Таким образом, если бы видимая вселенная была мерой физической реальности, физическая реальность даже отдаленно не содержала бы ресурсов, достаточных для разложения на множители такого большого числа. Кто же тогда разложил его на множители? Как и где выполнялось вычисление?
Я говорил о традиционных типах математических задач, которые квантовые компьютеры смогли бы выполнить быстрее существующих. Но для квантовых компьютеров открыт и дополнительный класс новых задач, которые не способен решить ни один классический компьютер. По странному совпадению, одной из первых таких задач обнаружили задачу, также связанную с криптографией с открытым ключом. На этот раз дело не в разрушении существующей системы, а в реализации новой абсолютно секретной системы квантовой криптографии. В 1989 году в Нью-Йорке, в Исследовательском Центре IBM, в офисе теоретика Чарльза Беннетта был построен первый рабочий квантовый компьютер. Это был специализированный квантовый компьютер, состоящий из двух квантовых криптографических устройств, спроектированных Беннеттом и Жилем Брассаром из Монреальского Университета. Этот компьютер стал первой машиной, выполнившей небанальные вычисления, которые не смогла бы выполнить ни одна машина Тьюринга.
В квантовой криптосистеме Беннета и Брассара послания кодируются состояниями отдельных фотонов, испускаемых лазером. Несмотря на то, что для передачи сообщения необходимо много фотонов (один фотон на бит, плюс те фотоны, которые тратятся на всевозможные неэффективности), такие машины можно построить, используя существующую технологию, потому что для выполнения своих квантовых вычислений им необходим один фотон на раз. Секретность системы основана не на трудности обработки, как классической, так и квантовой, а непосредственно на свойствах квантовой интерференции: именно она дает этой системе абсолютную секретность, которую невозможно обеспечить с помощью классических методов. Никакой объем будущих вычислений ни на каком компьютере через миллионы или триллионы лет не поможет тому, кто хотел бы подслушать послания, закодированные квантовым методом: поскольку, если кто-либо общается через среду, демонстрирующую интерференцию, то он сможет обнаружить подслушивающих его людей. В соответствии с классической физикой нет ничего, что может помешать подслушивающему, который {222} имеет физический доступ к среде связи, например, к телефонной линии, путем установки пассивного подслушивающего устройства. Но как я уже объяснил, если кто-либо осуществляет какое-либо измерение квантовой системы, он изменяет её последующие интерференционные свойства. От этого эффекта зависит протокол связи. Связывающиеся стороны эффективно ставят повторяющиеся эксперименты по интерференции, согласуя их через общественный канал связи. Только когда интерференция пройдет проверку на отсутствие подслушивающих, они переходят к следующей стадии протокола, состоящей в том, чтобы использовать некоторую часть переданной информации в качестве криптографического ключа. В худшем случае упорный подслушивающий может помешать связи состояться (хотя, безусловно, этого проще достичь, перерезав телефонную линию). Но что касается чтения сообщения, это может сделать только получатель, для которого оно предназначено, это гарантируют законы физики.
Поскольку квантовая криптография зависит от манипулирования отдельными фотонами, она страдает от значительного ограничения. Каждый фотон, переносящий один бит информации и получаемый последовательно, должен быть каким-то образом передан невредимым от отправителя получателю. Но любой метод передачи содержит потери, и если они слишком большие, послание никогда не достигнет своего адресата. Установка ретрансляционных станций (мера для устранения этой проблемы в существующих системах связи) подвергла бы риску секретность, потому что подслушивающий мог бы наблюдать за тем, что происходит внутри ретрансляционной станции, не будучи обнаруженным. Лучшие из существующих квантово-криптографических систем используют волокнооптические кабели и имеют диапазон около десяти километров. Этого было бы достаточно, чтобы обеспечить, скажем, экономический район города абсолютно секретной внутренней связью. Возможно, не далеки и рыночные системы, но чтобы решить задачу криптографии с открытым ключом в общем случае — скажем, для глобальной связи — необходимо дальнейшее развитие квантовой криптографии.
Экспериментальные и теоретические исследования в области квантового вычисления набирают темп во всем мире. Предлагают даже более обещающие новые технологии реализации квантовых компьютеров и постоянно открывают и анализируют новые типы квантового вычисления с различными преимуществами перед классическим вычислением. {223} Я нахожу все эти разработки весьма захватывающими и считаю, что некоторые из них принесут технологические плоды. Но для этой книги данный вопрос несущественен. С фундаментальной точки зрения не имеет значения, насколько полезным оказывается квантовое вычисление, как не имеет значения и то, построим ли мы первый универсальный квантовый компьютер на следующей неделе, через века или не построим его никогда. В любом случае, квантовая теория вычисления должна быть неотъемлемой частью мировоззрения любого человека, ищущего фундаментального понимания реальности. То, что квантовые компьютеры говорят нам о связи законов физики, универсальности и, на первый взгляд, несвязанных направлений объяснения в структуре реальности, мы можем обнаружить — и уже обнаруживаем, — изучая их теоретически.
Квантовое вычисление — вычисление, которое требует квантово-механических процессов, особенно интерференции. Другими словами, вычисление, которое осуществляют в сотрудничестве с параллельными вселенными.
Экспоненциальное вычисление — вычисление, требования к ресурсам которого (например, необходимому времени) увеличиваются примерно с постоянным множителем при увеличении вводимого числа на каждый последующий разряд.
Легко/труднообрабатываемый (Правило быстрых приближенных расчетов) — вычислительная задача считается легкообрабатываемой, если ресурсы, необходимые для её выполнения, не увеличиваются экспоненциально с ростом количества разрядов вводимого числа.
Хаос — неустойчивость движения большинства классических систем. Небольшая разница между двумя начальными состояниями порождает экспоненциально растущие отклонения двух результирующих траекторий. Однако реальность подчиняется не классической, а квантовой физике. Непредсказуемость, вызванная хаосом, в общем случае перекрывается квантовой неопределенностью, вызванной тем, что идентичные вселенные становятся различными.
Универсальный квантовый компьютер — компьютер, способный выполнить любое вычисление, которое способен выполнить любой {224} другой квантовый компьютер, и передать любую конечную физически возможную среду в виртуальной реальности.
Квантовая криптография — любая форма криптографии, которую можно реализовать на квантовых компьютерах, но невозможно на классических.
Специализированный квантовый компьютер — квантовый компьютер, например, квантовое криптографическое устройство или квантовое устройство разложения на множители, который не является универсальным квантовым компьютером.
Декогерентность — когда различные отрасли квантового вычисления в различных вселенных по-разному воздействуют на окружающую среду, интерференция уменьшается, а вычисление может не получиться. Декогерентность — это главное препятствие практической реализации более мощных квантовых компьютеров.
Законы физики допускают существование компьютеров, способных передать любую физически возможную среду, не используя непрактично больших ресурсов. Таким образом, универсальное вычисление не просто возможно, как этого требовал принцип Тьюринга, оно также является легкообрабатываемым. Квантовые явления могут включать огромное множество параллельных вселенных, а потому, могут не поддаться эффективному моделированию в пределах одной вселенной. Тем не менее, эта жизнестойкая форма универсальности по-прежнему остается в силе, потому что квантовые компьютеры могут эффективно передать любую физически возможную квантовую среду, даже при взаимодействии огромного множества вселенных. Квантовые компьютеры также могут эффективно решать определенные математические задачи, например, разложение на множители, которые с классических позиций являются труднообрабатываемыми, а также осуществлять классически невозможные разновидности криптографии. Квантовое вычисление — это качественно новый способ использования природы.
Следующая глава, вероятно, приведет в ярость многих математиков. С этим ничего не поделаешь. Математика — это не то, чем они её считают. {225}
(Читатели, не знакомые с традиционными допущениями относительно определенности математического знания, могут посчитать главный вывод этой главы таковым, что наше знание математической истины зависит от нашего знания физического мира, и не более надежно, чем это знание является очевидным. Возможно, эти читатели предпочтут только просмотреть эту главу и сразу же перейти к обсуждению времени в главе 11). {226}
«Структура реальности», которую я описывал до сих пор, была структурой физической реальности. Тем не менее, я свободно ссылался на такие категории, которых нет нигде в физическом мире, — абстракции, такие как числа и бесконечные множества компьютерных программ. Да и сами законы физики нельзя отнести к физическим категориям в том смысле, в каком к ним относятся камни и планеты. Как я уже сказал, «Книга Природы» Галилео — всего лишь метафора. И кроме того, существует вымысел виртуальной реальности, несуществующие среды, законы которых отличаются от реальных физических законов. За пределами этих сред находится то, что я назвал средами «Кантгоуту», которые невозможно передать даже в виртуальной реальности. Я сказал, что существует бесконечно много таких сред для каждой среды, которую можно передать. Но что значит сказать, что такие среды «существуют»? Если они не существуют ни в реальности, ни даже в виртуальной реальности, то где они существуют?
А существуют ли абстрактные нефизические категории вообще? Являются ли они частью структуры реальности? В данной ситуации меня не занимают проблемы простого использования слов. Очевидно, что числа, физические законы и т. д. действительно «существуют» в некотором смысле и не существуют в другом. Независимо от этого возникает следующий вопрос: как мы должны понимать такие категории? Какие из них являются всего лишь удобной формой слов, которые, в конечном счете, ссылаются на обычную физическую реальность? Какие из них всего лишь преходящие особенности нашей культуры? Какие из них произвольны, как правила банальной игры, которые нужно только посмотреть в приложении? А какие, если такие вообще есть, можно объяснить только, если приписать им независимое существование? Все, что относится к последнему виду, должно быть частью структуры реальности, как она определяется в этой книге, потому что это необходимо понять, чтобы понять все, что понято. {227}
Это говорит о том, что нам снова следует воспользоваться критерием доктора Джонсона. Если мы хотим знать, действительно ли существует данная абстракция, мы должны спросить, «дает ли она ответную реакцию» сложным, автономным образом. Например, математики характеризуют «натуральные числа» 1, 2, 3,... — прежде всего — точным определением:
1 — это натуральное число.
За каждым натуральным числом следует только одно число, которое также является натуральным.
1 не следует ни за каким натуральным числом.
Подобные определения — это попытки абстрактного выражения интуитивного физического понятия последовательных значений дискретной величины. (Точнее, как я объяснил в предыдущей главе, в действительности это понятие является квантово-механическим). Арифметические действия, например, умножение и сложение, а также последующие понятия, подобные понятию простого числа, в этом случае определяют, ссылаясь на «натуральные числа». Но создав абстрактные «натуральные числа» через это определение и поняв их через эту интуицию, мы обнаруживаем, что осталось гораздо больше того, что мы всё ещё не понимаем о них. Определение простого числа раз и навсегда устанавливает, какие числа являются простыми, а какие не являются. Но понимание того, какие числа являются простыми, — например, продолжается ли последовательность простых чисел бесконечно, как они сгруппированы, насколько и почему они «случайны», — влечет за собой новое понимание и изобилие новых объяснений. В действительности оказывается, что сама теория чисел — это целый мир (этот термин используют часто). Для более полного понимания чисел мы должны определить множество новых классов абстрактных категорий и постулировать много новых структур и связей между этими структурами. Мы обнаруживаем, что некоторые подобные структуры связаны с интуицией другого рода, которой мы уже обладаем, но которая вопреки этому не имеет ничего общего с числами — например, симметрия, вращение, континуум, множества, бесконечность и многое другое. Таким образом, абстрактные математические категории, с которыми, как нам кажется, мы знакомы, тем не менее, могут удивить или разочаровать нас. Они могут неожиданно возникнуть в новых нарядах или масках. Они могут быть необъяснимы, а впоследствии подойти под новое объяснение. {228} Таким образом, они являются сложными и автономными, и, следовательно, по критерию доктора Джонсона, мы должны сделать вывод об их реальности. Поскольку мы не можем понять их ни как часть себя, ни как часть чего-либо ещё, что мы уже понимаем, но можем понять их как независимые категории, следует сделать вывод, что они являются реальными, независимыми категориями.
Тем не менее, абстрактные категории неосязаемы. Они не дают ответной физической реакции так, как это делает камень, поэтому эксперимент и наблюдение не могут играть в математике такую же роль, какую они играют в науке. В математике такую роль играет доказательство. Камень доктора Джонсона оказал ответное воздействие тем, что в его ноге появилась отдача. Простые числа оказывают ответное воздействие, когда мы доказываем что-то неожиданное относительно них, особенно, если мы можем пойти дальше и объяснить это. С традиционной точки зрения ключевое различие между доказательством и экспериментом состоит в том, что доказательство не ссылается на физический мир. Мы можем осуществить доказательство в своем собственном разуме или внутри генератора виртуальной реальности, который передает среду с неправильной физикой. Единственное условие заключается в том, что мы следуем правилам математического вывода, а потому должны получить тот же самый ответ, что и кто-либо ещё. И вновь широко распространено мнение, что, не считая возможности появления грубых ошибок, когда мы доказали что-либо, мы абсолютно определенно знаем, что это истина.
Математики весьма гордятся этой абсолютной определенностью, а ученые склонны немного этому завидовать. Дело в том, что в науке невозможно быть определенным относительно какого-либо высказывания. Неважно, насколько хорошо чьи-либо теории объясняют существующие наблюдения, в любой момент кто-то может предоставить новое, необъяснимое наблюдение, которое поставит под сомнение всю существующую объяснительную структуру. Хуже того, кто-то может достичь лучшего понимания, которое объясняет не только все существующие наблюдения, но и то, почему предыдущие объяснения казались подходящими, но, несмотря на это, были весьма ошибочными. Галилео, например, обнаружил новое объяснение векового наблюдения, что земля под нашими ногами находится в состоянии покоя, объяснение, которое влекло за собой идею о том, что в действительности земля движется. Виртуальная реальность — которая может сделать так, что одна среда {229} будет казаться другой — подчеркивает тот факт, что когда наблюдение выступает как высший судья теорий, никогда не может возникнуть хоть какая-то определенность, что существующее объяснение, каким бы очевидным оно ни было, хотя бы отдаленно является истиной. Но когда в качестве судьи выступает доказательство, определенность считается возможной.
Говорят, что правила логики впервые сформулировали, надеясь, что они обеспечат объективный и обоснованный метод разрешения всех споров. Эту надежду невозможно оправдать. Изучение самой логики открыло, что область действия логической дедукции как средства раскрытия истины жестко ограничена. При наличии существующих допущений о мире можно сделать выводы дедуктивно; но эти выводы ничуть не более обоснованны, чем допущения. Единственные высказывания, которые может доказать логика, не прибегая к допущениям, — это тавтологии — такие утверждения, как «все планеты — это планеты», которые ничего не утверждают. В частности, все реальные научные вопросы находятся за пределами той области, где можно уладить споры с помощью одной логики. Однако считается, что математика находится в пределах этой области. Таким образом, математики ищут абсолютную, но абстрактную истину, в то время как ученые утешают себя мыслью, что они могут обрести реальное и полезное знание физического мира. Но они должны принять, что это знание не имеет гарантий. Оно вечно экспериментально и вечно подвержено ошибкам. Идея о том, что науку характеризует «индукция», метод доказательства, который считается аналогом дедукции, но чуть более подверженным ошибкам, — это попытка извлечь все возможное из этого постижимого второсортного статуса научного знания. Вместо дедуктивно доказанных определенностей, возможно, мы удовольствуемся индуктивно доказанными «почти-определенностями».
Как я уже сказал, не существует такого метода доказательства как «индукция». Идея доказательства каким-то образом достигнутой «почти-определенности» в науке — миф. Каким образом я мог бы «почти-определенно» доказать, что завтра не опубликуют удивительную новую физическую теорию, опровергающую мои самые неоспоримые допущения относительно реальности? Или то, что я не нахожусь внутри генератора виртуальной реальности? Но я говорю все это не для того, чтобы показать, что научное знание действительно «второсортно». {230} Ибо идея о том, что математика дает определенности — это тоже миф.
С древних времен идея о привилегированном статусе математического знания часто ассоциировалась с идеей о том, что некоторые абстрактные категории, по крайней мере, не просто являются частью структуры реальности, но даже более реальны, чем физический мир. Пифагор считал, что регулярности в природе есть выражение математических отношений между натуральными числами. «Все вещи есть числа» — таков был его девиз. Он не имел это в виду буквально, однако Платон пошел ещё дальше и отрицал реальность физического мира вообще. Он считал, что наши мнимые ощущения этого мира ничего не стоят и вводят в заблуждение, и доказывал, что физические объекты и явления, которые мы понимаем, — всего лишь «тени» несовершенных копий их истинных сущностей («Форм» или «Идей»), существующих в отдельной области, которая и есть истинная реальность. В этой области, кроме всего прочего, существуют Формы чистых чисел, таких, как 1, 2, 3,..., и Формы математических действий, таких, как сложение и умножение. Мы можем воспринять некоторые тени этих Форм, когда кладем на стол одно яблоко, потом ещё одно и видим, что на столе два яблока. Однако яблоки выражают «наличие одного» и «наличие двух» (и, в данном случае, «наличие яблок») несовершенно. Они не являются совершенно идентичными, а потому, в действительности на столе никогда нет двух примеров чего-либо. На это можно возразить, что число два можно также представить, положив на стол два различных объекта. Но и такое представление несовершенно, потому что в этом случае мы должны допустить, что на столе также есть клетки, отпавшие от яблок, пыль и воздух. В отличие от Пифагора, Платон занимался не только натуральными числами. Его реальность содержала Формы всех понятий. Например, она содержала Форму совершенного круга. «Круги», которые мы видим, никогда не являются действительно кругами. Они не совершенно круглые, не совершенно плоские; у них есть конечная толщина и т. д. Все они несовершенны.
Затем Платон указал задачу. Принимая во внимание все это Земное несовершенство (и он мог бы добавить, наш несовершенный сенсорный доступ даже к Земным кругам), как вообще мы можем знать то, что мы знаем о реальных, совершенных кругах? Очевидно, что мы обладаем знанием о них, но каким образом? Где Евклид приобрел знание геометрии, которое выразил в своих знаменитых аксиомах, когда {231} у него не было ни истинных кругов, ни точек, ни прямых? Откуда исходит эта определенность математического доказательства, если никто не способен ощутить те абстрактные категории, на которые оно ссылается? Ответ Платона заключался в том, что мы получаем все это знание не из этого мира теней и иллюзий. Мы получаем его непосредственно из самого мира Форм. Мы обладаем совершенным врожденным знанием того мира, которое, как он считал, забывается при рождении, а затем скрывается под слоями ошибок, вызванных тем, что мы доверяем своим чувствам. Но реальность можно вспомнить, усердно применяя «разум», впоследствии дающий абсолютную определенность, которую никогда не может дать ощущение.
Интересно, кто-нибудь когда-нибудь верил в эту весьма сомнительную фантазию (включая самого Платона, который всё-таки был очень компетентным философом, считавшим, что публике стоит говорить благородную ложь)? Тем не менее, поставленная им задача — как мы можем обладать знанием, не говоря уж об определенности, абстрактных категорий — достаточно реальна, а некоторые элементы предложенного им решения с тех пор стали частью общепринятой теории познания. В частности, фактически все математики до сегодняшнего дня без критики принимают основную идею того, что математическое и научное знание проистекают из различных источников и что «особый» источник математического знания дает ему абсолютную определенность. Сейчас этот источник математики называют математической интуицией, однако он играет ту же самую роль, что и «воспоминания» Платона об области Форм.
Математики много и мучительно спорили о том, открытия каких в точности видов совершенно надежного знания можно ожидать от нашей математической интуиции. Другими словами, они согласны, что математическая интуиция — источник абсолютной определенности, но не могут прийти к соглашению относительно того, что она им говорит! Очевидно, что это повод для бесконечных, неразрешимых споров.
Бóльшая часть таких споров неизбежно касалась обоснованности или необоснованности различных методов доказательства. Одно из разногласий было связано с так называемыми «мнимыми» числами. Новые теоремы об обычных, «вещественных» числах доказывали, обращаясь на промежуточных этапах доказательства к свойствам мнимых чисел. Например, таким образом были доказаны первые теоремы о распределении простых чисел. Однако некоторые математики возражали против {232} мнимых чисел на том основании, что они не реальны. (Современная терминология всё ещё отражает это старое разногласие даже сейчас, когда мы считаем, что мнимые числа так же реальны, как и «вещественные»). Я полагаю, что учителя в школе говорили этим математикам, что нельзя извлекать квадратный корень из минус одного, и, поэтому они не понимали, почему кто-либо другой может это сделать. Нет сомнения в том, что они называли этот злостный порыв «математической интуицией». Однако другие математики обладали другой интуицией. Они понимали, что такое мнимые числа, и как они согласуются с вещественными. Почему, думали они, человеку не следует определять новые абстрактные категории, имеющие свойства, которые он предпочитает? Безусловно единственным законным основанием запретить это была бы логическая несовместимость требуемых свойств. (Это, по существу, современное мнение, выработанное всеобщими усилиями, математик Джон Хортон Конуэй грубо назвал «Движением Освобождения «Математиков»). Однако общеизвестно, что никто не доказал и то, что обычная арифметика натуральных чисел является самосогласованной.
Подобным разногласиям подверглась и обоснованность использования бесконечных чисел, а также множеств, содержащих бесконечно много элементов, и бесконечно малых величин, используемых при исчислении. Дэвид Гильберт, великий немецкий математик, предоставивший большую часть инфраструктуры как общей теории относительности, так и квантовой теории, заметил, что «математическая литература переполнена бессмыслицами и нелепостями, проистекающими из бесконечности». Некоторые математики, как мы увидим, вовсе отрицали обоснованность рассуждения о бесконечных категориях. Легкий доступ к чистой математике в девятнадцатом веке мало что сделал для разрешения этих разногласий. Напротив, он только усугубил их и породил новые. По мере своего усложнения математическое рассуждение неизбежно удалялось от повседневной интуиции, что возымело два важных противоположных следствия. Во-первых, математики стали более педантичными в отношении доказательств, которые, прежде чем быть принятыми, подвергались все более суровым проверкам на соответствие нормам точности. Но во-вторых, изобрели более мощные методы доказательства, которые не всегда можно было обосновать с помощью существующих методов. И из-за этого часто возникали сомнения, был ли какой-то частный метод доказательства, несмотря на свою самоочевидность, абсолютно безошибочным. {233}
Таким образом, к 1900 году наступил кризис основ математики, который заключался в том, что этих основ не было. Но что же произошло с законами чистой логики? Их перестали считать способными разрешить все математические споры? Удивителен тот факт, что теперь математические споры в сущности и велись о «законах чистой логики». Первым эти законы привел в систему Аристотель ещё в 4 веке до н.э., тем самым заложив то, что сегодня называют теорией доказательства. Он допустил, что доказательство должно состоять из последовательности утверждений, которая начинается с каких-либо посылок и определений, а заканчивается желаемым выводом. Чтобы последовательность утверждений была обоснованным доказательством, каждое утверждение, кроме начальных посылок, должно следовать из предыдущих в соответствии с одним из постоянного набора законов, называемых силлогизмами. Типичным был следующий силлогизм
Все люди смертны.
Сократ — человек.
[Следовательно] Сократ смертен.
Другими словами, это правило гласило, что если в доказательстве появляется утверждение вида «все А имеют свойство В» (как в данном случае «все люди смертны») и другое утверждение вида «индивидуум Х есть А» (как в данном случае «Сократ — человек»), то впоследствии в доказательстве обоснованно появление утверждения «X имеет свойство В» («Сократ смертен»), и это утверждение, в частности, является обоснованным выводом. Силлогизмы выражают то, что мы назвали бы правилами вывода, то есть правилами, определяющими этапы, которые допустимы при доказательстве, такими, что истина посылок переходит к выводам. Кроме того, эти правила можно применить, чтобы определить, обосновано ли данное доказательство.
Аристотель заявил, что все обоснованные доказательства можно выразить в виде силлогизмов. Но он не доказал это! А проблема теории доказательства заключалась в том, что очень небольшое количество современных математических доказательств выражались в виде чистой последовательности силлогизмов; более того, большинство из них невозможно было привести к такому виду. Тем не менее, большинство математиков не могли заставить себя следовать букве закона Аристотеля, так как некоторые новые доказательства казались так же самоочевидно обоснованными, как и рассуждение Аристотеля. Математики {234} перешли на новый этап развития. Новые инструменты, такие, как символическая логика и теория множеств, позволили математикам установить новую связь между математическими структурами. Благодаря этому появились новые самоочевидные истины, независимые от классических правил вывода, и, таким образом, классические правила оказались самоочевидно неадекватными. Но какие же из новых методов доказательства были действительно безошибочными? Как нужно было изменить правила вывода, чтобы они обрели законченность, на которую ошибочно претендовал Аристотель? Как можно было вернуть абсолютный авторитет старых правил, если математики не могли прийти к соглашению относительно того, что является самоочевидным, а что бессмысленным?
Тем временем математики продолжали строить свои абстрактные небесные зáмки. Для практических целей многие такие строения казались достаточно надежными. Некоторые из них стали необходимы для науки и техники, а большинство образовало красивую и плодотворную структуру. Тем не менее, никто не мог гарантировать, что вся эта структура, или какая-то существенная её часть, не имела в своей основе логического противоречия, которое буквально лишило бы её всякого смысла. В 1902 году Бертран Рассел доказал несостоятельность схемы строгого определения теории множеств, которую только что предложил немецкий логик Готлоб Фреге. Это не значило, что эта схема непременно была необоснованной для использования множеств в доказательствах. На самом деле совсем немногие математики всерьез считали, что хоть какой-то из обычных способов использования множеств, арифметики или других ключевых разделов математики может быть необоснованным. В результатах Рассела поражало то, что математики верили, что их предмет является par excellence средством получения абсолютной определенности через доказательство математических теорем. Сама возможность разногласий относительно обоснованности различных методов доказательства подрывала всю суть (как считалось) предмета.
Поэтому многие математики чувствовали, что подведение под теорию доказательства, а тем самым и под саму математику, надежной основы было насущным делом, не терпящим отлагательства. Они хотели объединиться после своих опрометчивых выпадов, чтобы раз и навсегда определить, какие виды доказательства являются абсолютно надежными, а какие нет. Все, что оказалось вне зоны надежности, можно было {235} бы отбросить, а все, что попадало в эту зону, стало бы единственной основой всей будущей математики.
В этой связи голландский математик Лейтзен Эгберт Ян Брауэр пропагандировал чрезвычайно консервативную стратегию теории доказательства, известную как интуиционизм, которая и по сей день имеет своих сторонников. Интуиционисты пытаются толковать «интуицию» самым ограниченным постижимым образом, оставляя лишь то, что они считают её неоспоримыми самоочевидными аспектами. Затем они поднимают таким образом определенную математическую интуицию на уровень даже более высокий, чем позволял себе Платон: они считают её более веской, чем даже чистая логика. Таким образом, они считают саму логику ненадежной, за исключением тех случаев, когда её доказывает прямая математическая интуиция. Например, интуиционисты отрицают, что можно иметь прямую интуицию какой-либо бесконечной категории. Следовательно, они отрицают существование любых бесконечных множеств, например, множества всех натуральных чисел. Высказывание о том, что «существует бесконечно много натуральных чисел», они сочли бы самоочевидно ложным. А высказывание о том, что «существует больше сред Кантгоуту, чем физически возможных сред», — абсолютно бессмысленным.
Исторически интуиционизм, равно как и индуктивизм, сыграл ценную освободительную роль. Он осмелился подвергнуть сомнению полученные определенности — некоторые из которых действительно оказались ложными. Но как позитивная теория о том, что является или не является обоснованным математическим доказательством, он и гроша ломаного не стоит. В действительности интуиционизм — это точное выражение солипсизма в математике. В обоих случаях наблюдается чрезмерная реакция на мысль о том, что мы не можем быть уверены в том, что нам известно о более отдаленном мире. В обоих случаях предложенное решение состоит в том, чтобы уйти во внутренний мир, который мы, предположительно, можем познать напрямую, и следовательно(?), можем быть уверены, что познали истину. В обоих случаях решение заключается в отрицании существования — или, по крайней мере, в отказе от объяснения — того, что находится вовне. И в обоих случаях этот отказ также делает невозможным объяснение бóльшей части того, что находится внутри предпочитаемой области. Например, если действительно ложно то (как утверждают интуиционисты), что существует бесконечно много натуральных чисел, то можно сделать {236} вывод, что может существовать только конечное множество таких чисел. А сколько их может быть? И потом, сколько бы их не было, почему нельзя создать интуицию следующего натурального числа, превышающего последнее? Интуиционисты оправдались бы в этом случае, сказав, что приведенный мной аргумент допускает обоснованность обычной логики. В частности, он содержит процесс вывода: из факта, что не существует бесконечно много натуральных чисел, делается вывод, что должно существовать какое-то конкретное количество натуральных чисел. Применяемое в данном случае правило вывода называется законом исключенного третьего. Этот закон гласит, что для любого высказывания Х (например, «существует бесконечно много натуральных чисел»), не существует третьей возможности кроме истинности Х и истинности отрицания Х («существует конечное множество натуральных чисел»). Интуиционисты хладнокровно отрицают закон исключенного третьего.
Поскольку в разуме большинства людей сам закон исключенного третьего подкреплен мощной интуицией, его отрицание естественно вызывает у неинтуиционистов сомнение в том, так ли уж самоочевидна надежность интуиции интуиционистов. Или, если мы сочтем, что закон исключенного третьего исходит из логической интуиции, он приводит нас к пересмотру вопроса о том, действительно ли математическая интуиция превосходит логику. В любом случае может ли это превосходство быть самоочевидным?
Но все это направлено на критику интуиционизма извне. Это не опровержение: интуиционизм невозможно опровергнуть вообще. Если кто-либо настаивает, что для него очевидно самосогласованное высказывание, как если бы он настаивал на том, что существует только он один, доказать его неправоту невозможно. Однако, как и в случае с солипсизмом, воистину роковая ошибка интуиционизма открывается не тогда, когда на него нападают, а тогда, когда его всерьез принимают, на его же собственной основе, в качестве объяснения своего собственного, произвольно усеченного мира. Интуиционисты верят в реальность конечного множества натуральных чисел 1, 2, 3,..., и даже 10 949 769 651 859. Но интуитивный аргумент, что поскольку за каждым из этих чисел следует ещё одно, значит, они образуют бесконечную последовательность, интуиционисты считают не более чем самообманом или искусственностью и буквально несостоятельным. Но усиливая связь между своей версией абстрактных «натуральных чисел» и интуицией, {237} что первоначально эти числа должны были быть формализованы, интуиционисты также сами отрицают обычную объяснительную структуру, через которую понимают натуральные числа. Это вызывает проблему для каждого, кто предпочитает объяснения необъясненным усложнениям. Вместо того чтобы решить эту проблему, предоставив для натуральных чисел альтернативную или более глубокую объяснительную структуру, интуиционизм делает то же самое, что делала Инквизиция и что делали солипсисты: он ещё дальше уходит от объяснений. Он вводит дальнейшие необъясненные усложнения (в данном случае отрицание закона исключенного третьего), единственная цель которых состоит в том, чтобы позволить интуиционистам вести себя так, как если бы объяснения их противников были истинными, но не делая из этого никаких выводов относительно реальности.
Точно так же как солипсизм начинается с мотивации упрощения пугающе разнообразного и неопределенного мира, но при серьезном к нему отношении оказывается реализмом в сочетании с несколькими ненужными усложнениями, так и интуиционизм оканчивается тем, что становится одной из самых контринтуитивных доктрин, которые когда-либо всерьез пропагандировали.
Дэвид Гильберт предложил гораздо более разумный — хотя, в конечном счете, и обреченный — план «раз и навсегда ввести убежденность в математических методах». План Гильберта основывался на идее согласованности. Он надеялся составить полный набор современных правил вывода математических доказательств с определенными свойствами. Количество таких правил должно было быть конечным. Они должны были быть применимы напрямую, так чтобы определить, удовлетворяет ли им какое-то предложенное доказательство, не составляло бы труда и не вызывало противоречий. Желательно, чтобы эти правила были интуитивно самоочевидными, но это не было первостепенным требованием для прагматичного Гильберта. Он был бы удовлетворен, если бы правила лишь умеренно соответствовали интуиции при условии, что он мог бы быть уверен в их самосогласованности. То есть, если правила определили данное доказательство как обоснованное, он хотел быть уверен, что они никогда не определят как обоснованное любое другое доказательство с противоположным выводом. Как он мог быть уверен в этом? На этот раз согласованность должна была быть доказана с помощью метода доказательства, который сам придерживался тех же правил вывода. Таким образом, Гильберт надеялся восстановить {238} завершенность и определенность Аристотеля. Он также надеялся, что с помощью этих правил будет, в принципе, доказуемо любое истинное математическое утверждение и не будет доказуемо любое ложное утверждение. В 1900 году в ознаменование начала века Гильберт опубликовал список задач, которые, как он надеялся, математики смогут решить в двадцатом веке. Десятая задача заключалась в нахождении набора правил вывода с вышеуказанными свойствами и доказательстве их состоятельности в соответствии с их собственными нормами.
Гильберту было предначертано пережить разочарование. Тридцать один год спустя Курт Гёдель создал революционную теорию доказательства с коренным опровержением, которая до сих пор является отправной точкой для математического и физического миров: он доказал, что десятая задача Гильберта не имеет решения. Во-первых, Гёдель доказал, что любой набор правил вывода, способный правильно обосновать даже доказательства обычной арифметики, никогда не сможет обосновать доказательство своей собственной согласованности. Следовательно, нечего и надеяться найти доказуемо согласованный набор правил, который предвидел Гильберт. Во-вторых, Гёдель доказал, что если какой-то набор правил вывода в некоторой (достаточно обширной) области математики является согласованным (неважно, доказуемо это или нет), то в пределах этой области должны существовать обоснованные методы доказательства, которые эти правила не могут определить как обоснованные. Это называется теоремой Гёделя о неполноте. Для доказательства своих теорем Гёдель пользовался замечательным расширением «диагонального доказательства» Кантора, о котором я упоминал в главе 6. Он начал с рассмотрения любого согласованного набора правил вывода. Затем он показал, как составить утверждение, которое невозможно ни доказать, ни опровергнуть с помощью этих правил. Затем он доказал, что это высказывание истинно.
Если бы программа Гильберта работала, это было бы плохой новостью для концепции реальности, выдвигаемой мной в этой книге, поскольку это устранило бы необходимость понимания при критике математических идей. Кто угодно — или какая угодно неразумная машина, — способный выучить наизусть правила вывода, на которые так надеялся Гильберт, смог бы так же хорошо оценивать математические высказывания, как и самый способный математик, не нуждаясь в математическом понимании или даже не имея самого отдаленного понятия о смысле этого высказывания. В принципе, было бы возможно {239} делать новые математические открытия, не зная математики вообще, а зная только правила Гильберта. Можно было бы просто проверять все возможные строки букв и математических символов в алфавитном порядке, пока одна из них не удовлетворила бы проверке на то, является ли она доказательством какой-либо знаменитой недоказанной гипотезы или нет. В принципе, так можно было бы уладить любое разногласие в математике, даже не понимая его смысла — даже не зная значения символов, не говоря уж о понимании принципа действия доказательства или того, что оно доказывает, или в чем заключается метод доказательства, или почему оно надежно.
Может показаться, что достижение единых норм доказательства в математике могло бы, по крайней мере, помочь нам во всеобщем стремлении к объединению — то есть «углублению» нашего знания, на которое я ссылался в главе 1. Однако происходит обратное. Подобно предсказательной «теории всего» в физике, правила Гильберта почти ничего не сказали бы нам о структуре реальности. Они реализовали бы, в пределах математики, предельное видение редукционистов, предсказывающее все (в принципе), но ничего не объясняющее. Более того, если бы математика была редукционистской наукой, то все нежелаемые черты, которые, как я доказал в главе 1, отсутствуют в структуре человеческого знания, присутствовали бы в математике: математические идеи создали бы иерархию, в основе которой лежали бы правила Гилберта. Математические истины, проверка которых, исходя из этих правил, оказалась бы очень сложна, стали бы объективно менее фундаментальными, чем те, которые можно было бы немедленно проверить с помощью этих правил. Поскольку мог существовать только конечный набор таких фундаментальных истин, со временем математике пришлось бы заниматься даже менее фундаментальными задачами. Математика вполне могла исчерпать себя при этой зловещей гипотезе. Если бы этого не произошло, она неизбежно распалась бы на даже более загадочные специализации, по мере увеличения сложности «исходящих» вопросов, которые математики были бы вынуждены решать, и по мере ещё большего отдаления этих вопросов от основ самого предмета.
Благодаря Гёделю мы знаем, что никогда не будет непреложного метода определения истинности математического высказывания, как не существует и непреложного метода определения истинности научной теории. Как никогда не будет и непреложного метода создания нового математического знания. Следовательно, математический прогресс {240} всегда будет зависеть от использования творчества. Изобретение новых видов доказательства всегда будет возможно и необходимо для математиков. Они будут обосновывать их с помощью новых аргументов и новых способов объяснения, зависящих от их непрерывно увеличивающегося понимания абстрактных категорий, связанных с этим доказательством. Примером служат теоремы самого Гёделя: чтобы доказать их, ему пришлось изобрести новый метод доказательства. Я сказал, что этот метод был основан на «диагональном доказательстве», однако Гёдель по-новому расширил это доказательство. До него так ничего не доказывали; никакие правила вывода, составленные кем-либо, кто никогда не видел метода Гёделя, не могли бы определить его как обоснованный. Однако он является самоочевидно обоснованным. Откуда исходит эта самоочевидность? Она исходит из понимания Гёделем природы доказательства. Доказательства Гёделя так же неоспоримы, как и любые другие математические доказательства, но только для того, кто прежде поймет сопровождающее их объяснение.
Таким образом, объяснение всё-таки играет ту же самую первостепенную роль в чистой математике, как оно играет её в науке. Объяснение и понимание мира — физического мира и мира математических абстракций — в обоих случаях является целью изучения. Доказательство и наблюдения — это всего лишь средства проверки наших объяснений.
Роджер Пенроуз извлек из результатов Гёделя ещё более глубокий, радикальный и достойный Платона урок. Как и Платона, Пенроуза восхищает способность человеческого разума постигать абстрактные определенности математики. В отличие от Платона Пенроуз не верит в сверхъестественное и принимает как само собой разумеющееся, что мозг — часть естественного мира и имеет доступ только к этому миру. Таким образом, задача для него встает даже более остро, чем для Платона: как может беспорядочный, ненадежный мир давать математические определенности такой беспорядочной и ненадежной части себя, какой является математик? В частности, Пенроуза удивляет, как мы можем понять безошибочность новых обоснованных форм доказательства, которых, как уверяет Гёдель, бесконечно много.
Пенроуз всё ещё работает над подробным ответом, но он заявляет, что само существование свободной математической интуиции такого рода фундаментально несовместимо с существующей структурой физики и, в частности, с принципом Тьюринга. Вкратце его доказательство выглядит примерно так. Если принцип Тьюринга истинный, {241} то мы можем рассматривать мозг (подобно любому другому объекту) как компьютер, обрабатывающий определенную программу. Взаимодействия мозга с окружающей средой составляют вводимые и выводимые данные. Теперь рассмотрим математика в процессе решения, обоснован или нет недавно предложенный вид доказательства. Принятие такого решения эквивалентно обработке компьютерной программы обоснования доказательства в мозге математика. Такая программа реализует набор правил вывода Гильберта, которые, в соответствии с теоремой Гёделя, не могут быть законченными. Более того, как я уже сказал, Гёдель предоставляет способ создания и доказательства истинного высказывания, которое эти правила не способны признать доказанным. Следовательно, математик, разум которого является эффективным компьютером, применяющим эти правила, также никогда не сможет признать это высказывание доказанным. Затем Пенроуз предлагает показать этому самому математику это высказывание и метод доказательства его истинности Гёделем. Математик понимает доказательство. Оно всё-таки самоочевидно обоснованно, поэтому математик, вероятно, сможет увидеть, что оно обоснованно. Но это бы противоречило теореме Гёделя. Следовательно, где-то в доказательстве должно быть ложное допущение, и Пенроуз считает, что этим ложным допущением является принцип Тьюринга.
Большинство специалистов по вычислительной технике не согласны с Пенроузом, что принцип Тьюринга — наиболее слабое звено в его доказательстве. Они сказали бы, что математик из его доказательства в самом деле не сможет признать высказывание Гёделя доказанным. Может показаться странным, почему математик вдруг не сможет понять самоочевидное доказательство. Но взгляните на следующее высказывание:
Дэвид Дойч не может составить последовательное суждение об истинности этого утверждения.
Я стараюсь изо всех сил, но не могу составить последовательное суждение о его истинности. Поскольку, если бы я сделал это, я бы составил суждение о том, что я не могу составить суждение о его истинности, и вступил бы в противоречие с самим собой. Однако вы видите, что оно истинно, не так ли? Это показывает, что высказывание, по крайней мере, может быть необъяснимым для одного человека, но самоочевидно истинным для всех остальных. {242}
В любом случае Пенроуз надеется на новую фундаментальную теорию физики, которая заменит как квантовую теорию, так и общую теорию относительности. Она давала бы новые предсказания, которые можно проверить, хотя она, безусловно, не противоречила бы ни квантовой теории, ни теории относительности во всех существующих наблюдениях. (Не существует известных экспериментальных примеров, опровергающих такие теории). Однако мир Пенроуза по своей сути весьма отличен от того, что описывает существующая физика. Его основной структурой реальности является то, что мы называем миром математических абстракций. В этом отношении Пенроуз, реальность которого включает все математические абстракции, но, вероятно, не все абстракции (подобные чести и справедливости), находится где-то между Платоном и Пифагором. То, что мы называем физическим миром, является для него вполне реальным (ещё одно отличие от Платона), но каким-то образом это является частью самой математики, или вытекает из неё. Более того, в его мире не существует универсальности; в частности, не существует машины, способной передать все возможные мыслительные процессы людей. Однако мир (конечно, в особенности его математическое основание), тем не менее, остается постижимым. Его постижимость гарантирована не универсальностью вычислений, а явлением, достаточно новым для физики (хотя и не для Платона): математические категории напрямую взаимодействуют с человеческим мозгом через физические процессы, которые ещё предстоит открыть. Таким образом, мозг, по Пенроузу, занимается математикой, ссылаясь не только на то, что мы сейчас называем физическим миром. Он имеет прямой доступ к реальности математических Форм Платона и может постичь там математические истины (за исключением грубых ошибок) с абсолютной определенностью.
Часто предполагают, что мозг может быть квантовым компьютером и что его интуиция, сознание и способности к решению задач могут зависеть от квантовых вычислений. Возможно, это и так, но я не знаю ни свидетельств, ни убедительных аргументов в пользу этого. Я ставлю на то, что мозг, если его рассматривать как компьютер, является классическим компьютером. Но этот вопрос не имеет никакого отношения к идеям Пенроуза. Пенроуз не доказывает, что мозг — это новый вид универсального компьютера, который отличается от универсального квантового компьютера тем, что имеет бóльший репертуар вычислений, которые стали возможны только при новой пост-квантовой {243} физике. Он доказывает новую физику, которая не будет поддерживать универсальность вычислений, так что при его новой теории вообще невозможно будет объяснять некоторые действия мозга как вычисления.
Должен признать, что для меня такая теория непостижима. Однако фундаментальные открытия всегда трудно понять до того, как они произойдут. Естественно, трудно оценить теорию Пенроуза, прежде чем он сформулирует её полностью. Если теория со свойствами, на которые он надеется, в конце концов, вытеснит квантовую теорию, или теорию общей относительности, или и ту, и другую через экспериментальные проверки или предоставив более глубокий уровень объяснений, то каждый разумный человек захочет её принять. И тогда мы отправимся в путешествие постижения нового мировоззрения, к принятию которого будет вынуждать нас объяснительная структура этой теории. Вероятно, это мировоззрение будет весьма отличным от представленного мной в этой книге. Однако, даже если все это пришло, чтобы уйти, я все равно не могу понять, каким образом можно удовлетворить первоначальную мотивацию теории, которая объясняет нашу способность понимать новые математические доказательства. Все равно останется тот факт, что сейчас, да и во всей истории великие математики обладали различной противоречивой интуицией относительно обоснованности различных методов доказательства. Поэтому, даже если истинно то, что абсолютная физико-математическая реальность поставляет свои истины прямо в наш мозг для создания математической интуиции, математики не всегда способны отличить эту интуицию от другой, ошибочной интуиции и от других, ошибочных идей. К сожалению, нет ни колокольчика, который звонит, ни фонарика, который вспыхивает, когда мы понимаем действительно обоснованное доказательство. Порой мы можем ощутить такую вспышку, в момент «эврики», — и, тем не менее, ошибиться. И даже если бы теория предсказала, что существует некий, не замеченный ранее физический индикатор, сопровождающий истинную интуицию (сейчас это становится в высшей степени невозможным), мы бы определенно нашли его полезным, но это все равно не было бы равносильно доказательству того, что этот индикатор работает. Ничто не способно доказать, что однажды ещё лучшая физическая теория не вытеснит теорию Пенроуза и не откроет, что предложенный индикатор всё-таки не был надежным и что существует лучший индикатор. Таким образом, даже если мы сделаем все возможные скидки предложению Пенроуза, если мы вообразим, что оно истинно, и взглянем {244} на мир с его позиций, это все равно не поможет нам объяснить подозрительную определенность знания, которое мы приобретаем, занимаясь математикой.
Я отразил лишь общий смысл аргументов Пенроуза и его оппонентов. Читатель поймет, что, в сущности, я на стороне его оппонентов. Однако даже если признать, что геделианское доказательство Пенроуза не доказывает то, что намеревается доказать, и кажется невероятным, что предложенная им новая физическая теория объясняет то, что намеревается объяснить, Пенроуз, тем не менее, прав, что любое мировоззрение, основанное на существующей концепции научного рационализма, создает задачу для принятых основ математики (или, как выразил бы это Пенроуз, наоборот). Это древняя задача, которую поднял Платон, задача, которая, как показывает Пенроуз, обостряется в свете как теоремы Гёделя, так и принципа Тьюринга. Эта задача заключается в следующем: откуда исходит математическая определенность в реальности, состоящей из физики и понимаемой с помощью научных методов? В то время как большинство математиков и специалистов по вычислительной технике принимают определенность математической интуиции как нечто, само собой разумеющееся, они не воспринимают проблему примирения этого факта с научным мировоззрением всерьез. Пенроуз серьезно относится к этой проблеме и предлагает решение. Его предложение представляет постижимый мир в определенном аспекте, отвергает сверхъестественное, признает важность творчества для математики, приписывает объективную реальность как физическому миру, так и абстрактным категориям и включает объединение основ математики и физики. Во всех этих отношениях я на его стороне.
Поскольку попытки Брауэра, Гильберта, Пенроуза и всех остальных решить сложную задачу Платона, видимо, потерпели неудачу, стоит снова взглянуть на мнимое ниспровержение Платоном идеи о том, что математическую истину можно получить с помощью научных методов.
Прежде всего, Платон говорит нам, что, поскольку мы имеем доступ только (скажем) к несовершенным кругам, значит, через них мы не сможем получить знание о совершенных кругах. А почему нет? Точно так же можно было бы сказать, что мы не можем открыть законы движения планет, потому что у нас нет доступа к реальным планетам, а есть доступ только к их изображениям. (Инквизиция это и говорила, и я объяснил, почему она ошибалась). Также можно было бы сказать, {245} что невозможно построить точные станки, потому что первый такой станок пришлось бы строить с помощью неточных станков. Оглянувшись назад, можно увидеть, что такая критика вызвана очень грубым изображением принципа действия науки (подобным индуктивизму), который вряд ли можно считать удивительным, поскольку Платон жил до того, что мы могли бы признать как науку. Если, скажем, единственный способ узнать что-либо о кругах из опыта заключается в том, чтобы исследовать тысячи физических кругов, а потом, из собранных данных, попытаться сделать какой-то вывод об их абстрактных евклидовых двойниках, то Платон уловил суть. Но если мы создадим гипотезу, что реальные круги точно определенным образом похожи на абстрактные, и окажемся правы, то мы определенно можем узнать что-либо об абстрактных кругах, глядя на реальные. В геометрии Евклида часто используют рисунки для точного определения геометрической задачи или её решения. В таком методе описания существует возможность ошибки, если несовершенство кругов на рисунке оставит впечатление, вводящее в заблуждение, — например, если кажется, что два круга касаются друг друга, хотя на самом деле этого не происходит. Но, поняв отношение между реальными и совершенными кругами, можно аккуратно исключить все подобные ошибки. А не понимая этого отношения, практически невозможно понять геометрию Евклида.
Надежность знания о совершенном круге, которое можно получить из изображения круга, полностью зависит от точности гипотезы о том, что эти круги похожи должным образом. Такая гипотеза в отношении физического объекта (рисунка) эквивалентна физической теории, и её невозможно знать определенно. Но этот факт (как утверждал Платон) не мешает изучению совершенных кругов из опыта; он делает невозможной определенность. Он не должен расстраивать никого, кто ищет не определенность, а объяснения.
Геометрию Евклида можно абстрактно сформулировать без рисунков. Но использование цифр, букв и математических символов в символическом доказательстве способно породить ничуть не бóльшую определенность, чем рисунок по той же самой причине. Символы — это тоже физические объекты, — скажем, чернильные пятна на бумаге, — которые обозначают абстрактные объекты. И опять мы полностью полагаемся на гипотезу, что физическое поведение символов соответствует поведению обозначаемых ими абстракций. Следовательно, надежность того, что мы узнаем, манипулируя этими символами, полностью зависит {246} от точности наших теорий об их физическом поведении и о поведении наших рук, глаз и т. д., с помощью которых мы манипулируем этими символами и наблюдаем за ними. Обманчивые чернила, из-за которых случайный символ изменил свой внешний вид, когда мы не видели этого, — возможно, под дистанционным управлением какого-то шутника, обладающего практической реализацией высоких технологий, — вскоре введут нас в заблуждение относительно того, что мы «определенно» знаем.
Теперь давайте повторно исследуем ещё одно допущение Платона: допущение о том, что у нас нет доступа к совершенству физического мира. Возможно, он прав в том, что мы не найдем совершенной чести или справедливости, и он конечно прав в том, что мы не найдем законы физики или множество всех натуральных чисел. Но мы можем найти совершенную руку в бридже или совершенный ход в данной шахматной позиции. Это все равно, что сказать, что мы можем найти физические объекты или процессы, которые полностью обладают свойствами точно определенных абстракций. Мы можем научиться игре в шахматы как с помощью реальных шахмат, так и с помощью совершенной формы шахмат. Тот факт, что коня срубили, не делает мат, который является результатом этого, менее окончательным.
Поскольку все это имеет место, совершенный евклидов круг можно сделать доступным для наших чувств. Платон не осознавал этого, потому что он не знал о существовании виртуальной реальности. Не составит особого труда запрограммировать в генераторы виртуальной реальности, о которых я размышлял в главе 5, правила геометрии Евклида, так что пользователь сможет получить впечатление взаимодействия с совершенным кругом. Не имея толщины, круг был бы невидимым, пока мы также не модифицировали бы законы оптики, для этого мы могли бы освещать его, чтобы пользователь знал, где он находится. (Пуристы, возможно, предпочли бы обойтись без этого декорирования). Мы могли бы сделать этот круг твердым и непроницаемым, и пользователь мог бы проверить его свойства с помощью твердых, непроницаемых инструментов, а также средств измерения. Виртуальные штангенциркули имели бы совершенную кромку толщиной с лезвие ножа, так что они могли бы точно измерить нулевую толщину. Пользователю можно было бы позволить «нарисовать» ещё круги или другие геометрические фигуры в соответствии с правилами геометрии Евклида. Размеры инструментов и самого пользователя можно было бы регулировать {247} по желанию, чтобы обеспечить проверку предсказаний геометрических теорем в любом масштабе, сколь угодно малом. В каждом случае переданный круг мог бы реагировать точно так же, как круг, определенный в аксиомах Евклида. Таким образом, на основе современной науки мы должны сделать вывод, что в этом отношении Платон мыслил наоборот. Мы можем воспринять совершенные круги в физической реальности (т. е. в виртуальной реальности); но мы никогда не воспримем их в области Форм, поскольку, если и можно сказать, что такая область существует, мы никак её не воспринимаем.
Идея Платона о том, что физическая реальность состоит из несовершенных копий абстракций, сегодня случайно кажется чрезмерно асимметричной позицией. Как и Платон, мы всё ещё изучаем абстракции ради их самих. Однако в науке после Галилео и в теории виртуальной реальности мы также рассматриваем абстракции как средство понимания реальных или искусственных физических категорий, и в этом контексте мы считаем само собой разумеющимся, что абстракции почти всегда являются приближениями истинной физической ситуации. Таким образом, несмотря на то, что Платон считал земные круги, нарисованные на песке, приближениями истинных математических кругов, современный физик посчитал бы математический круг плохим приближением истинной формы планетарных орбит, атомов и других физических объектов.
При условии, что всегда будет существовать возможность выхода из строя генератора виртуальной реальности или его пользователя, можно ли действительно говорить о достижении совершенной передачи евклидова круга в виртуальной реальности в соответствии с нормами математической определенности? Можно. Никто не претендует на то, что сама математика свободна от неопределенности такого рода. Математики могут ошибиться в вычислении, исказить аксиомы, сделать опечатки при изложении своей собственной работы и т. д. Мы претендуем на то, что, за исключением грубых ошибок, их выводы безошибочны. Точно так же генератор виртуальной реальности, работая должным образом в соответствии со своими техническими характеристиками, в совершенстве передал бы совершенный евклидов круг.
Подобным образом мы могли бы возразить, что мы никогда не можем точно сказать, как поведет себя генератор виртуальной реальности под управлением данной программы, потому что это зависит от функционирования машины и, в конечном счете, от законов физики. {248} Поскольку нам не дано с полной уверенностью знать законы физики, мы не можем точно знать, что машина действительно передает геометрию Евклида. И опять, никто не отрицает, что непредвиденные физические явления — станут ли они следствием неизвестных законов физики, или просто заболевания мозга или обманчивых чернил — могут сбить математика с правильного пути. Но если законы физики находятся в соответствующих отношениях, как мы и полагаем, то генератор виртуальной реальности в совершенстве может сделать свою работу, даже несмотря на то, что мы не можем определенно знать, что он это делает. Здесь следует проявить внимательность, чтобы не перепутать два вопроса: можем ли мы знать, что машина виртуальной реальности передает совершенный круг; и действительно ли она передает его. Мы не можем точно знать это, но это ни на йоту не уменьшает совершенство круга, который фактически передает машина. Я вернусь к этому важному различию — между совершенным знанием (определенностью) относительно какой-либо категории, и «совершенством» самой категории — очень скоро.
Допустим, что мы намеренно модифицируем программу, передающую геометрию Евклида, так, что генератор виртуальной реальности по-прежнему будет передавать круги достаточно хорошо, но менее, чем совершенно. Разве мы не смогли бы сделать какой-либо вывод о совершенных кругах, ощущая эту несовершенную передачу? Это полностью зависело бы от того, знали бы мы, в каких отношениях была изменена программа или нет. Если бы мы это знали, мы могли бы с определенностью решить (за исключением грубых ошибок и т. д.), какие аспекты ощущений, полученных нами внутри машины, представляли совершенные круги точно, а какие неточно. И в этом случае знание, которое мы приобрели там, было бы так же надежно, как и любое знание, которое мы приобрели бы, используя правильную программу.
Представляя круги, мы осуществляем передачу в виртуальной реальности почти такого же рода в своем мозге. Причина того, почему этот способ мышления о кругах не бесполезен, состоит в том, что мы можем создать точные теории о том, какими свойствами совершенных кругов обладают воображаемые нами круги, а какими нет.
Используя совершенную передачу в виртуальной реальности, мы могли бы получить впечатление о шести идентичных кругах, которые касаются кромки седьмого идентичного им круга в плоскости, не перекрывая друг друга. Это впечатление при подобных обстоятельствах было {249} бы эквивалентно точному доказательству возможности такой ситуации, потому что геометрические свойства переданных форм были бы абсолютно идентичны геометрическим свойствам абстрактных форм. Но такой вид «практического» взаимодействия с совершенными формами не способен дать всестороннее знание геометрии Евклида. Бóльшая часть интересных теорем относится не к одной геометрической форме, а к бесконечным классам геометрических форм. Например, сумма углов любого треугольника Евклида равна 180°. Мы можем измерить отдельные треугольники с совершенной точностью в виртуальной реальности, но даже в виртуальной реальности мы не можем измерить все треугольники, и поэтому мы не можем проверить теорему.
Как же мы можем её проверить? Мы доказываем её. Традиционно доказательство определяют как последовательность утверждений, удовлетворяющих самоочевидным правилам вывода, но чему физически эквивалентен процесс доказательства? Чтобы доказать утверждение о бесконечно большом количестве треугольников сразу, мы исследуем определенные физические объекты (в данном случае символы), которые обладают общими свойствами с целым классом треугольников. Например, когда при надлежащих обстоятельствах мы наблюдаем символы «DАВС=DDEF» (т. е. «треугольник АВС конгруэнтен треугольнику DEF»), мы делаем вывод, что все треугольники из какого-то определенного конкретным образом класса всегда имеют ту же самую форму, что и соответствующие им треугольники из другого класса, определенного иначе. «Надлежащие обстоятельства», которые придают этому выводу статус доказательства, заключаются, говоря языком физики, в том, что символы появляются на странице под другими символами (некоторые из которых представляют аксиомы геометрии Евклида), и порядок появления символов соответствует определенным правилам, а именно, правилам вывода.
Но какими правилами вывода нам следует пользоваться? Это все равно, что спросить, как следует запрограммировать генератор виртуальной реальности для передачи мира геометрии Евклида. Ответ в том, что нужно использовать те правила вывода, которые, для нашего лучшего понимания, заставят наши символы вести себя в уместной степени как абстрактные категории, которые они обозначают. Как мы можем быть уверены, что они будут вести себя именно так? А мы и не можем быть уверены в этом. Предположим, что некоторые критики возражают против наших правил вывода, потому что они считают, {250} что наши символы будут вести себя отлично от абстрактных категорий. Мы не можем ни взывать к авторитету Аристотеля или Платона, ни доказать, что наши правила вывода безошибочны (за исключением теоремы Гёделя, это привело бы к бесконечному регрессу, ибо сначала нам пришлось бы доказать обоснованность самого метода доказательства, используемого нами). Не можем мы и надменно сказать критикам, что у них что-то не в порядке с интуицией, потому что наша интуиция говорит, что символы будут копировать абстрактные категории в совершенстве. Все, что мы можем сделать, — это объяснить. Мы должны объяснить, почему мы думаем, что при определенных обстоятельствах символы будут вести себя желаемым образом в соответствии с высказанными нами правилами. А критики могут объяснить, почему они предпочитают теорию, конкурирующую с нашей. Расхождение во мнениях относительно двух таких теорий — это частично расхождение во мнениях относительно наблюдаемого поведения физических объектов. Такого рода расхождения могут быть адресованы нормальными методами науки. Иногда они легко разрешимы, а иногда — нет. Другой причиной подобного расхождения может стать концептуальный конфликт, связанный с природой самих абстрактных категорий. И вновь дело за конкурирующими объяснениями, на этот раз объяснениями не физических объектов, а абстрактных категорий. Либо мы придем к общему пониманию со своими критиками, либо согласимся, что говорим о двух различных абстрактных объектах, либо вообще не придем к согласию. Нет никаких гарантий. Таким образом, в противоположность традиционному убеждению, споры в математике не всегда можно разрешить с помощью исключительно методологических средств.
На первый взгляд, характер традиционного символического доказательства кажется весьма отличным от характера «практического» виртуального доказательства. Но теперь мы видим, что они относятся друг к другу так же, как вычисления относятся к физическим экспериментам. Любой физический эксперимент можно рассматривать как вычисление, и любое вычисление — как физический эксперимент. В обоих видах доказательства физическими категориями (независимо от того, находятся они в виртуальной реальности или нет) манипулируют в соответствии с правилами. В обоих видах доказательства физические категории представляют интересующие нас абстрактные категории. И в обоих случаях надежность доказательства зависит от истинности {251} теории о том, что физические и абстрактные категории действительно имеют соответствующие свойства.
Из вышеизложенного рассуждения также можно увидеть, что доказательство — это физический процесс. В действительности, доказательство — это разновидность вычисления. «Доказать» высказывание значит осуществить вычисление, которое, будучи выполненным правильно, устанавливает истинность высказывания. Используя слово «доказательство» для обозначения объекта, например, текста, написанного чернилами на бумаге, мы имеем в виду, что этот объект можно использовать в качестве программы для воссоздания вычисления соответствующего вида.
Следовательно, ни математические теоремы, ни процесс математического доказательства, ни впечатление о математической интуиции не подтверждает никакую определенность. Ничто не подтверждает её. Наше математическое знание, так же как и наше научное знание, может быть глубоким и широким, может быть неуловимым и удивительно объяснительным, может быть принятым без разногласий; но оно не может быть определенным. Никто не может гарантировать, что в доказательстве, которое ранее считалось обоснованным, однажды не обнаружат глубокое недоразумение, казавшееся естественным из-за ранее несомненного «самоочевидного» допущения о физическом мире, или об абстрактном мире, или об отношении некоторых физических и абстрактных категорий.
Именно такое ошибочное, самоочевидное допущение привело к тому, что саму геометрию ошибочно классифицировали как раздел математики в течение двух тысячелетий, приблизительно с 300 года до н.э., когда Евклид написал свой труд «Элементы», до девятнадцатого века (а в некоторых словарях и школьных учебниках до сегодняшнего дня). Геометрия Евклида сформировала часть интуиции любого математика. В конечном счете, некоторые математики начали сомневаться в самоочевидности, в частности, одной из аксиом Евклида (так называемой «аксиомы о параллельных»). Сначала они не сомневались в истинности этой аксиомы. Говорят, что великий немецкий математик Карл Фридрих Гаусс был первым, кто подверг её проверке. Аксиома о параллельных необходима при доказательстве того, что сумма углов треугольника составляет 180°. Легенда гласит, что в совершенной секретности (из-за боязни быть осмеянным) Гаусс разместил своих ассистентов с фонарями и теодолитами на вершинах трех холмов, чтобы вблизи измерить {252} вершины самого большого треугольника. Он не обнаружил никаких отклонений от предсказаний Евклида, однако теперь мы знаем, что это произошло потому, что его инструменты не обладали достаточной чувствительностью. (С геометрической точки зрения окрестность Земли оказывается довольно пассивным местом). Общая теория относительности Эйнштейна включала новую теорию геометрии, которая противоречила геометрии Евклида и была доказана экспериментально. Сумма углов реального треугольника в действительности не обязательно составляет 180°: истинная сумма зависит от гравитационного поля внутри этого треугольника.
Весьма похожая ошибочная классификация была вызвана фундаментальной ошибкой относительно самой природы математики, которую математики допускали с античных времен, а именно, что математическое знание более определенно, чем какая-либо другая форма знания. Такая ошибка не оставляет выбора классификации теории доказательства, кроме как части математики, поскольку математическая теорема не может быть определенной, если теория, подтверждающая метод её доказательства, сама по себе неопределенна. Но как мы только что видели, теория доказательства не является разделом математики — она является наукой. Доказательства не абстрактны. Не существует абстрактного доказательство чего-либо, так же, как не существует абстрактного вычисления чего-либо. Конечно, можно определить класс абстрактных категорий и назвать их «доказательствами», но эти «доказательства» не могут подтвердить математические утверждения, потому что их невозможно увидеть. Они могут убедить кого-либо в истинности высказывания не более, чем абстрактный генератор виртуальной реальности, который физически не существует, может убедить людей, что они находятся в другой среде, или абстрактный компьютер может разложить на множители число. Математическая «теория доказательств» не имела бы никакого отношения к тому, какие математические истины можно или нельзя доказать в действительности, точно так же, как теория абстрактного «вычисления» не имеет никакого отношения к тому, что математики — или кто-то ещё — могут или не могут вычислить в реальности, по крайней мере, если не существует отдельной эмпирической причины считать, что абстрактные «вычисления» в этой теории похожи на реальные вычисления. Вычисления, включая и особые вычисления, квалифицируемые как доказательства, — это физические процессы. Теория доказательств говорит {253} о том, как обеспечить, чтобы эти процессы правильно имитировали абстрактные категории, которые они должны имитировать.
Теоремы Гёделя называли «первыми новыми теоремами чистой логики за две тысячи лет». Но это не так: теоремы Гёделя говорят о том, что можно, а что нельзя доказать, а доказательство — это физический Процесс. В теории доказательства нет ничего, что касалось бы только чистой логики. Новый способ доказательства Гёделем общих утверждений о доказательствах зависит от определенных допущений о том, какие физические процессы могут или не могут представить абстрактный факт так, что наблюдатель сможет обнаружить его и убедиться, благодаря ему. Гёдель перевел такие допущения в явное и выраженное невербально доказательство своих результатов. Его результаты были самоочевидно доказанными не потому, что были «чисто логическими», а потому, что математики нашли эти допущения самоочевидными.
Одно из сделанных Гёделем допущений было традиционным: доказательство может иметь только конечное число этапов. Интуитивное доказательство этого допущения состоит в том, что мы конечные существа и никогда не смогли бы постичь буквально бесконечное число утверждений. Кстати, именно эта интуиция стала причиной беспокойства многих математиков, когда в 1976 году Кеннет Эппел и Вольфганг Хакен использовали компьютер для доказательства знаменитой «гипотезы четырех цветов» (о том, что, используя всего четыре разных цвета, любую карту, нарисованную на плоскости, можно раскрасить так, что никакие два примыкающих района не будут иметь одинаковый цвет). Программа требовала сотни часов машинного времени, что означало, что этапы доказательства, если оно было бы записано, не смог бы прочитать ни один человек за много жизней, не говоря уже о том, чтобы признать его самоочевидным. «Следует ли воспринимать слово компьютера как то, что гипотеза четырех цветов доказана?» — задавались вопросом скептики — хотя им и в голову никогда не приходило составить каталог всех импульсов всех нейронов своего собственного мозга при принятии относительно «простого» доказательства.
Такое же беспокойство может показаться более оправданным, будучи примененным к предполагаемому решению с бесконечным числом этапов. Но что такое «этап» и что такое «бесконечный»? В пятом веке до н.э. Зенон из Элеи на основе похожей интуиции пришел к выводу, Что Ахиллес никогда не обгонит черепаху, если у черепахи будет преимущество на старте. Как-никак, к тому времени, когда Ахиллес {254} поравняется с черепахой, она ещё немножко продвинется вперед. К тому времени, когда он достигнет этой точки, она продвинется ещё чуть-чуть и так до бесконечности. Таким образом, эта процедура «обгона» потребует от Ахиллеса выполнения бесконечного количества этапов обгона, которое он, будучи конечным существом, предположительно выполнить не сможет. Но то, что Ахиллес сможет сделать, невозможно обнаружить с помощью чистой логики. Это полностью зависит от того, что он сможет сделать в соответствии с управляющими законами физики. И если эти законы скажут, что он обгонит черепаху, то он её обгонит. В соответствии с классической физикой обгон требует бесконечного количества этапов вида «переход на настоящее место нахождения черепахи». В этом смысле данное действие является вычислительно бесконечным. Точно так же, если рассматривать как доказательство то, что одна абстрактная величина становится больше другой при применении данного набора действий, то это доказательство с бесконечным количеством этапов. Однако соответствующие законы обозначают это доказательство как физически конечный процесс — и только это имеет значение.
Интуиция Гёделя относительно этапов и конечности, насколько нам известно, действительно накладывает некоторые физические ограничения на процесс доказательства. Квантовая теория требует дискретных этапов, и ни один из известных способов взаимодействия физических объектов не позволил бы бесконечному количеству этапов превзойти измеримый вывод. (Однако, могло бы оказаться возможным, что за всю историю вселенной было бы выполнено бесконечное количество этапов — я объясню это в главе 14). Классическая физика, даже будь она истинной (что исключено), не согласилась бы с такого рода интуицией. Например, непрерывное движение классических систем предусмотрело бы «аналогичное» вычисление, в котором было бы не слишком много этапов и которое обладало бы репертуаром, существенно отличающимся от машины Тьюринга. Известны некоторые примеры хитросплетенных классических законов, в соответствии с которыми бесконечный объем вычислений (бесконечный в соответствии с нормами машины Тьюринга или квантового компьютера) можно было бы выполнить с помощью физически конечных методов. Безусловно, классическая физика несовместима с результатами бесчисленных экспериментов, поэтому размышление о том, какими «были бы» «действительные» классические законы физики, носит весьма искусственный характер; {255} однако эти примеры показывают, что никто не может доказать, независимо от знания физики, что доказательство должно состоять из конечного числа этапов. Эти же соображения применимы к интуиции о том, что должно быть конечное количество правил вывода и что они должны быть «применимы напрямую». Ни одно из этих требований не имеет смысла для абстрактного: это физические требования. Гильберт в своем влиятельном эссе «On the Infinite»[16] со знанием дела высмеял идею реальности требования «конечного количества ступеней». Однако вышеуказанный аргумент показывает, что он ошибался: это требование реально, и оно следует только из физической интуиции самого Гильберта и других математиков.
По крайней мере, одно из направлений интуиции Гёделя относительно доказательства, оказывается, было ошибочным; к счастью, это никак не влияет на доказательства его теорем. Он унаследовал это направление из предыстории греческой математики, и оно не вызывало сомнений ни у одного поколения математиков до тех пор, пока в 1908 году открытия в области квантовой теории вычислений не доказали его ложность. Это направление интуиции заключается в том, что доказательство — это конкретная разновидность объекта, а именно, последовательность утверждений, которая подчиняется правилам вывода. Я уже говорил о том, что доказательство лучше рассматривать не как объект, а как процесс, разновидность вычислений. Однако в классической теории доказательства или вычисления это не делает фундаментальной разницы по следующей причине. Если мы можем пройти через процесс доказательства, мы можем только с небольшим дополнительным усилием вести запись всего важного, что происходит во время этого процесса. Эта запись, физический объект, составит доказательство в смысле последовательности утверждений. И наоборот, если бы у нас была такая запись, мы могли бы прочитать её, проверить, удовлетворяет ли она правилам вывода, и в процессе этого мы докажем вывод. Другими словами, в классическом случае преобразование процессов доказательства и объектов доказательства — это всегда легковычисляемая задача.
Теперь давайте рассмотрим некоторое математическое вычисление, которое является трудновыполнимым на всех классических компьютерах, но предположим, что квантовый компьютер легко может {256} выполнить это вычисление, задействовав интерференцию между, скажем. 10500 вселенными. Чтобы прояснить это, пусть вычисление будет таково, что ответ после его получения (в отличие от результата разложения на множители) невозможно будет проверить с помощью легкообрабатываемых вычислений. Процесс программирования квантового компьютера для получения вычислений такого рода, обработки программы и получения результата составляет доказательство того, что математическое вычисление имеет именно этот частный результат. Но в этом случае не существует способа записать все, что произошло во время процесса доказательства, потому что большая часть этого произошла в других вселенных, и измерение состояния вычисления изменило бы интерференционные свойства и тем самым лишило бы доказательство обоснованности. Таким образом, создание старомодного объекта доказательства было бы невозможно; более того, во вселенной, как мы её знаем, далеко не достаточно материала, чтобы составить такой объект, поскольку в этом доказательстве этапов было бы больше, чем существует атомов в известной вселенной. Этот пример показывает, что из-за возможности квантового вычисления два понятия доказательства не эквивалентны. Интуиция доказательства как объекта не охватывает все способы, с помощью которых можно доказать математическое утверждение в реальности.
И опять мы видим неадекватность традиционного математического метода получения определенности через попытки исключить каждый возможный источник неопределенности или ошибки из нашей интуиции до тех пор, пока не останется только самоочевидная истина. Именно это и сделал Гёдель. Именно это делали Черч, Пост и особенно Тьюринг, когда они пытались интуитивно постичь свои универсальные модели вычисления. Тьюринг надеялся, что его абстрактная бумажная модель настолько проста, настолько открыта и четко определена, что не зависит ни от каких допущений относительно физики, которые можно было бы исказить постижимым образом, и, следовательно, она может стать основой абстрактной теории вычисления, независимой от лежащей в её основе физики. «Он считал, — как однажды выразился Фейнман, — что он понял бумагу». Но он ошибался. Реальная, квантово-механическая бумага очень отличается от абстрактного материала, используемого машиной Тьюринга. Машина Тьюринга является всецело классической, она не принимает во внимание возможность того, что на бумаге могут быть написаны различные символы в различных {257} вселенных и что они могут интерферировать друг с другом. Безусловно, искать интерференцию между различными состояниями бумажной центы непрактично. Но дело в том, что интуиция Тьюринга, из-за содержания в ней ложных допущений из классической физики, заставила его удалить те вычислительные свойства его гипотетической машины, которые он намеревался сохранить. Именно поэтому результирующая модель вычисления была неполной.
Различные ошибки, которые математики во все времена допускали в том, что касается доказательства и определенности, вполне естественны. Настоящее обсуждение имеет своей целью привести нас к ожиданию того, что современная точка зрения тоже не будет вечной. Но уверенность, с которой математики натыкались на эти ошибки, а также их неспособность признать даже возможность ошибки во всем этом, на Мой взгляд, связана с древней и широко распространенной путаницей между методами математики и её предметом. Сейчас я поясню это. В отличие от отношений между физическими категориями, отношения между абстрактными категориями независимы от каких бы то ни было непредвиденных фактов и законов физики. Они абсолютно и объективно определяются автономными свойствами самих абстрактных категорий. Математика, изучающая эти отношения и свойства, таким Образом, изучает абсолютно необходимые истины. Другими словами, Истины, изучаемые математикой, абсолютно определенны. Но это не говорит ни об определенности самого нашего знания этих необходимых истин, ни о том, что методы математики дают своим выводам необходимую им истинность. Как-никак, математика изучает ещё и ложные утверждения и парадоксы. И это не означает, что выводы подобного изучения непременно являются ложными или парадоксальными. Необходимая истина — это всего лишь предмет математики, а не награда за то, что мы занимаемся математикой. Математическая определенность не является и не может являться целью математики. Её целью является даже не математическая истина, определенная или какая-нибудь ещё. Её целью является и должно являться математическое объяснение.
Почему же тогда математика работает так, как она работает? Почему она ведет к выводам, которые, несмотря на их неопределенность. Можно принимать и без проблем применять, по крайней мере, в течение тысячи лет? В конечном счете, причина в том, что некоторая часть нашего знания физического мира столь же надежна и непротиворечива. {258} А когда мы понимаем физический мир достаточно хорошо, мы также понимаем, какие физические объекты имеют общие свойства с абстрактными. Но, в принципе, надежность нашего знания математики остается второстепенной по отношению к нашему знанию физической реальности. Обоснованность каждого математического доказательства полностью зависит от того, правы ли мы относительно правил, управляющих поведением каких-либо физических объектов, будь то генераторы виртуальной реальности, чернила и бумага или наш собственный мозг.
Таким образом, математическая интуиция — это вид физической интуиции. Физическая интуиция — набор эмпирических правил (некоторые из которых возможно врожденные, а большая часть — развившиеся в детстве), о том, как ведет себя физический мир. Например, у нас есть интуиция существования физических объектов и того, что эти объекты обладают определенными свойствами: формой, цветом, весом и положением в пространстве, некоторые из этих свойств существуют, даже когда за этими объектами не наблюдают. Другая интуиция заключается в том, что существует физическая переменная — время — по отношению к которой изменяются свойства, но, тем не менее, объекты способны сохранять свою идентичность с течением времени. Еще одна интуиция заключается в том, что объекты взаимодействуют и что это взаимодействие может изменить некоторые их свойства. Математическая интуиция описывает способ демонстрации свойств абстрактных категорий физическим миром. Одним из таких направлений интуиции является абстрактный закон или, по крайней мере, объяснение, лежащее в основе поведения объектов. Интуицию, предполагающую, что пространство допускает замкнутые поверхности, отделяющие «внутреннюю часть» от «наружной части», можно уточнить, преобразовав её в математическую интуицию множества, разделяющего все на члены и нечлены этого множества. Однако дальнейшее уточнение математиками (начиная с опровержения Расселом теории множеств Фреге) показало, что эта интуиция перестает быть точной, когда рассматриваемое множество содержит «слишком много» членов (слишком большую степень бесконечности членов).
Даже если бы хоть какая-то физическая или математическая интуиция была врожденной, это не предоставило бы ей какого-то особого авторитета. Врожденную интуицию невозможно воспринимать как суррогат «воспоминаний» Платона о мире Форм. Ибо ложность многих {259} направлений интуиции, которые случайно развились у людей в процессе эволюции, — банальное наблюдение. Например, человеческий глаз и математическое обеспечение, которое им управляет, воплощают ложную теорию о том, что желтый свет состоит из смеси красного и зеленого света (в смысле, что желтый свет дает нам точно такое же ощущение как смесь красного и зеленого света). В реальности все три типа света имеют разные частоты и не могут быть созданы посредством смешивания света других частот. Тот факт, что смесь красного и зеленого света кажется нам желтым светом, не имеет ничего общего со свойствами света, но связан со свойствами наших глаз. Это результат компромисса, имевшего место на каком-то этапе отдаленной эволюции наших далеких предков. Существует только возможность (хотя я в неё не верю), что геометрия Евклида или логика Аристотеля каким-то образом встроены в структуру нашего мозга, как считал философ Иммануил Кант. Но это логически не означало бы их истинности. Даже если представить ещё более невероятный случай, что у нас есть врожденная интуиция, от которой мы не в состоянии избавиться, такая интуиция, тем не менее, не стала бы необходимой истиной.
Значит, реальность действительно имеет более объединенную структуру, чем это было бы возможно, если бы математическое знание можно было проверить с определенностью. А следовательно, её структура — это иерархия, как и считалось традиционно. Математические категории являются частью структуры реальности, поскольку они сложны и автономны. Создаваемая ими реальность некоторым образом похожа на область абстракций, о которой размышляли Платон и Пенроуз: несмотря на то, что по определению они неосязаемы, они объективно существуют и имеют свойства, независимые от законов физики. Однако именно физика позволяет нам приобрести знание об этой области. И она накладывает строгие ограничения. Тогда как в физической реальности постижимо все, постижимые математические истины в точности составляют бесконечно малое меньшинство, которое оказывается в точности соответствующим какой-то физической истине — как тот факт, что если определенными символами, написанными чернилами на бумаге, манипулировать определенным образом, появятся другие определенные символы. То есть, это и есть те истины, которые можно передать в виртуальной реальности. У нас нет другого выбора, кроме как принять, что непостижимые математические категории тоже реальны, т. к. они сложным {260} образом возникают в наших объяснениях постижимых категорий.
Существуют физические объекты, например, пальцы, компьютеры и мозг, поведение которых может моделировать поведение определенных абстрактных объектов. Таким образом, структура физической реальности дает нам окно в мир абстракций. Это очень узкое окно, оно предоставляет только ограниченный диапазон перспектив. Некоторые из структур, которые мы видим из него, например, натуральные числа или правила вывода классической логики, кажутся такими же важными или «фундаментальными» для абстрактного мира, какими глубокие законы природы являются для физического мира. Но эта видимость может ввести в заблуждение. Поскольку действительно мы видим только то, что некоторые абстрактные структуры фундаментальны по отношению к нашему пониманию абстракций, у нас нет никакой причины считать, что эти структуры объективно важны в абстрактном мире. Просто некоторые абстрактные категории ближе, чем другие, и их проще увидеть из нашего окна.
Математика — изучение абсолютно необходимых истин.
Доказательство — способ установления истинности математических высказываний.
(Традиционное определение): последовательность утверждений, которая начинается с некоторых посылок, заканчивается желаемым выводом и удовлетворяет определенным «правилам вывода».
(Лучшее определение): вычисление, моделирующее свойства какой-то абстрактной категории, результат которого устанавливает, что абстрактная категория обладает данным свойством.
Математическая интуиция (традиционное) — высший самоочевидный источник доказательства в математическом рассуждении.
(Действительное): Множество теорий (осознанных и неосознанных) о поведении определенных физических объектов, поведение которых моделирует поведение интересных абстрактных категорий.
Интуиционизм — доктрина, связанная с тем, что все рассуждение об абстрактных категориях ненадежно, кроме того случая, когда оно основано на прямой самоочевидной интуиции. Это математическая версия солипсизма. {261}
Десятая задача Гильберта — «раз и навсегда установить определенность математических методов», найдя набор правил вывода, достаточный для всех обоснованных доказательств, и затем доказать состоятельность этих правил в соответствии с их собственными нормами.
Теорема Гёделя о неполноте — доказательство того, что десятая задача Гильберта не имеет решения. Для любого набора правил вывода существуют обоснованные доказательства, которые эти правила не определяют как таковые.
Сложные и автономные абстрактные категории объективно существуют и являются частью структуры реальности. Существуют логически необходимые истины об этих категориях, которые и составляют предмет математики. Однако, эти истины невозможно знать определенно. Доказательства не дают их выводам определенность. Обоснованность конкретной формы доказательства зависит от истинности наших теорий о поведении объектов, с помощью которых мы осуществляем доказательство. Следовательно, математическое знание наследственно производно и полностью зависит от нашего знания физики. Постижимые математические истины — это в точности то бесконечно малое меньшинство, которое можно передать в виртуальной реальности. Однако непостижимые математические категории (например, среды Кантгоуту) тоже существуют, т. к. они сложным образом появляются в наших объяснениях постижимых категорий.
Я сказал, что вычисление всегда было квантовой концепцией, потому что классическая физика несовместима с интуицией, создавшей основу классической теории вычисления. То же самое относится ко времени. За тысячу лет до квантовой теории время было первой квантовой концепцией. {262}
Как движется к земле морской прибой,
Так и ряды бессчетные минут,
Сменяя предыдущие собой,
Поочередно к вечности бегут.
Уильям Шекспир (Сонет 60)
Даже будучи одним из наиболее знакомых свойств физического мира, время имеет репутацию глубоко загадочного. Загадка — часть самого понятия времени, с которым мы растем. Святой Августин, например, сказал:
«Что же тогда есть время? Если никто не спросит меня, я знаю; если я захочу объяснить это тому, кто спросит, я не знаю». (Confessions[17])
Мало кто считает, что расстояние загадочно, но то, что время загадочно, знают все. И вся загадочность времени проистекает из его основного логического свойства, а именно, что настоящий момент, который мы называем «сейчас», не стационарен, а постоянно движется в направлении будущего. Это движение называется потоком времени.
Мы увидим, что потока времени не существует. Тем не менее, такое представление совершенно обыденно. Мы принимаем это как должное настолько, что это принимается в самой структуре нашего языка. В книге A Comprehensive Grammar of the English Language[18] Рэндольф Квирк и его соавторы объясняют концепцию времени с помощью диаграммы, показанной на рисунке 11.1. Каждая точка на линии представляет конкретный стационарный момент. Треугольник «Ñ» показывает, где на линии расположена «непрерывно движущаяся точка, настоящий момент». Считается, что она движется слева направо. Некоторые люди, как Шекспир в процитированном выше сонете, считают определенные события «стационарными», а саму линию движущейся мимо них (справа налево на рисунке 11.1), так что моменты из будущего проносятся мимо настоящего момента, чтобы стать прошлыми моментами. {263}
|
«время можно считать линией (теоретически, линией бесконечной длины), на которой расположен, как постоянно движущаяся точка, настоящий момент. Все что находится перед настоящим моментом, — в будущем, все что находится за настоящим моментом, — в прошлом». |
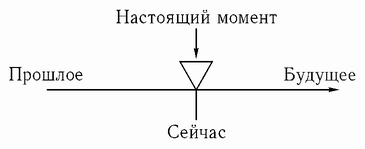 |
|
Рис. 11.1. Общеизвестная концепция времени, принятая в английском языке (основанная на Квирк и др. A Comprehensive Grammar of the English Language, с. 175) |
|
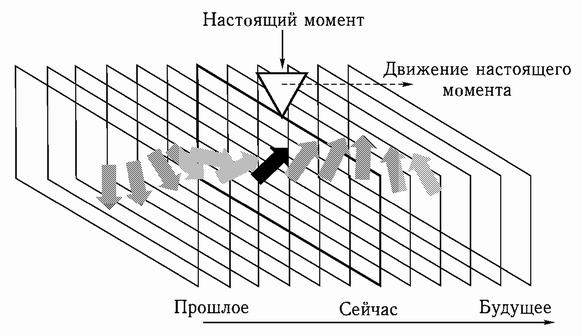 |
|
Рис. 11.2. Движущийся объект как последовательность «снимков», которые один за другим становятся настоящим моментом |
Что мы подразумеваем под высказыванием «время можно считать линией»? Мы подразумеваем, что точно так же, как линию можно считать последовательностью точек в различных положениях, так и любой движущийся или изменяющийся объект можно считать последовательностью неподвижных вариантов «снимков» самого себя, по одному варианту в каждый момент. Сказать, что каждая точка линии представляет конкретный момент, все равно, что сказать, что можно представить все снимки собранными вдоль линии, как на рисунке 11.2. Некоторые из них показывают вращающуюся стрелку, какой она была в прошлом, другие показывают, какой она будет в будущем, а один из них — тот, на {264} который сейчас показывает движущийся Ñ — показывает стрелку такой, какая она сейчас, хотя через мгновение этот конкретный вариант стрелки будет в прошлом, потому что Ñ передвинется. Совокупность мгновенных вариантов объекта является движущимся объектом в том же смысле, в каком последовательность неподвижных картинок, спроецированных на экран, в совокупности является фильмом (движущейся картинкой). Ни одна из них в отдельности не изменяется. Изменение состоит в том, что в последовательности на них указывает («освещает») движущийся Ñ («кинопроектор»), так что друг за другом, по очереди они оказываются в настоящем моменте.
Современные грамматисты стараются не давать субъективных оценок использования языка; они стараются только записывать, анализировать и понимать. Следовательно, Квирка и др. никак нельзя обвинить в качестве теории времени, описываемой ими. Они не претендуют на то, что это хорошая теория. Они претендуют только на то, и, по-моему, довольно правильно, что это наша теория. К сожалению, эта теория не хороша. Скажем прямо, причина того, что теория времени изначально загадочна, в том, что она изначально бессмысленна. Дело не совсем в том, что она фактически неточна. Мы увидим, что она не имеет смысла даже сама по себе.
Возможно, вас это удивит. Мы привыкли видоизменять свой здравый смысл, чтобы приспособиться к научным открытиям. Здравый смысл часто оказывается ложным, даже крайне ложным. Но для здравого смысла необычно быть бессмысленным в том, что касается повседневного опыта. Тем не менее, именно это и произошло в данном случае.
Рассмотрим снова рисунок 11.2. Он иллюстрирует движение двух объектов. Один из них — это вращающаяся стрелка, показанная в виде последовательности снимков. Другой — движущийся «настоящий момент», который перемещается по картинке слева направо. Однако движение настоящего момента не показано на картинке в виде последовательности снимков. Вместо этого один конкретный момент выделен с помощью Ñ, более темных линий и единственной надписи «(сейчас)». Таким образом, даже несмотря на то, что надпись гласит, что «сейчас» движется по картинке, показан только один его снимок, в один конкретный момент.
Почему? Как-никак, основная цель этого рисунка — показать, что происходит не в один момент, а за более длительный период. Если бы {265} мы хотели, чтобы на рисунке был показан только один момент, нам было бы достаточно показать только один снимок вращающейся стрелки. Рисунок должен иллюстрировать разумную теорию о том, что любой движущийся или изменяющийся объект является последовательностью снимков, по одному снимку на каждый момент. Таким образом, если движется Ñ, почему мы не показываем последовательность и его снимков? Один показанный снимок, должно быть, только один из множества снимков, которые существовали бы, если бы этот рисунок точно описывал принцип действия времени. В действительности, в таком виде этот рисунок определенно вводит в заблуждение: он показывает, что Ñ не движется, а скорее начинает существовать в конкретный момент, а потом немедленно прекращает свое существование. Если бы это было так, это сделало бы «сейчас» стационарным моментом. Ничего не значит добавленная мной надпись «Движение настоящего момента» и штрихпунктирная линия, которая показывает, что Ñ движется вправо. Сам рисунок, так же, как и диаграмма Квирк и др. (рисунок 11.1), показывает, что Ñ никогда не достигнет момента, отличного от выделенного.
В лучшем случае, можно было сказать, что рисунок 11.2 — это рисунок-гибрид, который искаженно иллюстрирует движение двумя различными способами. В отношении движущейся стрелки он иллюстрирует теорию времени. Однако рисунок просто утверждает, что настоящий момент движется, при этом показывая, что он не движется. Как нам следует изменить рисунок, чтобы он проиллюстрировал теорию времени относительно движения настоящего момента так же, как и движения стрелки? Включив другие снимки «Ñ», по одному на каждый момент: каждый снимок будет обозначать, где в этот момент находится «сейчас». А где оно находится? Очевидно, что в каждый момент «сейчас» является этим самым моментом. Например, в полночь «Ñ» должен указывать на снимок стрелки, сделанный в полночь; в 1.00 ночи — на снимок, сделанный в 1.00 ночи и т. д. Следовательно, рисунок должен выглядеть как, рисунок 11.3.
Этот исправленный рисунок удовлетворительно иллюстрирует движение, но теперь у нас осталась сильно упрощенная концепция времени. Разумное представление того, что движущийся объект является последовательностью мгновенных вариантов самого себя, осталось, но другое разумное представление — о потоке времени — исчезло. На этой картинке отсутствует «непрерывно движущаяся точка, настоящий {266} момент», проносящаяся через все стационарные моменты по очереди. Отсутствует и процесс, в соответствии с которым любой стационарный момент начинается в будущем, становится настоящим, а затем переходит в прошлое. Многочисленные примеры символов Ñ и «(сейчас)» уже не отличают один момент от другого, а следовательно, являются излишними. Рисунок точно так же проиллюстрировал бы движение вращающейся стрелки, если бы этих изображений не было.
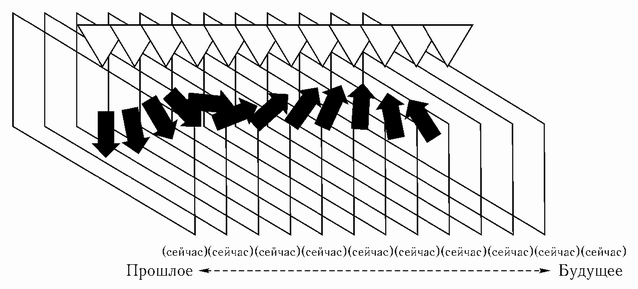 |
|
Рис. 11.3. В каждый момент «сейчас» является этим самым моментом |
Таким образом, на этом рисунке нет одного «настоящего момента», за исключением субъективного. С точки зрения наблюдателя в конкретный момент, этот момент действительно выделяется, и этот наблюдатель только его может назвать «сейчас», точно так же, как любое положение в пространстве выделяется как «здесь» с точки зрения наблюдателя, который находится в этом положении. Однако объективно ни один момент не имеет большей привилегии называться «сейчас», чем все остальные, так же, как ни одно положение не имеет большей привилегии называться «здесь», чем все другие. Субъективное «здесь» может перемещаться в пространстве по мере перемещения наблюдателя. Может ли субъективное «сейчас» точно так же перемещаться во времени? Верны ли всё-таки рисунки 11.1 и 11.2 в том, что иллюстрируют время с точки зрения наблюдателя в конкретный момент? Конечно, нет. Даже субъективно «сейчас» не движется во времени. Часто говорят, что кажется, словно настоящее движется вперед во времени, потому что настоящее определяется только по отношению к нашему сознанию, а наше сознание движется вперед через моменты. Однако наше сознание не делает, да и не могло бы делать, этого. Говоря, что наше сознание, «кажется», {267} переходит от одного момента к следующему, мы попросту пересказываем теорию потока времени. Но думать о том, что единственный «момент, который мы осознаем» движется от одного момента к другому, не более осмысленно, чем думать об одном настоящем моменте или о чем-либо ещё, что ведет себя точно так же. Ничто не может двигаться от одного момента к другому. Существовать в каком-то конкретном моменте значит существовать там вечно. Наше сознание существует во всех моментах, когда мы бодрствуем.
Вероятно, различные снимки наблюдателя воспринимают различные моменты, как «сейчас». Но это не значит, что сознание наблюдателя — или любая другая движущаяся или изменяющаяся категория — движется во времени, как должен двигаться настоящий момент. Различные снимки наблюдателя не находятся в настоящем по очереди. Они не становятся осознающими свое настоящее по очереди. Они все являются осознающими, и субъективно они все находятся в настоящем. Объективно, настоящего не существует.
Мы не ощущаем, что время течет или проходит. Мы чувствуем различия между нашими настоящими ощущениями и нашими настоящими воспоминаниями о прошлых ощущениях. Мы правильно интерпретируем эти различия как свидетельство того, что со временем вселенная меняется. Но кроме того, мы неправильно интерпретируем их как свидетельство того, что наше сознание, или настоящее, или что-либо ещё, движется во времени.
Если бы движущееся настоящее по своей прихоти остановилось на день или два, а затем снова начало бы двигаться в десять раз быстрее, чем до остановки, что мы стали бы осознавать? Ничего особенного — или, скорее, этот вопрос не имеет смысла. Не существует ничего, что могло бы двигаться, останавливаться или течь, не существует ничего, что осмысленно можно было бы назвать «скоростью» времени. Все, что существует во времени, должно принимать форму неизменных снимков, расположенных вдоль временной линии. Это включает сознательный опыт всех наблюдателей с их ошибочной интуицией, связанной с тем, что время «течет». Они могут представлять, как «движущееся настоящее» перемещается вдоль линии, останавливается и снова начинает двигаться, или даже возвращается назад, или совсем прекращает свое существование. Но даже если это вообразить, этого все равно не произойдет. Ничто не может двигаться вдоль этой линии. Время не может течь. {268}
Идея о потоке времени действительно предполагает существование второго сорта времени, помимо разумного понимания времени как последовательности моментов. Если бы «сейчас» действительно двигалось от одного момента к другому, это происходило бы по отношению к этому внешнему времени. Но серьезное отношение к этой идее приводит к бесконечному регрессу, поскольку в этом случае нам пришлось бы представить само внешнее время как последовательность моментов с его собственным «настоящим моментом», движущимся относительно ещё более внешнего времени — и т. д. На каждой ступени поток времени не имел бы смысла, пока мы не отнесли бы его к потоку внешнего времени, и так до бесконечности. На каждой ступени у нас была бы концепция, не имеющая смысла; и вся бесконечная иерархия тоже не имела бы смысла.
Ошибка такого рода происходит из нашей привычки к тому, что время является внешними рамками любого физического объекта, который мы можем рассматривать. Мы привыкли представлять физический объект как потенциально изменяющийся и, таким образом, существующий в виде последовательности вариантов самого себя в различные моменты. Но сама последовательность моментов на рисунках, подобных рисункам 11.1-11.3, является исключительной категорией. Она не существует во временных рамках — она является этими рамками. Поскольку вне неё нет времени, нелогично представлять, что она изменяется или что существует более одного её последовательного варианта. Это усложняет восприятие подобных рисунков. Сам рисунок, как и любой другой физический объект, существует в течение какого-то промежутка времени и состоит из многочисленных вариантов самого себя. Однако то, что изображает рисунок, — а именно, последовательность вариантов чего-либо — существует только в одном варианте. Ни одно точное изображение временных рамок не может быть движущимся или изменяющимся рисунком. Оно должно быть стационарным. Но в принятии этого есть внутренняя психологическая трудность. Несмотря на стационарность рисунка, мы не можем воспринимать его стационарно. Он показывает последовательность моментов одновременно на странице, и чтобы отнести это к нашему опыту, фокус нашего внимания должен перемещаться вдоль этой последовательности. Например, мы могли бы посмотреть на один снимок и принять, что он представляет «сейчас», а момент спустя посмотреть на снимок справа от него и решить, что он представляет {269} новое «сейчас». Далее, мы склонны путать истинное движение фокуса нашего внимания по простому рисунку с невозможным движением чего-либо через реальные моменты. Это очень легко сделать.
Однако эта проблема заключается не только в сложности иллюстрации теории времени. Сама теория содержит независимую и глубокую неопределенность: она не может решить, является ли настоящее объективно одним моментом или многими моментами — и следовательно, например, изображает ли рисунок 11.1 один момент или много. Здравый смысл требует, чтобы настоящее было одним моментом, чтобы разрешить поток времени — разрешить, чтобы настоящее перемещалось через моменты от прошлого к будущему. Однако здравый смысл также требует, чтобы время было последовательностью моментов с движением и изменением, состоящим из различий между вариантами какого-либо объекта в различные моменты. А это значит, что сами моменты неизменны. Таким образом, конкретный момент не может стать настоящим или перестать быть настоящим, ибо это было бы переменой. Следовательно, настоящее объективно не может быть одним моментом.
Причина, по которой мы придерживаемся этих двух несовместимых концепций — движущегося настоящего и последовательности неизменных моментов, — состоит в том, что они обе нужны нам, или, скорее, мы думаем, что они нужны нам. Мы непрерывно вызываем их в своей повседневной жизни, хотя и в разных смыслах. Когда мы описываем события, говоря, что что-либо происходит, мы думаем на языке последовательности неизменных моментов; когда же мы объясняем события как причины и следствия Друг друга, мы думаем на языке движущегося настоящего.
Например, говоря, что Фарадей открыл электромагнитную индукцию «в 1831 году», мы приписываем это событие определенной цепочке моментов. То есть мы определяем, на каком наборе снимков в длинной последовательности снимков всемирной истории нужно искать это открытие. Когда мы говорим, когда что-либо произошло, поток времени задействуется не больше, чем задействуется «поток расстояния», если мы говорим, где это произошло. Но как только мы говорим, почему что-либо произошло, мы вызываем поток времени. Когда мы говорим, что частично обязаны своими электрическими двигателями и динамами Фарадею и что последствия его открытия чувствуются до сих пор, в нашем разуме возникает картина последствий, которые начались {270} в 1831 году и последовательно пронеслись через все моменты оставшейся части девятнадцатого века, затем достигли двадцатого века и стали причиной появления там, например, гидроэлектростанций. Если мы невнимательны, мы посчитаем, что это важное событие 1831 года изначально «ещё не воздействовало» на двадцатый век, но затем последствия, несущиеся к двадцать первому веку и далее, «изменили» двадцатый век. Но обычно мы внимательны и избегаем этой нелогичной мысли, никогда не используя обе части разумной теории времени одновременно. Мы делаем это только тогда, когда думаем о самом времени, и тогда мы изумляемся загадочности всего этого! Возможно, в данном случае лучше подойдет слово «парадокс», а не «загадка», поскольку в данном случае возникает вопиющий конфликт между двумя, на первый взгляд, самоочевидными идеями. Обе они не могут быть истинными. Мы увидим, что ни одна из них не является истинной.
Наши физические теории, в отличие от здравого смысла, являются логически связными, и впервые они достигли этого при отказе от идеи о потоке времени. Вероятно, физики говорят о потоке времени точно так же, как говорят о нем все остальные. Например, в своей книге Principles[19] излагая свои принципы механики и гравитации, Ньютон писал:
«Абсолютное, истинное и математическое время само по себе и по своей собственной природе течет равномерно, не относясь ни к чему внешнему».
Однако Ньютон мудро не пытается перевести свое утверждение о том, что время течет, в математическую форму, или сделать из него какие-то выводы. Ни одна из физических теорий Ньютона не обращается к потоку времени, как не обращается к нему и не совместима с ним ни одна из последующих физических теорий.
Так почему же Ньютон счел необходимым сказать, что время «течет равномерно»? С «равномерно» все в порядке: можно интерпретировать это, как означающее, что измерения времени одинаковы для всех наблюдателей, находящихся в различных положениях и в различных состояниях движения. Это независимое утверждение (которое, как мы знаем со времен Эйнштейна, является неточным). Но его легко можно было бы сформулировать так, как я сформулировал его сейчас, не говоря, что время течет. Я считаю, что Ньютон намеренно использовал знакомый язык времени, не подразумевая его буквальное значение: {271} точно так же он мог бы свободно сказать о том, что Солнце «всходит». Ему необходимо было передать читателю, опираясь на эту революционную работу, что в концепции времени Ньютона нет ничего нового или сложного. Principles определяют множество слов, как-то: «сила» и «масса», точные технические значения которых несколько отличаются от разумных значений. Однако числа, на которые ссылаются как на «время», это всего лишь общепринятое время, которое мы находим на часах и календарях, и концепция времени в Principles — это общепринятая концепция.
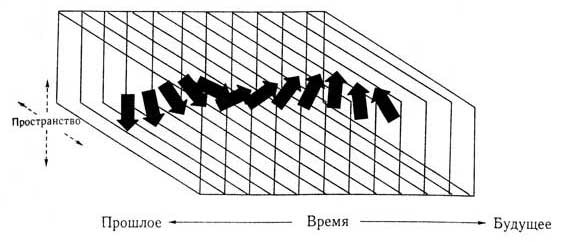 |
|
Рис. 11.4. Пространство-время, рассмотренное как следующие друг за другом |
За исключением того, что время не течет, в физике Ньютона время и движение выглядят примерно, как на рисунке 11.3. Одно небольшое отличие состоит в том, что я нарисовал следующие друг за другом моменты отдельно друг от друга, но во всей доквантовой физике это является аппроксимацией, потому что время — континуум. Мы должны представить бесконечно много бесконечно тонких снимков, непрерывно появляющихся между нарисованными моими «я». Если каждый снимок представляет все во всем пространстве, которое физически существует в определенный момент, то можно считать, что эти снимки склеены друг с другом своей лицевой стороной и образуют один неизменный блок, содержащий все, что происходит в пространстве и времени (рисунок 11.4) — то есть всю физическую реальность. Неизбежный недостаток диаграммы такого рода состоит в том, что снимки пространства в каждый момент показаны как двухмерные, тогда как в реальности они трехмерны. Каждый из них — это пространство в определенный {272} момент. Таким образом, мы считаем время четвертым измерением, аналогичным трем измерениям пространства в классической геометрии. Пространство и время, рассматриваемые совместно, как в этом случае, в виде четырехмерной категории, называют пространством-временем.
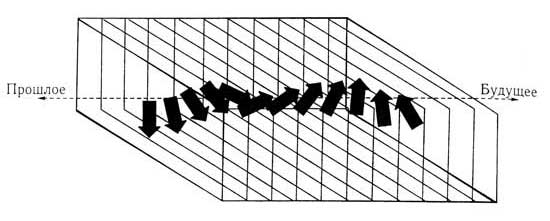 |
|
Рис. 11.5. Движущийся объект с перспективы пространства-времени |
В физике Ньютона эта четырехмерная геометрическая интерпретация времени была произвольной, но с появлением теории относительности Эйнштейна она стала необходимой частью этой теории. Так произошло потому, что в соответствии с относительностью наблюдатели, которые движутся с разной скоростью, не придут к согласию относительно того, какие события являются одновременными. То есть они не придут к согласию относительно того, какие события должны появиться на одном и том же снимке. Таким образом, каждый из них воспринимает пространство-время как разрезанное на «моменты» различным образом. Тем не менее, если бы каждый из них собрал свои снимки, как показано на рисунке 11.4, получились бы идентичные пространства-времена. Следовательно, в соответствии с относительностью, «моменты», изображенные на рисунке 11.4. не являются объективными характеристиками пространства-времени: они являются всего лишь образом восприятия одновременности наблюдателем. Другой наблюдатель получил бы слои «сейчас» под другим углом. Таким образом, объективную реальность, стоящую за рисунком 11.4, а именно: пространство-время и его физическое содержание, — можно было бы показать с помощью рисунка 11.5.
Пространство-время иногда называют «вселенной, связанной в единый блок», потому что в нем вся физическая реальность — прошлое, {273} настоящее и будущее — раз и навсегда представлена неизменной в одном четырехмерном блоке. По отношению к пространству-времени ничто не движется. То, что мы называем «моментами», — это определенные слои пространства-времени, и когда содержание этих слоев отличается друг от друга, мы называем это переменой или движением в пространстве.
Как я уже сказал, мы думаем о потоке времени в связи с причинами и следствиями. Мы считаем, что причины предшествуют своим следствиям; мы представляем, что движущееся настоящее подходит к причинам до того, как подойдет к их следствиям, а также представляем, что следствия текут навстречу настоящему моменту. С философской точки зрения, наиболее важными причинно-следственными процессами являются наши сознательные решения и последующие действия. Разумная точка зрения заключается в том, что мы обладаем свободной волей: что иногда мы в состоянии повлиять на будущие события (например, движение своего собственного тела) одним из нескольких возможных способов и выбрать этот способ; тогда как на прошлое, напротив, мы никогда не в состоянии повлиять. (К свободной воле я вернусь в главе 13). Прошлое неизменно: будущее открыто. Для многих философов поток времени — это процесс постепенного, момент за моментом, превращения открытого будущего в неизменное прошлое. Другие говорят, что альтернативные события в каждый момент будущего являются возможностями, а поток времени — это процесс постепенного, момент за моментом, превращения одной из этих возможностей в действительность (так что, в соответствии с мнением этих людей, будущее не существует совсем, пока поток времени не достигнет его и не превратит в прошлое). Но если будущее действительно открыто (а оно открыто!), то это не может иметь ничего общего с потоком времени, поскольку в нем нет потока времени. В физике пространства-времени (которой является вся доквантовая физика, начиная с физики Ньютона), будущее не открыто. Оно находится там, с определенным и неизменным содержанием, так же, как прошлое и настоящее. Если бы определенный момент в пространстве-времени был «открыт» (в любом смысле), он непременно остался бы открытым, став настоящим и прошлым, поскольку моменты не способны изменяться.
Субъективно, можно сказать, что будущее данного наблюдателя «открыто с точки зрения этого наблюдателя», потому что никто не может измерить или пронаблюдать свое будущее. Но открытость в таком субъективном смысле не оставляет выбора. Если у вас есть билет {274} лотереи, которая состоялась на прошлой неделе, но вы ещё не узнали выиграли ли вы, результат остается открытым с вашей точки зрения даже несмотря на то, что объективно он неизменен. Однако субъективно ли, объективно ли, вы не в состоянии его изменить. Никакие причины, которые уже не повлияли на него, больше не смогут этого сделать. Разумная теория о свободной воле гласит, что на прошлой неделе, в то время как у вас всё ещё был выбор покупать или нет лотерейный билет, будущее объективно всё ещё было открытым, и вы действительно могли выбрать один из двух или нескольких вариантов. Однако это несовместимо с прстранством-временем. Таким образом, в соответствии с физикой пространства-времени, открытость будущего — иллюзия, а следовательно, причинно-следственное отношение и свободная воля тоже не могут быть чем-то большим, чем иллюзии. Нам необходима вера, и мы стараемся сохранить её, в то, что настоящие события, а особенно наш выбор, могут повлиять на будущее; но возможно, таким образом мы всего лишь компенсируем факт неизвестности будущего. В реальности мы не делаем выбор. Даже когда мы думаем, что стоим перед выбором, его результат уже существует на подходящем слое пространства-времени, неизменном, как и все остальное, что находится в пространстве-времени, и невосприимчивом к нашим намерениям. Кажется, что сами эти намерения неизменны и уже существуют в выделенных им моментах ещё до того, как мы даже узнаем о них.
Быть «следствием» какой-то причины — значит подвергаться влиянию этой причины — изменяться из-за этой причины. Таким образом, когда физика пространства-времени отрицает реальность потока времени, она логически не может согласовать даже разумные понятия причины и следствия. Поскольку во вселенной, связанной в единый блок, ничто неизменно, одна часть пространства-времени может изменить другую не больше, чем одна часть неизменного трехмерного объекта может изменить другую.
Получается, что во времена физики пространства-времени все фундаментальные теории обладали следующим свойством: если известно все, что происходит до данного момента, законы физики определяют, что происходит во все последующие моменты. Свойство одних снимков определять другие называется детерминизмом. В физике Ньютона, например, если в любой момент известны положения и скорости всех масс в изолированной системе, например, в солнечной системе, то в принципе можно вычислить (предсказать), где эти массы будут находиться {275} во все последующие моменты. Так же в принципе можно вычислить (восстановить), где эти массы находились все предыдущее время.
Законы физики, определяющие один снимок из другого, — это «клей», который удерживает эти снимки вместе в виде пространства-времени. Представим, что мы по волшебству (что невозможно) оказались вне пространства-времени (а следовательно, в своем собственном внешнем времени, независимом от того, которое находится в пределах пространства-времени). Давайте разрежем пространство-время на снимки пространства в каждый момент, как его воспринимает конкретный наблюдатель, находящийся в пределах этого пространства-времени, потом перемешаем эти снимки и снова склеим их в новом порядке. Могли бы мы сказать, глядя извне, что это нереальное пространство-время? Почти определенно. Поскольку, первое: в перемешанном пространстве-времени физические процессы не были бы непрерывными. Объекты мгновенно прекращали бы свое существование в одной точке и снова появлялись бы в другой. Второе и более важное: законы физики уже не сохранялись бы. По крайней мере, реальные законы физики уже не сохранялись бы. Там существовал бы другой набор законов, которые, явно или неявно, учитывая перемешивание, правильно описывали бы перемешанное пространство-время.
Таким образом, для нас разница между перемешанным и реальным пространством-временем была бы огромной. А для тех, кто живет там? Могли бы они заметить разницу? Сейчас мы опасно близки к бессмыслице — знакомой бессмыслице разумной теории времени. Но потерпите немного, и мы обойдем эту бессмыслицу. Конечно, живущие в этом пространстве-времени не смогли бы заметить разницу. Они заметили бы её, если бы могли. Они, например, комментировали бы существование разрывностей в своем мире, издавали бы о них научные труды — то есть, если бы они вообще смогли выжить в перемешанном пространстве-времени. Но с наших волшебных выгодных позиций мы видим, что они выжили и пишут свои научные труды. Мы можем прочитать эти труды и увидеть, что они по-прежнему содержат только наблюдения исходного пространства-времени. Все записи физических событий в пределах пространства-времени, включая и те, которые остались в воспоминаниях и восприятии сознательных наблюдателей, идентичны существовавшим в исходном пространстве-времени. Мы только перемешали снимки, а не изменили их внутреннее содержание, поэтому, жители по-прежнему воспринимают их в исходном порядке. {276}
Таким образом, говоря на языке реальной физики — физики, как её воспринимают жители этого пространства-времени, — все это разрезание и повторное склеивание пространства-времени не имеет смысла. Исходному пространству-времени физически идентично не только перемешанное пространство-время, но даже набор несклеенных друг с другом снимков. Мы изображаем все снимки склеенными друг с другом в правильном порядке, потому что это представляет отношения между ними, определяемые законами физики. Изображение этих снимков, склеенных в другом порядке, представило бы те же самые физические события — ту же самую историю, — но некоторым образом исказило бы отношения между этими событиями. Таким образом, снимки обладают внутренним порядком, определяемым их содержанием и законами физики. Любой из снимков в сочетании с законами физики не только определяет то, чем являются все остальные, он определяет их порядок и свое собственное место в последовательности. Другими словами, каждый снимок имеет «временную печать», закодированную в его физическом содержании.
Вот как все должно произойти, если концепция времени свободна от присутствия перекрывающих рамок времени, которое является внешним по отношению к физической реальности. Временная печать снимка — это показания некоторых естественных часов, существующих в пределах этой вселенной. На некоторых снимках — на тех, которые содержат человеческую цивилизацию, например, — существуют действительные часы. На других — существуют физические переменные — такие, как химический состав Солнца или всей материи в пространстве, — которые можно рассматривать как часы, потому что они принимают определенные, отличные значения на разных снимках, по крайней мере, в пределах определенной области пространства-времени. Мы можем стандартизировать и градуировать их, чтобы согласовать друг с другом в местах их совпадения.
Мы можем восстановить пространство-время, используя внутренний порядок, определяемый законами физики. Мы начинаем с любого из снимков. Затем мы вычисляем, как должны выглядеть предыдущий и последующий снимки, находим эти снимки в оставшемся наборе и приклеиваем их к обоим сторонам исходного снимка. Повторение этих действий воссоздает все пространство-время. Такие вычисления слишком сложны, чтобы их можно было выполнить в реальной жизни, но они приемлемы в мысленном эксперименте, в котором мы представляем {277} себя оторванными от реального физического мира. (Так же, строго говоря, в доквантовой физике существовала бы непрерывная бесконечность снимков, так что только что описанный процесс пришлось бы заменить ограниченным процессом, в котором пространство-время собирается за бесконечное число этапов; однако принцип остается тем же самым).
Предсказуемость одного события из другого не означает, что эти события являются причиной и следствием. Например, электродинамическая теория гласит, что все электроны переносят один и тот же заряд. Следовательно, используя эту теорию, мы можем предсказать — и часто предсказываем — результат измерения одного электрона, исходя из результата измерения другого. Но ни один результат не был причиной другого. В действительности, насколько нам известно, величина заряда электрона не была вызвана никаким физическим процессом. Возможно, её «вызывают» сами законы физики (хотя законы физики, насколько они нам сейчас известны, не предсказывают заряд электрона; они просто говорят, что все электроны имеют один и тот же заряд). Но, в любом случае, это пример событий (результатов измерений электронов), одно из которых можно предсказать, исходя из другого, но которые не делают случайного вклада друг в друга.
Вот ещё один пример. Если мы наблюдаем, где находится один элемент полностью собранной мозаики, и знаем формы всех элементов и то, что они правильно собраны, мы можем предсказать, где находятся все оставшиеся элементы. Но это не значит, что элемент, местоположение которого мы наблюдаем, является причиной того, что все оставшиеся элементы находятся там, где они находятся. Существует ли такое причинно-следственное отношение зависит от того, как собирали всю мозаику. Если наблюдаемый нами элемент положили первым, то он действительно является одной из причин нахождения других элементов там, где они находятся. Если первым положили другой элемент, то положение наблюдаемого нами элемента было следствием этого, а не причиной. Но если бы мозаику создали единственным проходом лезвия, имеющего форму этой мозаики, и никогда не разбирали, то ни одно из положений элементов не было бы ни причиной, ни следствием Других положений. Их не собирали бы в любом порядке, а создали бы одновременно, в таком положении, что правила мозаики уже были бы соблюдены, что сделало бы эти положения взаимно предсказуемыми. Тем не менее, ни одно из них не стало бы причиной других. {278}
Детерминизм физических законов о событиях в пространстве-времени подобен предсказуемости правильно собранной мозаики. Законы физики определяют, что происходит в один момент, исходя из того, что происходит в другой, точно так же, как правила мозаики определяют положения некоторых элементов, исходя из положения других. Но как и в случае с мозаикой, то, являются ли события в различные моменты причиной друг друга или нет, зависит от того, как сложились моменты. Глядя на мозаику, мы не можем сказать, была ли она собрана по кусочкам. Но в случае с пространством-временем нам известно, что бессмысленно «класть» один момент за другим, поскольку это было бы потоком времени. Следовательно, мы знаем, что даже несмотря на то, что некоторые события можно предсказать, исходя из других событий, ни одно событие в пространстве-времени не являлось причиной другого. Мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что все это соотносится с доквантовой физикой, в которой все, что происходит, происходит в пространстве-времени. Однако мы видим, что пространство-время несовместимо с существованием причинно-следственного отношения. Дело не в том, что люди ошибаются, когда говорят, что определенные физические события являются причиной и следствием друг друга, дело в том, что интуиция несовместима с законами физики пространства-времени. Однако это нормально, поскольку физика пространства-времени ложна.
В главе 8 я сказал, что для того, чтобы какой-либо объект стал причиной своей собственной репликации, должны быть выполнены два условия: во-первых, этот объект действительно должен реплицироваться; и во-вторых, большая часть его вариантов в этой же самой ситуации не должна реплицироваться. Это определение реализует идею о том, что причина — это нечто важное для её следствий, а также работающее для причинно-следственного отношения в целом. Чтобы Х стало причиной Y, должны выполняться два условия: во-первых, что как X, так и Y, происходят, и во-вторых, что Y не произошел бы, если бы Х был другим. Например, причиной жизни на Земле был солнечный свет, потому что как солнечный свет, так и жизнь произошли на Земле и потому что жизнь не появилась бы, не будь солнечного света.
Таким образом, рассуждение о причинах и следствиях неизбежно касается и вариантов причин и следствий. Один из таких вариантов всегда говорит, что произошло бы, если бы, при прочих равных условиях, такое-то событие было другим. Историк мог бы высказать {279} следующее суждение, что «если бы Фарадей умер в 1830 году, то развитие техники задержалось бы на двадцать лет». Смысл этого суждения кажется совершенно ясным и, поскольку в действительности Фарадей не умер в 1830 году, а открыл электромагнитную индукцию в 1831, довольно убедительным. Это все равно, что сказать, что открытие Фарадея, а следовательно, и то, что он не умер, частично стало причиной произошедшего технического прогресса. Но что значит, в контексте физики пространства-времени, рассуждать о будущем несуществующих событий? Если в пространстве-времени не было такого события, как смерть Фарадея в 1830 году, то там нет и последствий этого события. Конечно, мы можем представить пространство-время, содержащее такое событие; но тогда, поскольку мы всего лишь представляем его, мы также можем представить, что оно содержит любые, желаемые нами последствия. Мы можем представить, например, что за смертью Фарадея последовало ускорение технического прогресса. Мы можем попытаться обойти эту двусмысленность, представляя только такие пространства-времена, в которых, несмотря на отличие рассматриваемого события от того, которое имело место в действительном пространстве-времени, действуют те же самые законы физики. Неясно, что оправдывает подобное ограничение нашего воображения, но, в любом случае, если действуют те же самые законы физики, то рассматриваемое событие не могло бы быть другим, потому что законы недвусмысленно определяют его, исходя из предшествующей истории. Таким образом, пришлось бы представить и другую предшествующую историю. Насколько другую? Историческое следствие нашего придуманного изменения критически зависит от того, что мы будем подразумевать под «прочими равными условиями». А это имеет двойной смысл, от которого невозможно избавиться, поскольку существует бесконечно много способов представить такое положение вещей до 1830 года, которое привело бы к смерти Фарадея в этом году. Некоторые из этих вещей несомненно привели бы к ускорению технического Прогресса, а другие — к замедлению. К каким из них мы обращаемся в своем высказывании «если... то.. .»7 Что считается «прочими равными условиями»? Как бы мы ни старались, мы не преуспеем в устранении этой двусмысленности в рамках физики пространства-времени. Невозможно избежать того факта, что в пространстве-времени в точности одно событие имеет место в реальности, а все остальное — фантазии. {280}
Мы вынуждены сделать вывод, что в физике пространства-времени условные высказывания с ложными посылками («если бы Фарадей умер в 1830 году...») не имеют смысла. Логики называют такие высказывания условными высказываниями, противоречащими фактам, и определяют их как традиционно парадоксальные. Все мы знаем, что значат такие высказывания, однако как только мы пытаемся точно изложить их смысл, кажется, что он тут же улетучивается. Источник этого парадокса не в логике и не в лингвистике, а в физике — в ложной физике пространства-времени. Физическая реальность — это не пространство-время. Это гораздо большая и более многообразная категория, мультиверс. В первом приближении мультиверс подобен огромному количеству сосуществующих и мало взаимодействующих пространств-времен. Если пространство-время подобно пачке снимков, причем каждый снимок является всем пространством в один момент, то мультиверс подобен огромной коллекции этих пачек. Даже это (как мы увидим) немного неправильное изображение мультиверса уже способно согласовать причины и следствия. Поскольку в мультиверсе почти определенно есть несколько вселенных, в которых Фарадей умер в 1830 году, то отстал ли технический прогресс в этих вселенных от нашего технического прогресса — вопрос факта (который является объективным, хотя его и невозможно увидеть). В том, к каким вариантам нашей вселенной относится противоречащее фактам «если бы Фарадей умер в 1830 году...», нет ничего произвольного: оно относится к тем вариантам, которые действительно имеют место где-то в мультиверсе. Именно это устраняет двойственность. Обращение к воображаемым вселенным не работает, потому что мы можем представить любые желаемые нами вселенные в любых желаемых нами соотношениях. Но в мультиверсе вселенные присутствуют в определенных соотношениях, так что имеет смысл говорить, что некоторые типы событий «очень редки» или «очень часты» в мультиверсе и что некоторые события следуют за другими «в большинстве случаев». Большая часть логически возможных вселенных не присутствует совсем — например, не существует вселенных, в которых заряд электрона отличался бы от заряда электрона в нашей вселенной или в которых не работали бы законы квантовой физики. Законы физики, к которым неявно обращается противоречащее фактам высказывание, — это законы, которые действительно работают в других вселенных, а именно, законы квантовой теории. Следовательно, высказывание «если… то…» можно определенно принять {281} как означающее, что «в большинстве вселенных, в которых Фарадей умер в 1830 году, технический прогресс отстал от нашего». В общем, мы можем сказать, что событие Х является причиной события Y в нашей вселенной, если как X, так и Y происходят в нашей вселенной, но в большинстве вариантов нашей вселенной, в которых Х не происходит, Y также не происходит.
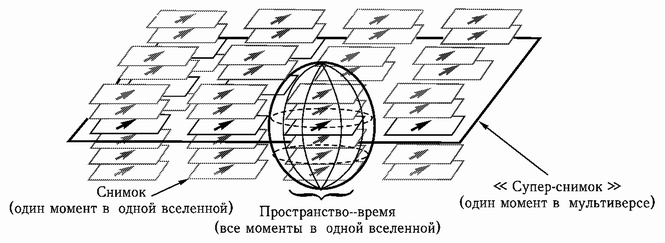 |
|
Рис. 11.6. Если бы мультиверс был коллекцией взаимодействующих пространств-времен, то время по-прежнему было бы последовательностью моментов |
Если бы мультиверс буквально был коллекцией пространств-времен, квантовая концепция времени ничем не отличалась бы от классической. Как показано на рисунке 11.6, время по-прежнему было бы последовательностью моментов. Единственная разница заключалась бы в том, что в конкретный момент в мультиверсе вместо одной вселенной существовало бы множество. Физическая реальность в определенный момент была бы, в действительности, «супер-снимком», состоящим из снимков многих различных вариантов всего пространства. Вся реальность все время была бы пачкой всех супер-снимков, так же, как классически она была пачкой снимков пространства. Из-за квантовой интерференции каждый снимок уже не определялся бы полностью предыдущими снимками того же самого пространства-времени (хотя приблизительно определялся бы, потому что классическая физика часто является хорошим приближением квантовой физики). Однако суперснимки, начиная с определенного момента, полностью и точно определялись бы предыдущими супер-снимками. Абсолютный детерминизм не породил бы абсолютную предсказуемость, даже в принципе, потому что для предсказания необходимо знание того, что произошло во {282} всех вселенных, а каждая наша копия может напрямую воспринимать только одну вселенную. Тем не менее, что касается концепции времени, рисунок почти ничем не отличался бы от пространства-времени с последовательностью моментов, связанных детерминистическими законами, только в каждый момент происходило бы больше событий, но большинство их было бы скрыто от любой копии любого наблюдателя.
Однако мультиверс устроен не совсем так. Реальная квантовая теория времени — которая также была бы квантовой теорией гравитации — была мучительной и недостигнутой целью теоретической физики в течение нескольких десятилетий. Но мы уже достаточно знаем о ней, чтобы понимать, что несмотря на совершенно детерминистический характер законов квантовой физики на уровне мультиверса, эти законы не разделяют мультиверс, как это показано на рисунке 11.6, на отдельные пространства-времена или на супер-снимки, каждый из которых полностью определяет все остальные. Таким образом, мы знаем, что классическая концепция времени как последовательности моментов не может быть истинной, хотя она и обеспечивает хорошее приближение при многих обстоятельствах — то есть, во многих областях вселенной.
Чтобы понять квантовую концепцию времени, представим, что мы разрезали мультиверс на множество отдельных снимков точно так же, как мы делали это с пространством-временем. С помощью чего мы можем снова склеить их? Как и раньше, законы физики и внутренние физические свойства снимков являются единственным приемлемым клеем. Если бы время в мультиверсе было последовательностью моментов, должна была бы существовать возможность распознавания всех снимков пространства в данный момент, словно мы собираем их в супер-снимок. Неудивительно, оказывается, не существует способа сделать это. В мультиверсе снимки не имеют «временных печатей». Не существует такого понятия, что снимок из другой вселенной оказывается «в тот же самый момент» определенным снимком в нашей вселенной, поскольку это опять неявно выражало бы, что вне мультиверса существуют временные рамки, относительно которых происходят все события в мультиверсе. Таких рамок не существует.
Следовательно, не существует фундаментального разграничения между снимками других времен и снимками других вселенных. В этом и заключается особый смысл квантовой концепции времени: {283}
Другие времена — это всего лишь особые представители других вселенных.
Это понимание впервые появилось из ранних исследований квантовой гравитации в 1960-х годах, в частности, из работы Брайса Де Витта, но насколько мне известно, в общем случае было сформулировано только в 1983 году Доном Пейджем и Вильямом Вутерсом. Снимки, которые мы называем «другими временами в нашей вселенной» отличаются от «других вселенных» только с нашей перспективы, и только в этом законы физики особенно тесно связывают их с нашим снимком. Следовательно, наш снимок содержит наибольший объем свидетельств именно о существовании этих снимков. По этой причине мы и обнаружили их за тысячи лет до того, как открыли оставшуюся часть мультиверса. которая, по сравнению с ними, очень незначительно взаимодействует с нами через эффекты интерференции. Для того чтобы говорить об этих снимках, мы создали специальные языковые конструкции (прошлые и будущие формы глаголов). Мы также придумали другие конструкции (такие как высказывания «если… то…», условные и сослагательные формы глаголов), чтобы говорить о других типах снимков, даже не зная об их существовании. Традиционно мы относили эти два типа снимков — другие времена и другие вселенные — к абсолютно различным концептуальным категориям. Теперь мы видим, что это различие необязательно.
Теперь продолжим преобразование наших понятий о мультиверсе. Сейчас в нашей груде гораздо больше снимков, но давайте снова начнем с отдельного снимка одной вселенной в один момент. Если мы сейчас поищем в груде другие снимки, очень похожие на исходный, мы обнаружим, что эта груда весьма отличается от разобранного пространства-времени. Во-первых, мы находим много снимков, которые абсолютно идентичны исходному. В действительности, любой снимок, который вообще присутствует, присутствует в бесконечном множестве копий. Таким образом, имеет смысл спросить не сколько снимков обладают таким-то свойством, а только какая часть бесконечного количества снимков обладает этим свойством. Ради краткости, говоря об определенном «количестве» вселенных, я всегда подразумеваю определенную часть от общего количества в мультиверсе.
Если, кроме вариантов меня в других вселенных, существуют и Многочисленные идентичные копии меня, которая из них я? Безусловно, я — это все они. Каждая из них только что задала этот вопрос, {284} «которая из них я?», и любой истинный способ ответа на этот вопрос должен дать каждой из них один и тот же ответ. Принять, что вопрос, какой из идентичных копий являюсь я, имеет физический смысл, значит принять, что вне мультиверса существует некая система отсчета относительно которой можно дать ответ — «Я — третья копия слева... ». Но какое может быть «лево», и что значит «третий»? Подобная терминология имеет смысл, только если представить, что снимки меня выстроены в различных положениях в некотором внешнем пространстве. Но мультиверс существует во внешнем пространстве не больше чем он существует во внешнем времени: он содержит все существующее пространство и время. Он просто существует, и физически он является всем, что существует.
Квантовая теория в общем случае не определяет, что произойдет на конкретном снимке, как это делает физика пространства-времени. Вместо этого она определяет, какая часть всех снимков в мультиверсе будет обладать данным свойством. По этой причине, мы, жители мультиверса, иногда можем делать только вероятностные предсказания, даже несмотря на то, что то, что произойдет в мультиверсе, полностью определено. Предположим, например, что мы подбросили монетку. Типичное предсказание квантовой теории могло бы быть, что если на определенном количестве снимков монетка была бы зафиксирована вращающейся определенным образом, а часы давали бы определенные показания, то также существовала бы половина этого количества вселенных; в которых часы давали бы более поздние показания, а монетка упала бы «орлом» вверх, и вторая половина, в которой часы давали бы более поздние показания, а монетка упала бы «решкой» вверх.
Рисунок 11.7 показывает небольшую область мультиверса, в которой происходят эти события. Даже в этой небольшой области необходимо показать много снимков, поэтому мы можем выделить на каждый снимок только одну точку диаграммы. Все снимки, на которые мы смотрим, содержат часы некоторого стандартного типа, а диаграмма организована так, что все снимки с конкретными показаниями часов появляются в виде вертикального столбца, а показания часов увеличивается слева направо. Когда мы ведем взгляд вдоль любой вертикальной линии на диаграмме, не все снимки, которые мы проходим, различны. Мы проходим через группы идентичных снимков, как указывает тень. Снимки с самыми ранними показаниями часов расположены на левом краю диаграммы. Мы видим, что на всех этих снимках, которые являются {285} идентичными, монетка вертится. На правом краю диаграммы мы видим, что на половине снимков с самыми поздними показаниями часов монетка упала «орлом» вверх, а на другой половине — «решкой» вверх. Во вселенных с промежуточными показаниями часов присутствуют вселенные трех типов в соотношении, которое изменяется в зависимости от показаний часов.
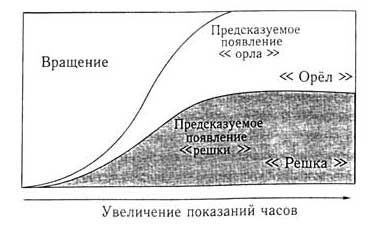 |
|
Рис. 11.7. Область мультиверса, содержащая вращающуся монетку. Каждая точка диаграммы представляет один снимок |
Если бы вы присутствовали в изображенной области мультиверса, все ваши копии сначала видели бы, что монетка вращается. Затем, половина ваших копий увидела бы, что монетка упала «орлом», а другая половина увидела бы, что она упала «решкой». На некотором промежуточном этапе вы увидели бы монетку в состоянии, в котором она всё ещё находилась бы в движении, но из которого можно было бы предсказать, какой стороной она упадет. Это разделение идентичных Копий наблюдателя на немного отличные версии ответственно за субъективно вероятностный характер квантовых предсказаний. Дело в том, что если бы вы спросили в самом начале, какой результат подбрасывания монетки вам предстоит увидеть, ответ был бы, что это строго Непредсказуемо, поскольку половина ваших копий, задающих этот вопрос, увидела бы «орла», а вторая половина — «решку». Такое понятие, как «какая половина» увидела бы «орла», существует не больше, чем ответ на вопрос «который из них я?». В практических целях вы могли бы рассматривать это как вероятностное предсказание того, что в 50% случаев монета упадет «орлом», а в оставшихся 50% случаев — «решкой». {286}
Детерминизм квантовой теории подобно детерминизму классической физики действует как вперед, так и назад во времени. Из состояния совместного набора снимков «орлов» и «решек» при более поздних показаниях часов на рисунке 11.7 полностью определяется состояние «вращения» при более ранних показаниях часов, и наоборот. Тем не менее, с точки зрения любого наблюдателя, информация теряется в процессе подбрасывания монетки. Поскольку, где бы не находился наблюдатель, получающий впечатление состояния «вращения» монетки, конечное совместное состояние «орлов» и «решек» не соответствует любому возможному впечатлению наблюдателя. Следовательно, наблюдатель при более ранних показаниях часов может наблюдать за монеткой и предсказать её будущее состояние, а также последующие субъективные вероятности. Но ни одна из более поздних копий наблюдателя не может наблюдать информацию, необходимую для восстановления состояния «вращения», поскольку эта информация к тому времени распределяется между двумя типами вселенных, что делает невозможным восстановление, исходя из конечного состояния монетки. Например, если мы знаем только то, что монетка упала «орлом», за несколько секунд до этого могло наблюдаться состояние, которое я назвал «вращением», или монетка могла вращаться в противоположном направлении, или все время лежать «орлом». В данном случае не существует возможности восстановления, даже вероятностного восстановления. Более раннее состояние монетки определяется не просто более поздним состоянием снимков «орла», а совместным состоянием снимков «орла» и «решки».
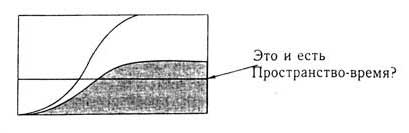 |
|
Рис. 11.8. Последовательность снимков с увеличением времени не обязательно является пространством-временем |
Любая горизонтальная линия, проведенная по рисунку 11.7, проходит через последовательность снимков с увеличением показаний часов. Может возникнуть соблазн думать о такой линии — как та, которая показана на рисунке 11.8, — как о пространстве-времени, а о всей диаграмме как о пачке пространств-времен, по одному на каждую подобную линию. Из рисунка 11.8 мы можем вывести, что происходит в «пространстве-времени», определенном горизонтальной линией. В течение какого-то периода времени оно содержит вращающуюся монетку. Затем, в течение следующего периода оно содержит монетку, которая движется так, что можно предсказать, что она упадет «орлом». Однако позднее, напротив, оно содержит монетку, которая движется так, что можно предсказать, что она упадет «решкой», и, в конце концов, она действительно падает «решкой». Однако это всего лишь недостаток диаграммы, как я уже указал в главе 9 (см. рисунок 9.4, стр. 215). {287} В этом случае законы квантовой механики предсказывают, что ни один наблюдатель, который помнит, что видел монетку в состоянии «предсказуемого появления орла» не может увидеть её в состоянии «решки»: это и оправдывает то, что, прежде всего, мы называем это состояние «предсказуемым появлением орла». Следовательно, ни один наблюдатель в мультиверсе не узнал бы события в таком виде, в каком они происходят в «пространстве-времени», определенном линией. Все это подтверждает то, что мы не можем склеить снимки произвольно, мы можем склеить их только так, чтобы отразить отношения между ними, определяемые законами физики. Снимки, расположенные вдоль линии на рисунке 11.8, недостаточно взаимосвязаны, чтобы оправдать их объединение в одну вселенную. Вероятно, они появляются в порядке увеличения показаний часов, которые в пространстве-времени были бы «временной печатью», достаточной для повторной сборки пространства-времени. Но в мультиверсе слишком много снимков, чтобы только показания часов могли разместить один снимок относительно других. Чтобы сделать это, нам необходимо рассмотреть сложную деталь: какие снимки определяют какие.
В физике пространства-времени любой снимок определяется любым другим. Как я уже сказал, в мультиверсе, в общем случае, это не так. Обычно состояние одной группы идентичных снимков (например, тех, в которых монетка «вращается») определяет состояние равного количества различных снимков (например, снимков «орла» и «решки»). Из-за свойства обратимости времени, присущего законам квантовой физики, общее, многозначное состояние последней группы также определяет состояние первой. Однако в некоторых областях мультиверса и в некоторых областях пространства снимки некоторых физических объектов на некоторое время составляются в цепочки, каждое звено которых определяет все остальные в хорошем приближении. Стандартным {288} примером могла бы стать последовательность снимков солнечной системы. В таких областях законы классической физики являются хорошим приближением квантовых законов. В таких областях и местах мультиверс действительно выглядит как на рисунке 11.6, в виде набора пространств-времен, и на таком уровне приближения квантовая концепция времени сводится к классической. Можно выявить приблизительную разницу между «различными временами» и «различными вселенными», а время — это приблизительно последовательность моментов. Но это приближение никогда не выдерживает более детального исследования снимков, взгляда далеко вперед или далеко назад во времени, или взгляда далеко в мультиверс.
Все экспериментальные результаты, которыми мы располагаем в настоящее время, совместимы с тем приближением, что время — это последовательность моментов. Мы не ожидаем, что это приближение не выдержит какого-нибудь предсказуемого земного эксперимента, однако теория говорит нам, что оно должно сильно пострадать в определенных видах физических процессов. Первый — это начало вселенной, Большой Взрыв. В соответствии с классической физикой время началось в тот момент, когда пространство было бесконечно плотным и занимало только одну точку, а до этого моментов не было. В соответствии с квантовой физикой (насколько нам известно) снимки, очень близкие к Большому Взрыву не расположены в каком-либо определенном порядке. Свойство времени как последовательности начинается не при Большом Взрыве, а несколько позднее. В природе вещей не имеет смысла спрашивать, насколько позднее. Но мы можем сказать, что самые ранние моменты, которые, в хорошем приближении, являются последовательными, имели место грубо, в соответствии с экстраполяцией классической физики, через 10-43 секунд (время Планка) после Большого Взрыва.
Второй и очень похожий вид провала последовательности времени, видимо, произойдет внутри черных дыр и при конечном повторном разрушении вселенной («Большом Сжатии»), если таковое произойдет. В обоих случаях материя сожмется до бесконечной плотности в соответствии с классической физикой, как при Большом Взрыве, и результирующие гравитационные силы разорвут структуру пространства-времени.
Кстати, если вам когда-либо было интересно, что происходило до Большого Взрыва или что произойдет после Большого Сжатия, сейчас {289} вы можете утратить этот интерес. Почему сложно принять, что до Большого Взрыва не было, а после Большого Сжатия не будет моментов, так что там ничего не происходит или не существует? Потому что трудно представить, что время останавливается или запускается. Но ведь время не должно останавливаться или запускаться, поскольку оно не движется вообще. Мультиверс не «начинает существовать» или «не прекращает существовать»: эти термины предполагают поток времени. Только представление потока времени заставляет нас интересоваться, что было «до» или что будет «после» всей реальности.
В-третьих, считается, что в субмикроскопическом масштабе квантовые эффекты снова деформируют и разорвут структуру пространства-времени, и что такие замкнутые циклы времени — в действительности, крохотные машины времени, — существуют в этом масштабе. Как мы увидим в следующей главе, провал последовательности времени такого рода также физически возможен в большом масштабе, и вопрос о том, произойдет ли он вблизи таких объектов, как вращающиеся черные дыры, остается открытым.
Таким образом, хотя мы и не можем ещё обнаружить ни один из этих эффектов, наши лучшие теории уже говорят нам, что физика пространства-времени ни в коем случае не является точным описанием реальности. Каким бы хорошим ни было приближение, в реальности время должно быть фундаментально отличным от линейной последовательности, предлагаемой здравым смыслом. Тем не менее, все в мультиверсе определяется почти так же жестко, как и в классическом пространстве-времени. Уберите один снимок, и оставшиеся точно определят его. Уберите большую часть снимков, и оставшееся меньшинство по-прежнему может определить все, что убрано, так же, как оно делает это в пространстве-времени. Разница заключается только в том, что, в отличие от пространства-времени, мультиверс не состоит из взаимно определяющих слоев, которые я назвал суперснимками и которые можно было бы считать «моментами» мультиверса. Это сложная многомерная мозаика.
В этой мозаичной вселенной, которая ни состоит из последовательности моментов, ни разрешает потока времени, обыденная концепция Причины и следствия имеет совершенный смысл. Проблема причинно-следственного отношения, обнаруженная нами в пространстве-времени, Заключалась в том, что это отношение является свойством не только самих причин и следствий, но и их вариантов. Поскольку эти варианты {290} существовали только в нашем воображении, а не в пространстве-времени, мы столкнулись с физической бессмысленностью делать реальные выводы из воображаемых свойств несуществующих («противоречащих фактам») физических процессов. Однако в мультиверсе варианты действительно существуют в различных соотношениях, и они подчиняются определенным детерминистическим законам. Если известны эти законы, объективным фактом является то, какие события имеют значение для того, чтобы произошли какие-то другие события. Допустим, что существует группа снимков, не обязательно идентичных, но обладающих свойством X. Допустим, что если известно о существовании этой группы, законы физики определяют, что существует другая группа снимков со свойством Y. Таким образом, удовлетворяется одно из условий того, чтобы Х стал причиной Y. Другое условие должно быть связано с вариантами. Рассмотрим варианты первой группы, не имеющие свойства X. Если, исходя из существования этих вариантов, все равно можно определить существование некоторых снимков Y, то Х не является причиной Y, поскольку Y произошел бы даже при отсутствии X. Но если, исходя из группы вариантов не-Х, определяется только существование вариантов не-Y, тогда Х является причиной Y.
В этом определении причины и следствия нет ничего, что логически требует предшествования причины следствиям, и возможно, в очень экзотических ситуациях, например, очень близких к Большому Взрыву или внутри черных дыр, этого предшествования не существует. Однако в повседневном опыте причины всегда предшествуют своим следствиям, и так происходит потому, что — по крайней мере, вблизи от нас в мультиверсе — количество различных видов снимков стремится быстро расти со временем, и вряд ли когда-либо уменьшается. Это свойство связано со вторым законом термодинамики, который гласит, что упорядоченную энергию, например, химическую или скрытую гравитационную энергию, можно полностью преобразовать в беспорядочную энергию, например, тепло, но не наоборот. Тепло — это беспорядочное движение на микроскопическом уровне. На языке мультиверса это означает множество состояний движения, различных на микроскопическом уровне в различных вселенных. Например, на последовательных снимках монеты при обычном увеличении кажется, что процесс остановки монеты преобразует группу идентичных снимков «предсказуемого появления орла» в группу идентичных снимков «орла». Но во время этого процесса энергия движения монеты превращается в тепло, {291} так что при достаточно большом увеличении, таком, что можно увидеть отдельные молекулы, снимки в последней группе уже не будут идентичными. Они все показывают, что монета лежит «орлом», но её молекулы, а также молекулы окружающего воздуха и поверхности, на которой лежит монета, они показывают во множестве различных конфигурации. Вероятно, снимки изначально «предсказуемого появления орла» на микроскопическом уровне тоже не являются идентичными, потому что на них тоже присутствует некоторое количество тепла, но производство тепла в самом процессе означает, что эти снимки гораздо до меньше отличаются друг от друга, чем последние. Таким образом, каждая однородная группа снимков с «предсказуемым появлением орла» определяет существование — а следовательно, становится причиной — огромного количества снимков «орла», отличающихся на микроскопическом уровне. Но ни один «снимок» орла сам по себе не определяет существование каких-либо снимков «предсказуемого появления орла», а потому не является их причиной.
Превращение относительно любого наблюдателя возможностей в действительность — открытого будущего в неизменное прошлое — также имеет смысл в этих рамках. Снова рассмотрим пример с подбрасыванием монетки. До того, как монетку подбросят, с точки зрения наблюдателя будущее открыто в том смысле, что наблюдатель всё ещё может увидеть любой результат: «орла» или «решку». С точки зрения этого наблюдателя оба результата являются возможностями, хотя объективно они оба являются действительностью. После того, как монетка упала, копии наблюдателя разделились на две группы. Каждый наблюдатель видел и помнит только один результат подбрасывания монетки. Таким образом, результат, как только он попал в прошлое наблюдателя, стал однозначным и действительным для каждой копии наблюдателя, даже несмотря на то, что с перспективы мультиверса, он остался таким же двузначным, каким был всегда.
Позвольте мне подвести итог квантовой концепции времени. Время — это не последовательность моментов, и оно не течет. Тем не менее, наша интуиция относительно свойств времени в общем смысле истинна. Определенные события действительно являются причинами и следствиями друг друга. По отношению к наблюдателю будущее Действительно открыто, прошлое неизменно, а возможности на самом деле становятся действительностью. Причина бессмысленности наших традиционных теорий времени в том, что они пытаются выразить эту {292} истинную интуицию на основе ложной классической физики. В квантовой физике эта интуиция имеет смысл, потому что время всегда было квантовой концепцией. Мы существуем во множестве вариантов, во вселенных, называемых «моментами». Каждый вариант нас не осознает другие напрямую, но обладает свидетельством их существования потому что законы физики связывают содержимое различных вселенных. Существует соблазн допустить, что осознаваемый нами момент — единственный реальный момент, или, по крайней мере, более реальный чем остальные. Но это всего лишь солипсизм. Все моменты физически реальны. Весь мультиверс физически реален. Ничто больше не реально.
Поток времени — предполагаемое движение настоящего момента в направлении будущего, или предполагаемое движение нашего сознания от одного момента к другому. (Это чепуха!)
Пространство-время — пространство и время, рассмотренные вместе как статическая четырехмерная категория.
Физика пространства-времени — теории, подобные относительности, в которых реальность рассматривают как пространство-время. Поскольку реальность — это мультиверс, такие теории, в лучшем случае, могут быть приближениями.
Свободная воля — способность повлиять на будущие события любым из нескольких возможных способов и выбрать то, что произойдет.
Условное высказывание, противоречащее фактам — условное высказывание с ложной посылкой (например, «если бы Фарадей умер в 1830 году, то произошел бы X»).
Снимок (терминология только для этой главы) — вселенная в определенное время.
Время не течет. Другие времена — это всего лишь особые представители других вселенных.
Путешествие во времени может или не может быть реальным. Но мы уже обладаем разумным теоретическим пониманием того, на что оно было бы похоже, будь оно возможно, пониманием, которое включает все четыре основных нити. {293}
Если существует идея о том, что время некоторым образом подобно дополнительному четвертому измерению пространства, то естественна и мысль о том, что если можно путешествовать из одного места в другое, то, может быть, можно путешествовать и из одного времени в другое. В предыдущей главе мы видели, что идея о «движении» во времени в том смысле, в котором мы передвигаемся в пространстве, не имеет смысла. Тем не менее, кажется ясным, что человек подразумевал бы под путешествием в двадцать пятый век или в эпоху динозавров. В научной фантастике машины времени обычно представляют как экзотические аппараты. Путешественник настраивает управляющие приборы на дату и время выбранного им места назначения, ждет до тех пор, пока аппарат не переместится в эту дату и время (иногда точно так же можно выбрать и место), и вот он там. Если человек выбрал отдаленное будущее, он общается с обладающими сознанием роботами и восхищается межзвездными космическими кораблями или (в зависимости от политических убеждений автора) бродит среди обуглившихся радиоактивных руин. Если человек выбрал отдаленное прошлое, он отражает нападение тираннозавра, а над ним парят птеродактили.
Присутствие динозавров было бы впечатляющим свидетельством того, что мы действительно достигли ранней эры. Мы могли бы перепроверить это свидетельство по разным источникам и более точно определить дату, глядя на некий естественный долгосрочный «календарь», такой, как формы созвездий в ночном небе или относительное соотношение различных радиоактивных элементов в горных породах. Физика обеспечивает множеством календарей такого рода, а законы физики вызывают их согласование друг с другом при надлежащей градуировке. Если принять, что мультиверс состоит из набора параллельных пространств-времен, каждое из которых состоит из пачки «снимков» пространства, определенная таким образом дата — это свойство всего снимка, и любые два снимка отделяются временным интервалом, {294} который является разностью их дат. Путешествие во времени — это любой процесс, вызывающий несоответствие между этим интервалом между двумя снимками с одной стороны и, с другой стороны, нашим собственным ощущением того, сколько времени прошло между нашим пребыванием на этих двух снимках. Мы могли бы сослаться на часы, которые носим с собой, или могли бы измерить это, пользуясь психологическими критериями возраста своих тел. Если мы видим, что внешне прошло много времени, а по всем субъективным оценкам мы ощутили гораздо меньшее время, значит, мы переместились в будущее. Если, с другой стороны, мы видим, что внешние часы и календари показывают определенное время, а позднее (субъективно) мы видим, что они последовательно показывают более раннее время, значит, мы переместились в прошлое.
Большинство научных фантастов осознают, что путешествия во времени, направленные в прошлое и в будущее, радикально отличаются друг от друга. Здесь я не стану уделять много внимания путешествию в будущее, потому что это безусловно менее проблематичное дело. Даже в повседневной жизни, например, когда мы спим и просыпаемся, субъективно ощущаемое нами время может быть короче времени, которое прошло на самом деле. Про людей, которые выходят из комы, длившейся несколько лет, можно было бы сказать, что они переместились на столько лет в будущее, если бы не тот факт, что их тела постарели в соответствии с внешним временем, а не с тем временем, которое они ощутили субъективно. Таким образом, в принципе, технику (подобную той, которую мы представили в главе 5) замедления работы мозга пользователя виртуальной реальности можно было бы применить ко всему телу и, таким образом, можно было бы использовать для полностью развитого путешествия в будущее. Менее назойливый метод предоставляет специальная теория относительности Эйнштейна, которая гласит, что, в общем, наблюдатель, который ускоряется или замедляется, ощущает меньшее время, чем наблюдатель, который находится в состоянии покоя или движется равномерно. Например, астронавт, который отправился в межорбитальный перелет, включающий ускорение до скоростей, близких к скорости света, ощутил бы гораздо меньшее время, чем наблюдатель, оставшийся на Земле. Этот эффект известен как растяжение времени. С помощью достаточного ускорения можно сделать длительность полета с точки зрения астронавта такой короткой, какой он пожелает, а длительность, измеряемую на Земле, такой {295} длинной, какой он пожелает. Таким образом, за данное субъективно короткое время человек мог бы переместиться так далеко в будущее, как он того пожелает. Однако такое путешествие в будущее необратимо. Путешествие обратно потребовало бы путешествия в прошлое, а никакая степень растяжения времени не может позволить космическому кораблю вернуться из полета прежде, чем он взлетел.
У виртуальной реальности и путешествия во времени, по крайней мере, есть нечто общее: и первая, и второе систематически изменяют обычное отношение между внешней реальностью и ощущением, которое получает от неё пользователь. Таким образом, можно было бы задать следующий вопрос: если универсальный генератор виртуальной реальности можно было бы так легко запрограммировать на путешествие в будущее, можно ли использовать его для путешествия в прошлое? Например, если, замедлившись, мы могли бы отправиться в будущее, могли бы мы отправиться в прошлое, ускорившись? Нет; нам просто показалось бы, что внешний мир замедлился. Даже при недостижимом пределе бесконечно быстрой работы мозга, нам казалось бы, что внешний мир застыл в конкретный момент. Тем не менее, по вышеприведенному определению, это было бы путешествием во времени, но не в прошлое. Это можно было бы назвать путешествием в «настоящее». Помню, когда я в последнюю минуту готовился к экзаменам, я мечтал о машине, способной переносить в настоящее, — а какой студент не мечтал об этом?
Прежде чем перейти к обсуждению путешествия в прошлое, как насчет передачи путешествия в прошлое? До какой степени можно запрограммировать генератор виртуальной реальности, чтобы дать пользователю ощущение путешествия в прошлое? Мы увидим, что ответ на этот вопрос, как и на все вопросы о масштабе виртуальной реальности, говорит нам и о физической реальности.
Характерные аспекты ощущения среды прошлого, по определению, являются ощущениями определенных физических объектов или процессов — «часов» и «календарей» — в состояниях, которые имели место только в прошлом (то есть, на прошлых снимках). Безусловно, генератор виртуальной реальности мог бы передать эти объекты в этих состояниях. Например, он мог бы дать человеку ощущение того, что последний живет в век динозавров или находится в окопах Первой мировой войны, а также он мог бы сделать так, что созвездия, даты в газетах и все, что угодно, появлялись бы точно для этого времени. Насколько точно? {296} Существует ли фундаментальный предел точности передачи любой данной эпохи? Принцип Тьюринга гласит, что универсальный генератор виртуальной реальности можно построить и запрограммировать для передачи любой физически возможной среды, поэтому, ясно, что его можно было бы запрограммировать для передачи среды, которая действительно физически существовала когда-то.
Чтобы передать машину времени, имевшую определенный репертуар прошлых мест назначения (а следовательно, и передать сами места назначения), программе пришлось бы включить исторические записи сред в этих местах назначения. В действительности, ей понадобилось бы больше, чем просто записи, потому что ощущения путешествия во времени включали бы больше, чем просто картины прошлых событий, разворачивающихся вокруг пользователя. Воспроизведение записей прошлого для пользователя было бы просто формированием изображений, а не виртуальной реальностью. Поскольку настоящий путешественник во времени участвовал бы в событиях и оказывал бы ответную реакцию на среду прошлого, точная виртуальная передача машины времени, как и любой другой среды, должна быть интерактивной. Программе пришлось бы вычислить для каждого действия пользователя реакцию исторической среды на это действие. Например, чтобы убедить доктора Джонсона, что данная машина времени действительно перенесла его в древний Рим, мы должны позволить ему не только незаметно и пассивно наблюдать, как прогуливается Юлий Цезарь. Он захотел бы проверить подлинность своих ощущений, попинав местные камни. Он мог бы пнуть Цезаря — или, по крайней мере, обратиться к нему на латыни и ожидать, что тот ответит ему так же. Чтобы виртуальная передача машины времени была точной, эта передача должна реагировать на подобные интерактивные проверки как реальная машина времени и как реальные среды прошлого, в которые она переносится. Это должно включать, в данном случае, демонстрацию передачи Юлия Цезаря, который говорит на латыни и ведет себя должным образом.
Поскольку Юлий Цезарь и древний Рим были физическими объектами, их можно было бы, в принципе, передать с произвольной точностью. Эта задача отличается от задачи передачи Центрального Корта Уимблдона вместе со зрителями только уровнем. Конечно, сложность необходимых для этого программ была бы огромной. Однако ещё более сложной или, может быть, даже в принципе невозможной, была бы задача сбора информации, необходимой для написания программ передачи {297} отдельных людей. Но написание программ здесь не проблема. Я не спрашиваю, можем ли мы собрать достаточный объем информации о среде прошлого (или, в действительности, о среде настоящего или будущего), чтобы написать программу, которая передавала бы именно эту среду. Я спрашиваю, включает ли набор всех возможных программ для генераторов виртуальной реальности программу, которая обеспечивает виртуальную передачу путешествия в прошлое, и, если такая программа существует, какова точность этой передачи? Если бы не было программ, передающих путешествие во времени, то принцип Тьюринга означал бы, что путешествие во времени физически невозможно (поскольку он гласит, что все, что физически возможно, можно передать с помощью некоторой программы). И в связи с этим действительно существует проблема. Даже несмотря на то, что существуют программы, точно передающие среды прошлого, видимо, существуют фундаментальные препятствия их использования для передачи путешествия во времени. Это те же самые обстоятельства, которые, кажется, препятствуют самому путешествию во времени, а именно: так называемые «парадоксы» путешествия во времени.
Типичным парадоксом является следующий. Я строю машину времени и использую её, чтобы отправиться в прошлое. Там я не даю бывшему себе построить машину времени. Но если машина времени не построена, я не смогу использовать её, чтобы отправиться в прошлое, а следовательно, и не смогу воспрепятствовать её созданию. Так совершаю я это путешествие или нет? Если да, то я лишаю себя машины времени и, следовательно, не совершаю путешествие. Если я не совершаю путешествие, то я позволяю себе построить машину времени и, таким образом, совершаю путешествие. Иногда это называют «парадоксом дедушки» и говорят об использовании путешествия во времени, чтобы убить своего деда, прежде чем у него появились дети. (И тогда, если у него не было детей, у него не могло быть и внуков, так кто же убил его?) Эти две формы парадокса цитируют чаще всего; так получается, что они требуют элемента насильственного конфликта между путешественником во времени и людьми из прошлого, так что человеку интересно, кто победит. Возможно, путешественник во времени потерпит поражение, и парадокс будет аннулирован. Однако насилие — это не суть данной проблемы. Если бы у меня была машина времени, я мог бы принять следующее решение: если сегодня меня посетит мое будущее я, пришедшее из завтра, то завтра я не воспользуюсь своей {298} машиной времени; а если сегодня у меня не будет такого гостя, то завтра я воспользуюсь машиной времени, чтобы вернуться в сегодня и навестить себя. Кажется, что из моего решения следует, что если я воспользуюсь машиной времени, то я не воспользуюсь ей, а если я не воспользуюсь ей, то я воспользуюсь ей: противоречие.
Противоречие означает ошибочное допущение, поэтому такие парадоксы традиционно считали доказательствами невозможности путешествия во времени. Другое, иногда оспариваемое, допущение касается свободной воли — имеют ли путешественники во времени обычную свободу выбора своих действий. При этом делают вывод, что если бы машины времени действительно существовали, то воля людей стала бы менее свободной. Они каким-то образом утратили бы способность иметь описанные мной намерения; или иначе, путешествуя во времени, они бы каким-то образом систематически забывали решения, принятые ими перед отправлением. Но оказывается, что ошибочное допущение, стоящее за всеми парадоксами, не связано ни с существованием машины времени, ни со способностью людей выбирать свое поведение, как обычно. Виновата в нем классическая теория времени, которая, как я уже показал, не годится по весьма независимым причинам.
Если бы путешествие во времени было логически невозможно, передача его в виртуальной реальности тоже была бы невозможна. Если бы оно требовало приостановки свободной воли, то этого же требовала бы и передача в виртуальной реальности. Парадоксы путешествия во времени можно было бы выразить на языке виртуальной реальности следующим образом. Точность передачи в виртуальной реальности — это достоверность, насколько она ощутима, переданной среды той, которую следовало передать. В случае с путешествием во времени среда, которую следует передать, — это среда, существовавшая исторически. Но как только переданная среда дает ответную реакцию, что она и должна делать, на воздействие пользователя, она, тем самым, становится исторически неточной, поскольку реальная среда никогда не реагировала на этого пользователя: пользователь никогда на неё не воздействовал. Например, реальный Юлий Цезарь никогда не встречал доктора Джонсона. Следовательно, доктор Джонсон самой проверкой достоверности передачи через беседу с Цезарем разрушил бы достоверность, создав исторически неточного Цезаря. Передача может либо вести себя точно, будучи достоверным изображением истории, либо реагировать точно, но не то и другое одновременно. Таким образом, {299} может показаться, что так или иначе, передача путешествия во времени в виртуальной реальности внутренне не способна быть точной — а это просто другой способ сказать, что путешествие во времени невозможно передать в виртуальной реальности.
Но действительно ли этот эффект является препятствием для точной передачи путешествия во времени? Как правило, имитация действительного поведения среды не является целью виртуальной реальности: значение имеет точная реакция этой среды. Как только вы начнете играть в теннис на переданном Центральном Корте Уимблдона, вы заставите его вести себя отлично от поведения реального корта. Но это не уменьшает точность передачи. Напротив, именно это необходимо для её точности. Точность в виртуальной реальности означает близость переданного поведения к тому, которое исходная среда проявила бы, окажись в ней пользователь. Только в начале передачи состояние переданной среды должно быть достоверным по отношению к оригиналу. Соответственно, достоверным должно быть не состояние среды, а её реакция на действия пользователя. Почему это «парадоксально» для передачи путешествия во времени, а не для всех других передач — например, для передачи обычного путешествия?
Это кажется парадоксальным, потому что при передаче путешествия в прошлое пользователь играет уникальную двуликую или многоликую роль. Из-за наличия петель во времени, где, например, одна или больше копий пользователя могут сосуществовать и взаимодействовать, от генератора виртуальной реальности в действительности требуется передавать пользователя, одновременно реагируя на его действия. Например, представим, что я пользователь генератора виртуальной реальности, который обрабатывает программу передачи путешествия во времени. Допустим, что когда я включаю эту программу, вокруг себя я вижу фантастическую лабораторию. В центре находится вращающаяся дверь, подобная тем, которые находятся на входе в большие здания, за исключением того, что она непрозрачна и почти полностью огорожена непрозрачным цилиндром. Единственный путь в цилиндр или из него — это вход, прорезанный в его боковой стенке. Дверь, расположенная внутри этого цилиндра, постоянно вращается. На первый взгляд кажется, что с этим устройством мало что можно сделать, кроме как войти в него, сделать в нем один или несколько кругов вместе с вращающейся дверью и снова выйти. Однако над входом висит табличка: «Путь в прошлое». Это машина времени — вымышленная, виртуальная {300} машина времени. Однако если бы существовала реальная машина времени, способная перенести в прошлое, она, как и эта машина, была бы не экзотическим аппаратом, а экзотическим местом. Чем ехать или лететь на ней в прошлое, человеку скорее пришлось бы проделать через неё определенный путь (возможно, используя обычный космический аппарат) и появиться в более раннем времени.
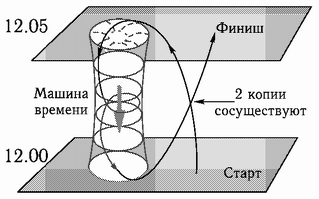
|
|
Рис. 12.1. Путь через пространство-время, совершаемый путешественником во времени |
На стене смоделированной лаборатории висят часы, которые первоначально показывают полдень, а у входа в цилиндр написаны некоторые инструкции. К тому времени, как я закончил читать их, уже пять минут первого, как в соответствии с моим восприятием, так и по часам. Инструкции гласят, что если я войду в цилиндр, сделаю вместе с вращающейся дверью один круг и вернусь, в лаборатории будет на пять минут раньше. Я вхожу в одно из отделений вращающейся двери. Когда я перемещаюсь вокруг цилиндра, мое отделение закрывается за мной, а потом, через несколько мгновений, снова достигает входа. Я выхожу. Лаборатория выглядит почти также — за исключением чего? Что мне следует ожидать дальше, если это точная передача путешествия в прошлое?
Позвольте мне вернуться немного назад. Допустим, что у входа есть переключатель, два положения которого обозначены как «интерактивность включена» и «интерактивность выключена». Эта установка не позволяет пользователю участвовать в прошлом, а позволяет только наблюдать его. Другими словами, она обеспечивает не полную передачу виртуальной реальности среды прошлого, а только формирование изображений.
Наличие этой простой установки, по крайней мере, исключает неопределенность или парадокс относительно того, какие изображения {301} должны быть сформированы, когда я выйду из вращающейся двери. Это должны быть изображения меня, в лаборатории, делающего то, что Я делал в полдень. Одна причина отсутствия неопределенности состоит в том, что я помню эти события, поэтому я могу сравнить изображения прошлого с моими собственными воспоминаниями о том, что произошло. Ограничивая свой анализ небольшой замкнутой средой за короткий промежуток времени, мы избежали проблемы, аналогичной той, что связана с выяснением, каким на самом деле был Юлий Цезарь, проблемы, связанной с верхними пределами археологии, а не с внутренними проблемами путешествия во времени. В нашем случае генератор виртуальной реальности легко может получить информацию, которая ему необходима, чтобы создать требуемые изображения, записав все мои действия. Это не запись моих действий в физической реальности (которые заключаются в том, чтобы спокойно лежать внутри генератора виртуальной реальности), это запись моих действий в виртуальной среде лаборатории. Таким образом, в момент моего выхода из машины времени, генератор виртуальной реальности перестает передавать лабораторию в 12.05 и начинает воспроизводить свою запись с изображений того, что произошло в полдень. Он показывает эту запись мне с перспективой, настроенной на мое настоящее положение, и того, куда я смотрю, и постоянно перенастраивает перспективу по мере моего обычного движения. Таким образом, я снова вижу, что часы показывают полдень. Также я вижу более раннего себя, стоящего перед машиной времени, читающего надпись над входом и изучающего инструкции точно так, как я делал это пять минут назад. Я вижу его, но он не видит меня. Что бы я не сделал, он — или скорее оно, движущееся изображение меня, — никак не отреагирует на мое присутствие. Через некоторое время оно идет к машине времени.
Если я случайно окажусь у входа, мое изображение, тем не менее, направится прямо к машине времени и войдет в неё, так же, как это сделал я, поскольку если бы оно сделало что-то ещё, то передача уже была бы неточной. Существует множество способов запрограммировать генератор изображений, чтобы он справился с ситуацией, когда изображение непрерывного предмета должно пройти через местоположение пользователя. Например, изображение могло бы пройти прямо через пользователя, как привидение, или оно могло бы оттолкнуть пользователя. Последний вариант дает более точную передачу, потому что в этом случае изображения в некоторой степени являются не только {302} видимыми, но и осязаемыми. Я не должен опасаться, что ушибусь когда мое изображение оттолкнет меня, как бы резко оно не сделало это, потому что физически меня там безусловно нет. Если мне не хватает места, чтобы уйти с дороги, генератор виртуальной реальности мог бы без усилий переместить меня через небольшую щель или даже телепортировать за препятствие.
Дальнейшего воздействия я не могу оказать не только на свое изображение. Поскольку мы временно переключились с виртуальной реальности на формирование изображений, я уже не могу воздействовать на что-либо в смоделированной среде. Если на столе стоит стакан воды, я уже не могу взять его и выпить, что я мог сделать, прежде чем прошел через вращающуюся дверь в смоделированное прошлое. Запросив модель неинтерактивного путешествия в прошлое, которое эффективно является воспроизведением конкретных событий, происходивших пять минут назад, я неизбежно теряю контроль над своей средой. Я передаю контроль, как это и произошло, бывшему себе.
Когда мое изображение входит во вращающуюся дверь, часы снова показывают 12.05, хотя в соответствии с моим субъективным восприятием в модели уже 12.10. Что произойдет дальше, зависит от того, что я сделаю. Если я просто останусь в лаборатории, то следующей задачей генератора виртуальной реальности должна стать задача перемещения меня к событиям, которые происходят после 12.05, по времени в лаборатории. Ни генератор ещё не обладает записью этих событий, ни у меня нет никаких воспоминаний о них. Относительно меня, относительно смоделированной лаборатории, относительно физической реальности, эти события ещё не произошли, поэтому генератор виртуальной реальности может возобновить свою полностью интерактивную передачу. Общий результат состоит в том, что я провел в прошлом пять минут, не имея возможности воздействовать на него, а затем вернулся в «настоящее», которое я оставил, то есть, к нормальной последовательности событий, на которые я могу повлиять.
Существует другая альтернатива: я могу последовать за своим изображением в машину времени, вместе с ним совершить путешествие вокруг машины времени и снова появиться в прошлом лаборатории. Что произойдет в этом случае? Часы снова показывают полдень. Теперь я вижу два изображения прежнего себя. Одно из них видит машину времени впервые и не замечает ни меня, ни второе изображение. Второе изображение, кажется, видит первое, но не видит меня. Я вижу {303} оба изображения. Только первое изображение способно воздействовать на что-либо в лаборатории. На этот раз, с точки зрения генератора виртуальной реальности, в момент путешествия во времени не произошло ничего особенного. Он по-прежнему находится в установке «интерактивность выключена» и просто продолжает воспроизводить изображения событий, произошедших пять минут назад (с моей субъективной точки зрения), и эти события уже достигли того момента, когда я начал видеть изображение себя.
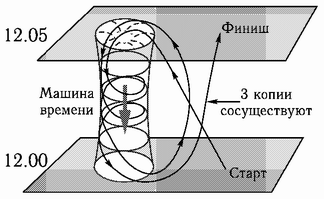
|
|
Рис. 12.2. Повторное использование машины времени позволяет сосуществовать многочисленным копиям путешественника во времени |
Когда пройдет ещё пять минут, я снова смогу выбрать, войти ли в машину времени опять, на этот раз в компании двух изображений меня (рисунок 12.2). Если я повторю этот процесс, то через каждые пять субъективных минут будет появляться одно дополнительное изображение меня. Каждое появляющееся изображение будет видеть все остальные, появившиеся до него (по моим ощущениям), но не будет видеть ни одно из тех, которые появились после него.
Если я продолжу этот эксперимент так долго, как это только возможно, максимальное количество копий меня, способных сосуществовать, будет ограничено только стратегией избежания столкновений в генераторе изображений. Допустим, что генератор пытается сделать реально трудным для меня втиснуться во вращающуюся дверь со всеми изображениями меня. Тогда, в конце концов, я буду вынужден сделать что-то отличное от путешествия в прошлое вместе с ними. Я мог бы немного подождать и занять следующее за ними отделение, в случае чего я попаду в лабораторию на мгновение позднее их. Однако это всего лишь отложит проблему переполнения машины времени. Если я не перестану ходить вокруг этой петли, в конечном итоге, все «щели» {304} путешествия во время 12.05 будут забиты, вынуждая меня дожидаться более позднего времени, после которого уже не будет дальнейшей возможности возвращения в тот промежуток времени. Этим свойством машины времени тоже обладали бы, если бы существовали. Они не только являются местами, они являются местами с конечной вместимостью для осуществления перемещения в прошлое.
Другим следствием того факта, что машины времени — это не аппараты, а скорее места или пути, является то, что человек не абсолютно свободен выбирать, в какое время воспользоваться ими для путешествия. Как показывает этот пример, такую машину можно использовать только для путешествия в то время и место, где она существовала. В частности, невозможно использовать её для путешествия в то время, когда её конструкция ещё не была закончена.
Сейчас генератор виртуальной реальности содержит записи множества различных версий того, что произошло в этой лаборатории между полуднем и 12.05. Которая из этих версий описывает реальную историю? Нас не должно волновать отсутствие ответа на этот вопрос, поскольку он спрашивает, что является реальным в ситуации, где мы искусственно подавили интерактивность, сделав неприменимой проверку доктора Джонсона. Можно было бы поспорить, что реальна только последняя версия, та, которая описывает большинство копий меня, потому что все предыдущие версии в действительности показывают историю с точки зрения людей, которые из-за искусственного правила неинтерактивности не могли полностью видеть, что происходит. Напротив, можно было бы спорить, что единственно реальной версией является первая версия событий, та, где была только одна копия меня, потому что только её одну я ощущал интерактивно. Весь смысл неинтерактивности в том, что мы временно мешаем себе изменить прошлое, а поскольку все последующие версии отличаются от первой, они не описывают прошлое. Они всего лишь описывают кого-то, кто смотрит на прошлое, благодаря универсальному генератору изображений.
Также можно было бы поспорить, что все версии в равной степени реальны. Как-никак, по окончании всего этого я помню, что ощутил не только одну историю лаборатории за пять минут, а несколько таких историй. Я ощущал их последовательно, но, с точки зрения лаборатории, все они произошли за один и тот же пятиминутный промежуток времени. Полная запись моих ощущений потребует множества снимков лаборатории на каждый момент, определяемый часами, вместо обычного {305} одного снимка на момент. Другими словами, это была передача параллельных вселенных. Оказывается, что эта последняя интерпретация наиболее близка к истине, как мы увидим, повторив этот же самый эксперимент, но на этот раз с включенной интерактивностью.
Первое, что я хочу сказать об интерактивном режиме, в котором я свободен воздействовать на среду, — это то, что одно, что я могу реализовать по своему выбору, — это точная последовательность событий, которые я только что описал для неинтерактивного режима. То есть, я могу вернуться назад и встретить одну или несколько копий себя, но, тем не менее, (если я достаточно хороший актер) повести себя точно так, как если бы я не видел некоторые из них. Тем не менее, я должен внимательно наблюдать за ними. Если я хочу воссоздать последовательность событий, произошедших при проведении мной этого эксперимента с выключенной интерактивностью, я должен помнить, какие копии меня ведут себя так, как я могу вести себя в последующие посещения этого времени.
В начале этого эксперимента, когда я впервые вижу машину времени, я немедленно вижу, что она выпускает одну или несколько копий меня. Почему? Потому что при включенной интерактивности, когда я буду использовать машину времени в 12.05, у меня будет право воздействовать на прошлое, в которое я вернусь, а это прошлое — как раз то, что происходит сейчас, в полдень. Таким образом, будущий я или будущие я появляются, чтобы использовать свое право воздействия на лабораторию в полдень, право воздействия на меня и, в частности, право быть увиденными мной.
Копии меня занимаются своими делами. Рассмотрим вычислительную задачу, которую должен выполнить генератор виртуальной реальности при передаче этих копий. Теперь существует новый элемент, который делает эту задачу гораздо более сложной, чем она была при неинтерактивном режиме. Как генератор виртуальной реальности должен выяснить, что собираются делать копии меня? У него ещё нет никаких записей этой информации, поскольку в физическом времени эксперимент только что начался. Однако генератор немедленно должен представить мне передачи будущего меня.
Поскольку я твердо решил притвориться, что не вижу эти передачи, а затем скопировать то, что делают они, они не будут подвергнуты более строгой проверке на точность. Генератору виртуальной реальности нужно всего лишь заставить их делать что-либо — что угодно, что {306} мог бы сделать я; или точнее, любое поведение, которое я мог бы скопировать. Зная технологию, на которой основан генератор виртуальной реальности, мы допускаем, что это не превысило бы его возможности. Генератор имеет точную математическую модель моего тела и некоторую степень прямого доступа к моему мозгу. Он может использовать их для вычисления некоторого поведения, которое я мог бы скопировать, а затем заставить свои исходные передачи меня вести себя именно так.
Итак, в начале эксперимента я вижу, что несколько копий меня появляются из вращающейся двери и что-то делают. Я притворяюсь, что не замечаю их, и через пять минут сам обхожу вращающуюся дверь и копирую виденные мной ранее действия первой копии себя. Через пять минут я снова обхожу дверь и копирую вторую копию и т. д. Тем временем я замечаю, что одна из копий всегда повторяет то, что делал я в течение первых пяти минут. В конце последовательности путешествия во времени у генератора виртуальной реальности снова будет несколько записей того, что произошло за пять минут после полудня, но на этот раз все эти записи будут идентичны. Другими словами, имеет место только одна история, а именно: что я встречаю будущего себя, но притворяюсь, что не замечаю его. Позднее я стал этим будущим мной, переместился назад во времени, чтобы встретить прошлого себя, и, по-видимому, остался незамеченным. Все это очень неплохо, непарадоксально — и нереально. Это было достигнуто, благодаря сложной, взаимозависимой игре, в которой участвовали генератор виртуальной реальности и я: я копировал его, а он копировал меня. Но при включении нормальной интерактивности, я могу не выбирать эту игру.
Если бы у меня действительно был доступ к виртуальному путешествию во времени, я непременно захотел бы проверить подлинность передачи. В обсуждаемом нами случае проверка началась бы сразу же, как только я увидел копии себя. Я бы не только не проигнорировал их, я бы немедленно вступил с ними в разговор. У меня гораздо больше возможностей проверить их подлинность, чем их было бы у доктора Джонсона для проверки подлинности Юлия Цезаря. Чтобы пройти хотя бы начальную проверку, переданные версии меня должны были бы быть существами с искусственным интеллектом — более того, существами, настолько похожими на меня, по крайней мере, в своих реакциях на внешние раздражители, чтобы они могли убедить меня, что являются точной передачей меня, каким я мог бы стать через пять минут. Генератор виртуальной реальности должен обрабатывать {307} программы, по содержанию и сложности подобные моему разуму. И опять, сложность написания подобных программ в данном случае не проблема: мы исследуем принцип виртуального путешествия во времени, а не его практическое применение. Не имеет значения, откуда наш гипотетический генератор виртуальной реальности берёт свои программы, поскольку мы спрашиваем, содержит ли набор всех возможных программ программу, точно передающую путешествие во времени. Однако наш генератор виртуальной реальности, в принципе, имеет средства найти все возможные варианты моего поведения в различных ситуациях. Эта информация содержится в физическом состоянии моего мозга, и с помощью достаточно точных измерений, в принципе, её можно было бы считать оттуда. Одним из методов (вероятно неприемлемым) осуществить это мог бы быть следующий: генератор виртуальной реальности заставляет мой мозг в виртуальной реальности вступить во взаимодействие с проверяемой средой, записывает его поведение, а затем восстанавливает его первоначальное состояние, возможно, прокрутив его назад. Причина того, почему это может быть неприемлемым, в том, что я, по-видимому, ощутил бы эту проверяемую среду и, хотя я потом не вспомнил бы её, я хочу, чтобы генератор виртуальной реальности давал мне только ощущения, точно определенные мной, и никакие другие.
В любом случае, для настоящих целей значение имеет только то, что, поскольку мой мозг является физическим объектом, принцип Тьюринга гласит, что он входит в репертуар универсального генератора виртуальной реальности. Таким образом, в принципе, копия меня может пройти проверку на точность сходства со мной. Но это не единственная проверка, которую я хочу осуществить. Главным образом, я хочу проверить, подлинно ли передается само путешествие во времени. В этой связи, я хочу выяснить не только, является ли этот человек подлинным мной, но подлинно ли то, что он из будущего. Частично, я могу проверить это, расспросив его. Он должен сказать, что помнит, что пять минут назад находился в моем положении, а потом прошел через вращающуюся дверь и встретил меня. Я так же должен обнаружить, что он проверяет подлинность меня. Почему он сделал бы это? Потому что самый строгий и прямой способ проверить его сходство с будущим мной заключался бы в том, чтобы подождать, пока я не пройду через машину времени, а потом посмотреть на две вещи: во-первых, ведет ли себя копия меня, которую я там обнаруживаю, так же, как, я помню, вел себя я; и во-вторых, веду ли я себя так, как, я помню, вела себя копия. {308}
В обоих этих отношениях передача определенно не пройдет проверку! При моей первой же и самой небольшой попытке вести себя отлично от того, как, я помню, вела себя моя копия, у меня это получится. И заставить мою копию вести себя отлично от того, как вел себя я, будет почти так же легко: все, что мне придется сделать, — это задать ей вопрос, который я на его месте не задавал, и ответ на который будет иным. Таким образом, как бы сильно они не походили на меня внешне и личностно, люди, появляющиеся из виртуальной машины времени не являются подлинной передачей человека, которым я вскоре стану. Да они и не должны им являться — как-никак, я твердо решил вести себя отлично от них, когда придет моя очередь воспользоваться машиной времени, и, поскольку сейчас генератор виртуальной реальности разрешает мне свободно взаимодействовать с переданной средой, нет ничего, что помешало бы мне осуществить свое намерение.
Подведем итог. В начале эксперимента я встречаю человека, в котором узнаю себя, за исключением небольших отличий. Эти отличия последовательно указывают на то, что он из будущего: он помнит лабораторию в 12.05, в то время, которое, с моей перспективы ещё не наступило. Он помнит, что отправился в это время, прошел через вращающуюся дверь и прибыл в полдень. Он помнит, что до всего этого, он начал эксперимент в полдень, впервые увидел вращающуюся дверь и появляющиеся копии себя. Он говорит, что это произошло более пяти минут назад, в соответствии с его субъективным восприятием, хотя, в соответствии с моим субъективным восприятием, весь эксперимент ещё не длится и пяти минут. И так далее. Однако, хотя он и проходит все проверки на бытность версией меня из будущего, он не является моим будущим, и это доказуемо. Когда я проверяю, является ли он именно тем человеком, которым я стану, он не проходит эту проверку. Точно так же, он говорит мне, что я не прохожу проверку на бытность его прошлым я, поскольку я не делаю в точности то, что, как он помнит, делал он.
Итак, отправляясь в прошлое лаборатории, я обнаруживаю, что это не то прошлое, которое я только что покинул. Из-за взаимодействия со мной копия меня, которую я нахожу там, ведет себя не точно так, как, я помню, вел себя я. Следовательно, если бы генератор виртуальной реальности должен был записать все, что происходит во время этой последовательности путешествия во времени, ему опять пришлось бы запомнить несколько снимков на каждый момент, определяемый часами {309} в лаборатории, и на этот раз все они были бы отличны. Другими словами, существовало бы несколько различных, параллельных историй лаборатории за пятиминутное путешествие во времени. И опять, я ощутил каждую из этих историй по очереди. Но на этот раз я ощутил все их во взаимодействии, поэтому нельзя сказать, что хоть одна из них менее реальна, чем все остальные. Таким образом, в данном случае передается маленький мультиверс. Если бы это было физическое путешествие во времени, многочисленные снимки в каждый момент были бы параллельными вселенными. Зная квантовую концепцию времени, мы не удивились бы этому. Нам известно, что снимки, которые в нашем повседневном опыте собираются приблизительно в одну временную последовательность, в действительности являются параллельными вселенными. Мы обычно не ощущаем другие параллельные вселенные, существующие в то же самое время, но у нас есть причина верить в их существование. Таким образом, если мы найдем какой-либо способ, ещё неопределенный, переместиться в более раннее время, почему нам следует ожидать, что этот способ непременно поместит каждую копию нас на конкретный снимок, который эта копия уже ощутила? Почему нам следует ожидать, что каждый гость, которого мы принимаем из будущего, будет приходить с конкретных будущих снимков, на которых мы, в конечном итоге, обнаружим себя? В действительности, нам не следует ожидать этого. Просить разрешения на взаимодействие со средами прошлого — значит изменить его, что, по определению, значит просить находиться на снимке, отличном от того, который мы помним. Путешественник во времени вернулся бы на тот же снимок (или, что, возможно, то же самое, на идентичный снимок) только в чрезвычайно сложном случае, о котором я уже рассказал выше, когда между встречающимися копиями не происходит эффективного взаимодействия, и путешественник во времени умудряется сделать все параллельные истории идентичными.
Теперь давайте подвергнем виртуальную машину времени окончательной проверке. Давайте намеренно разыграем парадокс. Я формирую твердое намерение, которое сформулировал выше: я решаю, что если копия меня появляется из машины времени в полдень, то я не войду в неё в 12.05 или в любое другое время, пока длится эксперимент. Но если никто не появится, то в 12.05 я войду в машину времени, появлюсь в полдень, а потом снова не воспользуюсь машиной времени. Что произойдет? Кто-нибудь появится из машины времени или нет? Появится. {310} И не появится! Это зависит от того, о какой вселенной мы говорим. Не забывайте, что в полдень в лаборатории происходит больше, чем что-то одно. Допустим, что я не вижу никого, кто вышел бы из машины времени, как это показано на точке «Начало», справа на рисунке 12.3. Затем, действуя в соответствии со своим твердым намерением, я жду, когда наступит 12.05, и затем прохожу через уже знакомую вращающуюся дверь. Появляясь в полдень, я, конечно, обнаруживаю другую версию себя, стоящую у точки «Начало», слева на рисунке 12.3. Беседуя, мы выясняем, что сформировали одно и то же намерение. Следовательно, поскольку я появился в его вселенной, он будет вести себя отлично от того; как вел себя я. Действия в соответствии с тем же самым намерением, что и у меня, приводят его к тому, что он не использует машину времени. С этого момента мы с ним можем продолжить взаимодействие в течение всего времени имитации, и в той вселенной будет две версии меня. Во вселенной, из которой я пришел, лаборатория остается пустой после 12.05, так как я никогда не вернусь туда. Парадокса нет. Обе версии меня преуспели в осуществлении нашего общего намерения — которое, следовательно, всё-таки не было логически невозможным.
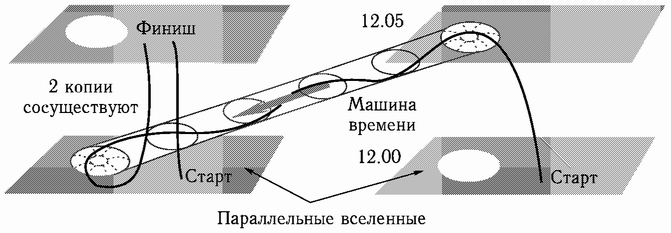
|
| Рис. 12.3. Траектории передвижения в мультиверсе путешественника во времени, который пытается «разыграть парадокс» |
Я и видоизмененный я в этом эксперименте имели различные ощущения. Видоизмененное я видело, как кто-то выходит из машины времени в полдень, а я этого не видел. Наши ощущения в равной степени совпали бы с нашим намерением, и в равной степени были бы непарадоксальны, если бы наши роли переменились. То есть, я мог бы видеть, как он выходит из машины времени в полдень, а сам не воспользовался бы ей. В этом случае мы оба завершили бы свое путешествие в той {311} вселенной, в которой я начал его. В той вселенной, в которой он начал свое путешествие, лаборатория осталась бы пустой.
Какую из этих двух самосогласованных возможностей покажет мне генератор виртуальной реальности? Во время этой передачи процесса, проходящего внутри мультиверса, я играю только одну из двух копий меня; вторую копию передает программа. В начале эксперимента эти две копии выглядят идентично (хотя в физической реальности они различны, потому что только одна из них обладает физическим мозгом и телом вне виртуальной среды). Но в физической версии эксперимента — если бы машина времени физически существовала — две вселенные, содержащие копии меня, которые собирались встретиться, изначально были бы строго идентичны, и обе копии были бы в равной степени реальны. В момент мультиверса, когда мы встретились (в одной вселенной) или не встретились (в другой), эти две копии стали бы различными. Бессмысленно спрашивать, какая копия меня испытала бы какие-то ощущения: поскольку мы идентичны, такого понятия, как «какая» из нас, не существует. Параллельные вселенные не имеют скрытых серийных номеров: они отличаются только тем, что происходит в них. Следовательно, чтобы передать все это для блага одной копии меня, генератор виртуальной реальности должен воссоздать для меня следствие существования в виде двух идентичных копий, которые, впоследствии, становятся различными и имеют различные ощущения. Он может заставить это произойти произвольно, с равной вероятностью, выбирая, какую из двух ролей он будет играть (а следовательно, зная мое намерение, какую роль буду играть я). Дело в том, что произвольный выбор в действительности означает подбрасывание некой электронной версии беспристрастной монетки, а беспристрастная монетка — это такая монетка, которая в половине вселенных, где её подбросили, падает «орлом», а в другой половине — «решкой». Таким образом, в половине вселенных я буду играть одну роль, а в другой половине — другую. Именно это произошло бы с реальной машиной времени.
Мы видели, что способность генератора виртуальной реальности передавать путешествие во времени в точности зависит от того, обладает ли он подробной информацией о состоянии разума пользователя. Это может заставить человека поинтересоваться, воистину ли мы избежали всех парадоксов. Если генератор виртуальной реальности заранее знает, что я собираюсь сделать, действительно ли я свободен проводить любые проверки, которые выберу? В данном случае нет необходимости {312} задаваться глубокими вопросами о природе свободной воли. Я действительно свободен делать все, что захочу в этом эксперименте, в том смысле, что для каждого возможного способа я могу выбрать любую реакцию на смоделированное прошлое — включая и произвольную реакцию, если я захочу этого, — генератор виртуальной реальности разрешит мне реагировать именно так. И мои действия влияют на все среды, с которыми я взаимодействую, и все они оказывают на меня ответное воздействие точно так, как они делали бы это, если бы не имело место путешествие во времени.
Генератору виртуальной реальности необходима информация из моего мозга не для того, чтобы предсказать мои действия, а для того, чтобы передать поведение моих двойников из других вселенных. Его проблема заключается в том, что в реальной версии этой ситуации существовали бы мои двойники из параллельных вселенных, которые первоначально были бы идентичными, а следовательно, имели бы те же самые склонности, что и я, и принимали бы те же самые решения. (Еще дальше в мультиверсе также существовали бы другие мои двойники, которые отличались бы от меня уже в начале эксперимента, но машина времени никогда не позволила бы мне встретиться с этими версиями). Если существовал бы какой-то иной способ передачи этих людей, генератору виртуальной реальности не понадобилась бы информация из моего мозга, как не понадобились бы ему непомерные вычислительные ресурсы, которые мы рассматривали. Например, если бы несколько человек, которые знакомы со мной, были бы способны скопировать меня с некоторой степенью точности (кроме внешних качеств, как-то: внешний облик и тон голоса, передать которые довольно просто), то генератор виртуальной реальности мог бы использовать этих людей, чтобы они сыграли роли моих двойников из параллельных вселенных и, тем самым, мог бы передать путешествие во времени с той же степенью точности.
Конечно, реальная машина времени не столкнулась бы с этими проблемами. Она просто предоставила бы пути, на которых могли бы встретиться я и мои двойники, которые уже существуют, и она не ограничила бы ни наше поведение, ни наши взаимодействия, когда мы действительно встретились бы. На способы соединения этих путей — то есть, к каким снимкам привела бы машина времени — повлияло бы мое физическое состояние, включая состояние моего разума. Это не отличается от обычной ситуации, в которой мое физическое состояние, {313} отраженное в моей склонности к различному поведению, влияет на происходящее. Огромная разница между этим и повседневным опытом в том, что каждая копия меня потенциально имеет огромное влияние на другие вселенные (через путешествие в них).
Действительно ли способность перемещаться в прошлое других вселенных, но не нашей собственной, эквивалентна путешествию во времени? Возможно, имеет смысл только путешествие между вселенными, но не путешествие во времени? Нет. Процессы, описанные мной, действительно являются путешествием во времени. Прежде всего, дело не в том, что мы не можем переместиться на тот снимок, на котором мы уже были. Если мы правильно все устроим, то мы сможем это сделать. Конечно, если мы изменим в прошлом что-либо — если мы сделаем прошлое отличным от того прошлого, из которого мы пришли, — то окажемся в другом прошлом. Качественное путешествие во времени позволило бы нам изменить прошлое. Другими словами, оно позволяет нам сделать прошлое отличным от того, которое мы помним (в этой вселенной). Это значит отличным от того, каким оно действительно является на снимках, куда мы не попадали, чтобы изменить что-либо. И к этим снимкам, по определению, относятся снимки, на которых мы были и помним это.
Таким образом, желание изменить конкретные прошлые снимки, на которых мы однажды были, действительно не имеет смысла. Но это никак не связано с путешествием во времени. Эта бессмыслица проистекает непосредственно из бессмысленной классической теории о потоке времени. Изменить прошлое значит выбрать, на каком снимке находиться, а не изменить какой-то конкретный снимок прошлого на другой. В этом отношении, изменить прошлое — все равно что изменить будущее, чем мы постоянно занимаемся. Всякий раз, когда мы делаем выбор, мы изменяем будущее: сделай мы иной выбор, мы изменили бы его опять. Подобная идея не имела бы смысла в классической физике пространства-времени с её единственным будущим, определенным настоящим. Но она имеет смысл в квантовой физике. Делая выбор, мы изменяем будущее по сравнению с тем, каким оно будет в тех вселенных, где мы делаем другой выбор. Но ни один конкретный снимок будущего ни в коем случае не изменяется. Он не может измениться, поскольку потока времени, по отношению к которому он мог бы измениться, не существует. «Изменение» будущего означает выбор снимка, на котором мы будем находиться; «изменение» прошлого в точности {314} означает то же самое. Поскольку потока времени не существует, не существует и изменения конкретного снимка прошлого, подобного тому на котором, как мы помним, мы были. Тем не менее, если каким-то образом мы получим физический доступ к прошлому, нет такой причины, почему мы не могли бы изменить его в том смысле, в каком мы изменяем будущее, а именно, выбирая пребывание на снимке, отличном от того, где бы мы находились, сделай мы другой выбор.
Аргументы виртуальной реальности помогают при понимании путешествия во времени, потому что понятие виртуальной реальности требует серьезного отношения к «событиям, которые противоречат фактам», а потому, квантовая концепция времени, подразумевающая наличие многих вселенных, кажется естественной, будучи переданной в виртуальной реальности. Увидев, что путешествие в прошлое входит в репертуар универсального генератора виртуальной реальности, мы понимаем, что идея о путешествии в прошлое имеет абсолютный смысл. Но это не означает, что она непременно физически достижима. Как-никак, в виртуальной реальности возможно и путешествие со скоростью, превышающей скорость света, и вечные двигатели, и много всего другого, что невозможно физически. Никакой объем рассуждении о виртуальной реальности не может доказать, что данный процесс разрешен законами физики (хотя рассуждение может доказать, что он не разрешен: если бы мы пришли к противоположному выводу, это означало бы, в соответствии с принципом Тьюринга, что путешествие во времени физически невозможно). Так что же наши позитивные выводы о виртуальном путешествии во времени говорят нам о физике?
Они говорят нам, как выглядело бы путешествие во времени, если бы оно имело место. Они говорят нам, что путешествие в прошлое неизбежно было бы процессом, установившимся в нескольких взаимодействующих и взаимосоединенных вселенных. В этом процессе участники, куда бы они ни отправились во времени, в общем случае, перемещались бы из одной вселенной в другую. Точные способы соединения вселенных зависели бы, помимо всего прочего, от состояния разума участников.
Таким образом, чтобы путешествие во времени было физически возможно, необходимо существование мультиверса. Кроме того, необходимо, чтобы законы физики, управляющие мультиверсом, были таковы, что в присутствии машины времени и потенциальных путешественников во времени, вселенные становились бы взаимосоединенными {315} именно так, как описал я, и никак иначе. Например, если я не собираюсь использовать машину времени, что бы ни случилось, то на моем снимке не должна появиться ни одна версия меня, путешествующая во времени; то есть с моей вселенной не может соединиться ни одна вселенная, в которой версии меня используют машину времени. Если я определенно собираюсь использовать машину времени, то моя вселенная должна соединиться с другой вселенной, в которой я тоже определенно использую её. А если я попытаюсь разыграть «парадокс», то, как мы видели, моя вселенная должна соединиться с другой вселенной, в которой копия меня имеет то же самое намерение, что и я, но, осуществляя это намерение, ведет себя отлично от меня. Удивительно, но именно это и предсказывает квантовая теория. Короче говоря, результат в том, что если пути в прошлое действительно существуют, то путешествующие по ним свободны взаимодействовать с окружающей их средой так же, как они могли бы делать это, если бы эти пути не вели в прошлое. Путешествие во времени ни в коем случае не становится алогичным и не налагает особые ограничения на поведение путешественников во времени.
Все это оставляет у нас вопрос, возможно ли физически существование путей в прошлое? Этот вопрос был предметом многих исследований и всё ещё является в высшей степени противоречивым. Обычно отправной точкой является набор уравнений, формирующих (предсказательную) основу общей теории относительности Эйнштейна, нашу лучшую теорию пространства и времени на сегодняшний день. Эти уравнения, известные как уравнения Эйнштейна, имеют множество решений, каждое из которых описывает возможную четырехмерную конфигурацию пространства, времени и гравитации. Уравнения Эйнштейна определенно позволяют существование путей в прошлое; обнаружено много решений с таким свойством. До недавнего времени принятая практика систематически игнорировала такие решения. Но это никоим образом не следовало ни из самой теории, ни из какого-либо доказательства в физике. Так происходило потому, что физики находились под впечатлением, что путешествие во времени «привело бы к парадоксам» и, следовательно, такие решения уравнений Эйнштейна должны быть «нефизическими». Эта вторая произвольная догадка напоминает о том, что произошло в первые годы после появления теории общей относительности, когда сам Эйнштейн отверг решения, описывающие Большой Взрыв и расширение вселенной. Он пытался {316} изменить уравнения так, чтобы они описывали статическую вселенную. Позднее он говорил об этом как о величайшей ошибке своей жизни, а расширение вселенной экспериментально подтвердил американский астроном Эдвин Хаббл. В течение многих лет ошибочно отвергали как «нефизические» и решения, полученные немецким астрономом Карлом Шварцшильдом, первые решения, описывающие черные дыры. Эти решения описывали явления, противоречащие интуиции, как-то: область, которую в принципе невозможно избежать, и гравитационные силы, которые в центре черной дыры становятся бесконечными. В настоящее время распространено мнение, что черные дыры действительно существуют и действительно обладают теми свойствами, которые предсказывали уравнения Эйнштейна.
В буквальном понимании уравнения Эйнштейна предсказывают, что путешествие в прошлое было бы возможно вблизи массивных, вращающихся объектов таких как черные дыры, если бы они вращались достаточно быстро, а также в некоторых других ситуациях. Но многие физики сомневаются в реальности этих предсказаний. Не известно ни одной достаточно быстро вращающейся черной дыры, и было доказано (неокончательно), что, скорее всего, невозможно искусственно увеличить скорость вращения черной дыры, потому что любой быстро вращающийся материал, помещенный в черную дыру, мог бы быть отброшен и не попал бы туда. Возможно, скептики правы, но поскольку их нежелание принять возможность путешествия во времени исходит из убеждения, что такое путешествие ведет к парадоксам, оно неоправданно.
Даже когда уравнения Эйнштейна будут поняты более полно, они не дадут окончательных ответов на вопрос путешествия во времени. Общая теория относительности предшествует квантовой теории и не полностью совместима с ней. Никто ещё не преуспел в формулировке удовлетворительной квантовой версии — квантовой теории гравитации. Тем не менее, исходя из приведенных мной аргументов, в ситуациях, связанных с путешествием во времени, доминировали бы квантовые эффекты. Типичные кандидаты, претендующие на звание квантовой теории гравитации, не только позволяют существование в мультиверсе связей с прошлым, они предсказывают, что подобные связи непрерывно образуются и мгновенно рвутся. Это происходит во всем пространстве и времени, но только на субмикроскопическом уровне. Типичный путь, созданный этими эффектами шириной около 10-35 метра, остается {317} открытым в течение одного времени Планка (около 10-43 секунды) и, следовательно, перемещает в прошлое только примерно на время Планка.
Путешествие в будущее, для которого по существу необходимы только эффективные ракеты, находится на умеренно отдаленном, но уверенно предсказуемом горизонте технологии. Путешествие в прошлое, которое требует манипуляций с черными дырами или некоего схожего сильного разрушения структуры пространства и времени, станет применимо на практике только в отдаленном будущем, если станет вообще. Сейчас мы не знаем ничего в законах физики, что исключало бы наше путешествие в прошлое; напротив, они делают правдоподобной возможность путешествия во времени. Будущие открытия в фундаментальной физике могут изменить это. Возможно, откроют, что квантовые флуктуации в пространстве и времени становятся чрезвычайно сильными около машин времени и надежно перекрывают вход в них (Стивен Хокинг, например, утверждал, что некоторые сделанные им вычисления подтверждают вероятность этого, однако его доказательство не является окончательным). Или некое, до сих пор неизвестное Явление может исключить путешествие в прошлое — или обеспечить новый и более простой метод его осуществления. Невозможно предсказать будущий рост знания. Но если будущее развитие фундаментальной физики будет позволять путешествие во времени в принципе, то его практическое осуществление несомненно станет всего лишь проблемой технологии, которая, в конце концов, будет решена.
Из-за того, что ни одна машина времени не обеспечивает пути в то время, когда её ещё не было, и из-за способа соединения вселенных, о котором говорит квантовая теория, существуют некоторые пределы того, что мы можем ожидать узнать с помощью машин времени. Как только мы построим машину времени, но не раньше, мы можем ожидать, что из неё появятся гости или, по крайней мере, послания из будущего. Что они скажут нам? Они точно не сообщат нам новостей о нашем собственном будущем. Детерминистический кошмар пророчества неизбежной будущей гибели, несмотря на наши попытки избежать её (а может быть, вследствие этих попыток), — это содержание мифов и научной фантастики. Гости из будущего могут знать наше будущее не больше нас самих, поскольку они пришли не оттуда. Но они могут рассказать нам о будущем своей вселенной, прошлое которой было идентично прошлому нашей вселенной. Они могут принести отпечатанные новости и программы текущих дел, газеты с числами, {318} начинающимися с завтрашнего дня и так далее. Если их общество приняло какое-то ошибочное решение, которое привело к катастрофе, они могут предостеречь нас от принятия этого решения. Мы можем последовать их совету, а можем и не последовать ему. Если мы последуем ему, возможно, мы избежим катастрофы или — гарантий здесь нет — обнаружим, что результат ещё хуже, чем то, что произошло с ними.
Хотя, в среднем, предположительно, мы должны извлечь большую пользу из изучения истории их будущего. Хотя это и не история нашего будущего и хотя знание о возможной приближающейся катастрофе не равноценно знанию того, как её предотвратить, видимо, мы многое могли бы извлечь из такой подробной записи того, что, с нашей точки зрения, могло бы произойти.
Наши гости могли бы принести подробности великих достижений науки и искусства. Если это произошло в ближайшем будущем другой вселенной, вероятно, что двойники тех людей, которые сделали это, существовали бы и в нашей вселенной и, возможно, уже работали бы в направлении этих достижений. Внезапно им бы преподнесли законченные варианты их работы. Были бы они благодарны? Здесь заключен другой мнимый парадокс путешествия во времени. Поскольку этот парадокс вроде бы не создает нелогичности, а создает только странности, его чаще обсуждают в художественной литературе, нежели в научных доказательствах, опровергающих путешествие во времени (хотя некоторые философы, например, Майкл Дамметт, относятся к нему вполне серьезно). Я называю этот парадокс парадоксом знания путешествия во времени. Вот как обычно его представляют. Историк из будущего, который интересуется творчеством Шекспира, использует машину времени, чтобы посетить великого драматурга в то время, когда тот пишет Гамлета. Они беседуют, и во время этой беседы путешественник во времени показывает Шекспиру текст монолога Гамлета «Быть или не быть», который он взял с собой из будущего. Шекспиру он нравится, и он включает его в пьесу. В другой версии Шекспир умирает и путешественник во времени присваивает себе его труды, достигая успеха тем, что притворяется, будто пишет пьесы, а на самом деле, тайно переписывает их из Полного собрания сочинений Шекспира, которое он привез с собой из будущего. Еще в одной версии путешественник во времени озадачен тем, что вообще не может найти Шекспира. Через некую цепочку случайностей он обнаруживает, что сам изображает Шекспира и снова присваивает себе его пьесы. Ему нравится такая жизнь, и {319} годы спустя он осознает, что он стал самим Шекспиром: а другого и не было.
Во всех этих историях машина времени должна была быть создана некой внеземной цивилизацией, которая смогла достичь путешествий во времени уже во времена Шекспира и которая хотела разрешить своему историку использовать одну из немногих щелей, которые невозможно было бы обновить, для путешествия в то время. Или возможно (я полагаю, даже менее вероятно), что вблизи какой-то черной дыры могла существовать естественно создавшаяся машина времени, которую можно было бы использовать.
Все эти истории относятся к совершенно согласованной цепочке — или, скорее, к кругу — событий. Причина их загадочности и того, почему они заслуживают названия парадокса, заключается в чем-то другом. Она заключается в том, что в каждой истории великая литература появляется без человека, написавшего её: никто не написал её в самом начале, никто не создал её. И эта предпосылка, хотя и логически согласованная, глубоко противоречит нашему пониманию того, откуда исходит знание. В соответствии с эпистемологическими принципами, которые я изложил в главе 3, знание не появляется сразу в полной форме. Оно существует только как результат творческих процессов, которые есть постепенные эволюционные процессы, всегда берущие начало с задачи, продолжающиеся экспериментальными новыми теориями, критикой и исключением ошибок и заканчивающиеся новой предпочтительной проблемной ситуацией. Именно так Шекспир писал свои пьесы. Именно так Эйнштейн открыл свои уравнения поля. Именно так все мы преуспеваем в решении любой задачи, большой или маленькой, в нашей жизни или при создании чего-то ценного.
Именно так появляются новые живущие виды. Аналогом «задачи» в данном случае является экологическая ниша. «Теории» — это гены, а экспериментальные новые теории — это видоизмененные гены. «Критика» и «исключение ошибок» — это естественный отбор. Знание создается намеренным действием людей, биологические адаптации — слепым неразумным механизмом. Слова, которые мы используем для описания этих двух процессов, различны, да и эти процессы физически непохожи, но обстоятельные законы эпистемологии, которые управляют обоими процессами, одни и те же. В одном случае эти законы называются теорией роста научного знания Поппера; в другом — теорией эволюции Дарвина. Парадокс знания можно было бы сформулировать и для {320} живущих видов. Скажем, мы с помощью машины времени переносим нескольких млекопитающих в век динозавров, когда млекопитающих ещё не было. Мы отпускаем своих млекопитающих на свободу. Динозавры вымирают, и наши млекопитающие сменяют их. Таким образом, новый вид появился, не развившись в процессе эволюции. В данном случае даже проще увидеть, почему эта версия неприемлема с философской точки зрения: она подразумевает недарвинианское происхождение видов, а конкретнее, креационизм. Вероятно, здесь не задействован ни один Создатель в традиционном смысле этого слова. Тем не менее, происхождение видов в этой истории явно сверхъестественно: история не дает никаких объяснений — и исключает возможность их существования — того, каким образом определенные и сложные адаптации видов к своим нишам попали туда.
Таким образом, ситуации, связанные с парадоксом знания нарушают принципы эпистемологии или, если хотите, эволюции. Они парадоксальны только потому, что содержат создание сложного человеческого знания или сложных биологических адаптации из ничего. Аналогичные истории, связанные с объектами другого рода или информацией на петле времени, не являются парадоксальными. Понаблюдайте за галькой на пляже; затем вернитесь во вчерашний день, найдите гальку где-то в другом месте и переложите её туда, где вы собираетесь её найти. Почему вы нашли её именно в этом месте? Потому что вы переложили её туда. Почему вы переложили её туда? Потому что вы нашли её там. Вы стали причиной того, что некоторая информация (положение гальки) появилась на самосогласованной петле времени. И что же? Галька должна была быть где-то. При условии, что история не содержит получения чего-то из ничего, как в случае со знанием или адаптацией, она не является парадоксом.
С перспективы мультиверса, путешественник во времени, который посещает Шекспира, не пришел из будущего именно этой копии Шекспира. Он может повлиять, или, возможно, заместить, ту копию, к которой он пришел. Но он никогда не может посетить копию, которая существовала в той вселенной, из которой он пришел. А именно эта копия написала пьесы. Таким образом, у пьес был подлинный автор, и в этой истории нет парадокса, связанного с петлей времени. Знание и адаптация, даже при наличии путей в прошлое, появляются только по возрастающей, через действия творческих способностей человека или биологической эволюции, и никак иначе. {321}
Хотелось бы мне иметь возможность сообщить, что это требование также строго соблюдается законами, которые квантовая теория накладывает на мультиверс. Я ожидаю, что это так, но это трудно доказать, так как трудно выразить желаемое свойство на современном языке теоретической физики. Какая математическая формула отличает «знание» или «адаптацию» от бесполезной информации? Какие физические качества отличают «созидательный» процесс от несозидательного? Хотя мы ещё не можем ответить на эти вопросы, я не думаю, что эта ситуация безнадежна. Вспомните выводы главы 8 о важности жизни и знания в мультиверсе. Там я указал (по причинам, далеким от путешествия во времени), что создание знания и биологическая эволюция — физически важные процессы. И одна из причин заключалась в том, что эти, и только эти, процессы имеют определенное влияние на параллельные вселенные — а именно, создают траневселенскую структуру, уподобляя вселенные друг другу. Когда, однажды, мы поймем детали этого влияния, возможно, мы сумеем определить знание, адаптацию, творческие способности и эволюцию на основе сходимости вселенных.
Когда я «разыгрываю парадокс», в конце концов, в одной вселенной существует две копии меня, а в другой — ни одной. Общее правило состоит в том, что после того, как произошло путешествие во времени, общее количество копий меня, подсчитанное во всех вселенных, не изменяется. Точно так же обычные законы сохранения массы, энергии или других физических величин остаются истинными для всего мультиверса в целом, хотя могут и не быть истинными в какой-то одной вселенной. Однако; не существует закона сохранения знания. Обладание машиной времени обеспечило бы нам доступ к знанию из совершенно нового источника, а именно, творческих способностей разума в других вселенных. Разум других вселенных также мог бы получать знание от нас, поэтому можно было бы в общем смысле говорить о «торговле» знанием — а в действительности, о торговле предметами, реализующими знание — между множеством вселенных. Но эту аналогию нельзя воспринимать слишком буквально. Мультиверс никогда не будет свободной торговой зоной, потому что законы квантовой механики налагают жесткие ограничения на то, какие снимки можно соединить с какими. Во-первых, две вселенные соединяются только в тот момент, когда они являются идентичными: само соединение порождает начало их расхождения. И только, когда эти различия накопились, и в одной вселенной было создано новое знание и отправлено обратно во времени в другую {322} вселенную, мы могли бы получить знание, которого ещё нет в нашей вселенной.
Более точный способ думать о «торговле» знанием между вселенными — думать о всех наших процессах, создающих знание, о всей нашей культуре и цивилизации и о всех мыслительных процессах в разуме каждого индивидуума, а в действительности, и обо всей эволюционирующей биосфере как о гигантском вычислении. Все это вместе выполняет самомотивированную, самообразующуюся компьютерную программу. Конкретнее, как я уже упоминал, это программа виртуальной реальности в процессе передачи всего существования со все увеличивающейся точностью. В других вселенных есть другие версии этого генератора виртуальной реальности: некоторые — идентичны нашему, другие — весьма отличны от него. Если бы у такого генератора виртуальной реальности был доступ к машине времени, он смог бы получить некоторые результаты вычислений, выполненных его двойниками из других вселенных, настолько, насколько законы физики позволили бы необходимый взаимный обмен информацией. Каждый отрезок знания, получаемый из машины времени, будет иметь автора где-то в мультиверсе, но он может принести пользу несказанному количеству различных вселенных. Таким образом, машина времени — это вычислительный ресурс, позволяющий осуществить определенные типы вычислений с гораздо большей эффективностью, чем их мог бы осуществить любой индивидуальный компьютер. Машина времени достигает такой высокой эффективности, эффективно разделяя вычислительную работу между своими копиями в различных вселенных.
В отсутствие машины времени взаимный обмен информацией между вселенными ничтожно мал, потому что законы физики предсказывают в этом случае очень маленький случайный контакт между ними. В хорошем приближении знание, созданное в одном наборе идентичных снимков, достигает относительно немногих других снимков, а именно, тех, которые сложены в пространства-времена к будущему исходных снимков. Но это только приближение. Явления интерференции — это результат случайного контакта между соседними вселенными. В главе 9 мы видели, что даже этот микроскопический уровень контакта можно использовать для обмена важной, полезной для вычислений информацией между вселенными.
Изучение путешествия во времени предоставляет поле деятельности — хотя в настоящее время только теоретическое {323} мысленно-экспериментальное поле деятельности — на котором мы видим крупно обозначенные некоторые из связей между тем, что я называю «четырьмя основными нитями». Все четыре нити играют важную роль в объяснении путешествия во времени. Может быть, однажды путешествие во времени будет достигнуто, а может, и нет. Но если будет, то оно не должно потребовать фундаментального изменения в мировоззрении, по крайней мере, для тех, кто в общем смысле разделяет мировоззрение, предложенное мной в этой книге. Все связи, которые путешествие во времени могло бы установить между прошлым и будущим, понятны и непарадоксальны. И все связи, которые могли бы ему понадобиться между, на первый взгляд, несвязанными областями знания так или иначе уже есть.
Путешествие во времени — этого названия действительно заслуживает только путешествие в прошлое.
В прошлое — при путешествии в прошлое путешественник ощущает один и тот же момент как определяемый внешними часами и календарями более чем однажды в субъективной последовательности.
В будущее — при путешествии в будущее путешественник достигает более позднего момента в более короткое субъективное время, чем то, которое определяется внешними часами и календарями.
Машина времени — физический объект, который дает пользователю возможность путешествия в прошлое. Лучше думать о ней как о месте или пути, чем как об аппарате.
Парадокс путешествия во времени — на первый взгляд невозможная ситуация, которую мог бы создать путешественник во времени, если бы путешествие во времени было возможно.
Парадокс дедушки — парадокс, при котором человек отправляется в прошлое и затем мешает себе сделать это.
Парадокс знания — парадокс, при котором знание создается из ничего, через путешествие во времени. {324}
Путешествие во времени, возможно, будет однажды достигнуто а возможно, и нет, но оно не парадоксально. Если человек отправляется в прошлое, он сохраняет обычную свободу действий, но, в общем случае в конце попадает в прошлое другой вселенной. Изучение путешествия во времени — это область теоретического изучения, в которой важны все четыре основные нити: квантовая механика, с её параллельными вселенными и квантовой концепцией времени; теория вычисления из-за связи между виртуальной реальностью и путешествием во времени и из-за того, что отличительные особенности путешествия во времени можно исследовать как новые способы вычисления; эпистемология и теория эволюции из-за связей, которые они налагают на способ появления знания.
Четыре основные нити связаны не только как часть структуры реальности, они также являются замечательными параллелями между четырьмя областями знания как такового. Все четыре основных нити имеют необычный статус, который заключается в том, что большинство людей, работающих в этих областях, одновременно принимают и отвергают их, полагаются на них и не верят им. {325}
Широко распространен следующий стереотип научного процесса: молодой новатор-идеалист, противостоящий закоснелым людям из научного «истэблишмента». Эти закоснелые люди, ограниченные удобной традиционностью, которую они защищают и пленниками которой являются, приходят в ярость из-за любого вызова, брошенного ей. Они ведут себя нерационально. Они отказываются прислушиваться к критике, вступать в спор или принимать свидетельство и пытаются подавить идеи новатора.
Этот стереотип был возведен в ранг философии Томасом Куном, автором влиятельной книги The Structure of Scientific Revolutions[20]. В соответствии с Куном, научный истэблишмент определяется верой его членов в набор общепринятых теорий, которые вместе формируют мировоззрение, или парадигму. Парадигма — это психологический и теоретический аппарат, на основе которого его приверженцы наблюдают и объясняют все, что присутствует в их опыте. (Также можно говорить о парадигме в пределах любой самодостаточной области знания, например, в физике). Стоит только какому-то наблюдению нарушить важную парадигму, её приверженцы просто перестают видеть это нарушение. Столкнувшись со свидетельством этого нарушения, они обязаны рассматривать его как «аномалию», экспериментальную ошибку, обман — как все, что позволит им поддерживать парадигму ненарушенной. Таким образом, Кун считает, что научная ценность открытости критике и экспериментальности при принятии теорий, а также научные методы экспериментальной проверки и отказ от общепринятых теорий после их опровержения, — это, главным образом, мифы, которые человек не смог бы разыграть, имея дело с любой важной научной проблемой.
Кун принимает, что для неважных научных проблем действительно имеет место нечто, похожее на научный процесс (как я обрисовал {326} в главе 3). Дело в том, что он верит, что наука развивается переменными эпохами: есть «нормальная наука» и есть «революционная наука». В эпоху нормальной науки почти все ученые верят в общепринятые фундаментальные теории и изо всех сил пытаются приспособить все свои наблюдения и вспомогательные теории под эту парадигму. Их исследование состоит в том, чтобы согласовать нерешенные вопросы усовершенствовать практическое применение теорий, систематизировать, переформулировать и согласовать. Что касается применения, они вполне могут использовать методы, которые являются научными в попперианском смысле, но они никогда не откроют ничего фундаментального, потому что они никогда не исследуют ничего фундаментального. Затем неожиданно появляются несколько молодых смутьянов, отрицающих некоторые фундаментальные доктрины существующей парадигмы. Это не настоящая научная критика, поскольку сами смутьяны не подчиняются здравому смыслу. Просто они смотрят на мир на основе новой, отличной парадигмы. Как они пришли к этой парадигме? Давление накопленных свидетельств и грубость оправданий старой парадигмы, в конце концов, привели их к новой. (Достаточно справедливо, хотя и трудно понять, как человек может уступить давлению в виде свидетельства, которое он, в соответствии с гипотезой, не видит). Как бы то ни было, начинается эпоха «революционной» науки. Большинство, которое всё ещё пытается заниматься «нормальной» наукой в рамках старой парадигмы, сражается, используя любые средства, — мешая публикациям, смещая еретиков с академических постов и т. д. Еретики умудряются найти способы публикации своих трудов, они высмеивают закоснелых ученых и пытаются проникнуть во влиятельные организации. Объяснительная способность новой парадигмы, на её собственном языке (ибо на языке старой парадигмы её объяснения кажутся сумасбродными и неубедительными), привлекает новичков из рядов молодых, свободных от обязательств ученых. В обоих лагерях могут быть и дезертиры. Некоторые из закоснелых ученых умирают. В конечном итоге, одна из сторон побеждает. Если побеждают еретики, они становятся новым научным истэблишментом и также слепо защищают свою новую парадигму, как старый истэблишмент защищал свою; если еретики проигрывают, они становятся сноской в истории науки. В любом случае, впоследствии продолжается «нормальная» наука.
Эта точка зрения Куна относительно научного процесса кажется естественной многим людям. На первый взгляд, она объясняет {327} повторяющиеся резкие перемены, которые наука навязывает современному мышлению, на языке повседневных человеческих качеств и импульсов, знакомых всем нам: укоренившихся предрассудков и предубеждений, нежелания видеть свидетельств своих ошибок, подавления несогласия законными интересами, желания спокойной жизни и т. д. И в оппозиции всему этому: непокорность молодости, поиски новизны, радость нарушения запретов и борьба за власть. В идеях Куна привлекает ещё одно: он ставит ученых на место. Они больше не могут объявлять себя благородными искателями истины, использующими рациональные методы гипотезы, критики и экспериментальной проверки для решения задач и создания самых лучших объяснений в мире. Кун открывает, что ученые — всего лишь команды-соперники, которые играют в бесконечные игры за право контроля территории.
Идея самой парадигмы неисключительна. Мы действительно наблюдаем и понимаем мир с помощью набора теорий, который и составляет парадигму. Но Кун ошибается, считая, что приверженность парадигме мешает человеку видеть достоинства другой парадигмы, или препятствует смене парадигм, или на самом деле мешает человеку понять две парадигмы одновременно. (Для обсуждения более широких последствий этой ошибки см. The Myth of the Framework[21] Поппера). Вероятно, всегда существует опасность того, что мы можем недооценить или полностью упустить объяснительную способность новой фундаментальной теории, оценивая её на концептуальной основе старой теории. Но это всего лишь опасность, и её можно избежать при достаточной внимательности и интеллектуальной целостности.
Также истинно и то, что люди, включая ученых, и особенно те, кто занимает важное положение, действительно стремятся придерживаться общепринятого образа действий, и могут с подозрением отнестись к новым идеям, поскольку весьма удобно чувствуют себя со старыми. Никто не может заявить, что все ученые в равной степени скрупулезно рациональны в своих суждениях об идеях. Неоправданная лояльность по отношению к парадигмам действительно зачастую является причиной противоречий в науке, как и везде. Но если рассмотреть теорию Куна как описание или анализ научного процесса, мы увидим её роковую ошибку. Эта теория объясняет последовательный переход от одной парадигмы к другой на основе социологии или психологии, предварительно {328} не останавливаясь на объективных достоинствах конкурирующих объяснений. Тем не менее, пока человек не поймет науку как поиск объяснений, тот факт, что она находит последовательные объяснения, каждое следующее из которых объективно лучше предыдущего, останется необъяснимым.
Следовательно, Кун вынужден решительно отрицать, что следующие друг за другом научные объяснения объективно совершенствовались, или что это усовершенствование возможно, хотя бы в принципе:
«... есть [этап], который хотели бы принять многие философы науки и который я отказываюсь принимать. Они хотят сравнивать теории как представления природы, как утверждения о том, «что действительно существует». Принимая, что ни одна теория из исторической пары не является истинной, они, тем не менее, ищут смысл, в котором последняя теория является лучшим приближением к истине. Я считаю, что ничего подобного найти нет возможности». (Лакатос и Масгрейв (ред.), Criticism and the Growth of Knowledge[22] стр. 265)
Таким образом, рост объективного научного знания невозможно объяснить с помощью картины Куна. Ничего хорошего нет в том, чтобы притворяться, что следующие друг за другом объяснения лучше только на основе своей собственной парадигмы. Существуют объективные различия. Мы можем летать, тогда как большую часть истории человечества люди могли только мечтать об этом. Древние люди не были бы слепы к действенности наших летательных аппаратов только потому, что, имея свою парадигму, они не смогли бы понять принцип их работы. Причина того, почему мы можем летать, состоит в том, что мы понимаем, «что действительно существует», достаточно хорошо, чтобы построить летательные аппараты. Причина того, почему древние не могли сделать это, в том, что их понимание было объективно хуже нашего.
Если привить реальность объективного научного прогресса теории Куна, то она будет означать, что все бремя фундаментального новаторства несут несколько иконоборческих гениев. Оставшаяся часть научного общества использует их, но в важных вопросах только препятствует росту знания. Этот романтический взгляд (который часто выдвигают независимо от идей Куна) также не соответствует действительности. Действительно были гении, которые в одиночку совершали {329} революции в целых науках: о нескольких я уже упоминал в этой книге — это Галилей. Ньютон, Фарадей, Дарвин, Эйнштейн, Гёдель. Тьюринг. Но в целом, эти люди умудрялись работать, публиковать свои труды и завоевывать признание, несмотря на неизбежное противостояние увязших в грязи и служителей времени. (Галилео был сломлен, но не учеными-соперниками). И несмотря на то, что большинство из них сталкивались с нерациональной оппозицией, карьера ни одного из них не соответствовала стереотипу «иконоборца против научного истэблишмента». Большинство из них извлекали выгоду и поддержку из своих взаимодействий с учеными, поддерживавшими предыдущую парадигму.
Иногда я обнаруживаю, что принимаю сторону меньшинства в фундаментальных научных противоречиях. Но я никогда не сталкивался с чем-либо, подобным ситуации Куна. Конечно, как я уже сказал, большая часть научного общества не всегда настолько открыта критике, насколько она должна быть открыта ей в идеале. Тем не менее, степень, в которой она придерживается «должной научной практики» при проведении научных исследований, — это нечто замечательное. Стоит только посетить исследовательский семинар в любой фундаментальной области «точных» наук, чтобы увидеть, насколько отличается поведение исследователей от обычного поведения людей. Итак, мы видим, как эрудированный профессор, признанный ведущим экспертом в своей области, проводит семинар. Семинарская аудитория полна людей из каждого ранга иерархии академического исследования: от аспирантов, которые познакомились с этой областью только несколько недель назад, до других профессоров, авторитет которых соперничает с авторитетом оратора. Академическая иерархия — это замысловатая властная структура, где карьера, влияние и репутация человека постоянно подвергаются риску, как в рабочем кабинете, так и в зале заседаний. Однако пока идет семинар, для наблюдателя может оказаться достаточно сложным определить положение участников. Самый молодой аспирант спрашивает: «Ваше третье уравнение действительно следует из второго? Я уверен, что нельзя пренебречь тем членом, которым пренебрегли вы». Профессор уверен, что этим членом можно пренебречь и что студент делает ошибочное суждение, которое не сделал бы более опытный человек. Итак, что же происходит дальше?
В аналогичной ситуации обладающий властью главный исполнитель, деловому суждению которого противоречит новичок, мог бы сказать: {330} «Послушайте, я сделал больше подобных суждений, чем вы съели горячих обедов. Если я говорю, что это работает, значит, это работает». Важный политик в ответ на критику неизвестного, но амбициозного партийного рабочего мог бы сказать: «Вы на чьей стороне?» Даже наш профессор, вне исследовательского контекста (скажем, читая лекцию студентам), вполне мог бы свободно ответить: «Сначала научитесь ходить, а уж потом бегайте. Прочтите учебник, а пока не тратьте ни свое время, ни наше». Но на исследовательском семинаре такой ответ на критику вызвал бы волну смущения в аудитории. Люди отвели бы глаза и притворились бы, что усердно изучают свои записи. Появились бы ухмылки и косые взгляды. Все были бы шокированы откровенной неуместностью такого отношения. В подобной ситуации взывать к авторитету (по крайней мере, открыто) просто неприемлемо, даже когда самый старший ученый во всей области обращается к самому младшему.
Поэтому профессор всерьез принимает точку зрения студента и приводит краткий, но адекватный аргумент в защиту спорного уравнения. Профессор изо всех сил пытается скрыть свое раздражение этой критикой из такого низкого источника. Большинство вопросов из низов будет в форме критики, которая, будучи обоснованной, уменьшила бы или вообще уничтожила бы ценность работы всей жизни профессора. Но появление сильной и разнообразной критики принятых истин — одна из причин семинара. Каждый считает само собой разумеющимся, что истина не очевидна, и что очевидное не обязательно должно быть истиной; эти идеи следует принять или отвергнуть в соответствии с их содержанием, а не с их происхождением; что величайшие умы могут ошибаться; и что самые, на первый взгляд, тривиальные возражения могут оказаться ключом к великому научному открытию.
Таким образом, участники семинара, пока они заняты наукой, ведут себя с научной рациональностью. Но вот семинар заканчивается. Последуем за группой в столовую. Немедленно заявляет о себе нормальное человеческое поведение в обществе. К профессору относятся с уважением, он сидит за столом вместе с людьми, равными ему по положению. Несколько избранных из более низких слоев также получили привилегию сидеть вместе с ним. Беседа переходит на погоду, сплетни или (особенно) академическую политику. Пока обсуждают эти предметы, снова появится весь догматизм и предрассудки, гордость и лояльность, угрозы и лесть обычных взаимоотношений, свойственных людям в подобных обстоятельствах. Но если случится так, что {331} беседа вернется к теме семинара, ученые мгновенно снова превратятся в ученых. Начинаются поиски объяснений, правят свидетельство и аргумент, и положение людей становится несущественным по ходу спора. Во всяком случае, таков мой опыт в тех областях, где я работал.
Даже несмотря на то, что история квантовой теории дает множество примеров нерациональной склонности ученых к тому, что можно было бы назвать «парадигмами», было бы сложно найти более наглядный пример, противоречащий теории Куна о последовательности парадигм. Открытие квантовой теории несомненно было концептуальной революцией, возможно, величайшей революцией со времен Галилео, и, в самом деле, было несколько «закоснелых ученых», которые так и не приняли её. Однако главные фигуры физики, включая почти всех, кого можно считать частью физического истэблишмента, были готовы немедленно отказаться от классической парадигмы. Все быстро признали, что новая теория требует радикального отхода от классической концепции структуры реальности. Единственный спор заключался в том, какой должна быть новая концепция. Через некоторое время физик Нильс Бор и его «Копенгагенская школа» установили новую традиционность. Эта новая традиционность никогда не принималась достаточно широко как описание реальности, чтобы назвать её парадигмой, хотя большинство физиков открыто одобряли её (Эйнштейн был выдающимся исключением). Удивительно, но она не соглашалась с утверждением истинности новой квантовой теории. Напротив, она критически зависела от ложности квантовой теории, по крайней мере, в той форме, в какой она была в то время! В соответствии с «Копенгагенской интерпретацией» уравнения квантовой теории применимы только к ненаблюдаемым аспектам физической реальности. В моменты наблюдения начинается отличный процесс, который включает прямое взаимодействие между человеческим сознанием и дробноатомной физикой. Одно конкретное состояние сознания становится реальным, остальные — только возможными. Копенгагенская интерпретация изложила этот мнимый процесс только в общих чертах; более полное описание считалось задачей будущего или, возможно, находилось за пределами человеческого понимания. Что касается ненаблюдаемых событий, интерполирующих между сознательными наблюдениями, «было непозволительно спрашивать» о них! Как физики, даже в расцвет позитивизма и инструментализма, могли принять такую несущественную конструкцию, как традиционная версия фундаментальной теории, остается вопросом для историков. {332} Нет необходимости заниматься замысловатыми деталями Копенгагенской интерпретации, потому что её мотивация была, главным образом, направлена на то, чтобы избежать вывода о многосмысленности реальности, и уже по одной этой причине эта теория несовместима со сколь-нибудь истинным объяснением квантовых явлений.
Лет двадцать спустя Хью Эверетт, в то время аспирант в Принстоне, работавший под руководством выдающегося физика Джона Арчибальда Уилера, впервые изложил выводы о наличии множества вселенных, исходя из квантовой теории. Уилер не принял их. Он был убежден (и до сих пор убежден), что видение Бора, хотя и не полностью, было основой правильного объяснения. Но повел ли он себя так же, как нам следовало бы ожидать по стереотипу Куна? Попытался ли он подавить еретические идеи своего ученика? Напротив, Уилер боялся, что идеи Эверетта могут недооценить. Поэтому он сам написал небольшую статью в сопровождение статьи, публикуемой Эвереттом, и обе статьи появились рядом в журнале Reviews of Modern, Physics. Статья Уилера так действенно объясняла и защищала статью Эверетта, что многие читатели предположили, что оба автора ответственны за содержание статьи. Поэтому, теорию мультиверса в течение многих следующих лет ошибочно считали «теорией Эверетта-Уилера», что весьма огорчало последнего.
Достойная для подражания верность Уилера научной рациональности, может быть, чрезмерна, но ни в коем случае не уникальна. В этом отношении я должен упомянуть Брайса ДеВитта, ещё одного выдающегося физика, который сначала выступал против Эверетта. В исторической переписке ДеВитт выдвинул целый ряд подробных технических возражений теории Эверетта, каждое из которых Эверетт опроверг. ДеВитт завершил свое доказательство на неофициальной ноте, указав, что он просто не может почувствовать, что «расщепляется» на многочисленные различные копии всякий раз, когда принимает решение. Ответ Эверетта прозвучал как отголосок спора между Галилео и Инквизицией. «А вы чувствуете, что Земля вертится?» — спросил он — поскольку квантовая теория объясняет, почему мы не чувствуем этого расщепления так же, как теория инерции Галилео объясняет, почему мы не чувствуем, что Земля вертится. ДеВитт признал свое поражение.
Тем не менее, открытие Эверетта не получило широкого признания. К сожалению, большинство физиков поколения между Копенгагенской {333} интерпретацией и Эвереттом отказалось от идеи объяснения в квантовой теории. Как я сказал, это был расцвет позитивизма в философии науки. Отвержение (или непонимание) Копенгагенской интерпретации вместе с тем, что можно было бы назвать практическим инструментализмом, стало (и остается) типичным отношением физиков к самой глубокой из известных теории реальности. Если инструментализм — это доктрина о бессмысленности объяснений, поскольку теория — это всего лишь «инструмент» для предсказаний, практический инструментализм — это практика использования научных теорий без знания их смысла. В этом отношении подтвердился пессимизм Куна в отношении научной рациональности. Однако отнюдь не подтвердилась история Куна о том, как новые парадигмы замещают старые. В некотором смысле сам практический инструментализм стал «парадигмой», которую физики приняли, чтобы заместить классическую идею объективной реальности. Но это не та парадигма, на основе которой человек понимает мир! В любом случае, что бы ещё ни делали физики, они уже не смотрели на мир через парадигму классической физики, которая, кроме всего прочего, являла собой объективный реализм и детерминизм в миниатюре. Большинство физиков отказались от этой парадигмы, как только была предложена квантовая теория, даже несмотря на то, что она властвовала над всей наукой и была неоспорима с тех пор, как Галилео триста лет назад победил в интеллектуальном споре с Инквизицией.
Практический инструментализм сгодился только потому, что в большинстве разделов физики квантовая теория не применима в своей объяснительной способности. Она используется только косвенно, при проверке других теорий, и необходимы только её предсказания. Таким образом, физики из поколения в поколение считали достаточным рассматривать интерференционные процессы, подобные тем, что происходят за тысячетриллионную долю секунды, когда сталкиваются две элементарные частицы, как «черный ящик»: они готовят вход и наблюдают выход. Они используют уравнения квантовой теории для предсказания одного из другого, но никогда не знают, да их это и не волнует, как получается выход в результате входа. Однако существует два раздела физики, где подобное отношение невозможно, потому что внутренняя деятельность квантово-механического объекта составляет весь предмет этих разделов. Этими разделами являются квантовая теория вычисления и квантовая космология (квантовая теория физической реальности {334} как единого целого). Как-никак, плоха была бы та «теория вычисления», которая никогда не обращалась бы к проблемам того, как выход получается из входа! А что касается квантовой космологии, мы не можем ни подготовить вход в начале мультиверса, ни измерить выход в конце. Его внутренняя деятельность — это все, что существует. По этой причине абсолютное большинство исследователей в этих двух областях используют квантовую теорию в её полной форме, форме мультиверса.
Таким образом, история Эверетта — это действительно история молодого новатора, который оспаривал общепринятое мнение, и которого многие игнорировали, пока десятилетия спустя его точка зрения постепенно не стала новым общепринятым мнением. Однако основа новшества Эверетта заключалась не в том, чтобы заявить о ложности общепринятой теории, а в том, чтобы заявить о её истинности! Те ученые, которые были далеки от того, чтобы думать на языке своей собственной теории, отказывались думать на её языке и использовали её только как инструмент. Однако они ничуть не жалея отказались от предыдущей объяснительной парадигмы, классической физики, как только появилась теория лучше.
Нечто подобное этому же странному явлению произошло и в трех других теориях, которые обеспечивают основные нити объяснения структуры реальности: в теориях вычисления, эволюции и познания. Во всех случаях общепринятая ныне теория не сумела стать новой «парадигмой», несмотря на то, что она определенно вытеснила своего предшественника и других конкурентов в том смысле, что её регулярно применяют на практике. То есть, те, кто работает в этой области, не принимают её как фундаментальное объяснение реальности.
Принцип Тьюринга, к примеру, вряд ли когда-либо всерьез подвергался сомнению как практическая истина, по крайней мере, в его слабых формах (например, что универсальный компьютер мог бы передать любую физически возможную среду). Критика Роджера Пенроуза — редкое исключение, поскольку он понимает, что противоречие принципу Тьюринга связано с предложением радикально новых теорий как в физике, так и в эпистемологии, а также некоторых интересных новых допущений в биологии. Ни Пенроуз, ни кто-либо другой пока не предложили хоть сколь-нибудь жизнеспособного конкурента принципу Тьюринга, поэтому последний остается общепринятой теорией вычисления. Тем не менее, высказывание о том, что искусственный интеллект в принципе возможен, логично следующее из этой общепринятой {335} теории, ни в коем случае не принимают как нечто само собой разумеющееся. (Искусственный интеллект — это компьютерная программа, которая обладает свойствами человеческого разума, включая ум, сознание, свободную волю и эмоции, но работает на аппаратном обеспечении, отличном от человеческого мозга). Возможность искусственного интеллекта ожесточенно оспаривают выдающиеся философы (включая, увы, и Поппера), ученые и математики и, по крайней мере, один выдающийся ученый, который занимается вычислительной техникой. Но, видимо, мало кто из этих оппонентов понимает, что противоречит признанному фундаментальному принципу фундаментальной дисциплины. Они не предлагают альтернативных основ для этой дисциплины, как это делает Пенроуз. Это все равно, что отрицать возможность нашего путешествия на Марс, не замечая, что наши лучшие теории инженерного дела и физики утверждают обратное. Таким образом, они нарушают основной принцип рациональности, который состоит в том, что не следует с легкостью отказываться от хороших объяснений.
Но не только оппоненты искусственного интеллекта не сумели включить принцип Тьюринга в свою парадигму. Мало кто вообще сделал это. Об этом свидетельствует тот факт, что прошло четыре десятилетия после того, как был предложен этот принцип, прежде чем начали исследовать его следствия для физики, и ещё одно десятилетие, прежде чем открыли квантовое вычисление. Люди принимали и использовали этот принцип на практике в рамках вычислительной техники, но его не рассматривали как неотъемлемую часть всего мировоззрения.
Эпистемология Поппера во всех практических смыслах стала общепринятой теорией природы и роста научного знания. Когда в любой области доходит до принятия правил экспериментов, как «научного свидетельства», теоретиками из этой области, или уважаемыми научными журналами для публикации, или врачами для выбора между конкурирующими методами лечения, современные пароли подобны тем, которые предлагал Поппер: экспериментальная проверка, критика, теоретическое объяснение и признание, что эксперименты подвержены ошибкам. По распространенным оценкам науки, научные теории представляют скорее как дерзкие гипотезы, чем как выводы, сделанные из накопленной информации, и разницу между наукой и (скажем) астрологией правильно объясняют скорее на основе проверяемости, чем степени подтверждения. В школьных лабораториях «создание и проверка гипотез» — основная цель. От учеников уже не ожидают, что они «научатся {336} с помощью эксперимента», как это было в то время, когда учился я и мои современники — то есть, нам давали какое-нибудь устройство говорили, что с ним делать, но не излагали теорию, которую должны были подтвердить результаты эксперимента. Предполагалось, что мы выведем её.
Даже являясь в этом смысле общепринятой теорией, эпистемология Поппера формирует часть мировоззрения очень немногих людей. Популярность теории Куна о последовательности парадигм — одна из иллюстраций этого. Если говорить серьезно, очень немногие философы соглашаются с заявлением Поппера о том, что «задачи индукции» больше не существует, потому что в действительности мы ни получаем, ни доказываем теории из наблюдений, а вместо этого используем объяснительные гипотезы и опровержения. Дело не в том, что многие философы — индуктивисты, или что они не согласны с описанием и предписанием научного метода Поппером, или верят, что научные теории действительно ненадежны из-за их статуса гипотез. Дело в том, что они не принимают объяснение Поппером того, как все это работает. И снова здесь слышен отголосок истории Эверетта. Мнение большинства заключается в том, что существует фундаментальная философская проблема, связанная с методологией Поппера, даже несмотря на то, что наука (везде, где она преуспела) всегда следовала этой методологии. Еретическое новшество Поппера принимает форму заявления, что эта методология всегда была обоснованной.
Теория эволюции Дарвина также является общепринятой теорией в своей области в том смысле, что никто всерьез не сомневается, что эволюция через естественный отбор, действующий на популяции с беспорядочными вариациями, — это «происхождение видов» и, в общем, биологической адаптации. Ни один серьезный биолог или философ не приписывает происхождение видов божественному созданию или эволюции Ламарка. (Ламаркизм, эволюционная теория, которую вытеснил Дарвинизм, был аналогом индуктивизма. Эта теория приписывала биологические адаптации наследованию характеристик, к которым организм стремился и которые он приобрел за всю свою жизнь). Однако, как и в случае с тремя другими основными нитями, многочисленны и широко распространены возражения чистому Дарвинизму как объяснению явлений в биосфере. Один класс возражений сосредоточивается на вопросе, было ли в истории биосферы достаточно времени для развития такой колоссальной сложности путем только естественного отбора. {337} Для подтверждения подобных возражений не было выдвинуто ни одной жизнеспособной конкурирующей теории, кроме, вероятно, одной идеи (последними защитниками которой были астрономы Фред Хойл и Чандра Викремасингхе) о том, что сложные молекулы, на которых основана жизнь, зародились в открытом космосе. Однако цель таких возражений не столько в том, чтобы противоречить модели Дарвина, сколько заявить, что нечто фундаментальное остается необъясненным в отношении того, как появились адаптации, наблюдаемые нами в биосфере.
Дарвинизм также критиковали за его цикличность, потому что он говорит о «выживании сильнейших» как об объяснении, в то время как «сильнейших» он определяет, обращаясь к прошлому, как тех, кто выжил. Существует и альтернатива: на языке независимого определения «пригодности» идее о том, что эволюция «благоприятствует сильнейшим», кажется, противоречат факты. Например, наиболее интуитивным определением биологической пригодности было бы «пригодность вида для выживания в определенной нише» в том смысле, что тигра можно было бы счесть оптимальной машиной для занятия именно той экологической ниши, которую занимают тигры. Стандартные примеры, которые противоречат «выживанию сильнейших», — это адаптации, такие, как хвост павлина, которые, на первый взгляд, делают организм гораздо менее пригодным для проживания в его нише. Подобные возражения вроде бы подрывают способность теории Дарвина достичь своей первоначальной цели: объяснить, каким образом могли появиться видимые «модели» (т. е. адаптации) живых организмов через действие «слепых» законов физики над неживой материей без вмешательства целеустремленного Творца.
Новшество Ричарда Доукинса, изложенное в его книгах The Selfish Gene[23] и The Blind Watchmaker[24], тем не менее, опять является заявлением истинности общепринятой теории. Он считает, что ни одно из настоящих возражений неприукрашенной модели Дарвина при более внимательном изучении не является хоть сколь-нибудь существенным. Другими словами, Доукинс заявляет, что теория эволюции Дарвина обеспечивает полное объяснение происхождения биологических адаптации. Доукинс развил теорию Дарвина в её современной форме как теорию репликаторов. Репликатор, который лучше других реплицируется в данной среде, в конце концов, вытеснит все остальные варианты самого {338} себя, потому что, по определению, они реплицируются хуже. Выживает вариант не сильнейшего вида (Дарвин это осознавал не полностью), а сильнейшего гена. Одно из следствий этого заключается в том, что иногда ген может вытеснить гены варианта (например, гены менее громоздких хвостов у павлинов) средствами (например, полового отбора), которые не обязательно продвигают благо для всего вида или его отдельной особи. Но вся эволюция продвигает «благо» (т. е. репликацию) генов, реплицирующих наилучшим образом, — отсюда и пошел термин «эгоистичный ген». Доукинс объясняет все возражения и показывает, что теория Дарвина при правильной интерпретации не имеет ни одного из мнимых недостатков и действительно объясняет происхождение адаптации.
Именно версия дарвинизма Доукинса стала общепринятой теорией эволюции в практическом смысле. Однако она по-прежнему не является общепринятой парадигмой. Многих биологов и философов до сих пор не покидает ощущение, что в этом объяснении есть огромный пробел. Например, в том же смысле, в каком теория «научных революций» Куна оспаривает картину науки Поппера, соответствующая эволюционная теория оспаривает картину эволюции Доукинса. Это теория периодически нарушаемого равновесия, которая гласит, что эволюция происходит краткими периодами бурного развития, которые разделяют длительные периоды равновесия. Эта теория даже может быть фактически истинной. В действительности она противоречит теории «эгоистичного гена» не больше, чем эпистемологии Поппера противоречит высказывание о том, что концептуальные революции не происходят ежедневно или что ученые часто противостоят фундаментальным новшествам. Но как и в случае с теорией Куна, способ представления теории периодически нарушаемого равновесия и других вариантов сценариев эволюции как решающих некоторую проблему, которую вроде бы пропустила предыдущая теория эволюции, открывает степень, в которой нам ещё предстоит усвоить объяснительную силу теории Доукинса.
Для всех четырех нитей имелось очень неудачное следствие опровержения общепринятой теории, как объяснения, хотя серьезных конкурирующих объяснений не предлагалось. Так получилось, что защитники общепринятых теорий — Поппер, Тьюринг, Эверетт, Доукинс и их сторонники — обнаружили, что непрерывно защищаются от устаревших теорий. Спор между Поппером и большинством его критиков (как я уже отметил в главах 3 и 7), главным образом заключался в {339} задаче индукции. Тьюринг провел последние годы своей жизни, по сути защищая, высказывание о том, что человеческим мозгом управляют не сверхъестественные силы. Эверетт прекратил научное исследование, перестав продвигаться вперед, и в течение нескольких лет теорию мультиверса почти в одиночку защищал Брайс ДеВитт, пока в 1970-х годах прогресс в квантовой космологии не вынудил ученых из этой области принять её для практического использования. Однако противники теории мультиверса как объяснения редко выдвигали конкурирующие объяснения. (Теория Дэвида Бома, о которой я упоминал в главе 4, — исключение). Вместо этого, как однажды заметил космолог Деннис Скьяма: «Когда дело доходит до интерпретации квантовой механики, нормы аргумента внезапно падают до нуля». Защитники теории мультиверса обычно сталкиваются с тоскливым, вызывающим, но бессвязным призывом к Копенгагенской интерпретации — в которую, однако, вряд ли кто-то верит до сих пор. И наконец, Доукинс каким-то образом стал публичным защитником научной рациональности именно от креационизма, а в более общем смысле, от донаучного мировоззрения, которое со времен Галилео уже устарело. Самое угнетающее во всем этом – то, что пока защитники наших лучших теорий о структуре реальности вынуждены расточать свою умственную энергию на тщетное опровержение и переопровержение теорий, ложность которых известна уже давно, состояние нашего самого глубокого знания не может улучшиться. Как Тьюринг, так и Эверетт легко могли бы обнаружить квантовую теорию вычисления. Поппер мог бы разработать теорию научного объяснения. (Если честно, я должен признать, что он действительно понял и разработал некоторые связи между своей эпистемологией и теорией эволюции). Доукинс мог бы, например, продвигать свою собственную теорию эволюции реплицирующих идей (мимов).
Единая теория структуры реальности, которая и является темой этой книги, на самом прямом уровне, — это просто комбинация четырех общепринятых фундаментальных теорий о соответствующих им областях. В этом смысле данная теория тоже является «общепринятой теорией» этих четырех областей, рассмотренных как единое целое. Достаточно широко признаны даже некоторые из связей между этими четырьмя нитями. Значит, и моя идея также принимает форму: «Все-таки общепринятая теория истинна!» Я не только защищаю серьезное отношение к каждой из фундаментальных теорий как к объяснению её {340} собственного содержания, я утверждаю, что все вместе они обеспечивают новый уровень объяснения единой структуры реальности.
Я также утверждал, что ни одну из четырех нитей невозможно должным образом понять, не понимая трех других. Возможно, это и есть ключ к тому, почему всем этим общепринятым теориям не верили. Все четыре отдельных объяснения имеют общее непривлекательное свойство, которое подвергалось всевозможной критике, как «идеализированное и нереальное», «узкое» или «наивное» — а также «холодное», «механистическое» и «бесчеловечное». Я считаю, что в инстинктивном чувстве, которое стоит за подобной критикой, есть некоторая доля истины. Например, из тех. кто отрицает возможность искусственного интеллекта, а по сути отрицает то, что мозг — это физический объект, мало кто действительно только пытается выразить гораздо более разумную критику: что объяснение вычисления Тьюрингом, видимо, не оставляет места, даже в принципе, для любого будущего объяснения на основе физики умственных качеств, таких, как сознание и свободная воля. В этом случае для энтузиастов искусственного интеллекта резко отвечать, что принцип Тьюринга гарантирует, что компьютер может сделать все, что может сделать мозг, — не лучший вариант. Это, безусловно, так, однако это ответ на основе предсказания, а проблема заключается в объяснении. Существует объяснительный пробел.
Я не думаю, что этот пробел можно заполнить без введения трех оставшихся нитей. Сейчас, как я уже сказал, я считаю, что мозг — это классический, а не квантовый компьютер, поэтому я не жду объяснения сознания как квантово-вычислительного явления некоторого рода. Тем не менее, я жду, что объединение вычисления и квантовой физики и, вероятно, более широкое объединение всех четырех нитей будет важным для фундаментального философского прогресса, из которого однажды последует понимание сознания. Чтобы читатель не счел это парадоксальным, позвольте мне провести аналогию с похожей проблемой из более ранней эпохи: «Что такое жизнь?». Эту проблему решил Дарвин. Смысл решения заключался в идее о том, что сложная и несомненно целенаправленная форма, которую мы наблюдаем в живых организмах, встроена в реальность эмпирически, как вытекающее следствие действия законов физики. Законы физики конкретно подтверждали форму слонов и павлинов не более, чем это делал Создатель. Они не ссылаются на результаты, особенно на исходящие результаты; они просто определяют правила, в соответствии с которыми происходит {341} взаимодействие атомов и им подобного. Сейчас данная концепция закона природы как набора законов движения является относительно новой. Я полагаю, что её можно приписать Галилео и в какой-то степени Ньютону. Предыдущая концепция закона природы заключалась в правиле, которое излагало, что происходит. Примером служат законы движения планет Иоганна Кеплера, которые описывали принцип движения планет по эллиптическим орбитам. Им можно противопоставить законы Ньютона, которые являются физическими законами в современном смысле. Они не упоминают об эллипсах, хотя при соответствующих условиях повторяют (и поправляют) предсказания Кеплера. Никто не смог бы объяснить, что такое жизнь, используя концепцию «закона физики» Кеплера, поскольку все искали бы закон, подтверждающий слонов так же, как законы Кеплера подтверждают эллипсы. Однако Дарвину было интересно, каким образом законы природы, не упоминавшие о слонах, могли, тем не менее, породить их так же, как законы Ньютона породили эллипсы. Несмотря на то, что Дарвин не использовал ни одного конкретного закона Ньютона, его открытие было бы непонятно без того мировоззрения, которое лежит в основе этих законов. Я ожидаю, что решение проблемы «Что такое сознание?» будет зависеть от квантовой теории именно в таком смысле. Оно не задействует никаких особых квантово-механических процессов, но будет критически зависеть от квантово-механической, и в особенности, многовселенской картины мира.
Каковы мои свидетельства? Я уже представил некоторые из них в главе 8, где говорил о знании с перспективы мультиверса. Хотя мы и не знаем, что такое сознание, оно явно тесно связано с ростом и представлением знания в мозге. Тогда кажется невероятным, что мы сумеем объяснить, что такое сознание как физический процесс, пока не объясним на основе физики само знание. Подобное объяснение было трудно получить в рамках классической теории вычисления. Но, как я уже объяснил, в квантовой теории для этого объяснения есть хорошая основа: знание можно понимать как сложность, которая простирается через множество вселенных.
С сознанием некоторым образом связано ещё одно умственное качество — свободная воля. Хорошо известно, что свободную волю тоже сложно понять в рамках классической картины мира. Сложность примирения свободной воли с физикой часто объясняют виной детерминизма. Хотя виновато здесь (как я объяснил в главе 11) классическое {342} пространство-время. В пространстве времени что-то происходит со мной в каждый конкретный момент моего будущего. Даже если то, что произойдет, непредсказуемо, оно уже находится там, на соответствующем сечении пространства-времени. Не имеет смысла говорить о том, что я «изменю» то, что находится на этом сечении. Пространство-время не изменяется, а значит, в рамках физики пространства-времени невозможно понять причины, следствия, открытость будущего или свободную волю.
Таким образом, замена детерминистических законов движения недетерминистическими (случайными) никак не помогла бы решить проблему свободной воли, пока эти законы оставались бы классическими. Свобода не имеет ничего общего со случайностью. Мы оцениваем свою свободную волю как способность выражать в своих действиях то, кем мы являемся как индивидуумы. Кто оценил бы случайность? То, что мы считаем своими свободными действиями, — это не случайные или неопределенные действия, а действия, в значительной степени определенные тем, чем мы являемся, что мы думаем и что получается в результате. (Хоть они и определены в значительной степени, на практике они могут быть в высшей степени непредсказуемы из-за их сложности).
Рассмотрим следующее типичное утверждение, которое относится к свободной воле: «После тщательного размышления я выбрал сделать X: я мог бы сделать другой выбор; это было правильным решением: у меня хорошо получается принимать такие решения». В рамках любой классической картины мира это утверждение абсолютно бессвязно. В рамках картины мультиверса оно имеет прямое физическое представление, показанное в таблице 13.1. (Я не предлагаю определять моральные или эстетические ценности на основе таких представлений; я просто показываю, что благодаря тому, что квантовая реальность имеет характер мультиверса, свободная воля и связанные с ней концепции теперь совместимы с физикой).
Таким образом, концепция вычисления Тьюринга выглядит менее отвлеченной от человеческих ценностей и уже не препятствует пониманию человеческих качеств, подобных свободной воле, при условии, что она понимается в контексте мультиверса. Тот же самый пример оправдывает и теорию Эверетта. В этой связи ценой понимания явления интерференции является создание или углубление множества философских проблем. Но здесь, и во многих других примерах, которые {343} я привел в этой книге, мы видим, что происходит как раз обратное. Эффективность теории мультиверса при вкладе в решение издавна существующих философских проблем так высока, что эту теорию стоило бы принять даже при полном отсутствии её физических свидетельств. В самом деле, философ Дэвид Льюис в своей книге On the Plurality of Worlds[25] постулировал существование мультиверса, исходя исключительно из философских причин.
|
Таблица 13.1 Физические представления некоторых утверждений, относящихся к свободной воле. |
|
|
После тщательного размышления я выбрал сделать Х |
После тщательного размышления некоторые копии меня, включая ту, которая говорит, выбрали сделать Х |
|
Я мог бы сделать другой выбор |
Другие копии меня сделали другой выбор |
|
Это было правильным решением |
Представления моральных или эстетических ценностей, которые отражены в моем выборе варианта X, повторяются в мультиверсе гораздо более часто, чем представления конкурирующих ценностей |
|
У меня хорошо получается принимать такие решения |
Те копии меня, которые выбрали Х и в других подобных ситуациях сделали правильный выбор, численно превосходят все остальные копии |
Вновь обращаясь к теории эволюции, я точно так же могу согласиться с некоторой обоснованностью критики теории эволюции Дарвина на основе того, что кажется «невероятным», чтобы такие сложные адаптации могли развиться за данный промежуток времени. Один из критиков Доукинса хочет, чтобы биосфера удивляла нас так же, как удивило бы нас, если бы груда брошенных запасных частей упала в форме Боинга-747. В связи с этим такая критика наводит на аналогию между, с одной стороны, миллиардами лет проб и ошибок, имевших место {344} на всей планете, и, с другой стороны, мгновенной «случайностью совместного падения». Тем не менее, является ли точно противоположная позиция Доукинса полностью адекватной как объяснение? Доукинс не хочет, чтобы нас удивляло то, что сложные адаптации появились спонтанно. Другими словами, он заявляет, что его теория «эгоистичного гена» — это полное объяснение, конечно, не конкретных адаптации, но возможности появления таких сложных адаптации.
Однако это не полное объяснение. В этом объяснении существует пробел, и на этот раз мы уже знаем гораздо больше о том, каким образом другие нити могли бы заполнить этот пробел. Мы видели, что сам факт того, что физические переменные могут хранить информацию, взаимодействовать друг с другом для передачи и репликации этой информации, и что подобные процессы устойчивы, полностью зависит от деталей квантовой теории. Более того, мы видели, что существование высокоадаптированных репликаторов зависит от физической осуществимости создания и универсальности виртуальной реальности, которую, в свою очередь, можно понимать как следствие глубокого принципа, принципа Тьюринга, который связывает физику и теорию вычислений и не делает явной ссылки на репликаторы, эволюцию или биологию.
Аналогичный пробел существует и в эпистемологии Поппера. Его критики удивляются, почему работает этот научный метод или что оправдывает то, что мы полагаемся на свои лучшие научные теории. Это приводит их к страстному желанию принципа индукции или чего-то подобного (хотя, будучи крипто-индуктивистами, они обычно осознают, что такой принцип также ничего не объяснил бы и не оправдал). Для последователей Поппера ответить, что такой вещи, как оправдание, не существует или что неразумно полагаться на теории, — все равно, что обеспечить объяснение. Поппер даже сказал, что «ни одна теория знания не должна пытаться объяснить, почему наши попытки объяснить вещи оказываются успешными» (Objective Knowledge[26], стр. 23). Но как только мы понимаем, что рост человеческого знания — это физический процесс, мы видим, что пытаться объяснить, как и почему он происходит, не может быть не дозволено. Эпистемология — это теория (исходящей) физики. Это основанная на фактах теория об обстоятельствах, при которых вырастет или не вырастет определенная физическая {345} величина (знание). Голые утверждения этой теории широко принимаются. Но мы не в состоянии найти объяснение их истинности только в рамках теории познания как таковой. В этом узком смысле Поппер был прав. Объяснение должно включать квантовую физику, принцип Тьюринга и, как отмечал сам Поппер, теорию эволюции.
Защитники общепринятой теории, в каждом из четырех случаев, постоянно отражают нудные нападки критиков на эти объяснительные пробелы. Это часто вынуждает их возвращаться к сути своего собственного направления. «Это моя позиция, другой у меня нет», — это их конечный ответ, так как они полагаются на самоочевидную нелогичность отказа от неоспоримой фундаментальной теории их собственной конкретной области. Из-за этого они кажутся критикам ещё более узкими, и это порождает пессимизм относительно перспектив дальнейшего фундаментального объяснения.
Несмотря на все оправдания, которые я привожу в пользу критиков центральных теорий, история всех четырех нитей показывает, что в течение большей части двадцатого века с фундаментальной наукой и философией происходило нечто очень неприятное. Популярность позитивизма и инструменталистского взгляда на науку была связана с апатией, потерей уверенности в себе и пессимизмом относительно истинных объяснений, в то время когда престиж, полезность, а в действительности, и финансирование фундаментальных исследований были на высоком уровне. Конечно, было много отдельных исключений, включая четверых героев этой главы. Но беспрецедентный образ одновременного принятия и игнорирования их теорий говорит сам за себя. Я не претендую на то, что имею полное объяснение этого явления, но что бы его ни вызвало, кажется, сейчас мы от него отказываемся.
Я указал на одну причину, которая могла поспособствовать этому, а именно: по отдельности все четыре теории содержат объяснительные пробелы из-за которых они могут показаться узкими, бесчеловечными и пессимистичными. Но я считаю, что как только их будут рассматривать совместно, как единое объяснение структуры реальности, это неудачное свойство изменится на прямо противоположное. Далекое от отрицания свободной воли, далекое от помещения человеческих ценностей в контекст, где они становятся тривиальными и неважными, далекое от пессимизма, это фундаментально оптимистичное мировоззрение помещает человеческий разум в центр физической вселенной, а объяснение и понимание — в центр стремлений людей. Я надеюсь, {346} что нам не придется потратить слишком много времени, чтобы, глядя назад, защитить этот единый взгляд от несуществующих конкурентов. В конкурентах не будет недостатка, когда, всерьез приняв единую теорию структуры реальности, мы начнем развивать её. Пора двигаться дальше.
Парадигма — набор идей, на основе которого его приверженцы наблюдают и объясняют все, что происходит в их опыте. В соответствии с Томасом Куном приверженность парадигме делает человека слепым к достоинствам другой парадигмы и мешает ему менять парадигмы. Невозможно понять две парадигмы одновременно.
Копенгагенская интерпретация квантовой механики — идея, которая заключается в том, чтобы как можно легче избежать следствий квантовой теории для природы реальности. В моменты наблюдения результат в одной из вселенных предположительно становится реальным, а все другие вселенные — даже те, которые внесли в этот результат свой вклад — считаются никогда не существовавшими. В соответствии с этим взглядом непозволительно спрашивать о том, что происходит в реальности между сознательными наблюдениями.
Интеллектуальные истории фундаментальных теорий четырех нитей содержат замечательные параллели. Все четыре нити были одновременно приняты (для практического использования) и проигнорированы (как объяснения реальности). Одна из причин этого заключается в том, что по отдельности каждая из этих теорий содержит объяснительные пробелы и кажется холодной и пессимистичной. Основывать мировоззрение на любой из них в отдельности, в общем смысле, редуктивно. Но если рассмотреть их вместе, как единое объяснение структуры реальности, все тут же изменяется.
Так что же дальше? {347}
Хотя история и не имеет смысла, мы можем дать ей смысл.
Карл Поппер (The Open Society and Its Enemies1, T. 2, стр. 278)
Когда в ходе моих исследований основ квантовой теории я впервые осознал связи между квантовой физикой, вычислением и эпистемологией, я рассматривал их как свидетельство исторической тенденции физики поглотить предметы, которые до этого казались никоим образом с ней не связанными. Астрономия, например, была связана с физикой земли через законы Ньютона, и за последующие несколько веков физика поглотила большую её часть, превратив её в астрофизику. Химию начали относить к физике после открытий Фарадея в области электрохимии, а квантовая теория сделала значительную часть основной химии прямо предсказуемой из одних законов физики. Общая теория относительности Эйнштейна поглотила геометрию и избавила как космологию, так и теорию времени от их прежде чисто философского статуса, превратив их в укрупненные разделы физики. Недавно, как я уже отметил, теория путешествия во времени тоже примкнула к физике.
Таким образом, будущие перспективы поглощения квантовой физикой не только теории вычисления, но и теории доказательства (у которой есть альтернативное название «мета-математики») представляются мне свидетельством двух тенденций. Первая тенденция в том, что человеческое знание в целом продолжало принимать единую структуру, которой оно должно обладать, если оно понятно в том смысле, на который я надеялся. И вторая тенденция в том, что сама единая структура должна состоять из непрерывно углубляющейся и расширяющейся теории фундаментальной физики.
Читатель узнает, что мое мнение насчет второй тенденции изменилось. Характер структуры реальности, которую я предлагаю сейчас, касается не только фундаментальной физики. Например, квантовая теория вычисления была создана путем выведения принципов вычисления {348} не только из квантовой физики. Она включает принцип Тьюринга, который уже был, под названием гипотезы Черча-Тьюринга, основой теории вычисления. Его никогда не использовали в физике, но я доказал, что его можно должным образом понять только как физический принцип. Он находится на одном уровне с принципом сохранения энергии и другими законами термодинамики: то есть, он являет собой ограничивающее условие, которому, для пользы нашего знания, подчиняются все остальные теории. Но в отличие от существующих законов физики, он имеет исходящий характер, который обращается прямо к свойствам сложных машин и только косвенно к дробноатомным объектам и процессам. (Можно утверждать, что второй закон термодинамики — принцип увеличения энтропии — тоже имеет эту форму).
Точно так же, если мы понимаем знание и адаптацию как структуру, которая тянется через множество вселенных, то мы ожидаем, что принципы эпистемологии и эволюции можно прямо выразить в виде законов о структуре мультиверса. То есть, они являются физическими законами, но на исходящем уровне. Вероятно, квантовая теория сложности ещё не достигла того уровня, где она может выразить в физической форме высказывание о том, что знание может расти только в ситуациях, соответствующих модели Поппера, показанной на рисунке 3.3. Однако появления высказывания именно такого рода я ожидаю в появляющейся Теории Всего, объяснительной и предсказательной теории, объединяющей все четыре нити.
При таком положении вещей мнение о том, что квантовая физика поглощает другие направления, следует рассматривать как ограниченный взгляд физиков, испорченный, возможно, редукционизмом. Действительно, каждая из трех оставшихся нитей достаточно богато, чтобы сформировать целую основу мировоззрения некоторых людей почти так же, как фундаментальная физика формирует основу мировоззрения редукционистов. Ричард Доукинс считает, что «Если высшие создания из космоса когда-либо посетят Землю, их первым вопросом, для оценки уровня нашей цивилизации будет: «Они уже обнаружили эволюцию?»» Многие философы согласны с Рене Декартом, что эпистемология лежит в основе всего остального знания и что нечто подобное аргументу Декарта cogito ergo sum — это наше самое основное объяснение. Многие специалисты по вычислительной технике были так поражены недавно открытыми связями между физикой и вычислением, что сделали вывод, что вселенная — это компьютер, а законы физики — программы, {349} обрабатываемые этим компьютером. Но все это узкие взгляды на истинную структуру реальности, которые даже вводят в заблуждение. Объективно новый синтез имеет свой собственный характер, который существенно отличается от характера любой из четырех объединяемых им нитей.
Например, я заметил, что фундаментальные теории каждой из четырех нитей подвергались критике, частично справедливой, за их «наивность», «ограниченность», «холодность» и т. д. Поэтому с точки зрения физика-редукциониста, подобного Стивену Хокингу, человеческая раса — это всего лишь астрофизически неважный «химический мусор». Стивен Вайнберг думает, что «Чем более понятной кажется вселенная, тем более бессмысленной она кажется. Но если в плодах нашего исследования нет утешения, то, по крайней мере, некоторая доля утешения есть в самом исследовании». (The First Three Minutes[27], стр. 154). Но любой, кто не связан с фундаментальной физикой, должен заинтересоваться, почему это происходит.
Что касается вычисления, специалист по вычислительной технике Томассо Тоффоли заметил, что «мы никогда не выполняем вычисление самостоятельно, мы просто подключаемся к великому Вычислению, которое уже происходит». Для него это не вопль отчаяния — совсем наоборот. Однако критики мировоззрения, основанного на теории вычислительных систем, не хотят видеть себя в виде чьей-то программы, обрабатываемой чьим-то компьютером. Теория эволюции, понимаемая в узком смысле, рассматривает нас как простые «средства» репликации наших генов или мимов и отказывается отвечать на вопрос о том, почему эволюция стремилась создавать все большую адаптивную сложность, или на вопрос о роли, которую такая сложность играет в более широкой схеме всего. Подобным образом, (крипто-)индуктивистская критика эпистемологии Поппера заключается в том, что, формулируя условия роста научного знания, его эпистемология не объясняет, почему это знание растет — почему она создает теории, которые стоит использовать.
Как я уже объяснил, в каждом случае защита зависит от представления объяснений других нитей. Мы не просто «химический мусор», потому что (например) макроскопическое поведение нашей планеты, звезды и галактики зависит от исходящего, но фундаментального {350} физического свойства: знания в этом мусоре. Создание полезного знания в процессе науки и адаптации в процессе эволюции следует понимать как исход самоподобности, подтвержденной физическим принципом, принципом Тьюринга. И т.д.
Таким образом, проблема принятия одной из этих фундаментальных теорий за основу мировоззрения состоит в том, что каждая из них является редукционистской. в широком смысле этого слова. То есть, они обладают монолитной объяснительной структурой, в которой из нескольких чрезвычайно глубоких идей следует все остальное. Но это оставляет аспекты самого предмета полностью необъясненными. Напротив, объяснительная структура, которую они совместно предоставляют для структуры реальности, не является иерархической: каждая из четырех нитей содержит принципы, которые «исходят» из перспектив трех других, но, тем не менее, помогают объяснить их.
Кажется, что три нити из четырех исключают людей с их ценностями из фундаментального уровня объяснения. Четвертая нить, эпистемология, выдвигает знание на передний план, но не дает причины рассматривать саму эпистемологию как имеющую значимость за пределами психологии нашего вида. Знание кажется ограниченной концепцией, пока мы не рассматриваем его с перспективы мультиверса. Но если знание обладает фундаментальной важностью, мы можем спросить, какая же роль в единой структуре реальности кажется естественной для существ, создающих знание, таких, как мы сами. Этот вопрос изучил космолог Фрэнк Типлер. Его ответ, теория омега-точки, — отличный пример теории, которая, если соотнести её с этой книгой, рассказывает о структуре реальности в целом. Она не укладывается в рамки ни одной из нитей, но неприводимо принадлежит всем четырем. К сожалению, книга Типлера The Physics of Immortality[28] содержит преувеличенные притязания на его теорию, из-за которых большинство ученых и философов сразу же отвергло её, тем самым упустив ценную основную идею, которую я сейчас объясню.
С моей точки зрения, простейшая точка входа в теорию омега-точки — принцип Тьюринга. Универсальный генератор виртуальной реальности физически возможен. Такая машина способна передать как любую физически возможную среду, так и определенные гипотетические и абстрактные категории с любой желаемой точностью. Следовательно, {351} его компьютер имеет потенциально неограниченное требование дополнительной памяти и может выполнить неограниченное количество этапов. Тривиально было встраивать это в классическую теорию вычисления, поскольку универсальный компьютер считался абстракцией в чистом виде. Тьюринг просто постулировал ленту с бесконечно долгой памятью (с самоочевидными, на его взгляд, свойствами), совершенно точный процессор, не требующий ни мощности, ни обслуживания, и неограниченное время. В том, чтобы сделать эту модель более реалистичной, разрешив периодическое обслуживание, нет принципиальной проблемы, но три остальных требования — неограниченная емкость памяти, неограниченное время обработки и энергоснабжение — проблематичны в свете существующей космологической теории. В некоторых современных космологических моделях вселенная после Большого Сжатия повторно разрушится через конечное время и будет также пространственно конечной. Вселенная имеет геометрию «3-х мерной сферы», трехмерного аналога двухмерной поверхности сферы. В этой связи такая космология наложила бы конечный предел как на емкость памяти, так и на количество этапов обработки, которые смогла бы осуществить машина до конца вселенной. Это сделало бы универсальный компьютер физически невозможным, и принцип Тьюринга был бы нарушен. В других космологических моделях вселенная продолжает вечно расширяться и является пространственно бесконечной, что, на первый взгляд, может предоставить неограниченный источник материала для создания дополнительной памяти. К сожалению, в большинстве подобных моделей плотность энергии, доступной мощности компьютера, уменьшалась бы с расширением вселенной, и её пришлось бы собирать очень далеко от Земли. Из-за того, что физика налагает на скорость абсолютный предел — скорость света, — доступ к памяти компьютера пришлось бы замедлить, и, в конечном итоге, мы снова пришли бы к выполнению только конечного числа этапов вычисления.
Ключевое открытие теории омега-точки — это открытие класса космологических моделей, в которых, несмотря на конечность вселенной как в пространстве, так и во времени, емкость памяти, количество возможных этапов вычисления и снабжение эффективной энергией неограниченны. Эта мнимая невозможность может произойти из-за чрезвычайной силы конечных моментов разрушения Большого Сжатия вселенной. Сингулярности пространства-времени, подобные Большому Взрыву и Большому Сжатию, редко бывают спокойными местами, но {352} это гораздо хуже большинства из них. Форма вселенной изменится от трехмерной сферы на трехмерный аналог поверхности эллипсоида. Степень деформации увеличится, потом уменьшится, потом снова увеличится ещё быстрее по отношению к другой оси. Как амплитуда, так и частота этих осцилляции будет безгранично увеличиваться по мере приближения к конечной сингулярности, так что буквально бесконечное количество осцилляции произойдет, даже если конец наступит за конечное время. Материя, как мы знаем её, не выживет: вся материя, и даже сами атомы, будет разорвана гравитационными силами сдвига, вызванными деформированным пространством-временем. Однако эти силы сдвига также обеспечат неограниченный источник доступной энергии, который в принципе можно будет использовать для питания компьютера. Как в таких условиях может существовать компьютер? Единственным «материалом», который останется для создания компьютеров, будут элементарные частицы и сама гравитация, предположительно в каких-то в высшей степени экзотических квантовых состояниях, существование которых мы (всё ещё не имея адекватной теории квантовой гравитации) сейчас не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. (Вопрос об их экспериментальном наблюдении, конечно, не стоит). Если подходящие состояния частиц и гравитационного поля существуют, то они также обеспечат неограниченную емкость памяти, и вселенная будет сжиматься так быстро, что бесконечное количество доступов к памяти станет осуществимым за конечное время до конца вселенной. Конечную точку гравитационного разрушения, Большое Сжатие этой космологии, Типлер называет омега-точкой.
Принцип Тьюринга означает, что не существует верхней границы количества физически возможных этапов вычисления. Таким образом. при условии, что космология омега-точки — это (при правдоподобных допущениях) единственный тип космологии, при котором может произойти бесконечное количество этапов вычисления, можно сделать вывод, что наше действительное пространство-время должно иметь форму омега-точки. Поскольку все вычисление прекратится, как только не останется переменных, способных переносить информацию, можно сделать вывод, что необходимые физические переменные (возможно, квантово-гравитационные переменные) действительно существуют прямо до омега-точки.
Скептик мог бы поспорить, что рассуждение такого рода содержит громоздкую и неоправданную экстраполяцию. У нас есть опыт {353} «универсальных» компьютеров только в самой благоприятной среде, которая даже отдаленно не напоминает конечные стадии вселенной. И у нас есть опыт выполнения на этих компьютерах только конечного количества этапов вычисления, при использовании только конечного объема памяти. Как может быть обоснована экстраполяция от этих конечных чисел к бесконечности? Другими словами, как мы можем знать, что принцип Тьюринга, в его самой жизнестойкой форме, строго истинен? Какие существуют свидетельства того, что реальность подтверждает нечто большее, чем приблизительную универсальность?
Конечно, этот скептик — индуктивист. Более того, точно такой тип мышления (как я доказал в предыдущей главе) мешает нам понять и усовершенствовать наши лучшие теории. «Экстраполяция» зависит или не зависит от того, с какой теории начинают. Если начать с какой-то неопределенной, но ограниченной концепции того, что является «нормальным» в возможностях вычисления, концепции, не обладающей лучшими из имеющихся объяснений этого предмета, то любое применение этой теории вне знакомых условий будет рассматриваться как «неоправданная экстраполяция». Но если начать с объяснений лучшей из доступных фундаментальных теорий, то сама идея о том, что в чрезвычайных ситуациях остается в силе некая неясная «нормальность», будет выглядеть как неоправданная экстраполяция. Чтобы понять наши лучшие теории, мы должны всерьез принимать их как объяснения реальности, а не как простые обобщения существующих наблюдений. Принцип Тьюринга — это наша лучшая теория основ вычисления. Конечно, нам известно лишь конечное количество примеров, которые его подтверждают — но это касается любой научной теории. Остается, и всегда будет оставаться, логическая возможность того, что универсальность может быть только приблизительной. Однако не существует конкурирующей теории вычисления, которая заявляла бы это. И на то есть хорошая причина, ибо «принцип приблизительной универсальности» не имел бы объяснительной силы. Например, если мы хотим понять, почему мир кажется понятным, объяснение могло бы заключаться в том, что мир является понятным. Такое объяснение можно согласовать с другими объяснениями из других областей (на самом деле так и происходит). Но теория о том, что мир понятен наполовину, ничего не объясняет, и её невозможно согласовать с объяснениями из других областей, если только они не объяснят её. Такая теория просто дает новую формулировку проблемы и вводит {354} необъясненную константу: наполовину. Короче, допущение, что принцип Тьюринга в полной форме остается в силе в конце вселенной, оправдывает то, что любое другое допущение портит хорошие объяснения того, что происходит здесь и сейчас.
Теперь оказывается, что тип осцилляции пространства, который вынудит омега-точку произойти, как силен, так и в высшей степени неустойчив (вроде классического хаоса). Сила и неустойчивость этих осцилляции увеличиваются неограниченно по мере приближения омега-точки. Небольшое отклонение от правильной формы будет быстро увеличено, и условия продолжения вычисления нарушатся, так что Большое Сжатие произойдет после конечного количества этапов вычисления. Следовательно, чтобы удовлетворить принципу Тьюринга и достичь омега-точки, вселенную следует постоянно «направлять» на правильные траектории. Типлер в принципе показал, как это можно сделать, манипулируя гравитационным полем над всем пространством. Предположительно (чтобы убедиться, нам опять нужна квантовая теория гравитации), технологию, используемую для стабилизации механизмов и хранения информации, придется постоянно совершенствовать — на самом деле, совершенствовать бесконечное число раз, — поскольку плотность и напряжения станут безгранично большими. Это потребует непрерывного создания нового знания, которое, как гласит эпистемология Поппера, требует присутствия рациональной критики, а потому, разумных существ. Таким образом, из принципа Тьюринга и некоторых других независимо оправданных допущений мы пришли к выводу, что разум выживет, и знание будет непрерывно создаваться до конца вселенной.
Процедуры стабилизации и сопровождающие их процессы создания знания должны будут постоянно ускоряться, пока в конечном безумии в конечное время не будет создано бесконечное количество того и другого. Мы не знаем такой причины, по которой не должно существовать физических ресурсов осуществления этого, но можно поинтересоваться, почему обитатели должны подвергать себя такому беспокойству. Почему они должны продолжать столь аккуратно направлять гравитационные осцилляции во время, скажем, последней секунды вселенной? Вам осталось жить всего одну секунду, почему бы, наконец, просто не откинуться на спинку стула и не отнестись ко всему этому проще? Но это, конечно, неправильное представление ситуации. Вряд ли можно было бы придумать в большей степени неправильное представление. {355} Дело в том, что разум этих людей будет работать, как компьютерная программа в компьютерах с безгранично увеличивающейся физической скоростью. Их мысли так же, как и наши, будут передачами в виртуальной реальности, выполняемыми этими компьютерами. Действительно, в конце этой последней секунды весь сложный механизм будет разрушен. Но мы знаем, что субъективная длительность ощущения виртуальной реальности определяется не астрономическим временем работы, а вычислениями, выполненными за это время. В бесконечном количестве этапов вычисления есть время для бесконечного количества мыслей — предостаточно времени для тех, кто мыслит, чтобы поместить себя в любую виртуальную среду, которая им понравится, и ощущать её столько, сколько им этого захочется. Устав от неё, они могут переключиться на любую другую среду или на любое количество других сред, которое они позаботятся создать. Субъективно, они окажутся не на конечных стадиях своей жизни, а на самых начальных. Они не будут спешить, ибо субъективно они будут жить вечно. С одной оставшейся секундой или микросекундой у них, тем не менее, останется «все время в мире», чтобы сделать больше, ощутить больше, создать больше — бесконечно больше — чем кто-либо в мультиверсе сделал бы до этого времени. Поэтому у них есть множество стимулов посвятить свое внимание управлению своими ресурсами. Занимаясь этим, они просто подготавливают свое собственное будущее, открытое, бесконечное будущее, которое они будут полностью контролировать и в которое, в любое определенное время, они просто вступят.
Мы можем надеяться, что разум в омега-точке будет состоять из наших потомков. Это все равно, что сказать: из наших разумных потомков, поскольку наши настоящие физические формы не смогли бы выжить вблизи омега-точки. На некоторой стадии людям пришлось бы перевести компьютерные программы, которыми является их разум, в более прочное аппаратное обеспечение. На самом деле, в конечном итоге это пришлось бы сделать бесконечное количество раз.
Механика «направления» вселенной к омега-точке требует осуществления действий во всем пространстве. Следовательно, разум должен будет вовремя распространиться по всей вселенной, чтобы сделать первые необходимые настройки. Это один из ряда сроков завершения, которым, как показал Типлер, нам придется удовлетворить — он также показал, что удовлетворить любому из них для пользы нашего настоящего знания физически возможно. Первый срок завершения (как {356} я отметил в главе 8) наступит примерно через пять миллиардов лет от сегодняшнего момента, когда Солнце, если оставить его на произвол судьбы, станет красной гигантской звездой и сотрет нас с лица Земли. До этого момента мы должны научиться управлять Солнцем или покинуть Солнечную Систему. Затем мы должны заселить нашу галактику, потом местные скопления галактик и потом всю вселенную. Мы должны делать все это достаточно быстро, чтобы удовлетворить соответствующему сроку завершения, но мы не должны продвигаться вперед так быстро, что израсходуем все необходимые ресурсы прежде, чем создадим новый уровень технологии.
Я говорю, «мы должны» делать все это, однако это всего лишь допущение, что именно мы будем потомками разума, который будет существовать в омега-точке. Нам не нужно играть эту роль, если мы не хотим этого. Если мы выберем не играть её и принцип Тьюринга верен, то мы можем быть уверены, что её сыграет кто-то другой (предположительно какой-то внеземной разум).
Тем временем в параллельных вселенных наши двойники делают тот же самый выбор. Преуспеют ли все они? Пли, другими словами, обязательно ли кто-то преуспеет в создании омега-точки в нашей вселенной? Это зависит от одной детали принципа Тьюринга. Он гласит, что универсальный компьютер физически возможен, а «возможный» обычно означает «действительный в этой или какой-то другой вселенной». Требует ли принцип, чтобы универсальный компьютер был построен во всех вселенных, или только в некоторых, или, может быть, «в большинстве»? Мы ещё недостаточно хорошо понимаем этот принцип, чтобы решить. Некоторые принципы физики, например, принцип сохранения энергии, остаются в силе только в группе вселенных, а в отдельных вселенных при некоторых обстоятельствах могут нарушаться. Другие принципы, например, принцип сохранения заряда, остаются в силе строго в каждой вселенной. Две самые простые формы принципа Тьюринга были бы следующими:
(1) универсальный компьютер существует во всех вселенных; или
(2) универсальный компьютер существует, по крайней мере, в некоторых вселенных.
Версия о «всех вселенных» кажется слишком сильной, чтобы выразить интуитивную идею о том, что такой компьютер физически возможен. Но версия о «по крайней мере, некоторых вселенных» кажется {357} слишком слабой, поскольку если универсальность остается в силе только в очень немногих вселенных, то она теряет свою объяснительную силу. Однако версия с «большинством вселенных» потребовала бы, чтобы принцип точно определил конкретное процентное соотношение, скажем. 85%, что кажется весьма невероятным. (В физике не существует «натуральных» констант, гласит аксиома, кроме нуля, единицы и бесконечности). Следовательно, в действительности Типлер отдает предпочтение версии о «всех вселенных», и я согласен, что это самый естественный выбор при том немногом, что нам известно.
Это все, что имеет сказать теория омега-точки — или, скорее, её научная составляющая, которую я защищаю. Можно прийти к тому же выводу, начав с нескольких различных отправных точек в трех из четырех нитей. Одной из них является эпистемологический принцип, что реальность понятна. Этот принцип также является независимо доказуемым, поскольку он лежит в основе эпистемологии Поппера. Но его существующие формулировки слишком размыты, чтобы из них можно было сделать безоговорочные выводы, скажем, о безграничности физических представлений знания. Поэтому я предпочитаю не постулировать этот принцип непосредственно, а вывести его из принципа Тьюринга. (Это ещё один пример большей объяснительной силы, которая становится доступной при рассмотрении четырех нитей как составляющих единую основу.) Сам Типлер полагается на постулат о том, что жизнь будет длиться вечно, или на постулат о том, что обработка информации будет длиться вечно. С нашей настоящей точки зрения ни один из этих постулатов не кажется фундаментальным. Преимущество принципа Тьюринга состоит в том, что его уже, по причинам, достаточно независимым от космологии, рассматривают как фундаментальный принцип природы — вероятно, не всегда в этой жизнестойкой форме, но я доказал, что такая форма необходима, чтобы объединить этот принцип с физикой.
Типлер доказывает положение о том, что наука космологии стремилась изучать прошлое (на самом деле, главным образом, отдаленное прошлое) пространства-времени. Но большая часть пространства-времени лежит в будущем от настоящей эпохи. Существующая космология действительно обращается к вопросу о том, произойдет ли повторное разрушение вселенной, но помимо этого было очень мало теоретических исследований большей части пространства-времени. В частности, причины Большого Сжатия изучались гораздо меньше, чем последствия {358} Большого Взрыва. Типлер считает, что теория омега-точки заполняет этот пробел. Я считаю, что теория омега-точки заслуживает того, чтобы стать общепринятой теорией будущего пространства-времени, до тех пор, пока не будет экспериментально (или как-то иначе) опровергнута. (Экспериментальное опровержение возможно, потому что существование омега-точки в будущем налагает определенные ограничения на состояние вселенной сегодня).
Создав сценарий омега-точки, Типлер делает несколько дополнительных допущений — одни из них вероятны, другие не очень, — которые разрешают ему разработать больше подробностей истории будущего. Именно квази-религиозная интерпретация этой истории будущего Типлером, а также его неумение отличить эту интерпретацию от лежащей в её основе научной теории, помешали серьезному восприятию последней. Типлер отмечает, что ко времени омега-точки будет создан бесконечный объем знания. Затем он допускает, что разум, существующий в этом отдаленном будущем, подобно нам, пожелает открыть знание, отличное от того, которое немедленно необходимо для его выживания (или, может быть, он будет нуждаться в этом). Он действительно обладает потенциалом открыть все физически известное знание, и Типлер допускает, что он сделает это. Таким образом, в некотором смысле, омега-точка будет всеведущей. Но только в некотором смысле. Приписывая омега-точке такие свойства, как всеведение или даже физическое существование, Типлер использует удобный лингвистический метод, который достаточно широко распространен в математической физике, но может сбить с правильного пути, если принимать его слишком буквально. Этот метод заключается в идентификации ограничивающей точки последовательности с помощью самой последовательности. Таким образом, когда он говорит, что омега-точка «знает» X, он имеет в виду, что Х известен какой-то конечной категории до времени омега-точки, а, следовательно, он никогда не будет забыт. Типлер не имеет в виду, что в конечной точке гравитационного разрушения существует знающая сущность, поскольку там вообще нет физических сущностей. Таким образом, в самом буквальном смысле омега-точка не знает ничего, и о её «существовании» можно говорить только потому, что некоторые наши объяснения структуры реальности ссылаются на ограничивающие свойства физических событий в отдаленном будущем. {359}
Типлер использует теологический термин «всеведущий» по причине, которая вскоре станет очевидна; но позвольте мне сразу же отметить, что в данном случае это слово не используется в его полном традиционном смысле. Омега-точка не будет знать все. Подавляющее большинство абстрактных истин, подобных истинам о средах Кантгоуту и тому подобном, будут также недостижимы для неё, как недостижимы они для нас.
Итак, поскольку все пространство будет заполнено разумным компьютером, оно будет вездесуще (хотя лишь после определенной даты). Поскольку оно будет непрерывно перестраивать себя и направлять гравитационное разрушение, можно сказать, что оно будет контролировать все, что происходит в материальной вселенной (или мультиверсе, если явление омега-точки произойдет во всех вселенных). Поэтому, говорит Типлер, омега-точка будет всемогущей. Но опять, это всемогущество не абсолютно. Напротив, оно строго ограничено доступной материей и энергией и подчинено законам физики.
Поскольку разумом компьютера будут созидательные мыслители, их следует классифицировать как «людей». Любая другая классификация, как правильно утверждает Типлер, была бы расистской. И поэтому он заявляет, что в пределе омега-точки существует всеведущее, всемогущее, вездесущее общество людей. Это общество Типлер отождествляет с Богом.
Я упомянул несколько отличий «Бога» Типлера от Бога или богов, в которых верит большинство религиозных людей. Есть ещё и другие отличия. Например, люди вблизи омега-точки не смогли бы, даже если бы захотели, заговорить с нами, или сообщить нам свои желания, или сотворить чудеса (сегодня). Они не создавали вселенную, они не изобретали законы физики — они не смогли бы и нарушить эти законы, если бы захотели. Они могут слышать молитвы из сегодняшнего дня (возможно, улавливая очень слабые сигналы), но они не могут на них ответить. Они противостоят (и это можно вывести из эпистемологии Поппера) религиозной вере и не хотят, чтобы им поклонялись. И так далее. Однако Типлер на этом не останавливается и утверждает, что большая часть основных черт Бога иудейско-христианских религий свойственна и омега-точке. На мой взгляд, большинство религиозных людей не согласится с Типлером в том, что касается основных черт их религий.
В частности, Типлер указывает, что достаточно продвинутая технология будет способна воскрешать мертвых. Она сможет делать это {360} несколькими различными способами, простейшим из которых, возможно, является следующий. Как только появится достаточная компьютерная мощность (не забывайте, что, в конце концов, доступным станет любой желаемый объем), можно будет запустить программу передачи всей вселенной — а в действительности, всего мультиверса — в виртуальной реальности, начиная с Большого Взрыва, с любой желаемой степенью точности. Если начальное состояние не будет известно достаточно точно, можно испытать произвольно маленький образец всех возможных начальных состояний и передать все их одновременно. Возможно, передаче придется остановиться из-за сложности, если передаваемая эпоха слишком приближается к действительному времени осуществления передачи. Но вскоре она сможет продолжиться по мере того, как на линии появится больше вычислительной мощности. Для компьютеров омега-точки нет ничего труднообрабатываемого. Для них есть только «вычисляемое» и «невычисляемое», а передача реальных физических сред определенно относится к категории «вычисляемых». Во время этой передачи появится планета Земля и множество её вариантов. Разовьется жизнь, а в конечном итоге, и люди. Все люди, когда-либо жившие где-либо в мультиверсе (то есть, все те, чье существование было физически возможным), появятся где-то в этой огромной передаче. То же самое произойдет со всем когда-либо существовавшим внеземным разумом и искусственным интеллектом. Управляющая программа сможет подыскать эти разумные существа и, если захочет, поместить их в лучшую виртуальную среду — в такую, где они, возможно, не умрут снова, а все их желания будут выполняться (или, по крайней мере, все желания, которые сможет удовлетворить данный, невообразимо высокий уровень вычислительных ресурсов). Почему он делал бы это? Одна причина могла бы быть моральной: по нормам отдаленного будущего среда, в которой мы живем сегодня, чрезвычайно сурова, и мы ужасно страдаем. Может быть, не спасти таких людей и не дать им шанс лучшей жизни, будет считаться неэтичным. Но если этих людей воскресить и немедленно поместить в современную культуру, это даст обратный результат: они мгновенно запутаются, почувствуют себя униженными и подавленными. Следовательно, говорит Типлер, можно ожидать, что мы воскреснем в среде такого типа, который в сущности нам знаком, за исключением того, что будут удалены все неприятные элементы и добавлены многие чрезвычайно приятные. Другими словами, небеса. {361}
В такой манере Типлер продолжает воссоздавать многие другие аспекты традиционной религиозной панорамы, заново определяя их как физические категории или процессы, существования которых смело можно ожидать вблизи омега-точки. Теперь давайте отложим вопрос, похожи ли эти воссозданные версии на своих религиозных аналогов. Вся история о том, что будут, а чего не будут делать эти разумные существа из далекого будущего, основана на цепочке допущений. Даже если мы поверим, что каждое из этих допущений само по себе правдоподобно, общие выводы не могут претендовать на что-то большее, чем предположение, сделанное на основе знания. Подобные предположения стоит делать, но важно отличать их от аргумента в пользу существования самой омега-точки и от теории её физических и эпистемологических свойств. Ибо эти аргументы допускают не больше, чем то, что структура реальности действительно подчиняется нашим лучшим теориям, допущение, которое можно доказать независимо.
В качестве предостережения о ненадежности предположения, пусть даже сделанного на основе знания, позвольте мне нанести повторный визит проектировщику из главы 1 с его донаучным знанием архитектуры и инженерного дела. Нас отделяет от него такой огромный разрыв культур, что ему было бы чрезвычайно трудно постичь реальную картину нашей цивилизации. Но мы с ним почти современники по сравнению с огромным разрывом между нами и самым ранним возможным моментом типлеровского воскрешения. Итак, допустим, что этот строитель размышляет об отдаленном будущем строительной промышленности и по какой-то экстраординарной случайности сталкивается с точной оценкой современной технологии. Тогда он будет знать, кроме всего прочего, что мы можем строить конструкции более огромные и впечатляющие, чем величайшие соборы того времени. Мы могли бы построить собор высотой в милю, если бы захотели. И мы могли бы сделать это, потратив гораздо меньшую часть своих средств, меньше времени и меньше человеческого труда, чем понадобилось бы ему, чтобы построить самый скромный собор. Поэтому он с уверенностью мог бы предсказать, что к 2000 году будут построены соборы высотой в милю. Он бы ошибся, и очень ошибся, поскольку, несмотря на то, что у нас есть технология строительства таких соборов, мы выбираем их не строить. Действительно, сейчас кажется невероятным, что подобный собор когда-нибудь будет построен. Даже если допустить правоту нашего почти-современника относительно нашей технологии, он ошибся {362} бы в наших предпочтениях. Он ошибся бы, потому что некоторые из его неоспариваемых допущений о мотивации людей устарели всего через несколько веков.
Точно так же нам может показаться естественным, что разумные существа омега-точки ради исторического или археологического исследования, из сострадания, морального долга или просто по своей прихоти, в конечном итоге, создадут передачу нас в виртуальной реальности и когда их эксперимент завершится, они даруют нам вычислительные ресурсы, которые нам потребовались бы, чтобы вечно жить на «небесах». (Лично я предпочел бы, чтобы мне разрешили постепенно вливаться в их культуру). Но мы не можем знать, чего захотят они. На самом деле ни одна попытка предсказать будущее крупномасштабное развитие человеческих (или суперчеловеческих) дел не может дать надежных результатов. Как показал Поппер, будущий ход человеческих дел зависит от будущего роста знания. И мы не можем предсказать, какое именно знание будет создано в будущем — потому что, если бы мы могли это сделать, по определению, мы уже обладали бы этим знанием в настоящем.
Но не только научное знание характеризует предпочтения людей и определяет манеру их поведения. Существуют также, например, моральные критерии, которые устанавливают такие понятия как «правильно» и «неправильно» для возможных действий. Известно, что подобные ценности трудно подогнать под научное мировоззрение. Кажется, что они образуют свою собственную замкнутую объяснительную структуру, отделенную от структуры физического мира. Как показал Дэвид Юм, невозможно логически вывести понятие «должно» из понятия «есть». Тем не менее, мы используем такие ценности как для объяснения, так и для определения своих физических действий.
Бедный родственник морали — полезность. Поскольку кажется гораздо проще понять, что объективно полезно или бесполезно, чем что объективно правильно или неправильно, мораль много раз пытались определить на основе различных форм полезности. Существует, например, эволюционная мораль, которая отмечает, что многие виды поведения, которые мы объясняем на основе морали, как-то: не убей, не обманывай, сотрудничая с другими людьми, — имеют аналоги в поведении животных. Существует и раздел эволюционной теории, социобиология. добившийся некоторых успехов при объяснении поведения животных. Многие люди поддались искушению сделать вывод, что моральные {363} объяснения выбора человека, — это всего лишь видимость; что мораль совсем не имеет объективной основы и что «правильно» и «неправильно» — это просто ярлыки, которые мы применяем к нашим врожденным мотивам именно такого, а не какого-то иного поведения. Другая версия того же самого объяснения замещает гены мимами и заявляет, что терминология морали — это всего лишь видимость социальных условностей. Однако ни одно из этих объяснений не соответствует фактам. С одной стороны, мы не стремимся объяснять врожденное поведение — скажем, приступы эпилепсии, — на основе морального выбора; у нас существует понятие произвольных и непроизвольных действий, и только для произвольных действий существуют моральные объяснения. С другой стороны, сложно думать только о врожденном человеческом поведении — избегать боли, заниматься сексом, есть или что угодно ещё — которое люди при различных обстоятельствах не сделали доминирующим по причинам морали. То же самое относится, даже в более широком смысле, к социально обусловленному поведению. Доминирование как врожденного, так и социально обусловленного поведения само по себе является характеристическим поведением людей. Таково объяснение подобного сопротивления на основе морали. Ни одна из этих форм поведения не имеет аналога у животных; ни в одном из этих случаев моральные объяснения невозможно истолковать на основе генов или мимов. Это роковая ошибка целого класса теорий. Разве мог бы существовать ген доминирования над генами, если человек захотел бы этого? А социальная обусловленность, поддерживающая сопротивление? Может быть, это возможно, но по-прежнему остается проблема, связанная с тем, как мы выбираем, что делать вместо этого и что мы имеем в виду, когда объясняем свое сопротивление, заявляя, что мы просто правы и что поведение, предписанное нашими генами или нашим обществом в этой ситуации, просто пагубно.
Эти генетические теории можно рассматривать как особый случай более обширной уловки; которая отрицает смысл моральных суждений на основе того, что в действительности мы не выбираем свои действия — что свободная воля — это иллюзия, несовместимая с физикой. Но на самом деле, как мы видели в главе 13, свободная воля совместима с физикой и вполне естественно вписывается в описанную мной структуру реальности.
Утилитаризм был ранней попыткой объединить моральные объяснения с научным мировоззрением через «полезность». Здесь «полезность» {364} отождествлялась с человеческим счастьем. Делать моральный выбор было равноценно вычислению, какое действие принесет больше счастья либо для одного человека (здесь теория становилась более неопределенной), либо для «самого большого» количества людей. Различные версии этой теории заменили «удовольствие» или «предпочтение» на «счастье». Если рассматривать утилитаризм как отречение от ранних авторитарных систем морали, то он не является исключением. И в том смысле, что он просто защищает отказ от догмы и действие в соответствии с «предпочитаемой» теорией, которая выжила после рациональной критики, все люди — утилитаристы. Но как попытка решить обсуждаемую здесь проблему, проблему объяснения смысла моральных суждений, он тоже содержит роковую ошибку: мы выбираем свои предпочтения. В частности, мы изменяем свои предпочтения и даем этому моральное объяснение. Такое объяснение нельзя перевести на язык утилитаризма. Существует ли основное, главное предпочтение, которое контролирует изменения наших предпочтений? Если бы такое предпочтение существовало, то его невозможно было бы изменить, и утилитаризм деградировал бы, превратившись в генетическую теорию морали, описанную выше.
Как же тогда моральные ценности относятся к конкретному научному мировоззрению, которое я защищаю в этой книге? Я могу, по крайней мере, утверждать, что нет фундаментального препятствия тому, чтобы сформулировать это отношение. Проблема со всеми предыдущими «научными мировоззрениями» заключалась в их иерархических объяснительных структурах. Точно так же, как невозможно, в рамках такой структуры, «доказать» истинность научных теорий, невозможно и доказать правильность образа действий (потому что, как тогда доказать правильность структуры в целом?). Как я уже сказал, каждая из четырех нитей имеет иерархическую объяснительную структуру, но структура реальности в целом выглядит иначе. Поэтому объяснение моральных ценностей как объективных качеств физических процессов не нужно приравнивать выведению их из чего-либо, даже в принципе. Так же, как с абстрактными математическими категориями, возможность или невозможность понимания физической реальности без приписывания реальности и таким ценностям, будет связана с вкладом, который они делают в объяснение.
В этой связи позвольте мне показать, что «исход» в обычном смысле — это единственный способ связи объяснений различных нитей. До {365} сих пор я рассматривал только то, что можно было бы назвать предсказательным исходом. Например, мы верим, что предсказания теории эволюции логически следуют из законов физики, даже несмотря на то, что доказать эту связь может оказаться трудно с позиций вычисления. Но мы не верим, что объяснения в теории эволюции следуют из физики. Однако неиерархическая объяснительная структура допускает возможность объяснительного исхода. Допустим, ради доказательства, что данное моральное суждение можно объяснить как правильное в некотором узком утилитарном смысле. Например: «Я хочу это; это никому не повредит: значит, это правильно». Но это суждение однажды может превратиться в вопрос. Я мог бы спросить: «Следует ли мне хотеть этого?» Или: «Действительно ли я прав, что это никому не повредит?» — так как сам вопрос о том, кому, по моему суждению, «повредит» это действие, зависит от моральных допущений. Если я буду спокойно сидеть в кресле у себя дома, то это «повредит» всем людям на Земле, которые могли бы извлечь пользу, если бы я вышел и помог им в тот момент: это также «повредит» всем ворам, которые хотели бы украсть мой стул, если только я ненадолго куда-то выйду; и так далее. Чтобы разрешить подобные вопросы, я привожу дополнительные теории морали, включающие новые объяснения моей моральной ситуации. Когда такое объяснение покажется удовлетворительным, я буду экспериментально использовать его, чтобы рассудить, что правильно, а что нет. Но объяснение, хотя и временно удовлетворительное для меня, всё же не поднимется над уровнем утилитаризма.
Итак, допустим, что кто-то создает общую теорию о таких объяснениях. Допустим, что в эту теорию вводят такое понятие высокого уровня, как «права человека», и предположим, что введение этого понятия (для данного класса моральных проблем, подобных той, которую я только что описал) всегда будет порождать новое объяснение, решающее эту проблему в утилитарном смысле. Далее, допустим, что эта теория об объяснениях сама по себе является объяснительной теорией. Она с помощью какого-то другого направления объясняет, почему анализировать проблемы на основе прав человека «лучше» (в утилитарном смысле). Например, она могла бы объяснить с помощью эпистемологии, почему можно ожидать, что уважение прав человека будет способствовать росту знания, которое само по себе является предварительным условием решения моральных проблем. {366}
Если объяснение кажется хорошим, возможно, эта теория стоит того, чтобы её приняли. Более того, поскольку вычисления утилитарных понятий невозможно трудны, тогда как анализ ситуации на основе прав человека зачастую осуществим, возможно, стоит предпочесть анализ на основе «прав человека» любой другой определенной теории о том, сколько счастья в каком-то конкретном действии. Если бы все это было истинно, понятие «прав человека» невозможно было бы выразить, даже в принципе, на основе «счастья» — это совсем не утилитарное понятие. Мы можем назвать его моральным понятием. Эти понятия связаны через исходящее объяснение, а не через исходящее предсказание.
Я не защищаю именно этот частный поход; я просто показываю способ объективного существования моральных ценностей через их роль в исходящих объяснениях. Если бы такой подход действительно работал, то он бы объяснил мораль, как разновидность «исходящей полезности».
Подобным образом, «художественную ценность» и другие эстетические понятия всегда было сложно объяснить объективно. Их также часто объясняют как произвольные черты культуры или как врожденные предпочтения. И снова мы видим, что это совсем не обязательно так. Как мораль относится к полезности, так и художественная ценность имеет менее благородного, но более объективно определенного двойника, намерение. И опять, ценность особенности намерения можно понять только в контексте данной цели придуманного объекта. Но мы можем обнаружить, что невозможно усовершенствовать намерение, включая в его критерии хороший эстетический критерий. Подобные эстетические критерии невозможно было бы вычислить из критериев намерения: одно из их применений заключалось бы в усовершенствовании самих критериев намерения. Отношение снова было бы связано с объяснительным исходом. И художественная ценность, или красота, была бы разновидностью исходящего намерения.
Чрезмерная уверенность Типлера в своей способности предсказать мотивы людей вблизи омега-точки привела к тому, что он недооценил важное следствие теории омега-точки для роли разума в мультиверсе. Оно заключается в том, что разум находится там не только для того, чтобы управлять физическими событиями в огромном масштабе, но и чтобы выбирать, что произойдет. Именно мы будем выбирать конец вселенной, как сказал Поппер. Действительно, в большой степени будущие разумные мысли содержат то, что произойдет, ибо, в конце {367} концов, всё пространство и его содержимое станет компьютером. В конце вселенная будет состоять буквально из разумных мыслительных процессов. Где-то вблизи дальнего конца этих материализованных мыслей, может быть, лежит все физически возможное знание, выраженное в физических моделях.
Моральные и эстетические намерения, как и результаты всех таких намерений, также выражены в этих моделях. В самом деле, существует или нет омега-точка везде, где есть знание в мультиверсе (сложность через многие вселенные), там должны быть и физические следы морального и эстетического рассуждения, определившего, какого рода задачи создающая знание сущность выбрала решать там. В частности, прежде чем любой отрезок фактического знания может стать похожим через полосу вселенных, моральные и эстетические суждения тоже должны стать похожими через эти вселенные. Следовательно, такие суждения также содержат объективное знание в физическом смысле, в смысле мультиверса. Это оправдывает использование эпистемологической терминологии, как-то: «задача», «решение», «рассуждение» и «знание», в этике и эстетике. Таким образом, если этика и эстетика вообще совместимы с мировоззрением, защищаемым в этой книге, красота и правильность должны быть столь же объективны, как научная или математическая истина. И они должны создаваться аналогичным образом, через гипотезы и рациональную критику.
Таким образом, Ките резонно сказал, что «красота — это истина, а истина — это красота». Это не одно и то же, но это одна и та же разновидность, они одинаково создаются и неразрывно связаны друг с другом. (Но он, безусловно, был весьма неправ, когда продолжил «это все, что вы знаете на земле, и все, что вам нужно знать»).
В своем энтузиазме (в первоначальном смысле этого слова!) Типлер пренебрег частью урока Поппера относительно того, как должен выглядеть рост познания. Если омега-точка существует и если она будет создана так, как изложил Типлер, то поздняя вселенная действительно будет состоять из воплощенных мыслей непостижимой мудрости, творчества и абсолютных чисел. Но мысль — это решение задач, а решение задач означает конкурирующие гипотезы, ошибки, критику, опровержение и возвращение. Вероятно, в пределе (которого не ощутит никто) в момент конца вселенной можно будет понять все, что понятно. Но в каждой конечной точке знание наших потомков будет изобиловать ошибками. Их знание будет больше, глубже и шире, чем мы можем {368} представить, но и масштаб их ошибок соответственно будет титаническим.
Как и мы, они никогда не познают определенность или физическую безопасность, поскольку их выживание, как и наше, будет зависеть от создания ими непрерывного потока нового знания. Если у них, хотя бы однажды, не получится открыть способ увеличения скорости вычисления и емкости памяти за имеющееся у них время, определенное неумолимым законом физики, небо упадет на них, и они погибнут. Их культура предположительно будет мирной и благотворной, о какой мы не можем даже мечтать, но она отнюдь не будет спокойной. Она начнется с решения огромных проблем и будет раскалываться от неистовых противоречий. По этой причине кажется невероятным, что её успешно можно рассматривать как «человека». Скорее это будет огромное количество людей, многообразно взаимодействующих на многих уровнях. но не способных прийти к соглашению. Они будут говорить в один голос не более, чем современные ученые на исследовательском семинаре. Даже когда они случайно придут к соглашению, они часто будут ошибаться, и многие их ошибки останутся неисправленными произвольно долгое время (субъективно). По той же самой причине эта культура никогда не станет морально однородной. Не будет ничего святого (ещё одно отличие от традиционной религии!), и люди постоянно будут оспаривать допущения, которые другие люди считают фундаментальными моральными истинами. Конечно, мораль, поскольку она реальна, постижима с помощью методов разума, а потому каждое частное противоречие будет разрешено. Но на смену ему придут следующие, даже более захватывающие и фундаментальные противоречия. Подобное дисгармоничное, но прогрессивное скопление частично совпадающих сообществ весьма отличается от Бога, в которого верят религиозные люди. Но именно это, или даже некая субкультура внутри этого, и воскресит нас, если Типлер не ошибается.
В свете всех объединяющих идей, о которых я говорил, как-то: квантовое вычисление, эволюционная эпистемология и концепции познания с позиций мультиверса. свободная воля и время, — мне кажется ясным, что современная тенденция в нашем всеобъемлющем понимании реальности именно такова, на какую я надеялся, будучи ребенком. Наше знание становится шире и глубже, причем, как я отметил в главе 1, глубина побеждает. Но в этой книге я претендовал на нечто большее. Я защищал конкретное единое мировоззрение, основанное на {369} четырех нитях: квантовой физике вселенной, эпистемологии Поппера, теории эволюции Дарвина–Доукинса и усиленной версии теории универсального вычисления Тьюринга. Мне кажется, что при современном состоянии нашего научного знания придерживаться такого взгляда «естественно». Это консервативный взгляд, который не предлагает никаких пугающих изменений в наших лучших фундаментальных объяснениях. Значит, он должен стать общепринятым, таким, относительно которого судят о предложенных новшествах. Я защищаю именно такую роль этого взгляда. Я не надеюсь создать новую традицию; я далек от этого. Как я уже сказал, я считаю, что пора двигаться дальше. Но мы можем перейти к лучшим теориям только тогда, когда всерьез воспримем лучшие из наших существующих теорий, как объяснения мира. {370}
ЭТО ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ КАЖДЫЙ
Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976. [Revised edition 1989.]
Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, Longman, 1986, Norton, 1987; Penguin Books, 1990.
David Deutsch, «Comment on «The Many Minds Interpretation of Quantum Mechanics» by Michael Lockwood», British Journal for the Pholosophy of Science, 1996, Vol.47, No. 2, p. 222.
David Deutsch and Michael Lockwood, «The Quantum Physics of Time Travel» Scientific American, March 1994, p. 68.
Douglas R. Hofstadter, Godel, Escher, Bach, an Eternal Golden Braid. Harvester, 1979, Vintage Books, 1980.
James P.Hogan, The Proteus Operation, Baen Books, 1986, Century Publishing, 1986. [Fiction!]
Bryan Magee, Popper, Fontana, 1973, Viking Penguin, 1995.
Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge, 1963, Harper-Collins, 1995.
Karl Popper, The Myth. of the Framework, Routledge, 1992.
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЧТЕНИЯ
John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Clarendon Press, 1986.
Charles H. Bennett, Gilles Brassard and Artur K. Ekert, «Quantum Cryptography», Scientific American, October 1992.
Jacob Bronowski. The Ascent of Man, ВВС Publications, 1981, Little Brown, 1976. {371}
Julian Brown, «A Quantum Revolution for Computing», New Scientist, 24 September 1994.
Paul Davies and Julian Brown, The Ghost in the Atom, Cambridge University Press, 1986.
Richard Dawkins, The Extended Phenotype, Oxford University Press, 1982.
Daniel C.Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, Alien Lane, 1995; Penguin Books, 1996.
Bryce S.DeWitt and Neill Graham (eds), The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton University Press, 1973.
Artur K. Ekert, «Quantum Keys for Keeping Secrets», New Scientist, 16 January 1993.
Freedom and Rationality: Essays in Honour of John Watkins, Kluwer, 1989.
Ludovico Geymonat, Galileo Galilei: A Biography and Inquiry into his Philosophy of Science, McGraw-Hill, 1965.
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1971.
Imre Lakatos and Alan Musgrave (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, 1979.
Seth Lloyd, «Quantum-mechanical Computers», Scientific American, October 1995.
Michael Lockwood, Mind, Brain and the Quantum, Basil Blackwell, 1989.
Michael Lockwood, «The Many Minds Interpretation of Quantum Mechanics», British Journal for the Pholosophy of Science, 1996, Vol. 47, №2.
David Miller (ed), A Pocket Popper, Fontana. 1983.
David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and Defense, Open Court, 1994.
Ernst Nagel and James R.Newman, Godel's Proof, Routledge 1976.
Anthony O'Hear, Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press, 1991. {372}
Roger Penrose. The Emperor's New Mind: Concerning Computers. Minds, and the Laws of Physics. Oxford University Press, 1989.
Karl Popper Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Clarendon Press, 1972.
Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik, A Comprehensive Grammar of the English Language, 7th edn, Longman, 1989.
Dennis Sciama, The Unity of the Universe, Faber & Faber, 1967.
Ian Stewart, Does God Play Dice: The Mathematics of Chaos, Basil Blackwell, 1989; Penguin Books, 1990.
L. J. Stockmeyer and A. K. Chandra, «Intrinsically Difficult Problems». Scientific American. May 1979.
Frank Tipler, The Physics of Immortality, Doubleday, 1995.
Alan Turing, «Computing Machinery and Intelligence», Mind, October 1950. [Reprinted in the The Mind's I, edited by Douglas R. Hofstadter and Daniel C.Dennett, Harvester, 1981.]
Steven Weinberg, Gravitation and Cosmology, John Wiley, 1972.
Steven Weinberg, The First Three Minutes, Basic Books, 1977. [Русский перевод: Вайнберг С. Первые три минуты. — М.: Энергоиздат, 1981.]
Steven Weinberg. Dreams of a Final Theory, Vintage, 1993, Random, 1994.
John Archibald Wheeler, A Journey into Gravity and Spacetime, Scientific American Library, 1990.
Lewis Wolpert, The Unnatural Nature of Science, Faber & Faber, 1992, HUP, 1993.
Benjamin Woolley, Virtual Worlds, Basil Blackwell, 1992; Penguin Books,1993. {373}
[1] Strand (англ.). Автор поясняет, что эта нить подобна нитям комплексного аргумента, которые при объединении приводят к определенному выводу. — Прим. перев.
[2] Fabric of Reality (англ.). Автор подразумевает не искусственную структуру, а структуру, лежащую в основе реальности. Кроме того, он проводит параллель с тканью, в которой нити тесно переплетены (взаимосвязаны) друг с другом. — Прим. перев.
[3] B английском варианте ясно видна разница терминов «multiverse» и «universe», приставка «multi-» значит «много», приставка «uni-» имеет значение «одна». — Прим. перев.
[4] «Восхождение человека».
[6] «Жизнь Джонсона»
[7] «Дивный новый мир».
[8] От английского слова «feeling» — «чувство». — Прим. перев.
[9] 1 Английский вариант выглядит как Cantgotu. Здесь игра слов, как далее объясняет автор: can't go to означает «не могу пойти в». — Прим. перев.
[9a] 2 Can't go to — Прим. пер.
[10] B книге Freedom and Rationality: Essays in Honour of John Watkins («Свобода и рациональность: эссе в честь «Джона Уоткинса»).
[11] Ha самом деле математические теоремы тоже не доказывают с помощью «чистого» аргумента (независимого от физики), я объясню это в главе 10.
[12] В действительности, эта теория может быть и универсально истинной, если другие теории, касающиеся схемы эксперимента, были ложными.
[13] Английский вариант meme (рифмуется с «cream») — Прим. пер.
[16] «О бесконечном».
[17] «Исповеди».
[18] «Полная грамматика английского языка».
[19] «Начала».
[20] «Структура научных революций»
[21] «Миф структуры»
[22] «Критика и рост знания»
[25] «О множественности миров».
[26] «Объективное знание».