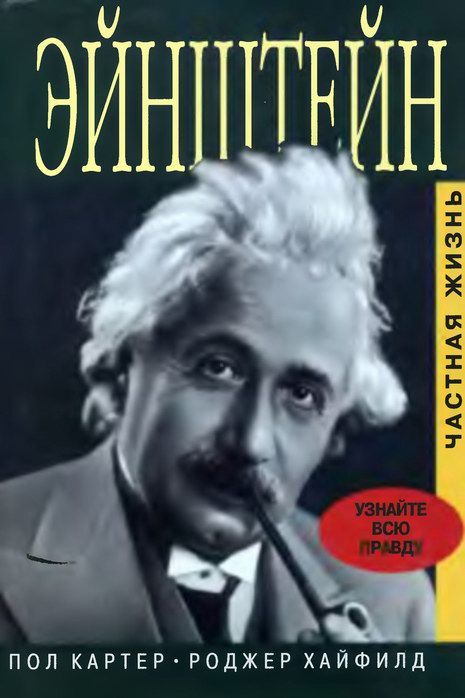
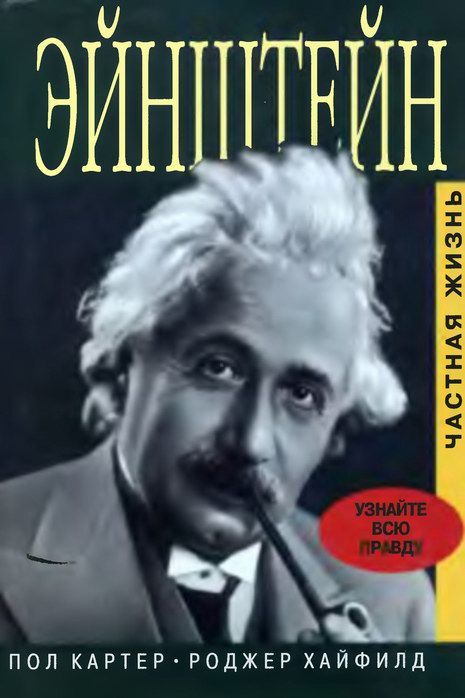
| {2} |
|
PAUL CARTER The PRIVATE LIVES of ALBERT EINSTEIN |
| {3} |
|
ПОЛ КАРТЕР ЭЙНШТЕЙН ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВА «ЗАХАРОВ «ACT» 1998 |
| {4} |
УДК 820(73)-94
ББК 84.7
Э30
ISBN 5-8159-0009-5
© Roger Highfield and Paul Carter, 1993.
© ЗАХАРОВ, 1998, издание на русском языке, 1998.
| {5} |
Эта книга уже была готова к сдаче в типографию, когда мировую печать облетела сенсационная новость: Альберт Эйнштейн в годы войны имел любовную связь с советской шпионкой.
Генерал-лейтенант НКВД П.А.Судоплатов в своей книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950 годы» пишет: «Жена известного скульптора Конёнкова, наш проверенный агент... сблизилась с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном в Принстоне...»
Слово «сблизилась» приобрело двусмысленный оттенок летом 1998 года, когда в Нью-Йорке для участия в аукционе «Сотби» были выставлены письма, которые великий ученый адресовал в 1945-46 годах своей возлюбленной Маргарите Конёнковой. Эйнштейн насмешливо, трогательно и доверчиво повествует в них о событиях повседневной жизни и о своей негасимой любви к Маргарите.
«Только что сам вымыл себе голову, но без особого успеха. У меня нет твоей сноровки и аккуратности, — пишет он 27 ноября 1945 года. — Но как мне всё здесь напоминает о тебе: Альмарово одеяло, словари, та замечательная трубка, которую мы считали пропавшей, и все другие мелочи в моей келье. Ну и, конечно, осиротевшее гнездышко...» («Альмарами» — сокращенно от Альберт и Маргарита — они называли общие для них вещи).
«Я совершенно запустил волосы, они выпадают с непостижимой скоростью. Скоро ничего не останется. Гнездышко тоже выглядит заброшенно и обреченно. Если бы оно могло говорить, ему нечего было б сказать. Я пишу тебе это, накрыв колени Альмаровым одеялом, а за окном темная-темная ночь...» (25 декабря 1945 года).
Альберту Эйнштейну было тогда 66 лет, Маргарите Конёнковой — 45.
Написанные от руки элегантным готическим почерком и отправленные Эйнштейном из Принстона в Москву, письма были выставлены на аукцион одним из родственников Конёнковых, который пожелал остаться неизвестным. Из того же источника и в том же лоте общей оценочной стоимостью четверть миллиона долларов — золотые наручные часы Эйнштейна, фотографии, на которых сняты Эйнштейн и Маргарита; {6} рисунок пером, изображающий эту же пару, сделанный предположительно самим Эйнштейном; и ряд других документов.
Конёнковы жили в Америке в качестве эмигрантов более двадцати лет, до осени 45-го, когда их отозвали в СССР. На родине Сергей Тимофеевич, проживший 97 лет (1874-1971), стал народным художником СССР, лауреатом Сталинской и Ленинской премий, Героем Социалистического труда. Его жена и верная помощница Маргарита (1900-1982) была в годы войны исполнительным секретарем американского общества помощи России и, как стало известно только в наше время, также верной помощницей НКВД.
В 1935 году Конёнков получил заказ сделать бронзовый бюст Эйнштейна — он и сейчас находится в Принстоне. Однако знакомство обоих семейств произошло еще раньше, благодаря посредничеству приемной дочери Эйнштейна Марго, вышедшей в Берлине в 1930 году за русского журналиста Дмитрия Марья-нова, приписанного к советскому посольству, Марго и Маргарита стали близкими подругами, и на одной из фотографий примерно 1935 года (она тоже находится в этом лоте «Сотби») изображен Альберт Эйнштейн, а по бокам от него жена Эльза (она умерла в 1936 году) и Маргарита, обнявшая за плечи Марго.
Так что Эйнштейн знал Маргариту по меньшей мере десять лет до того времени, к которому относится сохранившаяся переписка. Неизвестно, сколько лет они были любовниками, но очевидно, что к моменту разлуки поздним летом 1945 года их отношения оставались самыми страстными.
При этом Маргарите приходилось постоянно лавировать между Эйнштейном, Конёнковым и контролирующим ее офицером НКВД Пастельняком, которого она познакомила с Эйнштейном в качестве вице-консула Павла Михайлова. Она играла три труднейшие роли одновременно — жены, любовницы и шпионки. Впрочем, у Маргариты уже был кое-какой опыт: семейное предание сохранило память о ее любовных романах с Сергеем Рахманиновым и Борисом Шаляпиным.
Ничего удивительного, что Голливуд заинтересовался этой историей и обещает выпустить к 120-летию Эйнштейна в 1999 году полнометражную шпионскую мелодраму.
При этом специалисты не склонны всерьез рассматривать причастность Эйнштейна к созданию советской атомной бомбы. Хотя бы потому, что ученый не принимал непосредственного участия в подобных разработках даже в самих США. «Эйнштейн был в стороне от технической части программы, его не видели ни в Лос-Аламосе, ни в Оук-Ридже, ни в лабораториях Чикаго, — говорит профессор Гэддис Смит из Йельского университета. — Он сидел себе посиживал в вечном свитере и курил трубку, погруженный в глубины теоретической математики. Он и носу не показывал из Принстона».
| {7} |
После сердечного приступа, случившегося летом 1973 года, Ганс Альберт Эйнштейн четыре недели пролежал в коме.
Единственному оставшемуся в то время в живых сыну величайшего ученого нашего века было шестьдесят девять лет. Он знал, что сердце у него слабое, но пренебрегал советами врачей и неоднократно говорил своим детям, что постоянно зависеть от лекарств или приборов, которые искусственно поддерживают в человеке жизнь, — унизительно, и сам он больше всего боится оказаться в подобном состоянии. Восемнадцатью годами раньше его умирающий отец отказался от экстренной операции. Он сказал, что считает дурным тоном попытки продлить жизнь за ее естественные пределы. Отношение к уходу из жизни, как и многое другое, было для Ганса Альберта эмоциональным наследством того человека, которого он в разные периоды своей жизни то ненавидел, то боготворил. Цепляться за жизнь — это отдает сентиментальностью, а отец учил Ганса Альберта быть стоиком.
Ганс Альберт потерял сознание, когда стоял в очереди в буфете после лекции, которую прочел в Институте океанографии во время визита в Вудс-Хоул, штат Массачусетс. Подобно своему отцу, который и на смертном одре требовал бумагу и ручку, Ганс Альберт стремился уйти от действительности, с головой погружаясь в науку. Он был инженером-гидравликом, признанным во всем мире специалистом в области донных отложений и наводнений. По {8} словам его ассистента, он никогда не рассказывал о своем великом отце, о своей семье или частной жизни. Помимо профессиональных тем он говорил только о музыке. Музыка и парусный спорт давали отдых его душе. Так же они действовали на его знаменитого отца, на которого Ганс Альберт был поразительно похож, когда, крупный и мускулистый, стоял на носу своей яхты в заливе Сан-Франциско. Один из его знакомых, менее опытный моряк, чем Ганс Альберт, писал, что на борту тот придерживался простого правила — попутчику разрешалось повторить одну и ту же ошибку не более двух раз, потом Ганс Альберт взрывался и обрушивал на провинившегося шквал негодования и упреков. На рояле сын Эйнштейна играл только классику, он отметал все, что считал слишком современным или слащавым.
Друзья и коллеги ценили исключительную одаренность Ганса Альберта, как человек он тоже заслуживал любви и восхищения. Но что бы он ни делал, он всегда оставался в тени своего великого отца. Он был сыном Альберта Эйнштейна и не мог сбросить со своих плеч бремя его славы. Однажды он сказал, что вопрос «Не родственник ли вы Альберту Эйнштейну?» стал для него подобием китайской пытки, при которой узнику на голову методично капает вода. Он скрывал свои чувства за постоянной легкой улыбкой, но, по словам его дочери Эвелины, носил в душе неизбывную обиду, порожденную теми поступками великого ученого, которые его семья ни в коем случае не хотела предавать огласке.
Альберт Эйнштейн стал иконой и взглянуть на него по-новому нелегко. Ему было всего двадцать шесть лет в 1905 году, когда он опубликовал «специальную» теорию относительности, но образ его в глазах наших современников сложился из тех характерных черт, какие он обрел почти на полвека позже, в последние годы жизни. Лицо Эйнштейна в старости описывали так часто, что образные метафоры давно превратились в клише. Спутанные пряди седых волос чаще всего называли «гривой» или {9} «нимбом». Глаза под знаменитым, испещренным морщинами лбом смотрели на мир таким «мягким» или даже «кротким» взглядом, что, убаюканные этими привычными словами, мы ленимся вглядеться в эти глаза попристальнее и не замечаем в их глубине жесткость и сардоническую усмешку. В нашем сознании присутствует несколько искаженный образ Эйнштейна, нечто среднее между дружелюбным и нелепым Белым Рыцарем из «Алисы» Льюиса Кэрролла и полу-Иисусом, полульвом Асланом из «Нарнии» К.С. Льюиса. Писатель Ч.П. Сноу сказал: «На первый взгляд, перед нами вдохновенный святой, немного смахивающий на пугало».
Это сказано очень метко. Для массового сознания Эйнштейн стал воплощением эксцентричного гения, который показывает язык прямо в объектив фотографам и ходит в туфлях на босу ногу. Как со смехом говорил сам ученый, он стал похож на ветхозаветного пророка. Эйнштейн имел обыкновение публично выступать на политические и моральные темы и, хотя в вопросах веры был более чем неортодоксален, охотно прибегал к религиозной терминологии, объясняя суть своих открытий, которые перевернули наши представления о пространстве и времени и совершенно изменили самые основы научной мысли двадцатого столетия. Репутация Эйнштейна основывается не только на его научных достижениях, но и на активном участии в борьбе за мир и в правозащитной деятельности. Он производил впечатление человека крайне скромного и мягкого, живущего в полном мире с самим собой. В наш век, когда наука полностью отделена от религии, его окружал ореол святости.
Но отец, с которым жил Ганс Альберт, был весьма далек от этого образа. Слова Эйнштейна — общественного деятеля и дела Эйнштейна — частного лица нередко расходились, а за его внешней безмятежностью скрывались жестокие внутренние конфликты. Его интеллектуальная проницательность вкупе с душевной слепотой привели к тому, что он прошел по жизни, оставив за спиной сломанные судьбы своих близких. {10}
Святые проходят свой путь в одиночестве, и мысль о том, что личные отношения играли важную роль в жизни Эйнштейна, не вписывается в сложившиеся представления о нем. Он держался как человек, для которого одиночество — это естественное состояние, и называл себя по-немецки Einspanner — экипаж, влекомый одной лошадью, одноколка. Очень часто цитируются слова ученого о том, что при всем его неистовом стремлении к социальной справедливости у него нет потребности в непосредственных контактах с людьми.
«Я никогда по-настоящему не принадлежал ни к какой общности, будь то страна, государство, круг моих друзей и даже моя семья. Я всегда воспринимал эти связи как нечто не вполне мое, как постороннее, и мое желание уйти в себя с возрастом все усиливается. В такой самоизоляции есть привкус горечи, но я не жалею о том, что лишен понимания и сочувствия со стороны других людей. Конечно, из-за этого я что-то теряю, но обретаю куда больше, а именно: независимость от общепринятых привычек, мнений и предрассудков. Я свободен от соблазна воздвигнуть здание своего душевного спокойствия на столь шатком фундаменте».
Бертран Рассел, подобно многим, кто знал Эйнштейна, вполне верил этим его словам и писал следующее: «Личные дела и отношения всегда были для него на периферии мысли, место им отводилось лишь на задворках и в дальних закоулках сознания». Более проницательный аналитик Ч. П. Сноу утверждал, что «никто не подавлял безжалостнее, чем он, запросы собственного «я». ... Но не следует романтизировать никого, даже Эйнштейна. Мне представляется, что эго, которое требует столь полного обуздания, должно быть чрезвычайно мощным».
Эйнштейн, по-видимому, был человеком крайне эмоциональным. Из его автобиографических заметок видно, как сильно он стремился подавить свои эмоции. Он так часто говорил о своей самодостаточности и эмоциональной непривязанности, что одно это заставляет усомниться в истинности его утверждений. {11} В личной жизни Эйнштейн был человеком больших страстей, и его усилия восторжествовать над ними не увенчались успехом.
По словам Эйнштейна, он посвятил себя науке, то есть всецело сосредоточился на познании объективного мира, дабы избежать зависимости от того, что он называл «чисто личным». В основе главной его работы лежит стремление создать картину реальности, где нет зыбкости и неопределенности, присущих всем человеческим отношениям. Обе его теории относительности представляют собой попытку создать внутренне непротиворечивое описание Вселенной, которое никак не зависит ни от изменения системы координат, ни от наблюдателя.
Зато в душе Эйнштейна все время шла невидимая миру война. Желание отрешиться от всего личного боролось с жаждой человеческой близости, идеализм — с холодным цинизмом, а скромность — с высокомерием. Мало кто отдавал себе отчет в этих противоречиях лучше, чем мать Ганса Альберта, Милева Марич, которая встретилась с Эйнштейном, когда они оба изучали физику в Швейцарии. Они состояли в браке с 1903 по 1916 год, то есть в период, который оказался самым важным для ученого во многих отношениях, и прежде всего в творческом. Однако многочисленные биографы Эйнштейна всегда оставляли Милеву в тени, и только в последние годы подлинная история их отношений все больше становится достоянием гласности.
На первых порах — это история влюбленного молодого человека, который восстает против своей семьи и среды и хочет добиться взаимности от женщины, обладающей исключительной энергией и интеллектом. Эйнштейн использует отношения с Милевой для того, чтобы вырваться из-под влияния своей матери — его психологическая зависимость от нее была очень велика и прослеживается на протяжении всей его жизни. У Эйнштейна с Милевой была незаконная дочь, от которой он отказался. Ее существование оставалось тайной до 1987 {12} года. Возможно, она до сих пор жива. Но самым неожиданным оказался тот обнаруженный современными исследователями факт, что Эйнштейн сильно опирался на помощь Милевы Марич в начале работы над теорией относительности. Свои ранние штудии он называл не иначе, как «наша работа», он воспринимал себя и Милеву как соратников в деле, которое стало научной революцией. Эйнштейн именовал Милеву «своей правой рукой», обсуждал с ней научные темы как с равной, как с умом не менее сильным и независимым, чем его собственный, как с человеком, без которого он не смог бы работать.
После крушения их брака Милева была душевно сломлена, на занятиях наукой она поставила крест. Она развелась с Эйнштейном в тот самый год, когда он снискал мировую славу, и не разделила ее с ним. Недавно ставшие доступными документы позволяют проследить, как постепенно распадался этот брак и как Эйнштейн обманывал Милеву, вступив в тайную связь со своей кузиной, которая впоследствии стала его второй женой. В период развода Милева болела, у нее был нервный срыв, от которого она так до конца и не оправилась, и то, как Эйнштейн вел себя в это время, оттолкнуло от него ближайших друзей. Однако именно Милеве Эйнштейн отдал деньги, полученные вместе с Нобелевской премией. Этим способом он рассчитывал обеспечить будущее двух своих сыновей.
Гансу Альберту, старшему из его сыновей, ко времени развода исполнилось пятнадцать лет. Он так и не преодолел обиду на отца, вызванную его разрывом с матерью, и это очень огорчало Эйнштейна. Раздоры между ними сильно осложнили впоследствии отношения между Гансом Альбертом и душеприказчиками его отца и осложняют отношения между потомками Эйнштейна и его исследователями по сей день. Но самым несчастным членом семьи оказался младший сын, Эдуард. Эмоциональные потрясения, пережитые им в юности (во время и после развода родителей), привели к тому, что у {13} него постепенно развилась душевная болезнь. Его учителя и друзья считали, что именно Эдуард унаследовал от отца искру гениальности. Но Эйнштейн всегда с опаской относился к талантам своего младшего сына и испытывал такой ужас перед душевными болезнями и современной медициной, что совершенно отвернулся от Эдуарда. Тот много лет не покидал психиатрической клиники, где отец его ни разу не посетил, и умер там, брошенный всеми. В последние годы стали также доступны материалы, касающиеся его второго брака. Кузина Эльза была для Эйнштейна скорее матерью, чем женой, она организовывала его повседневную жизнь и защищала от назойливого любопытства публики. Он же со временем все меньше считался с ее чувствами. Его склонность к флирту стала частью семейного фольклора, и внучка Эвелина отзывается о нем как о «дамском угоднике и настоящем повесе». Но при всей своей любви к дамскому обществу он порой выказывал такое презрение к интеллекту женщин и к самой женственности, что его впору было счесть женоненавистником.
Эйнштейн коснулся своих семейных трудностей за месяц до смерти, в 1955 году, в письме, где он выражал соболезнования по поводу кончины своего лучшего друга, Мишеля Бессо, его сестре и сыну. Читать это письмо тяжело. Эйнштейну уже семьдесят шесть лет, и он чувствует, что жить ему осталось недолго. Он очень ослабел, врачи предупредили его еще несколько лет назад, что у него аневризма брюшного отдела аорты, в любой момент может произойти ее разрыв... Бессо, пишет Эйнштейн, лишь ненамного опередил его в прощании с этим странным миром. Слова утешения, которые ученый передает родным своего друга — это слова физика о том, что «различие между прошлым, настоящим и будущим есть всего лишь иллюзия, хотя и очень трудно преодолимая, и что смерть не более реальна, чем та жизнь, которую она завершает». Завеса над личными проблемами Эйнштейна сильнее всего {14} приоткрывается в словах написанного им тогда же краткого некролога: «Как человеком я больше всего восхищаюсь им за то, что он прожил долгие годы не просто в мире и согласии, но в полной гармонии с женщиной. Он справился с тем, в чем меня дважды постигла позорная неудача».
Ганс Альберт умер 26 июля 1973 года, а ключи к разгадке многих семейный тайн, в том числе и тайны этих «позорных неудач», остались лежать у него дома в Беркли, штат Калифорния, на полке кухонного шкафа, в коробке из-под обуви. Там хранилась семейная переписка с конца прошлого века, включая любовные письма Эйнштейна к Милеве Марич и множество других писем, которые он посылал ей и сыновьям после развода. В них содержались настолько щекотливые сведения, что душеприказчики ученого, имевшие право контролировать все публикации о нем, решили обратиться в суд, дабы помешать Гансу Альберту и его жене обнародовать некоторые подробности. Разглашать столь интимные сведения не имел права даже сын Эйнштейна.
Только в 90-е годы началась публикация этих писем в составе эйнштейновских «Избранных статей и материалов», и теперь многие известные факты его биографии обрели новый смысл. Повторное прочтение прежних публикаций, привлечение обширного архивного материала, интервью с членами семьи, с исследователями жизни и творчества ученого — все это вместе взятое позволяет нам приблизиться к пониманию Эйнштейна как человека, того человека, которого знал Ганс Альберт и с чьим хаотичным душевным наследием ему было так нелегко совладать.
| {15} |
Когда Полину Эйнштейн спросили, в чем секрет того, что дома у нее все идет как по маслу, она с улыбкой ответила: «У меня дисциплина». Мать Эйнштейна, от которой ему, по-видимому, достались мясистый нос и непослушные волосы, была человеком сильным и властным. Ее серые глаза смотрели на мир с насмешкой, даже с издевкой, она была умным и язвительным капитаном своего семейного корабля. Из писем Эйнштейна можно понять, что она частенько его поддразнивала: свойственная ему склонность к сарказму возникла несомненно под ее влиянием. По воспоминаниям одного из приятелей, Эйнштейну случалось в ходе дружелюбной беседы внезапно задеть кого-нибудь такой меткой насмешкой, что тот просто не знал, сидеть ли с натянутой улыбкой или обидеться. Смех у него был заразительный, но порой прерывался достаточно обидными критическими замечаниями. В этом, как и во многом другом, Эйнштейн был достойным сыном своей матери.
Эйнштейн родился в 11.30 14 марта 1879 года в городе Ульме на юге Германии. Вид младенца доставил Полине немало беспокойства: голова была такая большая, а череп такой угловатый, что она даже подумала о врожденном уродстве. Ребенок настолько медленно учился говорить, что мать едва не сочла его умственно отсталым. Но по мере того как он рос, росла и гордость за него, и Полина строила все более честолюбивые планы относительно его будущего. Но она никогда не отличалась ни мягкостью, ни терпимостью, и детство Эйнштейна прошло под {16} знаком ее властной натуры. Детские его годы неоднократно описывались, но сейчас стали известны новые подробности, в частности то, как сильно Эйнштейн был привязан к родителям. Как бы горячо он это ни отрицал, семейные узы, создававшие чувство защищенности, имели для него огромное значение. Многие из тех, кто знал Эйнштейна, утверждали, что у него всю жизнь сохранялись детские черты: инфантильность, непосредственность и готовность задаваться вопросами о том, что другие воспринимали как данность.
Как-то Эйнштейна спросили, кто был главой его семьи — отец Герман или мать Полина. «Трудно сказать», — последовал ответ. Он также не пожелал отвечать на вопрос, кому из родителей, обязан своими выдающимися талантами. Его единственный талант — крайняя любознательность, так что вопрос неправомерен, заявил Эйнштейн. Когда его расспрашивали только об отце, он переставал отмалчиваться, и на вопрос о душевных качествах Германа отвечал так: благорасположенность, терпение, доброта, великодушие, обаяние. Когда тот же человек спросил, не случалось ли Герману быть строгим, с нажимом повторил: «Он был бесконечно дружелюбным, мягким и мудрым человеком». Эйнштейн говорил, что отец оказал на него сильное влияние в моральном, но не в интеллектуальном плане.
Едва ли Эйнштейну случалось публично восхвалять душевные качества своей матери, во всяком случае у нас таких примеров нет. Друг ученого, Януш Плещ, писал, что Альберт был больше привязан к отцу, чем к матери. В биографии Эйнштейна, написанной мужем его падчерицы, Рудольфом Кайзером, в главе о детстве будущего великого ученого, сказано: «Свой стиль поведения он старался заимствовать у отца». Но эту информацию следует воспринимать с учетом распределения ролей в семье: Герман имел право выбирать маршрут воскресных экскурсий, но по этому маршруту семья всегда шла туда, куда хотела Полина. {17}
Кайзер писал, что Полина, в отличие от Германа, не всегда оптимистично смотрела на мир. Она, безусловно, имела на то причины: мужа преследовали неудачи. Его пенсне и громадные устрашающие усы служили прикрытием, за которым пряталось лицо мягкого и пассивного человека. Его любили все, кто его знал (в особенности женщины, пишет Кайзер), но он был равнодушен к практической стороне жизни. К моменту рождения сына Герману исполнился тридцать один год. Он был партнером у своего кузена в фирме по производству перин. Это место вполне соответствовало его мягкому и покладистому характеру, но человек, столь склонный подчиняться, никогда не может быть удачливым предпринимателем. Есть сведения, что в ранней молодости Герман проявлял математические способности, но возможности учиться не имел: его отец, вынужденный обеспечивать большую семью, был стеснен в средствах. Майя, младшая сестра Эйнштейна, отзывалась об их отце как о человеке слишком мечтательном, чтобы принимать решения, и слишком добросердечном, чтобы противостоять чужой, более сильной воле. Его младший брат Якоб оказался человеком достаточно волевым, чтобы уговорить Германа войти в свой бизнес — он занимался производством и починкой электроприборов в Мюнхене. Семья переехала туда, когда Эйнштейну был всего год, и первое время дела у вновь образовавшейся фирмы шли хорошо; так что большую часть детства Альберт провел в весьма комфортабельных условиях. Семья жила на роскошной двухэтажной вилле с террасой для загара на крыше, а к окружавшему здание саду приложил руку специалист по садово-парковой архитектуре.
Хотя Якоб и обладал чутьем в области техники, он все же переоценил свои силы. Он начал строить завод для производства динамо-машин собственной конструкции, но конкуренты вытеснили братьев Эйнштейн с капиталоемкого рынка. Их имущество было продано, а фабрика в Мюнхене ликвидирована, {18} но Герман снова пошел на поводу у своего более энергичного брата. Якоб уговорил его перенести поле их деятельности в Северную Италию, чтобы осуществить свою очередную мечту — построить, а затем эксплуатировать гидроэлектростанцию в Павии. Через два года после семейных пертурбаций, завершившихся переездом через Альпы, и эта затея потерпела крах. Несмотря на свою столь превозносимую сыном мудрость, Герман Эйнштейн всю жизнь страдал от финансовых сложностей.
Якоб смирился со своим поражением и нанялся на инженерную должность в другую компанию, а Герман пустился в одиночное плавание и открыл новую фабрику электротоваров, на сей раз в Милане. Она не принесла ему ничего, кроме новых долгов и новых забот.
Полина была женщиной, привыкшей к успеху и достатку, она принесла ему немалое приданое и с трудом переносила неудачи мужа, из-за которых семья постепенно оказывалась во все более стесненных обстоятельствах. Ее родственники также потеряли значительные суммы, участвуя в несостоявшихся проектах Германа.
История семьи во многом объясняет характер Полины. Ее отец Юлиус Кох начинал булочником, но впоследствии сколотил себе немалое состояние, торгуя зерном вместе с братом. По словам Майи Эйнштейн, он был человеком сильным, практичным, проницательным и совершенно далеким от абстрактных материй. Он наслаждался своим богатством и даже пытался строить из себя мецената, но это настолько противоречило его прирожденной склонности торговаться, что в конце концов он предпочел покупать копии, а не подлинники. Кох возглавлял необычайно сплоченную семью. Он, его брат и их жены жили под одной крышей и вели совместное хозяйство, причем женщины по очереди готовили, сменяясь через неделю. Майя пишет, что такой необычный домашний уклад продержался не одно десятилетие без заметных трений, и ставит это {19} в заслугу Джет, своей бабке по материнской линии. Спокойная, методичная, с ясным умом Джет была, по словам Майи, «душой этого странного дома». Герман и Якоб тоже жили в одном доме после переезда в Мюнхен, а после смерти Джет с ними поселился и Юлиус Кох. Сплоченные семьи, которые держались в основном на волевых женщинах, — в таких традициях вырос Альберт Эйнштейн.
Подобно своей матери, Полина была лидером и задавала тон в доме. Майя пишет, что по сути она была женщиной любящей и заботливой, но оговорка «по сути» здесь весьма многозначительна. Майя рисует портрет женщины, ожесточившейся от житейских неудач (Полина «рано узнала, что такое суровая реальность») и скептически настроенной. По словам дочери, Полине было не свойственно открыто выражать свои чувства, и стремилась она, разумеется, не к тому, чтобы окружить сына материнским теплом и любовью, а к тому, чтобы выработать у него более сильную волю, чем у отца.
Майя вспоминает, с какой настойчивостью ее мать добивалась, чтобы Альберт привык рассчитывать только на свои силы. В возрасте трех-четырех лет Эйнштейна заставляли без сопровождения путешествовать по самым оживленным улицам Мюнхена. Ему один раз показывали дорогу куда-либо, а потом он должен был проходить перекрестки и развилки самостоятельно, не зная о том, что за ним постоянно втайне наблюдают взрослые. Когда ему исполнилось пять лет, родители наняли ему учительницу, которая приходила заниматься к ним домой. Очевидно, они рассчитывали, что через год Альберт пойдет сразу во второй класс. Майя вспоминает, с какой строгостью от него требовали, чтобы он сперва сделал уроки и только потом шел играть; никакие возражения с его стороны не принимались. Герман и Полина хотели воспитать сына одновременно независимым и послушным. Такая смесь качеств обещала быть взрывчатой.
Сам же Эйнштейн вспоминает, что был одиноким и мечтательным ребенком, который испытывал {20} трудности при контактах со сверстниками. Он либо избегал шумных игр, либо выступал арбитром в детских спорах. Майя проводит параллель между пристрастием своей матери к выполнению сложных и кропотливых вышивок и тем, как маленький Альберт в одиночестве охотно занимался вещами, требовавшими сосредоточенности и напряжения мысли. Он собирал самые сложные конструкции из кубиков и строил карточные домики высотой до четырнадцати этажей. Его сестра считает, что эта склонность к упорной работе в одиночестве превратилась в дальнейшем в то рвение, с которым он решал научные проблемы.
Когда маленькому Эйнштейну показали его новорожденную сестренку, он не был в восторге. Ему заранее объяснили, что теперь у него есть сестра и он сможет с ней играть. Он же решил, что это новая игрушка, и растерянно спросил: «Ну а колесики у нее где?». В дальнейшем Майе немало доставалось от брата. На Альберта, как и на его деда Юлиуса Коха, иногда накатывали такие припадки гнева, что лицо его становилось совершенно желтым, а кончик носа белел. Майя служила объектом, на котором он срывал злость. Однажды он швырнул в нее кегельным шаром, в другой раз едва не пробил ей голову детской лопаткой. «Это показывает, какой крепкий череп нужно иметь, чтобы быть сестрой мыслителя», — позже писала она. Утешением ей служило лишь то, что она была не единственной жертвой его взрывного характера. Однажды он ударил приходящую учительницу детским стульчиком, и та так перепугалась, что выбежала из комнаты и больше не возвращалась вовсе.
Эйнштейн был подвержен подобным приступам ярости, пока учился в младших классах, и, когда они на него накатывали, он, по-видимому, не мог совладать с собой. В обычном же состоянии он был неестественно спокоен, почти заторможен. Его нянька дразнила своего внешне невозмутимого питомца {21} Pater Langweil — скучный дядя. Эта кажущаяся апатичность заставляла родителей беспокоиться за его душевное здоровье. Разговаривать он начал поздно и, пока ему не исполнилось семь лет, имел привычку негромко и медленно повторять каждую произнесенную им фразу. Даже в девять лет он говорил недостаточно бегло. Причина была, по-видимому, не только в неумении, но и в нежелании общаться.
Если не считать вышеописанных приступов ярости, Эйнштейн держал свои чувства в узде едва ли не крепче, чем его мать. Единственным выходом для его эмоций было музицирование — занятие, которое Полина всячески одобряла. Герман не слишком интересовался музыкой, но Полина была одаренной пианисткой. Эйнштейн начал учиться играть на скрипке в пять лет, и у него сразу же обнаружились музыкальные способности. Как писал он сам, до двенадцатилетнего возраста его достижения были чисто ученического и технического свойства, но он упорно работал, а мать более чем охотно аккомпанировала ему на фортепьяно. В дальнейшем музыка стала для него душевной потребностью, а скрипка — необходимой спутницей жизни. В молодости он относился к скрипке как к собственному ребенку и шутил, что если во время отпуска будет брать ее в руки недостаточно часто, она решит, что он ей не отец, а отчим. Он называл инструмент «своим старым другом, которому я могу сказать и спеть то, в чем не признаюсь даже самому себе и что, замеченное в других, вызывает у меня в лучшем случае усмешку».
Через много лет Ганс Альберт напишет об отце: «Он часто говорил мне, что для него музыка — одна из самых важных в жизни вещей. Когда он чувствовал, что оказался в психологическом тупике или сталкивался со сложностями в работе, он находил прибежище и утешение в музыке, и все его проблемы решались». К числу его любимых композиторов принадлежали Моцарт, Шуберт и Бах, причем последнего Эйнштейн особенно ценил за то, что он {22} «великолепно умел выражать эмоции». Но Эйнштейн предпочитал, чтобы эмоции всегда оставались в рамках, обозначенных четкой структурой музыкального произведения, и не был склонен обсуждать, что именно трогает его в музыке. Он придерживался простого принципа: «Слушай, играй, люби, мечтай и держи язык за зубами».
В семилетнем возрасте Эйнштейна отправили в начальную муниципальную школу, заведение католического толка, причем он был единственным евреем в классе. В городе Ульме на юге Германии, где Эйнштейн родился, еврейская община вполне вписалась в тогдашнюю социальную структуру и была достаточно влиятельна, но в Мюнхене евреев было всего два процента. Родители Эйнштейна ортодоксальностью не отличались, и это усугубляло их изоляцию. Широко известна история о том, как один из его учителей принес в класс большой гвоздь и сказал учащимся, что именно такими гвоздями был прибит к кресту Иисус Христос. Впрочем, кажется, он не обвинял евреев в том, что они распяли Христа. В черновике письма, датируемого 1920 годом, Эйнштейн пишет, что школа была достаточно либеральной и как еврей он не подвергался никакой дискриминации со стороны учителей. Антисемитизм проявляли не они, а его одноклассники. Мальчишки часто приставали к нему и дразнили его по дороге в школу. И хотя, по его словам, «их выходки были не слишком злобными», они усиливали его чувство отчужденности. Потом он скажет, что до конца осознал свою принадлежность к евреям только после первой мировой войны, когда его вовлекли в сионистское движение.
Но его сионистские убеждения возникли не на пустом месте. Эйнштейн с ранних лет прекрасно знал, судьбу какого народа он разделяет. Когда в 1901 году еще молодым человеком он думал о преподавательской работе, то писал, что, по его убеждению, антисемитизм, распространенный в немецкоязычных странах, окажется для него одним из {23} основных препятствий. В баварских начальных школах обучение основам католицизма было обязательным, а основы иудаизма Альберту преподавал дома один из родственников. Благодаря этим занятиям наружу вырвались прежде скрытые чувства мальчика. По словам близких, равнодушие отца к вопросам веры начало раздражать Эйнштейна, а сам он проникся религиозным энтузиазмом. Единственный из семьи, он отказывался есть свинину, а в одиннадцать лет преисполнился такой горячей веры, что стал слагать гимны Господу и петь их на улице. Он отождествлял Бога с природой, и Майя в этой связи писала, что религиозное обучение пробудило в Эйнштейне пыл, но не смогло загнать его в рамки догмы. Он позднее описывал эту фазу своего развития как период «глубочайшей религиозности», намекая на то, что в нем присутствовал также элемент детского самоутверждения и позерства. Искренность чувств еще не нашла адекватного способа выражения.
Эйнштейн всегда был склонен в реальной жизни играть роли, позволяющие ему спроецировать вовне свои внутренние конфликты, но роль, которую он избрал для себя в столь раннем возрасте, особенно интересна. В своих весьма скупых автобиографических заметках он пишет: «Вполне ясно, что этот религиозный рай моей юности... был первой попыткой избавиться от уз «слишком человеческого», от существования, которое всецело подчинено надеждам, страхам и примитивным инстинктам». Эти слова принадлежат шестидесятилетнему Эйнштейну и подразумевают, что ему удалось полностью сбросить с себя упомянутые узы.
Он не задавался вопросом, достижима ли вообще такая цель. В его словах нет и тени сомнения в том, что человек может жить, освободившись от эмоций и желаний. Не задался он и вопросом о том, почему подобная цель могла возникнуть у человека в столь нежном возрасте. По-видимому, воспитание не позволяло мальчику Эйнштейну ни понимать чужие эмоции, ни свободно выражать свои иначе, как {24} посредством музыки. Их сублимация в религиозный пыл была для него громадным облегчением, но отнюдь не способом освободиться от них, как он полагал позднее. Радость, порожденная религиозным чувством, исходила не от посрамления и ниспровержения его примитивных эмоций, но от возможности излить их. Вера не сделала его независимым и от человеческих отношений. Так истово отдаваясь религиозным порывам в кругу неверующих членов семьи, он достаточно резко заявлял о своей индивидуальности. Это не был уход во внеличностное — это было обретение своей личной ниши.
Многократно упоминаемая туповатость, которой Эйнштейн якобы отличался в школьные годы, — это самая соблазнительная часть легенды о нем, ибо она позволяет всем нам на что-то надеяться. В начальной школе одноклассники дразнили его Biedermeier — честный простак — из-за его простодушной, прямолинейной и безыскусной манеры держаться. Его сестра вспоминает, что он считался всего лишь «умеренно способным», так как очень медленно усваивал и переваривал новую информацию. Она пишет: «Его математических талантов в то время еще не замечали; он не блистал даже по арифметике, то есть мог ошибиться в вычислениях и делал их не слишком быстро, хотя обладал логическими способностями и упорством». Однако Эйнштейн в детстве отставал от сверстников отнюдь не так долго, как принято думать. Уже в семь лет он начинает подавать надежды. В августе 1886 года Полина пишет своей матери, бабушке Эйнштейна, что он снова получил лучший в классе аттестат. Высказывание Полины о том, что ее маленький Альберт будет знаменитым профессором, стало неотъемлемой частью семейного предания.
Годы своего обучения в Луитпольд-гимназиум, куда его отдачи в возрасте девяти с половиной лет, Эйнштейн вспоминал с горечью. Он был одним из 1330 учеников в заведении, чьи методы обучения он {25} впоследствии назовет авторитарными и сводившимися в основном к механической зубрежке. «Я был готов стерпеть любое наказание, лишь бы не учить на память бессвязный вздор», — вспоминал он позже. Но в своих автобиографических набросках Эйнштейн замечает, что мы всегда оцениваем прошлое с наших теперешних позиций, то есть по неправильным критериям. Луитпольд-гимназиум была для своего времени прогрессивной школой, он учился в ней успешно, получал хорошие оценки, всегда был отличником по математике, имел высокие баллы по латыни и чуть более низкие — по греческому. На самом деле его слабым местом была только физкультура, от спортивных занятий он уставал и у него кружилась голова. Но он действительно не вписывался в свое гимназическое окружение и переносил школьную дисциплину куда хуже, чем домашнюю. Его учитель греческого вошел в историю благодаря своим словам о том, что из Эйнштейна никогда ничего не получится. «И действительно, — иронизирует Майя, — Эйнштейн так и не стал специалистом по греческой грамматике».
Своим образованием в этот период он обязан не столько учителям, в частности преподавателю математики Иосифу Цаметцеру, сколько тому, что происходило вне стен гимназии. Хотя в дальнейшем Эйнштейн будет отрицать, что кто-либо из членов его семьи обладал настоящими научными знаниями, но все же его окружали люди, работавшие в области дальней связи и электротехнологий. Тогда это были самые прогрессивные отрасли, такие, как сейчас производство компьютеров или лазеров. Дядя Якоб, брат и компаньон его отца, получил высшее образование в Штутгартском политехническом институте. Именно он обучал Эйнштейна алгебре и геометрии, причем подавал последнюю как веселую игру: шла охота за зверем X, чьей породы мы не знаем. Те, кто изучают наследие Эйнштейна, сейчас особенно подчеркивают роль научно-популярных книг: ими снабжал мальчика, в частности, {26} Макс Талмей, бедный еврей, студент-медик, которого опекали родители Эйнштейна. На протяжении пяти лет, начиная с десятилетнего возраста, Альберт участвовал в интеллектуальных дискуссиях, которые ради него затевал Талмей, когда раз в неделю приходил к ним в дом обедать. Майя вспоминает, как по его рекомендации брат прорабатывал серию популярных книг о науке, написанную Аароном Бернштейном. Сам Эйнштейн вспоминал, что читал их «не отрываясь и затаив дыхание». По словам Кайзера, «это были ярко иллюстрированные, прекрасные пособия по различным отраслям науки, вполне доступные пониманию ребенка. Для Альберта эти книги стали настоящим откровением. Он глотал их с такой жадностью, с какой мальчики глотают обычно книжки об индейцах».
Эйнштейноведы обнаружили в этих книгах поразительные параллели с рядом ключевых идей самого Эйнштейна. Как отмечают Юрген Ренн и Роберт Шульман, «Бернштейн рассматривает корпускулярную теорию света, которую в дальнейшем воскресит Эйнштейн,... и даже упоминает возможность отклонения лучей света в гравитационном поле, а этому факту предстоит стать одним из основных доказательств справедливости общей теории относительности». В науке Эйнштейн никогда не занимался выписыванием отдельных деталей ради самих деталей. Он работал над крупным полотном в целом. Книги Бернштейна ввели его в курс последних достижений научной мысли, не перегружая сознание мелочами. Он ценил эти книги, в частности, за то, что в них делался упор на способы, какими невидимые силы создали единство мира. Ренн выделяет у Бернштейна еще одну существенную для Эйнштейна идею о том, что мир может быть объяснен исходя из поведения атомов — именно эта идея легла в основу революционных работ молодого ученого, написанных в 1905 году.
По словам Эйнштейна, чтение научно-популярных книг положило конец его религиозной экзальтации. {27} В возрасте двенадцати лет он пришел к выводу, что библейские сказания не могут быть правдивыми, и ударился в другую крайность, то есть стал подвергать сомнению все и вся. Он пережил период фанатичного свободомыслия и негодования по поводу того, что его кормили лживыми сказками. Позднее он предположил, что именно в этот период возникли его недоверие к авторитетам и скептицизм по отношению к установившемуся общественному порядку — чувства, с которыми он не расставался всю жизнь. Его благоговейное восхищение обратилось на неодушевленный мир. В своих автобиографических заметках он пишет об этом так:
«Снаружи был огромный мир, независимый от нас, человеческих существ, и предстоящий нам как великая вечная загадка, мир, лишь частично доступный нашему наблюдению и пониманию. Созерцание этого мира было притягательным, как освобождение, и я вскоре отметил, что многие люди, которым я привык воздавать дань любви и восхищения, именно обратившись к постижению его законов, обрели внутреннюю свободу и защищенность».
То есть, по словам Эйнштейна, для него открылась возможность бегства в «мир сверхличного», откуда он будет черпать вдохновение на протяжении всей жизни. Мальчиком он не познал в отношениях между людьми ни свободы, ни защищенности, его попытка найти их в религии тоже потерпела крах. Теперь он пытался обрести их в науке. Но обращает на себя внимание тот факт, насколько сильно Эйнштейн симпатизирует людям, разделяющим, как ему кажется, его духовные стремления. «Люди со сходными духовными побуждениями, будь то современники или нет, представлялись мне друзьями, которых никак нельзя терять».
В дальнейшем Эйнштейн будет часто прибегать к религиозным терминам, чтобы выразить свое благоговейное восхищение миром природы. Его образ «современного святого» сложился во многом потому, {28} что он придавал своей научной деятельности обличье религиозной миссии. Его знаменитые слова о том, почему он отвергает квантовую механику, звучат так: «Господь не играет в кости». Почти столь же широко известно его высказывание о том, что в физике не существует абсолютно недоступных человеческому разуму вещей: «Господь Бог хитроумен, но не злонамерен». По словам Эйнштейна, его целью было «выяснить, каким Бог создал мир», и однажды он написал, что ученые с такими же, как у него, установками являются «единственными глубоко религиозными людьми».
То, что Эйнштейн называл своим «религиозным опытом постижения космической гармонии», то есть его преклонение перед красотой физики, стало мировоззренческой основой для целого поколения ученых. Так, британский космолог Стивен Хокинг использовал даже поразительно похожие термины. Он говорил, что пытается проникнуть в «замысел Господа».
Но Эйнштейн использует термины не всегда корректно. Как писал один из его биографов, он обходится со словом «Бог» так, что на ум приходит Красная Королева Льюиса Кэрролла. На самом деле, высказывание «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше» принадлежат вовсе не Красной Королеве, а Шалтаю-Болтаю.
Почти по всем ключевым вопросам взгляды Эйнштейна были атеистическими. Он не верил ни в персонифицированного Творца, ни в загробную жизнь и считал мораль чисто человеческим установлением. Он искренне боготворил гармонию космоса, но ее отождествление с ликом Божьим представляется в лучшем случае безотчетным лицемерием с его стороны, попыткой спасти положение, оставив для Бога хоть какое-то место в картине мира. С последним утверждением согласуется и его ответ на вопрос, какова была бы его реакция, если бы теория относительности оказалась неверной. Он сказал, что «посочувствовал бы промашке нашего дражайшего Господа Бога». Возможно, Эйнштейн {29} интуитивно ощущал, что только религиозная терминология не дает ему всецело попасть под власть земного, бездуховного, чисто житейского. По сути дела, он так до конца и не расстался с «религиозностью» своих юных лет.
Одна из самых известных историй об Эйнштейне гласит, что благоговение перед тайными силами природы впервые охватило его то ли в четырехлетнем, то ли в пятилетнем возрасте. Он болел, лежал в постели, отец подарил ему компас, и мальчика совершенно потрясло, что незримая сила все время заставляет стрелку указывать на север. Однако, вспоминая этот эпизод, Эйнштейн обыкновенно выказывал беспокойство, было ли его «глубокое и неизгладимое впечатление» действительно таким сильным, или это обман памяти, закрепившийся в сознании из-за того, что он многократно о нем рассказывал. По-видимому, столь же ошеломляюще подействовал на двенадцатилетнего Эйнштейна Евклид, чьи «Начала» он, вновь поддавшись порыву религиозного чувства, назвал «священной книгой по геометрии». Этот стандартный математический текст, от которого шарахалось не одно поколение школьников, поразил его тем, что продемонстрировал силу чистой мысли. Эйнштейн писал, что возможность доказывать казалось бы беспочвенные утверждения с такой «ясностью и убедительностью» произвела на него потрясающее впечатление. В следующие четыре года он изучил и другие отрасли математики, включая дифференциальное исчисление.
В 1894 году, когда семья Эйнштейнов совершила переезд через Альпы, который так и не принес ей удачи, пятнадцатилетний Альберт остался в Мюнхене на снятой квартире. Было решено, что ему лучше не прерывать образования. Родительское честолюбие Германа и Полины, по-видимому, перевесило их желание быть рядом с сыном, но этот выбор дался им нелегко, а у Альберта вызвал сильнейший эмоциональный кризис. Весной следующего года, не {30} посоветовавшись с родителями, он внезапно бросает школу за полтора года до выпускных экзаменов и переезжает Альпы, чтобы соединиться со своей семьей. Его отчислению способствовала справка о том, что он страдает нервным расстройством. По словам Кайзера, это была «необходимая ложь», хитроумная уловка, осуществленная благодаря помощи доброжелательного доктора. Эйнштейну, как утверждает Кайзер, просто нужен был предлог, чтобы увидеть, наконец, красоты Италии, которую дети дяди Якоба описывали ему как рай земной.
Но не менее правдоподобным кажется утверждение, что молодой Эйнштейн действительно страдал от душевного разлада. Его сестра, вспоминая об этом периоде, нигде не намекает на какие-либо уловки с его стороны, напротив, пишет, что Эйнштейн был нервозен и подавлен. Она считает, что лаконизм его писем из Мюнхена должен был подсказать Герману и Полине, что сын чувствует себя несчастным. На то у него были причины: и недовольство школой, и страх перед призывом на военную службу. Кроме того, преподаватель греческого языка, оказывается, сказал Альберту, что его непочтительность подрывает устои школы и будет лучше, если он покинет ее стены. Но большинство источников не принимает в расчет самую простую и очевидную вещь — он скучал по родителям.
Разумеется, у Эйнштейна всегда вызывала раздражение интеллектуальная ограниченность его семьи, и в письмах к Милеве постоянно присутствуют жалобы на то, какой неинтересной и оглупляющей представляется ему жизнь его домашних. Это отражено и в биографии Кайзера, где описывается «атмосфера обывательского достатка», в которой рос будущий великий ученый. Слово «обывательский» (филистинский) стало для него кодовым названием всего, что не нравилось ему в домашних, и Кайзер повествует о мальчике, который живет в чуждом ему мире и слушает разговоры, предельно далекие от его интересов и чаяний. Тем не менее дом имел для {31} него огромное значение. Вне его стен у Эйнштейна не было никакой реальной жизни, и, как он сам вспоминает, в школе у него был только один приятель. При всех своих минусах родительский дом обеспечивал Эйнштейну материальные удобства и Gemhtlichkeit — традиционный южногерманский уют.
Воспоминания Майи не оставляют сомнений в том, какой травмой оказался для Эйнштейна переезд его семьи в Италию. Прелестная вилла, где ее брат провел «счастливые детские годы», была продана, покупатель «сразу же вырубил величественные старые деревья вокруг нее и превратил наш бывший сад в строительную площадку, на которой начал возводить ряд уродливых доходных домов. И до самого переезда дети были вынуждены смотреть из окна на то, как гибнет место, с которым связаны их драгоценнейшие воспоминания». Неудивительно, что после подобных событий Эйнштейну не хотелось оставаться в Мюнхене.
Герман и Полина были встревожены тем, что сын так внезапно бросил гимназию, и к тому же намерен отказаться от немецкого гражданства. Это освобождало его от обязательной службы в армии, куда его должны были призвать по достижении семнадцати лет. Эйнштейн всю жизнь не терпел милитаризма. Армейская дисциплина и единообразие, которые не дают солдату никаких возможностей поступать по-своему, с детства вызывали у него отвращение. Малыш Альберт, как пишет биограф, однажды увидел военный парад на улице и заплакал от отвращения и страха. Но едва ли этим исчерпываются причины отказа от немецкого гражданства. В 1901 году Эйнштейн достаточно послушно предстанет перед призывной комиссией в Швейцарии, где его признают негодным из-за варикозного расширения вен и плоскостопия. В его отречении от страны, где он родился, кроется нечто большее, чем нежелание быть солдатом. Скорее всего, это бунт против «обывательского порядка» и бездумного соблюдения {32} формальностей, которые ассоциировались у него с Германией. Возможно также, что это был выпад против его семьи, в укладе которой он находил те же неприятные черты, что и в общественной жизни Германии, а также попытка утвердить свою независимость от домашних после того, как он последовал за ними в Италию. Но едва ли он отдавал себе отчет в том, сколь много немецких черт было в его собственном характере: и железная самодисциплина, и нетерпимость по отношению к тем, кого он считал слабее себя.
Эйнштейн постарался успокоить родителей, обещая им, что попытается поступить в Швейцарскую федеральную политехническую школу в Цюрихе, один из лучших и по сей день технических образовательных центров в Европе. Уступая их желаниям, он поставил себе задачу получить специальность инженера-электрика или техника. Его влекло в более теоретические сферы, но отец сказал ему, чтобы он выкинул из головы весь этот «философский вздор» и подумал о том, как получить толковую профессию. Эйнштейн неохотно согласился, у него остались тяжелые воспоминания об этих разногласиях с отцом. Ирония судьбы состоит в том, что много лет спустя, когда у них с Гансом Альбертом возникла аналогичная ситуация, Эйнштейн, если не считать того, что он хотел видеть своего сына теоретиком, вел себя в точности, как Герман.
Полина Эйнштейн нажала на все имевшиеся у нее рычаги, чтобы помочь сыну, и, в частности, попросила о содействии друга семьи, Густава Май-ера, который пользовался влиянием в Цюрихе. Май-ер уговорил директора Политехникума, Альбина Герцога, разрешить Эйнштейну сдать вступительный экзамен, хотя ему не хватало двух лет до положенных восемнадцати и не было аттестата зрелости. Насколько восторженно Майер отзывался о юноше, можно судить по осторожным ответам директора и его суховатым репликам насчет «так называемых {33} вундеркиндов». Если бы Эйнштейн сдал вступительные экзамены, жизнь его пошла бы по указанной родителями колее. Но он срезался. Если верить его собственным воспоминаниям, специальность, которую избрали для него родители, до такой степени ему не нравилась, что он практически не готовился по тем предметам, которые его не интересовали. Соответственно их он сдал едва ли не хуже всех абитуриентов, однако блеснул по математике и точным наукам. На профессора физики Генриха Вебера он произвел такое впечатление, что тот пригласил его посещать свои лекции в качестве вольнослушателя. Однако Герцог посоветовал ему вернуться в среднюю школу, сдать экзамены на аттестат зрелости и поступить в Политехникум на следующий год.
26 октября 1895 года Эйнштейн поступил в старший класс технического отделения в кантональной школе городка Аарау, в тридцати километрах от Цюриха. Он снова оказался вдали от родителей, но на сей раз нашлись люди, которые ему их во многом заменили и сильно повлияли на его дальнейшую жизнь.
Профессор Йост Винтелер преподавал греческий и историю на классическом отделении. Винтелеры имели обыкновение брать учащихся на полный пансион, и было решено, что Альберт будет жить в их доме. Эйнштейн провел под их гостеприимным кровом весь год, и они стали для него вторыми родителями. Его сестра Майя позже вышла замуж за их сына Пауля, а лучший друг Альберта Мишель Бессо женился на их дочери Анне. Но самое главное, их дочь Мари стала первой любовью Эйнштейна.
Обучение в Аарау — самый счастливый период в жизни Эйнштейна, он описывает городок как «незабываемый оазис в том оазисе, каким Швейцария является для Европы». Профессор Винтелер, подобно отцу Эйнштейна, оказался очень добрым, легким и простым в общении человеком. Однако интеллектуальные различия между этими двумя {34} дорогими ему людьми были велики. Герман получил всего лишь среднее техническое образование, в то время как Винтелер, сын учителя, — систематическую и обширную подготовку в университетах Цюриха и Йены. Он был далек от естественных наук (изучал историю, немецкий и филологию), но его высокий интеллектуальный уровень безусловно мог дать Альберту новые стимулы к развитию. Он председательствовал за столом, вокруг которого регулярно собиралась вся семья, чтобы обсудить последние новости. Герман Эйнштейн несомненно относился к «герру профессору» со священным трепетом и надеялся, что эти «вдохновляющие дискуссии» очень помогут расширить кругозор его сына. Герман был равнодушен к политике, а Винтелер занимал четкую либеральную позицию, что вполне гармонировало со взглядами, формировавшимися у молодого Эйнштейна. В частности, он разделял настороженное отношение юноши Альберта к Германии с ее растущим милитаризмом. Винтелер был человеком необычайно честным и цельным и в свое время ушел с директорского поста в одной из школ из-за несогласия с жесткостью проводимой там католической линии. Возможно, он побуждал учеников мыслить шире, чем умел сам. Позднее Эйнштейн напишет Милеве, что «несмотря на все свои красивые слова, Винтелер оставался старым сельским учителем». Он давал понять, что считает его упрямым и самодовольным, но эти недостатки он в тот или иной период приписывал каждому из своих знакомых. В основе же отношения Эйнштейна к «папе Винтелеру» лежало глубочайшее уважение к его уму и порядочности, и таким оно оставалось всю жизнь.
Жена профессора была человеком куда более теплым, чем мать Альберта. Полина Эйнштейн была замкнутой и скептичной, Полина Винтелер — терпимой и открытой. Мать семерых детей, она с радостью приняла юношу в свой шумный выводок. Он в ответ называл ее Мамерл, мамулей, и у него сохранились до боли счастливые воспоминания о тех днях. {35} После отъезда он посылал ей письма, полные самых теплых чувств и кончавшиеся обычно «тысячью добрых пожеланий и поцелуев». Трудно представить себе, чтобы Эйнштейн написал своей матери, что пьеса в театре довела его до «мучительно-блаженных слез». Но именно это он писал Полине Винтелер. Трудно поверить, чтобы он мог написать матери: «Я веду образ жизни такой обывательский, что по мне можно проверять часы, разве что с утра они будут несколько отставать». Полина Винтелер могла оценить шутку, понять, что он разумеет под словом «обывательский», и при этом не обидеться. Она в ответ посылала ему полные любви письма, вкладывая в конверты стихи и ландыши.
Похоже, что общение с Винтелерами помогало раскрыться тем душевным качествам Эйнштейна, о которых мало что знали его одноклассники, по-прежнему считавшие его нелюдимом. Один из его друзей, Ганс Биланд, оставил для нас достаточно пугающий портрет «неисправимого насмешника», самоуверенного юнца с густой гривой черных волос, который двигался «в стремительном, даже безумном темпе, характерном для людей с неугомонным духом и богатым внутренним миром». Биланд рисует образ самоуверенного и четко мыслящего человека, который высказывал свои мнения «независимо от того, окажутся они обидными или нет», и чья язвительная насмешка «как бичом охлестывала любое самомнение и позерство». Саркастическая усмешка, постоянно кривившая его губы, «не вызывала у обывателей желания сойтись с ним поближе», и он не терпел никаких проявлений сентиментальности. Но однажды Биланд увидел совсем другого Эйнштейна — тот играл Моцарта на скрипке в школьной столовой. Проникновенность и изящество исполнения никак не вязались с образом того задиристого интеллектуала-полемиста, каким Альберт выглядел в классе. Биланд сделал правильный вывод: «Он был человеком двойственным, одним из тех, чьи колючие манеры служат прикрытием для ранимой души с ее напряженной эмоциональной жизнью». {36}
Биланд замечает, как удачно распорядилась судьба, поместив юношу подобного склада в семью со «столь романтическими склонностями». Среди своих сухих и невозмутимых соседей-швейцарцев Винтелеры выделялись открытостью и душевной теплотой. Впрочем, и эксцентричностью тоже. Про Йоста Винтелера — а он был страстный орнитолог — поговаривали, например, что он любит беседовать с птицами.
Однако, как стало ясно уже после отъезда Эйнштейна, эмоциональность и эксцентричность Винтелеров граничила с психической нестабильностью, которой страдали некоторые члены семьи. Их сын Юлиус, судовой повар, вернувшись из Америки, впал в буйное помешательство, в ноябре 1906 года застрелил свою мать и мужа своей сестры Розы, а затем покончил с собой. Эти события нанесли неизгладимую травму остальным членам семьи, и Мари, возлюбленная Эйнштейна, провела последние годы жизни под присмотром психиатров. По некоторым данным, профессор Винтелер обвинял свою жену в том, что это по ее линии безумие пришло в семью; точно так же Эйнштейн в дальнейшем будет обвинять Милеву Марич в душевной болезни их сына Эдуарда. В письме, где Эйнштейн выражал соболезнования семье Винтелеров в связи с этими тремя смертями, он тактично возложил вину на «слепую судьбу».
Мари, самая хорошенькая из дочерей профессора Винтелера, была на два года старше Альберта. Их имена связывает сама Полина Эйнштейн в письме, отправленном примерно через два месяца после его отъезда в Аарау. Поздравляя с новым годом всю семью Винтелеров, она выражает радость по поводу того, что ее сына окружили «такой сердечной заботой», и обращается к «дорогой Мари». Полина пишет, что получила поздравление, на котором стоят подписи Мари и ее сына, что оно доставило ей «огромную радость», и обещает вскоре ответить. Четырьмя месяцами позже, вернувшись на каникулах {37} к родителям в Италию, Эйнштейн пишет Мари со всей пылкостью влюбленного семнадцатилетнего юноши:
«Большое, громадное спасибо за твое очаровательное письмо, оно меня бесконечно обрадовало. Какое блаженство прижать к сердцу листок бумаги, на который с нежностью смотрели эти дорогие мне глаза, по которому грациозно скользили твои прелестные ручки. Мой маленький ангел, сейчас впервые в жизни я в полной мере почувствовал, что значит тосковать но дому и томиться в одиночестве. Но радость любви сильнее, чем боль разлуки. Только теперь я понимаю, насколько ты, мое солнышко, стала необходима мне для счастья... Ты значишь для моей души больше, чем прежде значил весь мир».
В любовных излияниях Эйнштейн всегда тяготел к слащавости, и это письмо — единственное из сохранившихся писем к Мари — по тону перекликается с его будущими письмами к Милеве. Чувства Эйнштейна становились особенно пылкими, когда их объекты находились на безопасном расстоянии. Похоже, именно тогда он мог представлять их себе такими, какими хотел видеть.
Тоску по Мари и по Аарау Эйнштейн едва ли мог отделить друг от друга. Город являл собой идеальные подмостки, на которых разыгрывалась пьеса о юношеской влюбленности. Его старинный центр, лабиринт из узких извилистых улиц, террасами поднимается от берега реки Аар по склонам величественной горы юрского периода. Аарау называют городом красивых фронтонов, его живописные здания, часто с эркерами, убраны богатым декором: коваными эмблемами и гербами, фресками и пр. По воскресеньям Эйнштейн и Мари вместе со всем семейством совершали длительные прогулки за городом, по идиллической сельской местности.
Рудольф Кайзер впоследствии напишет, что Эйнштейн был «очарован» Мари Винтелер, чья беззаботность помогала ему развеяться после напряженной {38} умственной работы. Ее старшая сестра Анна вспоминает, что их «симпатичный жилец» проводил большую часть времени в усердных трудах и редко выходил развлечься. Несмотря на это, с ним никогда не бывало скучно, и он любил посмеяться. Когда он, усталый и задумчивый, сидел над книгами, а Мари пыталась отвлечь его от занятий, он охотно шел ей навстречу. Их сближала общая любовь к музыке. По словам одного знатока, слышавшего примерно в это время, как Эйнштейн исполнял сонату Бетховена, его поразила и блестящая техника юноши, и «глубина понимания». Мари, подобно Полине Эйнштейн, была пианисткой и часто аккомпанировала Альберту.
В новом доме семьи Эйнштейн, в Павии, было очень скучно. В апрельском письме Эйнштейн ругательски ругает город и задается вопросом, какая математическая формула могла бы выразить его сущность. По его мнению, в нее должно входить число шестов, проглоченных чопорными горожанами, плюс сила, с которой давят на душу его мрачные улицы и стены. Эйнштейн ощущал здесь ту же косность, которую он так ненавидел в Германии. Одно дело музицировать с Мари в Аарау и совсем другое — выступать в Павии перед «расфуфыренными дамами», которых интересует только техничность и головоломный темп исполнения.
Полина была далеко от Аарау, но не оставалась пассивной фигурой в отношениях Мари и Эйнштейна. Он говорит Мари, что Полина прониклась к ней симпатией, хотя ни разу ее не видела. Он даже признается, что дал прочесть матери два ее письма. Полина дразнила его за непостоянство, посмеивалась над тем, как быстро он перерос свои прежние увлечения. Эйнштейн повествует обо всем этом в письме к Мари из Павии, ниже следует приписка Полины, тон которой подсказывает, что она вполне одобряет их отношения: «Письма не читала, но посылаю вам самые сердечные приветы». {39}
Позднее Мари напишет о своем романе с Эйнштейном: «Мы горячо любили друг друга, но это была совершенно идеальная любовь». Он писал, что счастлив прижать к сердцу письмо Мари, она отвечала, что мечтает погладить его усталую голову. Она вспоминает, что он был «хорош собой, как на картинке», но ее несомненно подавляла все крепнущая интеллектуальная мощь «милой кудрявой головы» ее «самого-самого любимого великого философа». Мари явно напрашивалась на возражения, когда называла себя его «глупенькой, маленькой возлюбленной, которая ничего не знает и не понимает». Он обещает поцеловать ее в наказание.
Эйнштейн не стремился обрести в Мари интеллектуального союзника. Напротив, он охотно купался в лучах ее восхищения, ее приподнятое настроение воодушевляло его. «Ты спрашиваешь, буду ли я терпелив? А есть ли у меня выбор, когда речь идет о моей любимой, о моем проказливом маленьком ангеле? Тем более, что маленькие ангелы всегда слабы, а ты была, есть и должна оставаться моим маленьким ангелом». Эйнштейн обращался с Мари так, как будто она была не старше, а младше него на несколько лет. Он называл ее «мое любимое дитя».
Уверенность Эйнштейна в собственных интеллектуальных возможностях все возрастала, и отчасти ее можно приписать достоинствам школы в Аарау. В середине девятнадцатого века кантон Аарау назывался «государством культуры в государстве Швейцария», его система образования славилась как одна из самых передовых. В 1895 году, когда Альберт приехал учиться в Аарау, в школе было два отделения: гимназическое, или классическое, где пятьдесят шесть учеников зубрили обязательную латынь, и технико-коммерческое, на которое и поступил Эйнштейн. Здесь уважали индивидуальность учащихся и поощряли их попытки мыслить самостоятельно. В год поступления Эйнштейна к школьным зданиям прибавилось еще одно — физическая лаборатория, оборудованию которой позавидовал бы любой {40} университет. Годом раньше Альберт Эйнштейн написал свою первую научную статью, а в Аарау начал активно читать литературу по теоретической физике. Он вспоминал, что в шестнадцать лет задумался, как можно и можно ли вообще догнать движущийся по небу луч света. Это был один из ключевых моментов в его биографии — первый детский «мысленный эксперимент», затрагивающий загадки относительности.
Летом 1896 года Эйнштейн в компании одноклассников отправился в туристический поход в горы на северо-востоке Швейцарии. Он послал Мари из Тоггенбургской долины письмо, где говорит, что, хотя их пути расходятся, он хотел бы, чтобы их отношения продолжались. В конце сентября он сдает экзамены, открывающие ему дорогу к высшему образованию. В своей экзаменационной работе по французскому, озаглавленной «Мои планы на будущее», он пишет, что хочет стать преподавателем математики и физики, причем в обеих науках тяготеет к чистой теории. В октябре он покидает Аарау и поступает в Политехникум в Цюрихе. Мари в ноябре устраивается на временную преподавательскую работу в школе в Олсберге. деревне на северо-западе Аарау. Она по-прежнему влюблена до безумия, ей кажется, что один из ее первоклассников, которых в целом она описывает как скопище дурачков, похож на ее любимого Эйнштейна. Стоит ей взглянуть на ребенка, которого вдобавок зовут Альбертом, как в ее памяти встает образ возлюбленного.
Оба письма, которые Мари послала Эйнштейну из Олсберга, вызывают жалость к ней. Она с нетерпением ждет их предполагаемой встречи: «Как я признательна тебе, Альберт, за твое желание приехать в Аарау; мне незачем говорить, что я считаю минуты до твоего приезда. Завтра четверг, потом пятница, потом, наконец, суббота и приедешь ты со скрипкой, которую зовешь своим милым ребенком, а с другого конца страны явится другой (по-прежнему милый тебе?) ребенок». Несколькими {41} строчками ниже Мари возвращается к действительности: «Любовь моя, я не совсем поняла один отрывок из твоего письма. Ты говоришь в нем, что больше не хочешь со мной переписываться, но почему, радость моя? В письме из Тоггенбурга ты говорил, что, когда я окажусь в Олсберге, нам нужно будет написать друг другу.... Ты ужасно выбранил меня за то, что я не объяснила, почему и как приехала сюда. Но, злюка мой любимый, ты разве не знаешь, что существует много других тем для разговора, куда более приятных и разумных, чем эта ерунда...».
Письмо Мари дает основания предположить, в чем обвинял ее Эйнштейн. Она якобы уехала затем, чтобы положить конец их отношениям. Изрядное лицемерие с его стороны, особенно учитывая то обстоятельство, что сам он отправился в Цюрих. Но, как пишет дальше Мари, даже ее самый-самый любимый курчавый философ не всегда в ладах с логикой. На этом этапе их отношений Альберт все еще посылал Мари свое грязное белье, чтобы она стирала его и по почте отправляла обратно. Она же пыталась вернуть себе его привязанность преувеличенным выражением своих чувств. «Я не могу найти слов, просто потому, что их нет в природе, чтобы рассказать тебе, какое блаженство почиет на мне с тех пор, как твоя обожаемая душа избрала себе обителью мою душу», — пишет она Эйнштейну. И далее: «Я люблю тебя вечной любовью, и пусть Господь спасет и сохранит тебя».
Ответ Эйнштейна утрачен, но он привел Мари в такой экстаз, что все ее следующее письмо состоит из восклицаний и повторов: «Милый, милый, любимый, наконец-то, наконец-то я счастлива, счастлива, счастлива, как бывает только тогда, когда я получаю твои бесценные, беспенные письма». Но из их отношений что-то ушло, и она это прекрасно понимала. Ей приходилось подолгу ждать писем, и она даже как-то просила свою мать выяснить, здоров ли Альберт. Она болезненнее, чем обычно, воспринимала интеллектуальное превосходство {42} Эйнштейна. По ее словам, она не думала о своем счастье «просто потому, что я не думаю вообще, разве что моим ученикам понадобится сделать какую-нибудь дурацкую арифметическую выкладку, для которой от меня требуется больше знаний, чем от них». Мари послала ему в подарок чайник для заварки, но получила гневную отповедь. Наверное, еще в большее негодование привело Эйнштейна ее намерение посетить его в Цюрихе. «Я расставлю все у тебя в комнате по своему вкусу, и тебе будет куда приятнее там работать», — обещала Мари, Эйнштейну всегда претила мысль о том, чтобы женщина хоть что-то трогала на его рабочем месте.
Мы не знаем, когда этот роман пришел к завершению, его заключительный этап сильно растянулся во времени. Через две недели после второго письма Мари ей пишет, как женщина женщине, Полина Эйнштейн. По ее словам, студенческая жизнь сильно изменила сына. «Этот негодяй ужасно обленился, он оказался вдали от всех своих любящих наставников, а поучить его уму-разуму было бы очень полезно, он так редко пишет, и домой тоже». Полина обещает хорошенько поговорить с сыном, но выражает сомнение, будет ли из этого какой-нибудь толк. Полина делала все, чтобы отношения между сыном и Мари продолжались: Мари как невестка ее вполне устраивала. Она снова написала ей через три месяца, в марте 1897 года, о том, что Эйнштейн приехал домой на каникулы, и он в хорошей форме. Аппетит у него сделался зверский, а энергии столько, что с ним просто не стало никакого сладу, и материнский авторитет теперь для него ничего не значит. Бодрый тон письма, наверное, причинил Мари дополнительную боль.
Первые четкие сведения о разрыве датируются маем. Эйнштейн пишет Полине Винтелер, по его словам, для того, чтобы «прервать внутреннюю борьбу». Его пригласили на Троицын день приехать в Аарау, но он решил отказаться. Он пишет Полине, что с его стороны «было бы более чем недостойно {43} покупать несколько дней блаженства ценой страданий, которых я так много причинил этому милому ребенку». Его слова означают, что в случае его приезда страдать будет только Мари. И огорчает его не разрыв с нею, а только то, что визит в Аарау и радость встречи со своей «мамой номер два» теперь невозможны.
Доля правды в этом есть. Пылкие письма Эйнштейна к Полине Винтелер показывают, что по-своему он был привязан к ней не меньше, чем к ее дочери. Он испытывал противоречивые чувства. Да, он наслаждался любовью и восхищением Мари, но она стала слишком зависимой от него, и это его тяготило. С ее матерью подобных проблем не было. Тем не менее письмо Эйнштейна наводит на мысль, что он намеренно преуменьшил значение разрыва с Мари и что он страдал от него куда больше, чем можно предположить по первым строчкам. Середина письма — едва ли не самая показательная цитата из всей переписки Эйнштейна:
«Я испытываю своеобразное удовлетворение от того, что сам отчасти разделяю боль, которую причинило нашей милой девочке мое легкомыслие и непонимание того, насколько она хрупка и ранима. Напряженная интеллектуальная работа и стремление постигнуть замысел Господа — это дарующие силу и утешение, но бесконечно строгие ангелы, которые проведут меня невредимым сквозь все несчастья. Если бы я мог поделиться их утешительными дарами с нашей милой девочкой. И все же — какой это странный способ переносить жизненные бури: в минуты просветления я кажусь себе страусом, прячущим голову в песок, чтобы избежать опасности. Человек создает себе крошечный мир, и каким бы жалким и незначительным этот мир ни был по сравнению с вечно переменчивым величием подлинной жизни, человек чувствует себя в нем чрезвычайно большим и значительным, в точности как крот в своей норе. Но стоит ли очернять себя, если это, когда потребуется, сделают другие. На этом кончаю». {44}
Рассуждения Эйнштейна о том, что он посвятит себя «строгим ангелам науки» (а не проказливому ангелочку Мари), нам уже знакомы. Они соответствуют той же попытке уйти в надличное, какую он, в соответствии с его поздними автобиографическими заметками, уже предпринимал в детстве. Однако ясно, что в тот раз она не удалась, иначе зачем было бы предпринимать ее снова.
Исследователь жизни и творчества Эйнштейна Роберт Шульман не сомневается, что перед нами — искренняя декларация о намерениях. «Я верю ему на слово, когда он говорит матери Мари, что найдет свою судьбу в заоблачных высях. Это голос его подлинного «я», хотя в высказывании присутствует и лукавство, и театральность». Однако, рассуждая таким образом, Роберт Шульман игнорирует вторую часть приведенного отрывка, где Эйнштейн размышляет о том, что нелепо вести себя как страус. Этот пассаж полностью опровергает предшествующие утверждения — в нем больше всего наблюдательности, проницательности по отношению к себе и, соответственно, убедительности. Первые три высказывания исполнены величавого самодовольства, тон их по отношению к Мари самый покровительственный. По сути они — не что иное, как подростковая поза, и странно, что они звучат камертоном по отношению к большей части жизни Эйнштейна. В своих автобиографических набросках, отмеченных, впрочем, некоторой непоследовательностью, Эйнштейн не выражает и тени сомнения в том, что избежать «слишком человеческого» и возможно, и желательно. А из письма к Полине Винтелер видно, что еще совсем юношей в светлые минуты он понимал всю абсурдность этого намерения. Эйнштейн не пишет ни о стремлении уйти в науку, ни о намерении посвятить себя великому делу, которое потребует от него полной самоотдачи. Нет, он пишет о превращении в крота, который прячется в вырытую им самим нору. Если бы Эйнштейн мог обозначить границы своего мира, то оказался бы в нем самой {45} важной персоной: запросы ближних его не заботили. Как и в период своей детской «религиозности», побег в надличное, который он затевая, оказывался побегом в чисто личное.
Следующее письмо Эйнштейна к Полине Винтелер, написанное после Троицы, когда он так и не поехал в Аарау, не менее примечательно, чем первое, хотя обращает на себя внимание не четко сформулированными идеями, а нервным и сумбурным тоном. «Строгие ангелы» не избавили Эйнштейна от ностальгии по Аарау, столь сильной, что жалобы вылились на бумагу бурным и взбаламученным потоком. Он пишет, что «в голове у него стоит безумный грохот», что он «чувствует себя совершенно никчемным» и «сам не знает, расплачется ли в следующую секунду или рассмеется». Он прибегает к самым причудливым, не поддающимся переводу образам, описывая «мириады воспоминаний о прошлом, обступивших его со всех сторон». Они мешают ему готовиться на «золотую стипендию», отвлекая от занятий так же, как прежде отвлекала Мари. Ему даже чудится, что она играет за стеной на пианино мелодии то спокойные, то тревожно-стремительные — в зависимости от перепадов его настроения.
И снова упоминаются ангелы. Бог, пишет Эйнштейн, обратил его стопы к «одному из тех ангелов, что не грозят чувствительным душам своим опасным двуострым мечом». Этим ангелом стала женщина средних лет, то есть не представляющая опасности, «уже бабушка» и «необычайно величественная, но в то же время подлинно женственная». По-видимому, они с Эйнштейном выступали вместе на музыкальных вечерах в Цюрихе. В ее обществе он переставал «мучить себя сладостными мыслями, что было бы, если бы ..., а если нет, то... и т.д.».
По мнению Мари, Эйнштейн в конце концов благополучно женился бы на ней. Помешало этому якобы только ее упрямство и нежелание идти «стезею долга». Но Мари сделала это заявление через много лет после их разрыва, когда ее информации {46} уже нельзя было полностью доверять. Тем не менее спустя несколько лет, в 1899 году, Эйнштейн напишет Милеве, что Мари по-прежнему имеет власть над его сердцем.
Эйнштейн продолжает поддерживать близкие отношениях семьей Винтелеров, но обещает Милеве не посещать их слишком часто, тем более что «сейчас в семью возвращается старшая дочь, та самая, в которую четыре года назад я был так безумно влюблен». И если он хотел, чтобы у Милевы по спине побежали мурашки, то лучших слов, чем те, что следуют дальше, просто нельзя придумать: «Сейчас я защищен крепостными стенами своего спокойствия и чувствую, что я почти в безопасности. Но я знаю, что стоит мне увидеть ее еще несколько раз, и я утрачу контроль над собой. Я в этом уверен и боюсь этого как огня».
Может быть, именно Милеву Мари имела в виду, когда говорила, что их любовь разрушила другая женщина. Когда Мари писала Альберту из Олсберга, он уже встретил Милеву. Они были тогда только друзьями, но Винтелеры о ней знали, и это сильно осложнило их отношения с Эйнштейном. Пройдет еще два года, и Эйнштейн снова будет извиняться перед Полиной Винтелер за те огорчения, которые принес ее семье. Поводом к этому послужит нежелание их общего друга упоминать его имя в присутствии Винтелеров. В письме Эйнштейн сетует, что, наверное, по их мнению, он ведет беспутный образ жизни. Он снова коснется этой темы в послании, где выразит соболезнование профессору Винтелеру в связи с трагической смертью его жены и родственников в 1906 году.
Мари так и не обрела прочного счастья в личной жизни. С 1902 по 1905 годы она преподавала в начальной школе Мюргенфаля, кантон Аарау, затем давала уроки игры на пианино и органе. Профессор Роберт Шульман просмотрел документы, связанные с ее работой, и обнаружил, что она часто отсутствовала по болезни. По-видимому роман с Альбертом {47} Эйнштейном сильно травмировал Мари, а трагедия 1906 года усугубила ее нервное состояние. В 1911 году она вышла замуж за другого Альберта — Альберта Мюллера, директора часовой фабрики в Бюрене, кантон Берн. У них родилось два мальчика (один из детей в какой-то период был похож на Эйнштейна), но в 1927 году этот брак распался. В 1940-х годах, живя в Цюрихе, Мари обращалась к Эйнштейну в надежде, что он поможет ей эмигрировать в США. Однако она осталась в Швейцарии, последние годы жизни провела в излюбленном туристами городке Мейринген, страдая от душевной болезни. Там, в лечебнице для душевнобольных, она и умерла 24 сентября 1957 года.
Несомненно, Мари была бы очень уязвлена, если бы узнала, что написал Эйнштейн другой молодой женщине, с которой он тоже музицировал в доме у Винтелеров. Его дружба с Джулией Ниггли, дочерью муниципального чиновника и историка музыки, была настолько близкой, что девушка решилась обратиться к Эйнштейну за советом насчет своих отношений с возлюбленным, человеком намного старше нее. Девушка переживала, что он не хочет на ней жениться. Эйнштейн ответил ей достаточно резко:
«Какая, должно быть, странная вещь девичья душа! Неужели вы действительно верите, что можно обрести прочное счастье благодаря другим людям, даже благодаря союзу с единственным и любимым человеком? Породу животных, называемых мужчинами, я знаю на собственном опыте достаточно хорошо, так как сам к ней принадлежу. Ручаюсь вам, от нас нельзя ждать чересчур многого. Сегодня мы мрачны, завтра — пребываем в превосходном настроении, послезавтра холодны, как лед, потом снова раздражены настолько, что нам, кажется, надоело жить, и я еще не упомянул наш эгоизм, неверность и неблагодарность — качества, которыми мы наделены в куда большей мере, чем вы, добродетельные девушки...».
Когда писались эти слова, у двадцатилетнего Эйнштейна уже начинался роман с Милевой.
| {48} |
С фотографии, сделанной в первый год обучения в Политехникуме, большие темные глаза Милевы Марич смотрят на нас твердо и пристально, в них читается интеллект и сила воли. Она нарядно одета, на воротнике большой бант, над ним красиво посаженная голова, лицо ясное, неброское, но хорошенькое. Черты его — приятно округлые, даже мягкие, но подбородок неожиданно волевой. Рот большой и чувственный, но неулыбчивый. Волосы не прикрывают высокого лба, брови чуть нахмурены, взгляд властный. Если рассеянный взгляд Эйнштейна устремлен сквозь нас, куда-то в пространство, то в глазах Милевы — наблюдательность и бдительность.
Милева — сербка из провинции Воеводина, что на севере бывшей Югославии. Воеводина — край зерновых и подсолнечника, засеянные ими поля тянутся к северу от Белграда по всей Панпонии — так называется обширная низменность, дно высохшего доисторического моря. Долгое время через Воеводину проходила не слишком четко установленная граница между империей Габсбургов и Оттоманской империей, а когда родилась Милева — это случилось 19 декабря 1875 года, — провинция была частью Южной Венгрии. В эти края, на осушенные болота, правительство долгое время приглашало переселенцев, чтобы они создали живой заслон для турок. Здесь было столько колонистов и беженцев из самых разных мест, что из-за пестрого национального состава Воеводину называли Центральной {49} Европой в миниатюре. В провинции жили представители почти двух десятков национальностей, в том числе хорваты, словаки, румыны, албанцы, цыгане и греки. Среди первых колонистов были и швабы, выходцы из родных мест Эйнштейна, их потомки составляли значительную часть населения Нови-Сада, столицы Воеводины.
Милева шутя говорила Эйнштейну, что происходит из «края разбойников и повстанцев». Мятежные гайдуки, наводившие ужас на турок, стали частью сербского фольклора, в Воеводине чувствовался дух Дикого Запада. По той части Дуная, возле которой она жила, когда-то патрулировали на канонерках сербские матросы с ружьями и штыками. Воеводина являлась частью так называемого венгерского военизированного приграничья, где поселенцы получали земельные участки за службу в армии. Жизнь поблизости от небезопасной границы выработала в жителях суровый прагматизм, дух которого жив по сей день. Как советовали одному путешественнику уже в двадцатом веке: «Не спрашивайте жителя Воеводины об его идеалах, спрашивайте, сколько он получает».
Отец Милевы был худощавый, рослый, представительный человек с высоким лбом, волевым подбородком и самоуверенным взглядом. Он с молоком матери впитал воинственный дух своей родины. Дороги, ведущие к месту его рождения, крошечному городку под названием Кач, были специально сделаны извилистыми, чтобы помешать продвижению атакующих частей противника, а поврежденные ступени церкви напоминали о том, что венгерские кавалеристы использовали ее как конюшню. Неудивительно, что в возрасте шестнадцати лет Милош поступил в военную школу. Следующие тринадцать лет жизни он посвятил военной карьере, по службе оказался в городе Тителе на реке Тиссе. Там он познакомился с Марицей Ружич, одной из трех дочерей состоятельных и уважаемых родителей, {50} о которых имеется немного сведений. Он женился на ней в октябре 1864 года.
В отличие от Эйнштейна, чьи близкие по роду деятельности были связаны с новейшими технологиями, интерес Милевы к науке никак нельзя объяснить ее окружением. Однако Милош Марич много читал, был в каком-то смысле автодидактом и человеком достаточно честолюбивым, чтобы рассматривать службу в армии не как дело жизни, но лишь как ступеньку в карьере. Далее он стал государственным чиновником, по мере продвижения по службе его богатство и престиж все возрастали. Ганс Альберт писал: «Я помню своего деда, он был человек добрый, но достаточно строгий, мог внушать и доверие и страх. ... Мой дед был спокойным, добрым и ни минуты не сидел без дела». Его современник, житель Нови-Сада, также рисует образ человека «неизменно любезного, бодрого и ценящего хорошую шутку», но одновременно гордого и, более того, надменного. Даже в зрелом возрасте он сохранял военную выправку, носил небольшой цилиндр, который служил тогда признаком достаточно высокого общественного положения. Как руководитель сербской читальни в городе, он с удовольствием встречался с молодежью и делился с ней своими воспоминаниями о военной службе. В этих случаях он, по словам одного из слушателей, держался по отношению к аудитории несколько снисходительно, с отеческой уверенностью.
Милева была первым ребенком в семье. Ее крестил тот же священник, что крестил ее мать, а затем и венчал ее родителей. В 1883 году у Милевы родилась сестра Зорка, а в 1885 году — брат, Милош-младший. Но Милева всегда оставалась любимицей отца, который звал ее ласкательным именем Мицца — позднее так ее будет звать и Эйнштейн.
Милош ушел в отставку через месяц после рождения Милевы. Он стал судейским чиновником в {51} Руме, городке с аграрной ориентацией, расположенном между Нови-Садом и Белградом. В Руме Милева пошла в первый класс четырехлетней начальной школы. Милева была невысокого роста, отличалась застенчивостью; всю жизнь, с самого детства, ее угнетало то, что она прихрамывала на левую ногу. У нее был врожденный вывих бедренного сустава, но этого не замечали, пока она не начала ходить. Возможно, ее застенчивость вкупе с хромотой, не позволявшей девочке участвовать в подвижных играх, и побудили Милеву уйти в свой собственный мир. Один из ее сербских биографов пишет, что ее ум и жажда знаний проявились еще в начальной школе. Престарелая учительница как будто бы сказала Милошу: «Эту девочку надо беречь. Она — необыкновенный ребенок».
Милош серьезно заботился об образовании дочери. В семье у него говорили на немецком, который он выучил на военной службе. В детстве Милева читала на немецком языке сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена. Отец декламировал ей сербские народные стихи, и она со слуха заучивала их наизусть; с восьми лет Милеве давали уроки игры на пианино.
Список мест, где училась Милева, напоминает путеводитель Кука с обозначением путей, на которые Милош толкал ее в поисках прекрасного. В 1886 году она перешла в первый класс средней школы для девочек в Нови-Саде. Одна из ее соучениц, Елизавета Барако, вспоминает, как прекрасно училась Милева, которую за высокие оценки и прилежание прозвали «наша святая». На следующий год она переходит во второй класс уже другой школы, в Сремска-Митровиц, где остается до 1890 года, когда отец посылает ее учиться за границу, в соседнюю Сербию. Милош хотел, чтобы дочь закончила гимназию, а в Австро-Венгрии они были исключительно мужскими. В Сербии подобных ограничений не существовало, и Милева поступила в пятый класс гимназии в Сабаке. {52}
Она особенно блистала по математике и физике, но круг ее интересов был шире. Сначала она решила в качестве иностранного языка изучать немецкий, но в марте 1891 получила разрешение изучать французский. Она также проявила большие способности к рисованию.
В декабре 1891 года Милоша перевели на новую должность в верховный суд в Загребе. Он добился для своей дочери специального разрешения посещать в качестве вольнослушательницы занятия в Городской мужской классической средней школе. Этот по тем временам незаурядный шаг сделал Милеву одной из первых в Австро-Венгрии девушек, обучавшихся вместе с юношами.
Милева сдала вступительный экзамен и поступила в десятый класс упомянутой школы в 1892 учебном году. Первым препятствием, которое ей предстояло преодолеть, было ее незнание греческого. Однако Милева быстро им овладела. Ее следующей победой было разрешение посещать лекции по физике вместе с юношами. Его она получила по ходатайству своего классного наставника и преподавателей математики и физики.
В начале сентября 1894 года она блестяще сдала выпускные экзамены. По математике и физике ни у кого не было лучших оценок, чем у нее.
Примерно в это же время, трудно в точности сказать, когда именно, Милева серьезно заболела. Достоверно известно только то, что в результате сильной простуды у нее случилось тяжелое воспаление легких. Ее сербские биографы считают, что именно по этой причине она решила расстаться с родителями, чтобы переехать в Швейцарию. Тогда врачи свято верили в целебность чистого альпийского воздуха. Можно предположить, хотя ни в коем случае нельзя поручиться, что «тяжелой болезнью» Милевы было именно воспаление легких. Эйнштейн же неоднократно высказывал предположения, что Милеву с ранних лет подтачивала болезнь, которую он {53} считал причиной множества последующих несчастий. Своему биографу Карлу Зелигу он, в частности, говорил, что склонность Милевы к депрессиям связана с «неким физическим недостатком, причиной которого, по-видимому, является перенесенный в детстве туберкулез». Если он, что самое вероятное, намекает на ее хромоту, которую все прочие биографы считают врожденной, едва ли с его утверждением можно согласиться. В рассказах о детстве Милевы туберкулез упоминается только один раз, и то им болела не она, а ее школьная подруга Ружика Дражич.
Основной причиной переезда Милевы в Швейцарию скорее всего было ее стремление к дальнейшим успехам на академическом поприще. Швейцарская высшая школа славилась в Европе, в Швейцарии было куда меньше, чем в большинстве европейских стран, препятствий для женщин, стремящихся к высшему образованию. 14 ноября 1894 года, то есть незадолго до своего девятнадцатилетия, Милева была условно допущена к обучению в женской средней школе в Цюрихе. Помимо математики и физики, ей предстояли обязательные занятия следующими предметами: латынь, пение, естественная история, история Швейцарии и стенография. Она была освобождена от физкультуры и ряда других предметов, но документы об ее поступлении указывают, что ей предстояло в факультативном порядке изучать также французский, историю, географию, зоологию и ботанику.
Весной 1896 года Милева сдала экзамены на аттестат зрелости, которые открывали ей путь к высшему образованию. В связи с тем, что в будущем она выкажет большие способности к физике, интересно отметить, что она не сразу решила посвятить себя изучению этого предмета. Сперва девушка занималась на медицинском факультете Цюрихского университета, который одним из первых в Европе, за девятнадцать лет до ее поступления, распахнул свои {54} двери для женщин. Милева, несмотря на явные способности к физике, никогда не была так же самозабвенно увлечена ею, как Эйнштейн, возможно, физика не была ее подлинным призванием. Из ее писем к Эйнштейну видно, как серьезно она интересовалась психологией.
Но университетский курс Милеву, по-видимому, не устроил, во всяком случае она обучалась медицине только один летний семестр. В октябре она перешла на педагогический факультет цюрихского Политехникума, который выпускал преподавателей математики и физики в средней школе. На том же факультете учился Альберт Эйнштейн — диплом об его окончании был ценен не столько сам по себе, он открывал возможности для дальнейшей академической карьеры.
Милеве в это время шел двадцать первый год. Она была единственной женщиной у себя на курсе и пятой женщиной, решившейся поступить на этот, по существу физико-математический, факультет. Для скромной провинциалки это было серьезное достижение. Поступив в одно из ведущих технических учебных заведений Европы, она бросила вызов широко распространенным в обществе предубеждениям против женского образования и преодолела их. Чтобы пройти подобный путь, нужна была та железная воля и решительность, которые читаются в лице, смотрящем на нас с фотографии.
Люди, знавшие Милеву в Цюрихе, описывают ее как «милую, застенчивую, доброжелательную» девушку, «непритязательную и скромную». Ее приятельница-сербка Милана Бота писала домой, что Милева «очень хорошая девушка, только слишком серьезная и спокойная. Глядя на нее, трудно предположить, что она настолько умна». Бота вскоре выяснила, что на самом деле в Милеве куда больше и теплоты, и даже озорства, чем казалось на первый взгляд. Так, Бота писала родителям, что в ее же доме снимал помещение «чудаковатый болгарин», которого они с Милевой передразнивали «и очень смеялись». {55} Одновременно Милеве были свойственны замкнутость и стремление держаться в тени, возможно, отчасти обусловленные тем, что сверстники не считали ее физически привлекательной. В другом письме Бота говорит, что Милева «маленькая, хрупкая и плоская». Она упоминает также хромоту Милевы и ее сильный акцент, но отдает должное «ее приятной манере держаться».
Альберт Эйнштейн, напротив, — красивый юноша, расточающий свое природное обаяние. Ему еще очень далеко до взлохмаченного старца, которого один известный писатель метко уподобил сверхъестественному существу, принявшему облик пастушьей собаки. Эйнштейн наделен тем типом мужской красоты, который особенно ценился в конце прошлого века. Ростом в пять футов шесть дюймов (168 см), с правильными чертами лица, густой гривой черных как смоль волос, чуть фатовскими усами и теплым взглядом карих глаз, он, несмотря на свое равнодушие ко всем видам физических упражнений, выглядел человеком достаточно физически развитым как в молодости, так и в зрелые годы. «Он выглядит плотным, — писал берлинский друг Эйнштейна Янош Плещ, — но на самом деле он мускулист и очень силен». Английский писатель Ч.П. Сноу, гостивший в 1937 году у Эйнштейна и увидевший его в одних шортах, с удивлением отметил, что перед ним «массивный человек с мощными мускулами, все еще необычайно сильный».
В студенческие годы Эйнштейн научился быть любезным и приятным в общении с женщинами, умел увлечь их своим небезопасным для окружающих чувством юмора. У Маргарет фон Укскюль, студентки, изучавшей биологию и дружившей с Милевой и Альбертом, остались яркие воспоминания о первой встрече с ним. Всю вторую половину теплого июньского дня она провела в бесплодных попытках осуществить некий эксперимент в лаборатории Политехникума. У нее ничего не получалось, ее охватили {56} раздражение и усталость, и она начала препираться с маленьким, толстым преподавателем физики, который не разрешал ей заткнуть пробкой колбу, опасаясь, что та лопнет. Вдруг она заметила, «что молодой человек с чрезвычайно большими и блестящими глазами бросает на нее предупреждающие взгляды». Это был Эйнштейн, который успокаивающим тоном объяснил ей, что профессор совершенно безумен и недавно на него накатил такой приступ ярости, что он упал в обморок в аудитории на глазах у изумленных студентов. Он предложил Маргарет отдать ему ее лабораторные записи, с тем чтобы он «сварганил» результаты, более соответствующие теории. Профессор, проверив их, воскликнул: «Ну, вот видите! Стоит вам постараться, и, несмотря на то, какой я несносный преподаватель, вы все-таки можете сделать что-то толковое».
Возможно, девушка несколько приукрасила эту историю. Она утверждала, что ее тетрадь была у Эйнштейна восьмой по счету, и в остальных семи тоже требовалось «творчески обработать» результаты экспериментов. Он, разумеется, постарался предстать перед ней в самом выгодном свете и произвел на нее впечатление человека застенчивого, скромного и, несмотря на его слова о невменяемости профессора, «достаточно мягкого и снисходительного в суждениях, даже о наших преподавателях».
В письмах к Милеве Эйнштейн проявляет себя прямо противоположным образом, но свидетельства фон Укскюль все же представляют большой интерес, так как она и Милева были соседками по меблированным комнатам в доме Иоганны Бехтольд. Маргарет вспоминает, как в гостиной Милева занималась рукоделием или играла на рояле, а Эйнштейн с внимательным видом сидел возле нее. По словам Маргарет, он уже в то время умел ясно излагать сложные проблемы и, когда они вместе возвращались домой после лабораторных работ, обрушивал на девушек свои идеи. «Я полагаю, — пишет фон Укскюль, — что Милева была первым человеком, {57} уверовавшим в его теории. Когда я однажды сказала ей, что они кажутся весьма фантастическими, она с глубокой убежденностью ответила: «Но он может свою теорию доказать». И тут я сказала себе, что она, похоже, всерьез в него влюбилась».
Трудно точно сказать, когда зародилось это чувство. Милева и Эйнштейн познакомились в Политехникуме во время первого зимнего семестра. В следующем году они вместе посещали все обязательные курсы: дифференциальное и интегральное исчисление, аналитическую геометрию, начертательную геометрию, проективную геометрию и механику. Но вместо того чтобы вернуться в Политехникум в начале следующего учебного года, Милева 5 октября 1897 года забрала документы. Она отправилась в Германию и провела зимний семестр в Гейдельберге, старейшем и самом известном университете этой страны. Возможно, такое решение она приняла, боясь, что чувства к Эйнштейну приобрели над ней слишком большую власть и она может с ними не справиться. Возможно, она хотела разобраться в них, будучи вдали от его магнетического влияния.
Однако воспринимать поступок Милевы только таким образом означает относиться к ней несколько свысока. Гейдельберг мог привлекать ее с чисто академической точки зрения. Предположение о том, что Милева боялась не устоять против чар Эйнштейна, кажется поспешным. Первое из ее сохранившихся писем к нему написано вскоре после отъезда; очевидно, что Эйнштейн вызывает у нее определенный романтический интерес, но в письме нет и следа той страсти, которой отмечены ее более поздние письма.
Письмо Милевы было ответом на четырехстраничное письмо Эйнштейна, ныне утраченное. В ее словах чувствуется кокетливая самоуверенность, но никак не любовное смятение. Альберт велел ей не писать, пока ей не станет скучно, и Милева отвечает: «Я все ждала и ждала скуки, но так и не дождалась, {58} и не знаю, что с этим делать». Тон ее письма насмешливый. Рассказывая о своем однокурснике, который бросил учебу, по-видимому, из-за неразделенной любви, она замечает, что «так ему и надо», какой смысл влюбляться в наше-то время? Однако она уже многое рассказала об Эйнштейне другому мужчине в своей жизни — своему отцу. «Папа дал мне хорошего табаку с тем, чтобы я передала его вам, — пишет Эйнштейну Милева. — Он жаждет еще больше заинтересовать вас нашим уголком земли, краем изгнанников и нарушителей закона. Я ему все о вас рассказала, и вы непременно должны к нам когда-нибудь приехать — у вас с моим отцом будет масса тем для разговоров».
Женщины не имели права поступать в Гейдельберг, но начиная с 1891 года им разрешалось посещать лекции на правах вольнослушательниц. Одним из профессоров университета в то время был Филипп Ленард, будущий нобелевский лауреат, в свои неполные тридцать пять лет он уже состоял вторым профессором на кафедре экспериментальной физики. После первой мировой войны он стал одним из самых непримиримых научных противников Эйнштейна, научным авторитетом Ленарда с его согласия прикрывались ярые антисемиты, нападавшие на теорию относительности. Горячий сторонник нацистского движения с момента его зарождения, Ленард обрушивался на «шитые белыми нитками» теории Эйнштейна, называя их «извращениями, противоречащими законам природы». Но именно Ленард проложил для Эйнштейна дорогу к Нобелевской премии, открыв, что лучи света способны выбивать электроны с поверхности некоторых металлов. Это явление называется фотоэффектом, и его объяснение, данное Эйнштейном, было одним из первых успешных применений квантовой теории. Милева видела Ленарда в расцвете лет и творческих сил, и в письме к Эйнштейну с энтузиазмом отзывалась об одной из его лекций. {59}
По словам эйнштейноведов Роберта Шульмана и Юргена Ренна, Милеве были «в высшей мере присущи уверенность в себе и независимость, дисциплинированное отношение к занятиям и здоровое отсутствие излишнего почтения к авторитетам». К этому списку можно добавить гибкий и романтический склад ума. Как она пишет, «густой туман похоронил под собой здания Гейдельберга, живописно расположенные в лесистой долине Некар». Этот унылый сумрак побудил Милеву предаться мечтательным размышлениям о тайнах бесконечного пространства:
«Я сомневаюсь, что человек неспособен постигнуть понятие бесконечности, потому что таково устройство его мозга. Он понял бы, что такое бесконечность, если бы в юные годы, то есть тогда, когда формируются его представления и способности к восприятию, ему позволили дерзко устремить свой ум в просторы мироздания, а не удерживали бы его дух, как в клетке, в пределах интересов к земному или, хуже того, в четырех стенах застойной провинциальной жизни. Если человек способен помыслить о бесконечном счастье, он должен уметь постигнуть бесконечность пространства — я думаю, второе куда проще сделать».
Эти строки свидетельствуют о том, что Милева обладала провидческим даром и верой в силу человеческого разума, которые должны были привлекать Эйнштейна. Едва ли кто-нибудь жаждал сильнее, чем он, «устремить свой дух в просторы мироздания», вместо того чтобы держать его в плену у земной косности. Однако приведенный отрывок наводит на мысль, что в плане образного мышления Милева отличалась большей чуткостью, чем в плане научном. В словах Милевы чувствуется прямота, граничащая с прямолинейностью, душевная открытость и оптимизм; поэтому они не кажутся выспренними или надуманными. По мере того как развивались ее отношения с Эйнштейном, она, судя по письмам, все больше становится фаталисткой. {60}
После зимнего семестра Милева в апреле 1898 года вернулась из Гейдельберга в Политехникум. Как бы сильно ей ни хотелось увидеть Эйнштейна, она, судя по переписке, сперва сомневалась, стоит ли ей возобновлять учебу в Цюрихе. В феврале он написал ей, что рад принятому ею решению и что, по его мнению, оно правильное. Эйнштейн (по его собственному признанию «отчасти заботясь о себе») посоветовал ей возвратиться как можно скорее. Он предложил составить для нее краткий конспект лекций, прочитанных в ее отсутствие в Политехникуме, и уверил, что ей будет нетрудно все наверстать, если она ознакомится с той информацией, которая «компактно упакована в наших конспектах». Слово «наши» тут весьма существенно. Эйнштейн штудировал лекции столько же по своим записям, сколько и по тетрадям своего однокурсника Марселя Гроссмана, который впоследствии окажет ему неоценимую помощь в работе с математическим аппаратом общей теории относительности. Гроссман добросовестно посещал и записывал все лекции, а Эйнштейн был злостным прогульщиком, предпочитая изучать литературу только по интересующим его вопросам. Позднее он напишет, что ему хватало нескольких месяцев перед экзаменами, чтобы, пользуясь конспектами Гроссмана, разобрать или освежить в памяти основы того, что им читали. Это первый пример стиля работы, впоследствии ставшего постоянным для Эйнштейна. Он опирался на помощь сотрудников-коллег, делавших техническую, черновую часть исследования, а сам сосредотачивался на более глобальных вопросах.
Итак, Милеве нужно было наверстать пропущенное, а несомненная привязанность Эйнштейна к его «маленькой беглянке» способствовала тому, что их работа приобретала все более совместный характер. Милева пользовалась его записями, он брал ее книги по физике, отзываясь о них весьма язвительно. В молодости Эйнштейн не питал почтения к авторитетам. {61} Так, он говорил Милеве, что труды Пауля Дрюда, ведущего теоретика того времени, «информативны и стимулируют работу мысли», но им недостает ясности изложения и точности в проработке деталей. Альбин Герцог, с которым Эйнштейн столкнулся во время поступления в Политехникум, излагал свой предмет «ясно, но поверхностно». Вильгельм Фидлер, специалист по проективной, геометрии, был ученый «блестящий и глубокий, но неисправимый педант». Эйнштейну требовались свежие мысли и непосредственное приложение основных научных принципов к фундаментальным проблемам. В числе героев его воображения был Герман фон Гельмгольц, чьему мышлению были присущи оригинальность и независимость, к которым стремился Эйнштейн. Он начал прорабатывать труды Гельмгольца на каникулах, летом 1899 года, но уверил Милеву, что из страха перед ней (а также ради собственного удовольствия) непременно перечтет их с ней вместе. Учиться вдвоем стало для них привычкой. Он писал ей: «Когда я читал Гельмгольца в первый раз, я не мог поверить, как не могу до сих пор, что вы не сидите со мной рядом. Совместно работать с вами мне очень нравится, работа идет гораздо спокойнее и кажется менее скучной».
Судя по письмам Эйнштейна, Милева все в большей степени становится его интеллектуальной соратницей, шаг за шагом она идет вместе с ним по дорогам науки. Пока он опережает ее, но готов вернуться к старому материалу и дать ей возможность его нагнать. Из их сохранившихся писем не следует, что Милева привносила в его труды новые идеи или способствовала его прозрениям, но она создавала благоприятную атмосферу для его штудий. Наконец-то после его филистеров-родителей и непритязательной Мари Винтелер рядом с Эйнштейном был человек, обладающий глубоким интеллектом и способный разделить его интересы. {62}
Через два года после возвращения Милевы из Гейдельберга ее дружеские отношения с Эйнштейном перерастают в романтические. Сначала они были достаточно чопорными. Записки-Эйнштейна обращены к «Liebes Fraulein» или «LFM» (Liebes Fraulein Marie). Они друг с другом на «вы» вплоть до 1900 года, когда в письме Милевы впервые появляется «ты». За несколько месяцев до этого Эйнштейн начал называть Милеву ласкательным прозвищем «Doxerl», которое ближе всего переводится как «маленькая кукла» или Долли. С развитием отношений ласкательные имена менялись: в августе 1899 года Эйнштейн обращался к Милеве «Дорогая Долли», а в октябре — «Милая, дорогая Долли». В августе следующего года она стала его «милой малышкой» или «милой возлюбленной малюткой». Но воображение Эйнштейна этим не ограничилось. В разные периоды он называл Милеву своей маленькой колдуньей, своим лягушонком, своим котенком, своим уличным мальчишкой, своим ангелом, своей правой рукой, своим бесценным ребенком, своей маленькой чернушкой и придумывал множество вариаций упомянутых имен. Она же была более постоянной, именуя его «Джонни». Это прозвище впервые появляется в том же письме, где в первый раз фигурирует обращение на «ты». Вот оно, самое короткое и нежное из ее писем.
«Мой милый Джонни,
Потому что ты мне так дорог и ты так далеко от меня, что я не могу тебя поцеловать, я пишу тебе, чтобы спросить, нравлюсь ли я тебе так же, как ты нравишься мне? Ответь мне немедленно.
Целую тебя тысячу раз. Твоя Долли».
Ответ на это письмо, если он и существовал, не сохранился.
И Эйнштейн, и Милева часто использовали свои ласкательные прозвища, чтобы писать о себе в третьем лице — и он повествовал об «этом негоднике Джонни» как о ком-то постороннем. Джонни и Долли жили самостоятельной жизнью, выражали {63} чувства, от которых Эйнштейн и Милева были в обыденной жизни далеки. Эти два существа обладали лишь лучшими качествами своих реальных прототипов и позволяли им общаться, не видя недостатков друг друга.
Привязанность Эйнштейна к маленькой черненькой хромой девушке удивляла его знакомых. Молодой человек с его внешностью и умом без труда мог одерживать победы куда более впечатляющие с общепринятой точки зрения. Однажды, намекая на хромоту Милевы, кто-то из его коллег сказал: «Я никогда бы не отважился жениться на женщине, если ее здоровье оставляет желать лучшего». Эйнштейн на это спокойно возразил: «Но у нее такой чудесный голос».
Милева прекрасно пела, они страстно любили музыку, и это их сильно сближало. Как в детские годы и в период отношений с Мари Винтелер, Эйнштейну было легче всего выражать свои эмоции посредством музыки. Но упомянутый обмен репликами наводит на мысль, что Эйнштейн уже создал у себя в душе образ Милевы и был готов отмести все, что не соответствовало его представлениям о ней. По мнению профессора из Гарварда Джеральда Холтона, он был так счастлив возможности обрести родную душу, что не замечал изъянов своей подруги. «Она прихрамывала, она часто бывала мрачной, и цвет лица у нее был очень смуглый, что в те времена было не слишком модно, — пишет Холтон. — Но для него все это не имело значения, потому что у нее были ум и душа». Тут нас подстерегает соблазн предположить, что связь Милевы с Эйнштейном была чисто интеллектуального свойства, однако его привлекали отнюдь не только ее душевные качества. Мартовское письмо 1899 года кончалось на шутливой ноте: «Самые лучшие пожелания и т.д., особенно «и т.д.». И если в зрелые годы он был беспощаден по отношению к внешности Милевы, в молодости он не видел в ней недостатков. Он писал, что хочет, чтобы она была «пухленькой, как {64} пышка», и мечтает осыпать ее «жаркими поцелуями».
Оба, Эйнштейн и Милева, любили простые радости, в частности, хорошую еду и питье. В их переписке несколько раз упоминаются взбадривающие свойства свежемолотого кофе. Альберт, обращаясь к Милеве, называет себя «ее товарищем с теми же, что у нее, увлечениями: физикой и крепким кофе». Он говорил ей: «Каждый из нас так хорошо понимает окутанную мраком душу другого, а также его любовь к кофе и колбасе». Желудок Эйнштейна всегда был надежным путем к его сердцу, и Полина Эйнштейн, выражая свои материнские чувства, это помнила. Она отправляла своему сыну-студенту посылки с выпечкой и кондитерскими изделиями, и Милева отмечала, что они «на него прекрасно действовали» — он с гордым видом вышагивал по улице, глядя только на коробку с лакомствами, которую нес прямо перед собой. Помимо посылок, Эйнштейн получал 100 швейцарских франков ежемесячно, его генуэзская тетка Джулия посылала их своему «маленькому профессору». Он любил курить — через много лет его охарактеризуют как не слишком опрятного курильщика, — но не употреблял спиртного и обычно обедал в ресторанах, где его не подавали. Иногда ему приходилось ограничиваться куском пирога, купленным в кондитерской и наспех проглоченным у себя в комнате. Нерегулярное питание привело к тому, что он всю последующую жизнь страдал от болезни желудка, названной Милевой «его пресловутым недомоганием». После какого-то парадного обеда оба мучались от боли в животе, и это побудило его сказать ей: «В какой тугой узел связаны две наши жизни и в душевном, и в физическом плане».
Эйнштейн уже тогда был очень рассеянным — вечно оставлял дома ключи и зонтик или при отъезде к родителям на каникулы забывал на снятой квартире ночную сорочку и умывальные принадлежности. {65} Милева была на три с половиной года старше него и вполне могла служить ему опорой в борьбе с бытовыми трудностями. Она рано научилась справляться с домашними делами, так как ее сестра была на семь лет младше нее, и Милева помогала матери ухаживать за ней. В студенческие годы она умела прекрасно готовить и из экономии сама шила себе платья.
Совершенно несправедливо биограф Эйнштейна Рональд Кларк приписывает Милеве то, что называет «непростительной славянской склонностью попустительствовать беспорядку». На самом деле она по-матерински заботилась об Эйнштейне и делала это достаточно умело, что он, видимо, очень ценил. В его письмах постоянно встречаются восхищенные отзывы об ее «умелых руках» и о том, с какой радостью она «хлопочет, как наседка», устраивая его быт. Однажды он даже прислал ей изображение своей ноги с тем, чтобы она связала ему носки. «Поскольку у тебя очень развито воображение и ты привыкла к астрономическим расстояниям, я думаю, что в твоих целях это произведение искусства тебя устроит», — прокомментировал он свой рисунок.
Относительно достоверное представление о том, насколько заботливо Милева относилась к Эйнштейну, можно составить по одной из тех немногих его биографий, где ей уделено хоть какое-то серьезное внимание. Книга называется «Эйнштейн: краткий биографический очерк», написана в популярном стиле, издана в 1962 году. Секретарь Эйнштейна Элен Дукас отозвалась о ней как о совершеннейшей чепухе. Однако автор, Питер Микельмор, основывался на материале, полученном из частных бесед с Гансом Альбертом, который впоследствии заявил, что не обнаружил в книге никаких ошибок. В любом случае эта книга помогает понять, как воспринимала прошлое сама Милева и что именно она рассказывала о нем своим детям. В студенческие годы Эйнштейн, по ее словам, был «безнадежно непрактичен» и никак не мог сосредоточиться на повседневных {66} делах. Таким же, судя по описанию Майи, был их отец. Милева же по характеру напоминает Полину, ей свойственна «решительность во всем».
«Она судила о людях куда быстрее, чем он, и была тверда в своих симпатиях и антипатиях. По любому вопросу, о котором заходил спор, у нее была определенная точка зрения. Она составляла для себя планы (учебные в том числе) на долгое время вперед. Она пыталась упорядочить и жизнь Альберта. ... Она заставляла его регулярно питаться и подсказывала, как ему спланировать свой скромный бюджет. Часто его рассеянность приводила ее в ярость. Он смотрел, как крошечная девушка разгневанно топает ножкой, и в глазах у него вспыхивал насмешливый огонек. Он говорил что-нибудь смешное или корчил уморительную гримасу, он пускал в ход свое обаяние, и она постепенно успокаивалась».
Хотя это и не рассказ очевидца, но все описанное сильно напоминает подрыв «материнского авторитета», на который Полина Эйнштейн жаловалась Мари Винтелер. Во многих отношениях Эйнштейн передавал Милеве прерогативы своей матери.
В первом из сохранившихся писем Эйнштейна к Милеве он склоняет голову перед ее «осуждающим взглядом», так как не написал ей раньше. Второе письмо состоит только из двух фраз, причем в одной он просит «не сердитесь», ибо взял ее учебник без разрешения. «Пожалуйста, не сердитесь», — просит он и в третьем письме, написанном всего через несколько дней, когда болезнь приковала его к постели. Он все время ждал от Милевы выражений неудовольствия, будь это «горькие упреки» за то, что он не давал о себе знать, или хмурый рассерженный взгляд, когда он не смог дать ей какие-то конспекты. «Не дуйся из-за этого, маленькая ведьма», — говорил он ей. «Не раздражайся, не хмурься, не делай сердитую мину». Он, разумеется, шутил, но в каждой шутке есть доля правды. Какой бы милой ни была его подруга, характер у нее был нелегкий, и Эйнштейн угадывал в нем что-то очень {67} знакомое. «Вы так живо предстали перед моим мысленным взором, пока мать меня сурово отчитывала», — пишет он Милеве в марте 1899 года, находясь у родных. Он, по его словам, видел, «какой натянутой станет ее улыбка», если она не получит обещанного подарка. Какой-то частью своего существа Эйнштейн получал удовольствие от того, что она им командовала, в то время как другая часть его «я» показывала ей язык. «Мне начинает не хватать твоего благословенного указующего перста, который всегда ведет меня в нужном направлении», — писал он ей из Милана. Он говорил, что в Цюрихе она была «хозяйкой в нашем доме».
В студенческие годы Эйнштейн с Милевой жили раздельно, но он очень скоро начал писать о «нашем общем хозяйстве» так, как будто они жили одним домом. Перед приездом Милевы из Гейдельберга он в письме предупредил ее, что ее прежнюю комнату сдали кому-то другому. Милева сперва зарегистрировалась по старому месту жительства, но вскоре переехала в пансион Энгельбрехт, на Платтен-штрассе, где уже жили ее землячки: Ружика Дражич и Милана Бота. Бота писала, что Милева представила ей своего «доброго друга» Альберта Эйнштейна в мае 1898 года, после чего его посещения стали постоянными. На следующий год он стал подумывать, не перебраться ли ему тоже на Платтен-штрассе («но не в твой дом — нам ни к чему лишние разговоры») и в конце концов удовлетворился комнатой на соседней Юнионштрассе. Но Эйнштейн завел обычай называть жилище Милевы «нашим домом», и в течение летних каникул 1899 года обоим нравилось в переписке упоминать о нем именно так. Эйнштейн, который проводил лето со своей семьей в Италии, писал Милеве, что «наш уголок» был для него «самым милым и уютным местом, какое только можно себе представить». Милева, гостившая у родителей в Воеводине, отвечала ему, что его письма вызывают у нее «теплые воспоминания о доме». {68}
Лето было для Милевы временем больших перегрузок. Как все студенты-дипломники, она должна была за время обучения в Политехникуме сдавать экзамены при переходе с курса на курс и выпускные экзамены. Первые были устными, и Эйнштейн сдал их в начале третьего года обучения, т.е. в октябре 1899 года, как и его однокурсники. Он был лучшим у себя в группе, его средняя оценка была 5,7 по шестибалльной системе. Милева этих экзаменов не сдавала, так как провела полгода вне стен Политехникума, в Гейдельберге. Ей пришлось сдавать экзамены вместе со студентами предыдущего курса. Она провела лето в Каче, на ферме, куда удалился на покой ее отец, там она готовилась к экзаменам, штудировала пропущенный материал. В начале августа она написала Эйнштейну, что интенсивная работа доставляет ей удовольствие, но этой бравады хватило ненадолго, и ее следующее письмо сильно напоминает жалобу. Ей тяжело от гнетущей жары, она боится выходить в город, потому что там свирепствует эпидемия скарлатины и дифтерии. Учеба у нее идет чрезвычайно медленно, она прорабатывает геометрию в изложении Фидлера, которому Эйнштейн дал уничижительное прозвище «скрипач» (игра слов, основанная на значении фамилии профессора), и этот предмет особенно повергает ее в отчаянье. Она жаждет узнать, какие вопросы чаще всего задают на экзамене, и очень просит прислать ей конспекты лекций. Она определенно боится экзамена. Пишет, что мысль о возвращении в Цюрих вызывает у нее смешанные чувства, и спрашивает Альберта: «Неужели тебе меня не жалко?»
Эйнштейн забрасывает ее письмами, где выражает сочувствие и поддержку. Он называет ее бедняжкой, вынужденной «забивать себе голову этой нудной теорией» и «глотать книжную пыль», но скоро все это кончится, и ее ждет очередной успех. Другие студенты куда слабее нее, а его Долли — девочка, которая «знает, чего она хочет, и уже много раз {69} это доказывала». Он согласен, что Милеве «придется тяжелее, чем другим», так как она будет сдавать экзамен с другим курсом. Он вспоминает, как они с Марселем Гроссманом обменивались остротами, чтобы поднять друг другу настроение перед экзаменом, они «смеялись, хотя в сердце своем плакали». Однако Эйнштейна, по-видимому, нервировало то, что Милева была глубоко подавлена, он явно предпочитал самодовольную жизнерадостность, с которой она писала ему из Гейдельберга. Он пишет, явно в надежде, что его целеустремленная Долли наверняка презрительно усмехнется, читая слова поддержки, в которой она не нуждается. Но он постоянно восхваляет ее твердость характера, ее «божественное самообладание», ее «упрямую головку», ее «здравомыслие» — так, как будто ей нужно напоминать, что эти качества у нее есть.
Очевидно, что экзамены оказались для Милевы куда более тяжелым испытанием, чем для ее «доброго друга». Она сдала их, но была только шестой среди участников, получив средний балл 5,05. Лучше всего она показала себя на экзамене по физике, получив 5,5 — ту же оценку, что и Эйнштейн. Но у него более низких оценок не было ни по одному предмету, а по двум — аналитической геометрии и механике — он получил даже чистые «шестерки». Милева же получила по всем остальным предметам «пятерки» и 4,75 по проективной геометрии, которая внушала ей такой страх.
Мысли Эйнштейна в то время уже были заняты проблемами физики, далеко выходившими за рамки программы Политехникума, которую он считал ужасающе узкими. Когда Милева готовилась к экзаменам, он писал ей, что в такой важной области физики, как электродинамика, современная физическая мысль «расходится с реальностью». Электродинамика — раздел физики, изучающий влияние электрического и магнитного поля на движение заряженных тел (частиц), в частности — электронов. Сомнения Эйнштейна в правильности некоторых {70} положений электродинамики впоследствии лягут в основу его работы, опубликованной в 1905 году, где изложены основы специальной теории относительности. Работа называется «Об электродинамике движущихся тел», в ней Эйнштейн устраняет непоследовательность в воззрениях тогдашней науки, объяснявшей два сходных по сути явления, исходя из разных принципов. Первым была работа электромотора, преобразующего электрический ток в движение, вторым — работа динамо-машины, преобразующей движение в электрический ток. Действие обоих приборов основано на перемещении относительно друг друга проводника и магнита, и когда Эйнштейн подвел под их работу общую теоретическую базу, он тем самым сделал подкоп под основы трехвекового здания ньютоновской механики.
Летом 1899 года он был еще очень далек от этого, но уже делился с Милевой зачатками своих идей. Он говорил ей о своей уверенности в том, что работу двух упомянутых приборов можно теоретически обосновать «куда проще». Также в центре его внимания была проблема эфира, т. е. вещества, по которому, как считали современные Эйнштейну ученые, распространяются свет и другие электромагнитные волны, подобно тому, как рябь — по поверхности воды. Эта призрачная субстанция, по тогдашним воззрениям, имелась не только в воздухе, но и в вакууме, а также в твердых материалах, таких, как, например, стекло, через которое, как известно, проходят световые лучи. В 1905 году с легкостью, которая шокирует тогдашний научный мир, Эйнштейн опровергнет существование эфира, но сомнения на этот счет появились у него уже в 1899 году. Он говорил Милеве: «Введение термина «эфир» в теорию электричества привело к понятию среды, о движении которой стало возможно говорить, не вкладывая в слова никакого физического смысла». Он делился с ней своими идеями иногда на языке формул, а иногда — описывая эксперименты, которые он задумал для их проверки. {71}
Таково первое свидетельство о том, что Эйнштейн много лет размышлял над вопросами, ответом на которые послужит его теория относительности. Милева была первой, с кем он делился идеями, и это ярчайшее доказательство того, до какой степени она была его соратницей в интеллектуальном плане. Из писем Эйнштейна явствует, как сильна его радость, что он может поделиться своими идеями с заинтересованным и сочувствующим слушателем. Но Милева вся ушла в мысли о предстоящих экзаменах и была не в состоянии поддерживать диалог на столь сложные темы. Он, как кажется, это понимал и довольствовался возможностью выплеснуть на бумагу свои мысли, не рассчитывая на ответ. «Но хватит об этом, — писал он Милеве в конце одного из своих научных пассажей, — твоя бедная головка уже набита тем, что наговорили другие люди, усевшись на своих любимых коньков, и тебе пришлось их объезжать. Так что своими я тебя допекать не буду».
Их душевную близость ограничивало не временное различие научных интересов, а совсем другое. Он предпочел провести летние каникулы 1899 года не с ней, а со своей «сестрой и матерью-наседкой» в отеле «Парадиз», в Меттменштеттене, маленьком курортном городке, расположенном к юго-западу от Цюриха. И это был не единственный случай, когда в трудный для Милевы период Эйнштейн предпочитал проводить время в кругу семьи, несмотря на то, что испытывал к родителям смешанные чувства. В письмах, которые он писал Милеве из гостиницы, он с презрением отзывается о «нескончаемых глупых разговорах», которые вынужден слушать, о том, как неприятны ему друзья и родственники его матери. Самой несносной из них была его тетка Джулия, та самая, которая любезно посылала ему ежемесячное пособие. Она была «настоящее чудовище, воплощение высокомерия и бессмысленной педантичности в быту», так, во всяком случае, отозвался {72} о ней благодарный племянник. Впрочем, разочарование Эйнштейна было глобальным. Он писал Милеве:
«Моя мать и сестра кажутся мне ограниченными обывательницами, несмотря на все теплые чувства, которые я к ним испытываю. Вот что удивительно, жизнь меняет нашу душу во всем, до мельчайших деталей и до такой степени, что самые близкие родственные связи слабеют, превращаясь в обычную дружескую приязнь. В глубине души мы уже не понимаем друг друга и не способны ни по-настоящему друг другу сопереживать, ни понять, какое чувство движет некогда близким тебе человеком».
Из этого пассажа следует лестный для Милевы вывод, что по-настоящему душевно близка Эйнштейну только она и что они вместе противостоят удушающей банальности его семейного круга. Но Эйнштейн был отнюдь не так подавлен, как можно было бы заключить из его письма. Он признавался Милеве, что «каждый день его каникул» доставлял ему удовольствие. Удивительно то, что при всем сочувствии к ней он за все время ее подготовки к экзаменам никак не выразил его в поступках. Он очень ненадолго заехал в Цюрих в начале сентября, до ее возвращения из Кача, но был, по его словам, слишком занят, чтобы оставить ей тот конспект, о котором она просила. «Мне бы так хотелось быть в Цюрихе, чтобы поддержать тебя в период экзаменов, — уверяет ее Эйнштейн, — но вполне понятно, что это очень огорчило бы моих родителей». Итак, он уехал в Италию, где пробыл до начала занятий. Что бы он ни говорил о «нашем доме» и «о нашем хозяйстве», власть родительского дома над ним была очень сильна, и он не мог от нее отрешиться.
Но привязанности Эйнштейна не ограничивались семейным кругом. Он любил флиртовать, и одним из удовольствий Меттменштеттена было для него общество Анны Шмидт. Эта девушка, на четыре года моложе Эйнштейна, приходилась сводной сестрой {73} владельцу отеля, Роберту Маркшталлеру, с которым Эйнштейн подружился настолько, что они вместе отправились в поход через горы. Перед отъездом в Цюрих он написал ей в альбом следующие стихи:
|
Юная девушка, маленькая и прекрасная, Что же мне написать вам здесь? В голову приходит столько разных мыслей, И среди них одна — о том, Как я целую ваш маленький ротик. Если вы за это рассердитесь, Не надо кричать и плакать. Самым справедливым наказанием было бы Вернуть мне поцелуй. Примите эти стихи На память о вашем приятеле-повесе. |
Достаточно интимное послание для человека, который почти в то же время посылал Милеве «тысячу самых теплых пожеланий».
Эйнштейн испытывал силу своего обаяния и на Джулии Нигли, своей приятельнице из Аарау, той самой, которой он давал советы о том, сколь легкомысленны и ненадежны в сердечных делах мужчины. К ее величайшему изумлению, он попросил ее приехать к нему в Меттменштеттен, в отель. «Как вообще мог молодой человек додуматься до того, чтобы предложить мне побыть с ним в «Парадизе»?» — вопрошает она. Но он высмеял ее смущение и объяснил, что все будет более чем прилично, так как там же будут его мать и сестра.
В Цюрихе Эйнштейн также активно искал женского общества. Он любил музицировать с Сюзанной Маркволдер, дочерью одной из своих квартирных хозяек, и подарил ей ноты нескольких сонат Моцарта для фортепьяно, надписав их «в знак дружбы и восхищения». Кроме того, он катал ее на парусной лодке по Цюрихскому озеру, в очередной раз выказав свою постоянную любовь к лодкам, яхтам и кораблям, которая у него впервые проявилась в возрасте двенадцати лет: тогда он пускал парусные {74} кораблики в цинковой ванне шириной в метр. Когда Милева с приятельницами устраивала чаепития, он охотно в них участвовал, а потом галантно провожал девушек до дома. Особенно внимателен он был к Мари Рохрер, которой к тому же настойчиво предлагал донести книги из библиотеки домой.
На раннем этапе отношений Эйнштейна с Милевой его мать воспринимала их с улыбкой. Он показал ей фотографию Милевы в марте 1899 года и доложил, что она «произвела впечатление», причем добавляет, что усилил его, произнеся убежденным тоном: «Да, да, она, разумеется, очень умна». В конце письма торжествующая фраза: «Моя старушка шлет самые лучшие пожелания». Аналогичные постскриптумы в переписке за это лето встречаются дважды, и краткое «Наилучшие пожелания вашей семье. П. Эйнштейн» написано на одном из конвертов. Но скрыть подспудное напряжение не удавалось. Первый намек на возникшие трения, возможно, относится к августу того же года, когда Эйнштейн обращает к Милеве невнятную ремарку: «Может статься, вся эта история насчет тебя и мамы мне просто примерещилась». По-видимому, достаточно предусмотрительная Милева потребовала, чтобы Эйнштейн никому не показывал ее писем. Возможно, он признался ей в том, что когда-то давал читать матери письма Мари Винтелер. Милева была непреклонна: «Когда-то ты говорил, что с людьми нужно считаться, так что посчитайся со мной и не делай того, что я считаю неуважением по отношению к себе». Он же сообщил ей, что его родители посмеиваются над ним, так как он все время пишет ей письма и не получает ответов.
Полина стала выказывать явную враждебность по отношению к Милеве, когда поняла, что в отличие от прежних увлечений Альберта, не выходивших за рамки флирта, его нынешние отношения серьезны и зашли достаточно далеко. То, что Милева не была еврейкой, значения не имело — Мари Винтелер тоже {75} не исповедовала иудаизм. Но Полина, по-видимому, разделяла свойственное многим жителям Германии предвзятое отношение к сербам. Мнение, что славяне — люди второго сорта, укоренилось в Германии задолго до прихода к власти Гитлера. Полина не доверяла Милеве еще и потому, что воспринимала ее как хищницу — женщина намного старше ее сына, да еще обладающая физическим недостатком, пытается сбить его с пути истинного. Хотя она и согласилась отправлять посылки Альберту на Милевин адрес, но была оскорблена в лучших чувствах, так как усмотрела в этом намек на то, что они живут вместе, а это противоречило ее представлениям о приличии.
Сведения о том, что отношение Полины к ней ухудшилось, дошли до Милевы не через Эйнштейна, а через их общую приятельницу Элен Кауфлер. Та познакомилась с молодой парой, когда поселилась в пансионе Энгельбрехт. Во время каникул на озере Гарда она побывала у Эйнштейнов в Милане, и в разговоре с ней Полина выразила неприязнь к Милеве своим обычным способом, то есть высмеяла ее. Милеву рассказ Кауфлер привел в отчаянье. Она написала:
«Вы думаете, я ей совсем-совсем не нравлюсь? Неужели она и вправду высмеяла меня очень зло? Вы знаете, сначала я почувствовала себя несчастной, совершенно несчастной, но потом утешилась: в конце концов, самый главный для меня человек другого мнения обо мне, и, когда он рисует прекрасные картины нашего совместного будущего, я забываю все свои огорчения».
Эти строки были написаны примерно в июне — июле 1900 года. Имеется письмо, написанное спустя неделю, потом датируемое началом октября, и только еще одно, короткое, в промежутке между ними. Больше ничего из переписки Милевы и Эйнштейна почти за восьмимесячный период не сохранилось. Такой большой разрыв во времени не дает возможности хоть как-то проследить их отношения в эти решающие для их романа месяцы. Слова Милевы {76} наводят на мысль, что, поскольку близился конец их студенческой жизни, Эйнштейн заговорил о браке.
Кризис в отношениях Эйнштейна с родителями был неизбежен, и он не замедлил разразиться. Летом 1900 года Эйнштейн и Милева сдавали последние экзамены (устные и очень сложные) и писали диплом. Они вместе готовились к этому тяжелому испытанию, от которого зависело их будущее, и выбрали общую тему для письменной работы — теплопроводность. Результаты экзаменов объявили в конце июля. Средний балл у Милевы был 4.00, в то время как у Эйнштейна 4.91. Но экзаменаторы, которые, по-видимому, считали проходным балл, близкий к пяти, выдали дипломы четырем претендентам-мужчинам. Провалилась только Милева.
Она вернулась домой в Воеводину усталая и подавленная. Но дух ее не был сломлен, и она намеревалась пересдать экзамены на следующий год. Эйнштейн же отправился в швейцарское курортное местечко Мелхталь, где его ожидало общество матери, сестры и столь презираемой им тетушки Джулии. Его встретили на ближайшем к курорту вокзале, в городке Сарнен, и буквально осыпали поцелуями, но идиллическое настроение было обманчивым. Часть пути с вокзала семья проехала вместе, потом Майя предложила Эйнштейну пройтись, они вышли из экипажа, и по дороге в отель он получил от нее серьезное предупреждение. По ее словам, обстановка дома была настолько накалена, что она боялась даже произнести имя Долли в присутствии матери. Она настоятельно просила Эйнштейна помалкивать, дабы пощадить чувства Полины. Но просьбы были напрасны. Эйнштейн рвался в бой. О том, что было дальше, мы знаем из торжествующего письма, которое он нацарапал Милеве вечером после битвы, сидя в постели. В гостинице он стал обсуждать с матерью последние события, речь, естественно, зашла о результатах выпускных экзаменов. Да, Эйнштейн их успешно сдал, но у него пока {77} не было работы и будущее было весьма неопределенным. «Ну, и что же теперь будет делать твоя Долли?» — как можно небрежнее спросила Полина. «Станет моей женой», — ответил Эйнштейн.
Ответ был перчаткой, которую он намеренно бросил в лицо матери. Эйнштейн, по его собственным словам, подобно Полине, надел маску простодушия и замер в ожидании шторма. Тот не замедлил разразиться.
«Мама зарылась лицом в подушку и разрыдалась, как ребенок. Успокоившись, она немедленно пошла в яростную атаку: «Ты губишь свое будущее, ты закрываешь себе все возможности», «Ее ни в одной приличной семье не примут», «Если она окажется в положении, я тебе не завидую». Последний ее выпад, после множества предыдущих, вывел меня из терпения. Я стал яростно отрицать, что мы жили в грехе, и разругал ее на все корки...».
Едва ли Эйнштейн так хорошо владел собой, как следует из его письма, и едва ли Полина позволила бы сыну свысока ее отчитывать. Но остальные детали похожи на правду. Он пишет, что уже хотел в гневе выйти из комнаты, но не успел завершить сцену столь эффектно: в дверях оказалась знакомая его матери. В присутствии г-жи Бэр, маленькой и очень живой женщины, которой Эйнштейн явно симпатизировал, мать с сыном совершенно переменились друг к другу. Они с величайшим удовольствием завели светскую беседу о погоде, других постояльцах и о дурном поведении некоторых из их детей. Обывательские сентенции, которые Эйнштейн так презирал, сами слетали у него с губ, и его серьезная конфронтация с матерью закончилась фарсом. Скоро наступило время очередной трапезы, после нее отдыхающие музицировали, и все это время Альберт с Полиной изображали дружную семью. Только когда Эйнштейн пришел пожелать матери доброй ночи, они под сурдинку обменялись заключительными репликами. Полина больше всего боялась, что молодые люди «уже были близки»; если нет, у нее {78} оставалась надежда, что еще возможно предотвратить несчастье. Так как сын сказал, что ее опасения безосновательны, она слегка утешилась, но продолжала оскорблять Милеву. «Она — как ты, она — книжный червь, а тебе нужна жена, — сказала она Альберту и нанесла завершающий удар. — Когда тебе исполнится тридцать, она будет старой каргой».
Эйнштейн презрительно отозвался о грубости, с которой Полина поносила его возлюбленную, он писал Милеве, что мать своим поведением вызвала у него только ярость.
Его тактика наводит на мысль, что он хотел спровоцировать такой скандал, вызвать такую бурю, которая помогла бы ему раз и навсегда сбросить с себя гнет материнской власти. Столь подробный пересказ сцен, разыгравшихся между ним и матерью, кажется рассчитанным скорее на то, чтобы испугать Милеву, нежели успокоить. Но сильнее всего Эйнштейн хотел убедить свою возлюбленную и самого себя в том, что бросил своей матери очень смелый вызов. Однако он не смог провести свою стратегию в жизнь.
| {79} |
Как только период первоначальной враждебности миновал, Эйнштейн стал откликаться на малейшее желание своей матери. Он превратился в образцового сына, музицировал, чтобы развлечь гостей, и напропалую льстил всем окружающим. Его успех в обществе был так велик, что у Полины снова поднялось настроение. Он «лил бальзам на раненое сердце твоей будущей свекрови», объяснял он Милеве. Через несколько дней Альберт почувствовал, что они «более или менее» помирились, и доложил, что атмосфера стала вполне сносной. Он предпочел не раздумывать, почему это случилось, и уверенно сообщил Милеве, что его мать постепенно смиряется с неизбежным. «Деликатной темы» помолвки больше не касались, и Эйнштейн делил свое время между прогулками с сестрой по горным склонам, где росли эдельвейсы, и занятиями наукой, которым он с удовольствием предавался, когда частые дожди не позволяли ему надолго выходить из дома. Вскоре Полина стала держаться так, как будто ничего не случилось. Она с невозмутимым видом передавала Эйнштейну письма от Милевы и делала вид, что не замечает, как он строчит ей ответы.
До него не сразу дошло, что это было всего лишь тактическое отступление. Его мать отказалась от ведения открытой войны, но готовилась открыть огонь из «тяжелой филистерской артиллерии», когда получит подкрепление от мужа. Эйнштейн написал отцу о предполагаемой женитьбе, но легкомысленно уверил Милеву, что возможные возражения отца {80} не следует принимать всерьез. Герман ответил длинным негодующим письмом, которое Эйнштейн пренебрежительно охарактеризовал Милеве как проповедь, и посулил еще более серьезную головомойку по возвращении Альберта вместе с матерью в Италию в конце августа. Эйнштейн пожаловался Милеве, что, с точки зрения его родителей, жена это роскошь, которую мужчина может себе позволить лишь после того, как добьется материальной обеспеченности. По его словам, это ставит жену и проститутку на одну доску, с той только разницей, что у жены контракт пожизненный. Эйнштейн уже начинал сожалеть, что так скоропалительно объявил родителям о помолвке, и уговаривал Милеву не обрушивать эту новость на голову ее родственников, хотя и соглашался с тем, что ей виднее, как следует поступить. В его письмах проскальзывают неохотные признания, что в данной ситуации она выказала больше мудрости и зрелости, чем он. «С моей стороны было бы разумнее держать язык за зубами», — неохотно соглашается Эйнштейн.
Его раздирают противоречивые чувства. Он пишет Милеве, что хотел бы пощадить нервы родителей, но только не ценой отказа от того, чем он дорожит, «а это означает — от тебя». Давление на него со стороны родителей усиливается во время поездки в Милан, в которую он отправился после того, как провел несколько дней в Цюрихе. Одной из ее целей было ввести его в курс дела, чтобы он мог встать во главе фирмы вместо своего отца. Эйнштейн высмеял этот неприятный ему ритуал — «принятие Святого Причастия», — на который согласился только затем, чтобы в случае болезни Германа фирма не осталась без руководителя. Тем не менее очевидно, что при определенном стечении обстоятельств Эйнштейн мог уйти из науки ради семейного бизнеса.
Через два дня после приезда в Италию Эйнштейн убедил себя в том, что «история с Долли» {81} пришла к благополучному разрешению. Обещанной головомойки от родителей он так и не получил и написал Милеве, что, по его мнению, «они больше не имеют ничего против наших отношений». Он сообщал, что то и дело упоминает в разговоре ее имя и на него не следует никакой реакции. На этом основании он самоуверенно заявил, что сумел доказать родителям свою независимость. Желаемое он принял за действительное. Через несколько дней в полном смятении он напишет своему «милому котенку»:
«Мои родители очень встревожены моей любовью к тебе. Мама часто и горько рыдает, и у меня нет здесь ни минуты покоя. Мои родители оплакивают меня почти как если бы я умер. Они не устают повторять, что моя привязанность к тебе принесет мне несчастье, они считают, что ты слабого здоровья. ... Ох, Долли! От этого можно сойти с ума».
Это и были залпы тяжелой артиллерии, которых боялся Эйнштейн, огневой шквал смел с лица земли его непрочные оборонительные линии. До того он хвастливо заявлял, что упрямства, заключенного в одном его мизинце, хватит, чтобы преодолеть упрямство Германа и Полины вместе взятых. «Я знаю своих родителей», — самодовольно писал он. Теперь сила их противодействия, основанная на внутренней убежденности, его просто поразила. Он словно не мог поверить, что перед ним та самая чета обывателей, которым он привык великодушно прощать их душевную заурядность. Он написал Милеве, что они ведут себя как одержимые, хотя они-то считают одержимостью его чувство к ней. По его собственным словам, он чувствовал себя скорее преступником, нежели человеком, сделавшим то, «что мне настойчиво подсказывали сердце и совесть». Еще до его приезда было задумано, что он посетит вместе с отцом электростанции, принадлежавшие их семье. Подавленный и обессиленный, Эйнштейн, возможно из желания нанести ответный удар, заявил, что не хочет ехать. Но это так расстроило его родителей, {82} что он «всерьез перепугался» и вернулся в состояние покорности.
Ирония судьбы заключалась в том, что конфликт с семьей только усилил страсть Эйнштейна к Милеве и страх, что он может ее потерять. Отсутствие писем, датируемых первой половиной 1900 года, затрудняет непосредственные сравнения, но, похоже, уже после первого столкновения с матерью страсть Эйнштейна к Милеве усиливается, а ощущение, что он с ней неразрывно связан, становится острее. Эйнштейн пишет Милеве, что «только теперь» понял, как безумно в нее влюблен. Со всем пылом страсти он пишет о том, как хочет обнять ее и прижать к себе, и игриво добавляет, какую жалость вызвали у него целомудренные католические монахини, которых он видел в отеле в Мелхтале. Теперь его письма всегда заканчиваются поцелуями: «долгими поцелуями», «поцелуями от всего сердца», «нежными поцелуями». В его письмах все время варьируется тема о том, что без Милевы он чувствует себя потерянным, лишенным внутреннего стержня. Из того же отеля он пишет: «Когда тебя со мной нет, я не знаю, что с собой делать. Когда я сижу, мне хочется отправиться на прогулку, когда гуляю, мне хочется вернуться домой, когда развлекаюсь, мне хочется учиться, когда сажусь заниматься, то не могу сосредоточиться; а когда ложусь спать, то недоволен тем, как провел день».
По сути то же самое он пишет ей, когда на короткое время возвращается в ставший им родным Цюрих. Там он мог идти куда вздумается, «но я был чужим, мне не хватало твоих маленьких ручек и твоего рдеющего рта, обители нежности и поцелуев». Он жалуется, что проводит целые дни без толку, валяясь в постели в ожидании завтрака, обеда и ужина, вяло размышляя о физике. Изучать ее теперь, когда Милева не ободряла и не поддерживала его, было скучно. Говоря его словами, без нее «у меня исчезает уверенность в себе, удовольствие от работы, {83} радость от того, что я живу — короче говоря, без тебя моя жизнь — это не жизнь».
Негодование Эйнштейна на его родственников и их «прихлебателей» также вспыхивает с новой силой. Критикует он их настолько резко и прямолинейно, что временами напоминает твердолобого идеолога, который обличает загнивающую буржуазию. Это разленившиеся люди, соглашатели и прихлебатели, ведущие праздную жизнь, из-за которой у них атрофировались мозги. Особенно доставалось женщинам — ленивые, расфуфыренные, вечно на что-то жалуются. Нет, сам Эйнштейн, разумеется, не жалобщик, просто сейчас его окружают холодные, глупые и «безнадежно скучные» люди, для которых главными событиями дня являются трапезы, тянущиеся иногда целый час и больше. Как он писал, будучи в снисходительном настроении, беда была в том, что эмоции его родителей и большинства других людей определяются их инстинктами. Он имел в виду, что эти люди находятся на более низкой ступени эволюции, чем он. Более возвышенным натурам не остается ничего, как только напоминать себе, сколь сильно они зависят от этих низко развитых существ в отношении материального комфорта.
Судя по приведенным высказываниям, Эйнштейн воспринимает себя почти как ницшеанского супермена, одинокого интеллектуала, окруженного враждебным человеческим стадом, вынужденного жить «во льду и на горных вершинах» духовного одиночества. Непосредственным вдохновителем этих его мыслей был Шопенгауэр, великий предшественник Ницше, на него он в письмах этого периода часто ссылается. В афоризмах и эссе Шопенгауэра можно найти много излюбленных идей Эйнштейна: от равнодушия к книжной учености и беззаветной веры в «свое мышление» до одобрения полигамии и презрения к буржуазным взглядам на брак. Но наиболее явно указывает на влияние Шопенгауэра любимая идея Эйнштейна о том, что судьба гения — быть {84} одиноким среди не понимающих его существ низшего порядка. Ясно, что молодому Эйнштейну нравилось думать о себе в таких терминах. В зрелые годы он производил совершенно другое впечатление. Его основными чертами стали доброжелательность и скромность, граничащие с самоуничижением. Но как писал Шопенгауэр: «Если способности у вас посредственные, то скромность это всего лишь честность; если же вы обладаете большими талантами, то скромность это лицемерие».
Презрение Эйнштейна к родственницам перекликается с вошедшим в историю женоненавистничеством Шопенгауэра, следствием сложных отношений философа со своей матерью. В старости Эйнштейн, возможно, часто мысленно цитировал отзыв Шопенгауэра о женщинах: «Взятые в целом, они были, есть и будут закоренелыми и неисправимыми обывательницами».
Но на данном этапе ему важно было подчеркнуть, что Милева, как и он, принадлежит к элите. Он уверял ее, что по «таланту и трудолюбию» с ней «в этом муравейнике» (имеется в виду отель в Мелхтале) не сравнится никто. Как бы Эйнштейна ни привлекало одиночество, его чары были не настолько сильны, чтобы отказаться от любви. Когда он смотрел на постояльцев отеля, его утешала одна только мысль: «Джонни, твоя Долли — совсем другой человек».
Опасность для Эйнштейна заключалась в том, что он мог создать у себя в душе чересчур возвышенный образ Милевы, а их встреча после долгой разлуки могла этот образ разрушить. В его письмах проскальзывают признания, что он понимает, насколько тягостно ее положение. Здоровье Милевы пошатнулось, вера в себя была всерьез подорвана. Эйнштейн упрашивает ее побольше отдыхать, выражает радость по поводу того, что мать «откармливает ее» домашней пищей. Мысли о том, что мать заботится о Милеве, кажется, стали для него заместительным источником животворной силы, когда {85} его собственные связи с семьей, с Полиной стали оскудевать. Отец и мать Милевы, писал Эйнштейн, служат примером того, что не все родители на проверку оказываются такими, как у него. Эйнштейн уговаривает Милеву не перегружать себя учебой — на это у нее будет достаточно времени, когда они снова окажутся вместе. Их нынешние трудности только сделают более отрадными те времена, когда они опять поселятся в Цюрихе, будут вместе жить и вместе работать, а на рабочем столе будут дымиться чашечки ароматного кофе. «Я с нетерпением жду минуты, когда снова смогу обнять тебя и крепко прижать к себе, когда снова начнется наша совместная жизнь, — пишет Эйнштейн. — Мы сразу же засядем за физику, и денег у нас будет полным-полно». Он уверяет Милеву, что, думая о ней, каждый раз мысленно обещает никогда больше не дразнить ее и не злить. «Какие же у меня на этот счет приятные иллюзии», — добавляет он.
Настроение у Эйнштейна в этот период самое переменчивое. Припадки бурного оптимизма сменяются приступами отчаянья. Особенно неистово он ликовал 20 апреля 1900 года, то есть сразу по возвращении в Милан. Его счастливая уверенность в том, что он преодолел сопротивление родителей, вылилась в стихотворные строки.
|
Ах, этот пылкий Джонни, Весь в мыслях о подружке: Его мечты о Долли Вот-вот зажгут подушку. Когда мрачнее тучи По дому Долли ходит, Сжимаюсь я в комочек, Она ж меня не видит. К помолвке нашей ранней Родным пришлось привыкнуть, На них нагнал я страху, Они не смеют пикнуть. {86} Ах, клювик милой Долли Поет нельзя чудесней, Но жажду поцелуем Прервать я эти песни. |
Стихотворение до умилительности глупое, но из него многое становится понятным. Эйнштейн похваляется тем, что больше не боится родителей, но с удовольствием вспоминает, какой страх иногда нагоняла на него Милева во время их «совместной» жизни. Мысли о присущей ей мрачноватой силе волновали его не меньше, чем нарисованный его фантазией образ маленькой сладкогласной птички. Стихотворение такого уровня трудно анализировать как серьезный текст, но самая его нелепая сентиментальность наводит на размышления. Его ребяческий тон (еще ярче выраженный в немецком оригинале) совершенно противоречит попыткам Эйнштейна изобразить их отношения как союз двух интеллектуалов, противостоящих обывателям.
Однако именно в таком свете снова увидел их Эйнштейн всего через несколько дней, когда его родители перешли в очередное наступление. Он пишет Милеве, что наука — это его единственная отдушина, а она, Милева — его единственная надежда. Если бы не мысли о ней, то ему просто не хотелось бы жить «среди этого стада убогих людей». А еще через несколько дней он отправляет Милеве очередную порцию детского лепета, из которой, однако, ясно, каково распределение ролей в их совместной жизни. «Ты знаешь, я уже довольно давно бреюсь, и у меня это неплохо получается. Увидишь сама. Я смогу этим заниматься, пока ты будешь варить нам утренний кофе, и больше не стану, как обычно, зарываться в книги, пока ты, бедняжка, занимаешься стряпней, а твой ленивый Джонни предается безделью, торопливо выполнив очередной приказ что-нибудь смолоть».
Эйнштейн был озабочен не только перипетиями своего осложнившегося романа. Он должен был {87} подумать и о своей будущей карьере. После сдачи выпускных экзаменов он надеялся получить место ассистента в Политехникуме, то есть самую низшую из возможных преподавательских должностей. В сентябре он узнал, что его предполагаемый конкурент нашел другую работу, и обратился к возглавлявшему законченное им отделение профессору Адольфу Гурвицу с письменным предложением своих услуг. Гурвиц сказал, что, хотя Эйнштейн и прогуливал обязательные семинары, шансы у него есть. Однако их оказалось слишком мало. Профессор объявил, что ни одна из кандидатур на должность ассистента его полностью не устраивает, и разделил соответствующие обязанности между двумя претендентами. Но на Эйнштейна его выбор не пал. Альберт Эйнштейн оказался единственным из четырех выпускников отделения физики и математики не получившим работы.
В начале октября, то есть за неделю до того как Гурвиц объявил о своем решении, Эйнштейн, судя по его словам из письма к Милеве, «почти не сомневался», что место будет за ним. Это была бравада. Он знал, что его задиристая манера общения и весьма нерегулярное посещение занятий восстановили против него сотрудников Политехникума. Профессор Генрих Вебер, преподававший физику, как-то заметил Эйнштейну, что хотя он очень умен, но обладает одним весьма существенным недостатком: совершенно не терпит замечаний. Альберт мстил обидчику, называя его «герр Вебер», а не «герр профессор»; точно так же в детстве он допекал учителя музыки, герра Шмидта, обращаясь к нему на «ты». Да, Эйнштейн горячо уверял Милеву, что не сомневается в успехе, но тут же писал ей, что отказ не будет иметь для него большого значения, коль скоро она с ним и они вдвоем смогут изучать физику, свободные в своей научной работе, не подотчетные никому. В таком безалаберном настроении он и вернулся 7 октября в Цюрих. Он зарабатывал уроками математики, давая их до восьми раз в неделю, {88} и приступил к изучению термоэлектричества (то есть электрического тока, вызванного разностью температур). На эту тему он намеревался писать диссертацию. Для работы над ней он был вынужден обхаживать профессора Вебера, чья лаборатория в Политехникуме была превосходно оборудована.
Милева была полна решимости пересдать проваленные ею экзамены. Она вернулась в Цюрих через три дня после Эйнштейна в сопровождении своей младшей сестры Зорки. Эйнштейн специально к ее приезду купил две новые кофейные ложечки, но Зорка согласилась посетить его крайне неохотно. «В ней нет ничего женского», — сказал Эйнштейн Милеве, но поспешил добавить, что к «его любимой, его маленькому ученому» это не относится. В ожидании встречи с Милевой он мечтал об их будущей совместной жизни, о том, как они будут копить деньги на два велосипеда, чтобы вместе ездить за город. Но в жизни все получилось иначе. Эйнштейн был вынужден признать, что частные уроки — это слишком ненадежный источник дохода, а их «цыганский образ жизни» — далеко не то, что надо.
Единственным утешительным итогом этого года были его научные достижения. Эйнштейн занялся капиллярностью, то есть феноменом, который заключается в том, что поверхность жидкости деформируется при соприкосновении со стенками сосуда. Его идеи основывались на теории молекулярных сил, в развитии которой он участвовал. При том, что теория молекул еще не была свободна от противоречий, эти идеи представлялись ему совершенно новыми. Они были изложены в его первой научной статье, которую в начале декабря он отправил в «Annalen der Physik», ведущий физический журнал в Германии. «Ты понимаешь, как я горжусь моим возлюбленным», — написала Милева своей подруге, недавно вышедшей замуж Элен Савич, в девичестве Кауфлер; в том же письме Милева охарактеризовала первую статью Эйнштейна как «очень значительную». {89}
Профессор Джон Стейчел, который пристально изучал историю научного сотрудничества Эйнштейна с Милевой, считает эту оценку весьма завышенной и продиктованной в основном любовью. Эйнштейн впоследствии откажется от первых двух своих статей как от чисто ученических и не представляющих ценности. Абрахам Пейс, биограф Эйнштейна и его коллега в поздние годы, назвал эту статью «заслуженно забытой» и интересной только в том плане, что в ней высказана идея о возможной связи между молекулярными силами и гравитацией. Это свидетельствует о стремлении Эйнштейна постичь фундаментальные принципы, которое впоследствии и привело его к столь выдающимся научным достижениям.
При всех своих недостатках эта статья была первым шагом на пути к научной карьере, и есть основания полагать, что она написана не без помощи Милевы. В октябрьском письме он обещал ей, что в Цюрихе они будут вместе работать над некой темой, собирая «эмпирический материал», и добавлял: «Если в результате мы выведем закон природы, мы пошлем статью в «Annalen»». В последующих письмах Эйнштейн говорит о «нашей статье» и «нашей теории молекулярных сил». Его особенно интересует вопрос, применим ли «наш подход» не только к жидкостям, но и к газам. Милева сообщает Элен Савич, что «мы» послали копию «нашей» статьи Людвигу Больцману, надеясь получить от него отзыв. Разумеется, местоимение «мы» — слабое доказательство научного сотрудничества. Когда Эйнштейн излагал статью посторонним слушателям или писал о ней Марселю Гроссману, он употреблял термин «моя теория». Гордость, которую Милева, по ее словам, испытывала за Эйнштейна, также не наводит на мысль, что она хоть в какой-то мере претендовала на соавторство. Если Милева и внесла какой-то чисто профессиональный вклад в первую работу Эйнштейна, он, скорее всего, состоял в том, что она помогла получить экспериментальные данные, подтверждавшие заключения, к которым он ранее {90} пришел. Но все приведенные выше высказывания заставляют предположить, что ее вкладом была преданность их общему делу и что Эйнштейн испытывал удовлетворение, вводя Милеву в свой внутренний мир. «Даже моя работа казалась бы мне бесцельной и ненужной, если бы не мысли о том, что ты довольна мной таким, какой я есть, и тем, что я делаю», — писал он ей. В юности Эйнштейн был склонен к гиперболам, их не нужно воспринимать чересчур всерьез, так как они указывают скорее на степень его смятения, нежели на уверенность в своих чувствах. Однако моральная поддержка Милевы и ее вера в него были ему надежной опорой в то время, когда ему было почти не за что зацепиться.
Но если ты надежен как скала, беда в том, что на тебя могут встать ногами. Эйнштейн мог полностью рассчитывать на Милеву, но не мог предложить ей в ответ такой же безоговорочной поддержки. Из-за того, что она провалила экзамены, а неприязнь к ней родителей Эйнштейна вылилась в крайнюю враждебность, ее вера в себя, по-видимому, сильно пошатнулась. Вначале ее академическая карьера была вполне успешной, но неудача с получением диплома отбросила Милеву далеко назад. Она знала, что, даже если со второй попытки и сумеет сдать экзамены, в академических кругах к ней будут относиться как к посредственности. Более того, она сама признавала, что многое из учебной программы давалось ей очень тяжело, а это значило, что дальнейшая научная деятельность будет сопряжена со все возрастающими трудностями. Ее отзывы о первой статье Эйнштейна показывают, что все ее честолюбивые чаянья были обращены на него. Но достаточно сомнительна его способность оказывать поддержку, в которой Милева так нуждалась: из-за отсутствия работы, сопротивления родителей, а отчасти из-за особенностей характера.
Эйнштейн, так и не найдя работы, решил вернуться к родителям в Милан. Он рассчитывал, что их связи помогут ему, и, как видно, сумел убедить в этом Милеву. Она написала Элен Савич, что он {91} «увезет с собой всю радость, какая есть в моей жизни», но «так лучше для его карьеры, и я не хочу ему мешать: для этого я его слишком люблю. Никто, кроме меня, не знает, как я страдаю из-за этого его решения. В последнее время нам пришлось перенести много трудностей, но грядущая разлука меня просто убивает».
Милева мечтала, чтобы «их любовь перестала быть незаконной в глазах людей», и завидовала Элен, которая в ноябре 1900 года вышла замуж. О Миливое Савиче, который долго и настойчиво добивался ее руки, Эйнштейн с презрением сказал, что Элен «задохнется в его жире». Для Милевы же было важно то, что письма ее подруги дышали счастьем, которого она сама уже почти не надеялась дождаться.
Эйнштейн решил, что не уедет из Цюриха, пока в течение следующего года не закончит диссертации. Настроение у нее поднялось, но ненадолго. Но на рождественские каникулы он отправился к родителям, хотя прежде обещал провести их с Милевой. Она знала, что он подвержен чужим влияниям, и боялась, что родители настроят его против нее. С озлоблением и горечью писала она о «сплетнях и интригах», мешавших Эйнштейну, по ее мнению, получить должность, которой он был безусловно достоин. Он же пребывал в куда более бодром настроении, как это видно из написанного им экспромтом четверостишия.
|
Девушки рыдают, Когда их покидают, Но юноши считают, Что зря они рыдают. |
Рождество прошло без особых событий, Альберт с Милевой провели несколько счастливых дней, развлекаясь тем, что съезжали на санях с холма, возвышавшегося над Цюрихом.
В феврале 1901 года Эйнштейн стал гражданином Швейцарии. Он прожил четыре года вообще без гражданства и пожелал получить швейцарское, потому что восхищался демократическим государственным {92} устройством этой страны. Но были на то и чисто прагматические причины, в частности, гражданство давало ему возможность поступить на государственную службу, например, стать учителем. Но перспективы ему по-прежнему рисовались весьма неопределенными. «Мы покамест представления не имеем о том, что уготовила нам судьба», — писала Милева Элен Савич.
В марте Эйнштейн вернулся в Милан и провел немало недель, безуспешно разыскивая по всей Европе место, куда бы его взяли ассистентом на кафедру физики. Он обращался в Вену, Лейпциг, Геттинген, Штутгарт, Болонью, Пизу. «Скоро все физики от Северного моря до юга Италии удостоятся чести прочитать мои просьбы о приеме на работу», — шутит он в письме. Милева помогала ему, рассылая повсюду перепечатки его первой статьи, но и она, и Эйнштейн подозревали, что за его неудачами стоят козни профессора Вебера, читавшего у них физику. Он, по их мнению, давал о нем недоброжелательные отзывы. По совету Милевы Эйнштейн написал Веберу, как сильно нуждается в его хороших рекомендациях. Положительных результатов это не дало, и Эйнштейн сетовал, что мог бы найти работу давным-давно, если бы не «происки Вебера».
Живя в родительском доме, Эйнштейн чувствовал, что груз проблем, лежащих на его плечах, становится еще тяжелее. Он понял, как сильно ухудшилось и продолжает ухудшаться финансовое положение его родителей. На них наседал главный кредитор Германа, один из дядьев Эйнштейна, которому тот дал прозвище «Рудольф богатый». Отчаянье Альберта, становясь все глубже, передавалось его родителям. Герман по секрету от сына написал Рудольфу Оствальду, одному из двух профессоров в Цюрихе, к которым Эйнштейн обращался с просьбой об устройстве на работу. Герман Эйнштейн безуспешно просил Оствальда черкнуть несколько слов поддержки его сыну, который чувствовал себя «глубоко несчастным», так как у него почти не было надежд на дальнейшую академическую карьеру: {93} его «угнетает мысль, что он, оставаясь без работы, возлагает дополнительное бремя на нас, людей со скромными средствами».
Эйнштейн очень жалел родителей, оказавшихся в трудном положении. В своем первом ответном письме к Милеве он говорит, что, несмотря на их собственные беды, «эти несчастные люди» делают все возможное, чтобы успокоить его. В период столь тяжелого стресса Эйнштейн, по-видимому, испытывал соблазн искать прибежища в кругу семьи, чьи привычные ценности могли дать ему ощущение твердой почвы под ногами. Однако, словно для того, чтобы рассеять Милевины опасения, он очень скоро написал ей, что чувствует себя дома «совершенно чужим» и с особенной ясностью понимает, сколь много «значит для него любовь его малютки по сравнению с родительской любовью. Это день и ночь. Так что я целую тебя от всего сердца и хочу, чтобы ты знала, сколько счастья дарует мне твое чувство: без него моя жизнь была бы невыразимо унылой и мрачной».
Милеве же казалось, что Альберт перестал делиться с ней своими чувствами. Она считала, что он утратил оптимизм, и родители, воспользовавшись его растерянностью, смогут вбить клин между ними. Бравада, с которой он отвечал на все ее попытки прощупать почву, не казалась ей убедительной. Он уверял ее, что «ничуть не обескуражен» отказами в получении работы и что уже сумел «справиться со своей злостью, причиной которой была, в основном, уязвленная гордость». Если бы он действительно был расстроен, то «непременно по привычке излил бы свою душу тебе, самому дорогому и милому мне человеку». Эти слова написаны 10 апреля. А через пять дней Эйнштейн извинится перед Милевой за то, что не приехал на условленную встречу с ней в Лугано, швейцарский курортный городок поблизости от итальянской границы. Якобы он был в депрессии, так как получил еще несколько отказов.
Пока Эйнштейн отчаянно искал работу, Милева усердно готовилась к пересдаче экзаменов и даже {94} надеялась, что в дальнейшем сумеет переработать свою дипломную работу в диссертацию. Эйнштейну было легче писать ей о физике, чем о своих чувствах, его письма в этот период пестрят научными терминами, хотя в них и встречаются жалобы на то, что домашняя обстановка мешает сосредоточенно работать. Его голова по-прежнему полна идей, ум постоянно работает.
Эйнштейн пребывал в состоянии непрерывного творческого горения независимо от того, была Милева рядом или нет, но он по-прежнему стремился делиться с ней своими мыслями, сохранять общность интересов. Он просил ее найти в библиотеке нужные ему данные, прислать учебник. Писал о научной работе, которой они вместе смогут заняться на основе его новых идей. Но наибольшее внимание исследователей привлекла фраза из письма, датируемого 1901 годом. Ее часто приводят как доказательство того, что в этот период Эйнштейн с Милевой уже работали вместе над теорией, благодаря которой он прославился. «Я буду горд и счастлив, — писал он, — когда мы снова окажемся вместе и сможем довести нашу работу об относительности движения до победного конца».
Чтобы эта фраза не казалась вырванной из контекста, нам придется вернуться в прошлое. Когда Милева готовилась к экзаменам для перехода на следующий курс, то есть почти за два года до описываемых событий, Эйнштейн в письме изложил ей некоторые идеи, вылившиеся в 1905 году в статью, которая привела к революции в науке. С тех пор проблемы электродинамики движущихся тел в его письмах почти не фигурировали, но по-прежнему оставались темой его размышлений. Он обсуждал их не только с Милевой, но и с Марселем Гроссманом, с которым прежде вместе готовился к экзаменам по математике, а также со своим другом Мишелем Бессо. Когда его великая теория относительности в своем первоначальном варианте наконец увидела свет, Эйнштейн предварил ее выражениями благодарности в адрес единственного из этих трех людей — {95} Мишеля Бессо. Он был одной из ключевых фигур в жизни Эйнштейна.
Их знакомство состоялось в 1896 году. Бессо в это время получал в Политехникуме профессию инженера, затем работал на фабрике электроприборов в Винтертуре. Это был низкорослый человек, с окладистой бородой и густой гривой темных вьющихся волос. Он происходил из еврейской семьи, которую носило по всему миру. В семнадцатом веке его предки жили в Испании, в дальнейшем семья оказалась в Италии, сам он и его родители были швейцарскими подданными. Бессо родился в Рисбахе, неподалеку от Цюриха, выдающиеся математические способности проявились у него очень рано. Эйнштейн постоянно сетовал на то, что его другу не хватает честолюбия, воли и целеустремленности. «Мишель — просто Питер Шлемиль», — писал он, но испытывал к нему величайшее уважение за его ум и широкий научный кругозор. Бессо был чувствительной, поэтичной, эмоциональной натурой. Эйнштейн называл его «неуравновешенным, почти безумцем», но из-за этого симпатизировал ему еще больше, равно как и многим людям, чьи страсти и эмоции выражались более непосредственно, чем его собственные. В 1898 году Бессо женился на Анне Винтелер, с которой его познакомил Эйнштейн. В начале 1901 года он работал в Милане инженером-консультантом Общества по развитию предприятий, производящих электрооборудование и электроэнергию.
Эйнштейн написал Милеве фразу о «нашей статье об относительности движения» 27 марта 1901 года. Через несколько дней он сообщил ей, что обсудил «нашу работу» с Бессо. Они добрых четыре часа проговорили об эфире, об определении абсолютного покоя, о молекулярных силах и о многом другом. Эйнштейн не скрывал, что их дискуссия доставила ему чрезвычайное удовольствие, но сопроводил упоминание о ней множеством колкостей в адрес Бессо, называя его «тряпкой, человеком, лишенным здравого смысла и чрезвычайно разбросанным», хотя и «невероятно способным». {96}
В качестве примера его странностей Эйнштейн приводит историю о том, как начальник послал Бессо инспектировать электростанцию. Бессо отправился на инспекцию поздно вечером, «чтобы сберечь драгоценное время», но опоздал на поезд. На следующий день он не вспомнил вовремя о том, что у него назначено деловое свидание, и опять опоздал к поезду. На третий день он успел к поезду, но, к своему ужасу, напрочь забыл, что ему нужно было сделать на электростанции, и послал к себе на службу письменный запрос о повторных инструкциях. «Я часто думаю, что этот малый не в себе», — замечает Эйнштейн, упуская из вида, что ему свойственна не меньшая рассеянность.
Повествуя Милеве этот анекдот, Эйнштейн стремится приуменьшить достоинства Бессо как научного сподвижника. Далее следует продолжение: «Он интересуется нашей работой, хотя часто упускает из вида картину в целом, углубляясь в мелочи. Мелочность — неотъемлемая часть его характера, она же служит причиной того, что он часто приходит в нервическое состояние из-за пустяков». Эйнштейн как бы дает понять Милеве, что она свободна от подобной ограниченности и умеет, как и он сам, видеть явление в целом. Ему важно не вызвать у нее ревности по поводу того, что кто-то другой стал его сподвижником. Молодой Эйнштейн очень озабочен тем, чтобы развеять подозрения Милевы на этот счет. Показательно и уже упомянутое нами письмо, где говорится о «нашей работе». Там есть такие строки:
«Ты не должна тревожиться о том, что я расскажу ему (т.е. Бессо. — Прим. ред.) или кому-нибудь другому о наших отношениях. Ты для меня есть, была и будешь святыней, к которой никто, кроме меня, не имеет доступа: я знаю, что так, как ты, меня не любит и не понимает никто из людей. Уверяю тебя, что здесь никто не посмеет и не захочет сказать о тебе ничего плохого. Я буду горд и счастлив, когда мы снова окажемся вместе и сможем довести нашу работу об относительности движения до победного {97} конца. Ты необыкновенная, и чем больше я общаюсь с другими людьми, тем лучше это понимаю».
Слова Эйнштейна о «нашей работе» правильнее всего воспринимать как попытку вновь уверить Милеву в том, что она связана с ним теснее и глубже всех других людей, что в их общее святилище никому нет доступа. Анализируя этот отрывок в более широком контексте, профессор Джон Стейчел пишет: Эйнштейн был «молод, по уши влюблен, он был готов открыть границы своего «я» для Марич, ... но в его представлении невидимая стена отделяла их двоих от всего остального мира, к которому он относился недоверчиво и даже враждебно». Стейчел полагает, что Эйнштейну было свойственно преувеличивать достоинства любимой им женщины и приписывать ей участие в своих достижениях. В этом весьма проницательном объяснении Стейчел не заметил одного: Эйнштейн пишет тоном человека, вынужденного отстаивать свои взгляды, занимать оборонительную позицию. Судя по цитате, молодой человек столь торжественно повторяет свой символ веры потому, что сама вера подверглась жестокому испытанию. Из последних строчек можно сделать вывод, что Эйнштейн способен в полной мере оценить Милеву только тогда, когда видит, сколь ужасны все другие люди. Неужто можно согласиться со Стейчелом и назвать такого мужчину «влюбленным по уши»? Наверное, скорее речь идет о двадцатидвухлетнем юноше, которого любят, а он сам отчаянно цепляется за любовь, но далеко не так уверен в своем чувстве, как говорит. Читая любовные письма Эйнштейна, начинаешь сомневаться, можно ли их действительно так назвать. Скорее это письма человека, который изо всех сил старается быть влюбленным, но дается ему это с большим трудом.
В апреле Эйнштейну наконец забрезжил некоторый просвет с работой. Ему помог Марсель Гроссман, чей отец много лет проработал вместе с Фридрихом Халлером, директором Швейцарского патентного бюро в Берне. Гроссман-старший попросил {98} Халлера принять Эйнштейна на работу, тот дал обнадеживающий ответ. До этого Эйнштейну предлагали место временного работника в страховой компании, но он отказался, так как мысль о восьмичасовом рабочем дне, заполненном рутинной и отупляющей деятельностью, показалась ему невыносимой. Работа в патентном бюро была почти такой же рутинной и изнуряющей, едва ли более творческой, но долгие и безуспешные поиски места в университете сделали Эйнштейна менее требовательным. В его положении это была «прекрасная должность», и он написал Марселю Гроссману, что «глубоко тронут» его верностью, «не позволившей ему забыть своего неудачливого старинного друга».
Почти тогда же и тоже по рекомендации друзей из Политехникума Эйнштейну предложили два месяца поработать учителем в средней школе городка Винтертура, находившегося примерно в десяти милях к юго-востоку от Цюриха. Он должен был замещать преподавателя, проходившего службу в армии. Перспектива по тридцать часов в неделю преподавать начертательную геометрию, которую так ненавидела Милева, была не слишком радужной, но Эйнштейн нуждался в деньгах. «И тут не дрогнет храбрый шваб», — пошутил он и дал согласие. Хорошие новости вернули ему бодрость духа, он снова стал весел и влюблен и, чтобы отпраздновать прием на работу, пригласил Милеву на озеро Комо, расположенное у итальянской границы. Он велел ей захватить с собой голубую ночную рубашку, забытую им в Цюрихе, и пообещал, что они спрячутся в ней вдвоем. «Ты увидишь, что мое уныние как рукой сняло, что я жизнерадостен и бодр, — написал он ей. — И я люблю тебя как прежде. Я сильно нервничал, потому и был с тобой таким гадким. Теперь ты меня не узнаешь, я доволен и счастлив и так хочу видеть мою дорогую Долли».
Милева тоже искала работу, строила планы на будущее. Она подумывала, не стать ли ей учительницей в средней школе города Загреба. Эйнштейн, пребывавший в приподнятом состоянии духа, {99} теперь считал эти амбиции излишними. К чему думать о самостоятельной карьере, если ей уготована должность его «маленькой любимой научной сотрудницы» в Берне? «Мне ты в миллион раз нужнее и дороже, чем всему Загребу!» — писал он. Альберт стал еще самоуверенней, чем прежде. Милева должна радоваться, что она — часть его жизни, ей невероятно повезло. Он и мысли не допускает, что она может иначе смотреть на вещи, убежденностью в этом дышит каждое его слово. «Если бы ты знала, что ты для меня значишь, — пишет он ей, — ты бы не стала завидовать ни одной из своих подруг. Со всей скромностью говорю: моя любовь превосходит то, что дано им всем, вместе взятым».
Его радость, апломб и напористость смели первоначальное сопротивление Милевы. Но не сразу поддавшись им, она написала, чтобы он ехал на Комо один, так как она «утратила вкус не только к развлечениям, но и вообще к жизни». «Я же намерена запереться в четырех стенах и заниматься изо всех сил: мне кажется, что судьба наказывает меня за любую радость. Счастливого пути, отдыхай, и если тебе попадутся на Комо какие-нибудь красивые цветы, пришли их мне».
Непосредственной причиной этого приступа меланхолии было полученное из дома письмо, которое не сохранилось. Но когда Милева в одиночестве сидела и зубрила, ее охватывала все большая безнадежность, и письмо из дома усилило это чувство. Она написала Эйнштейну, жалея себя, упрекая его и словно желая напомнить, что его счастье не является залогом ее собственного. Однако это настроение быстро прошло. «Я немного повеселела и теперь думаю, что мы все же поедем на Комо вместе» — так на следующий день взяла она свой отказ обратно.
Теперь Милева просила Эйнштейна только об одном: не проспать, чтобы она не томилась в ожидании их встречи. «Ты же так любишь свою маленькую Долли и так хочешь поскорей ее увидеть, — пишет она ему. — Твои страстные любовные письма приносят ей такую радость. Они говорят ей, что она по-прежнему твоя малышка-возлюбленная, и, о Господи, {100} если бы ты знал, какими нежными поцелуями она мечтает тебя осыпать».
Совместные каникулы, начавшиеся на озере Комо, одни из самых ярких, наполненных физическим и душевным блаженством дней в жизни Эйнштейна с Милевой. Ее подробное письмо к Савич об этой поездке дышит восторгом. Эйнштейн встретил ее «с распростертыми объятиями, сердце у него неистово билось». Первую половину дня они провели в городе Комо, гуляли и сидели в кафе, наслаждаясь видами на воду и окрестные горы. Затем на пароходе переплыли на северо-восточную сторону озера в городок Колико, по пути посетив прославленную виллу Карлотта на западном берегу. Там они с восхищением осмотрели коллекцию мраморных статуй, принадлежащих резцу Кановы, в их числе была знаменитая скульптурная группа «Амур и Психея», потом прогулялись по роскошному парку, террасами спускавшемуся к озеру, который славился своими азалиями, камелиями и рододендронами, ослепительно красивыми в свете весеннего солнца. «У меня нет слов, чтобы описать все это великолепие, — пишет Милева и шутя добавляет, — нам не позволили сорвать ни одного цветка».
На следующий день любовники двинулись на север, в сторону Шплунгена — перевала через Альпы. Они шли по крутой, извилистой, живописной дороге, их глазам открывались романтические пейзажи: водопады, ущелья. Зона мягкого климата скоро кончилась, перевал находился на высоте более 2000 метров над уровнем моря, толщина снежного покрова на нем достигала шести метров. Милева пишет, что они наняли сани «по размеру как раз подходящие для двух влюбленных» и понеслись вперед в снежном вихре, а возница стоял позади на маленькой приступочке и весело болтал с ними, именуя Милеву «синьорой», как будто они с Эйнштейном уже были супругами. «Мы неслись вперед то меж высоких, как стены, сугробов, то по открытой местности, где не было ничего, кроме снега, куда ни кинь глаз, при виде этой белой холодной бесконечной {101} пустыни меня бросало в дрожь, и я крепче обнимала моего любимого под ворохом прикрывавших нас пальто и шалей», — вспоминает Милева.
На санях они за несколько часов доехали до перевала, вниз двинулись уже пешком. Идти по снегу было тяжело, погода становилась все пасмурней, но они были слишком заняты друг другом, чтобы придавать этому значение. «Как я была счастлива хоть недолго побыть наедине с моим любимым, тем более что ему это доставляло такое же счастье!» — пишет Милева.
Итак, Эйнштейн вернулся в Цюрих за оставшимися там вещами, причем в какой-то отель его отказались поселить, так как вид у него был весьма потрепанный, а потом поехал в Винтертур и приступил к работе преподавателя. Он поселился в чистой и просторной комнате, у той же хозяйки, что и Ганс Вохлвенд, его старинный приятель, с которым он часто проводил часы досуга. Каждый день с утра Эйнштейн давал уроки в техникуме, но они отнимали у него не слишком много сил, и по вечерам он продолжал заниматься физикой у себя дома или в библиотеке. По воскресеньям он встречался с Милевой, которая писала новый диплом под руководством профессора Вебера. Она рассчитывала, что если ей удастся сдать экзамены, то диплом превратится в диссертацию, и она получит звание доктора в Цюрихском университете.
Узость научного кругозора коллег-учителей вскоре начала угнетать Эйнштейна, он по-прежнему писал Милеве, что только она одна придает смысл его жизни. Он желал такой же близости с ней, как во время поездки на Комо. «Как мне было хорошо, радость моя, когда ты всем телом прижалась ко мне и позволила заключить себя в объятия. Я страстно целую тебя за это, мой маленький добрый дух!». Милева тоже с нетерпением ждала каждой их встречи. «Я буду усердно заниматься, чтобы выкроить побольше времени для свидания с тобой и — о Господи, вот увидишь, какой прекрасной станет для нас {102} жизнь, когда я буду твоей маленькой женушкой. Я стану самой счастливой женщиной в мире, а это значит, что и муж мой будет счастлив».
Вскоре Милева обнаружила, что беременна. Для молодой женщины это была плохая новость. Милева была одна, вдали от родных, ей оставалось всего два месяца до экзаменов, столь существенных и для ее самооценки и для ее будущей карьеры. Ее возлюбленный — нищий мечтатель, их брак для него — всего лишь туманная перспектива, у него все еще нет постоянной работы, его родители терпеть ее не могут. Милева обожала Эйнштейна и гордилась, что носит под сердцем его ребенка, материнский инстинкт был у нее очень силен, как покажут в дальнейшем ее отношения с сыновьями, но в сложившейся ситуации беременность отодвигала счастливое будущее, о котором она мечтала, в еще более туманную даль.
По-видимому, о своем состоянии Милева сообщила Эйнштейну во время одной из его поездок в Цюрих, его письмо (самое раннее из сохранившихся, где об этом упоминается), датировано 28 мая 1901 года. Письмо открывают выражения трогательной и непритворной радости, но к будущему отцовству Эйнштейна это отношения не имеет. Он сначала пишет, как вдохновила его недавно вышедшая статья по физике, и только потом — об их с Милевой будущем.
«Мой милый котенок!
Я только что прочел статью Ленарда о влиянии ультрафиолетового излучения на возникновение катодных лучей, она доставила мне такое удовольствие, вызвала такой восторг, что я непременно должен с тобой поделиться. Живи спокойно, будь весела, ни о чем не тревожься. Я не оставлю тебя и разрешу все наши проблемы к общему благополучию. Потерпи немного. Ты увидишь, что мои объятия не такой уж ненадежный приют, пусть даже сначала все у нас получается не слишком гладко. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Как наш мальчик? Представляешь, как будет прекрасно, когда мы снова {103} сможем работать вместе, без всяких помех, и никто не посмеет указывать нам, что и как надо делать. Множество радостей будет тебе наградой за все твои нынешние неприятности, мы будем жить мирно и счастливо».
Из письма не видно, чтобы Эйнштейн отдавал себе отчет, как сильно рождение ребенка может изменить его жизнь, как мало у него шансов на то, что они с Милевой «снова смогут работать вместе, без всяких помех». И думать, что Милеве в ее положении захочется ликовать с ним вместе по поводу открытий Ленарда, тоже достаточно нелепо. О будущем ребенке Эйнштейн упоминает шутливо и вскользь, отделываясь словами, что это непременно будет мальчик. Похоже, что он старается относиться к ситуации как можно легче. Через несколько строчек в том же письме он спросит: «Как наш малыш? И как твоя диссертация?»
В письмах в последующие несколько недель Эйнштейн уделяет беременности Милевы столь же мало внимания. Он поглощен намерением бросить вызов научному миру с его устоявшейся иерархией. Для этого Эйнштейн идет в атаку на Пауля Друда, редактора «Annalen der Physik». Он отправляет Друду длинное письмо, где выдвигает ряд возражений против его электронной теории металлов (Друд объяснял их термические и электрические свойства, прибегая к понятию электронного газа). Эйнштейн с гордостью пишет Милеве, что его доводы нельзя опровергнуть, они слишком просты и очевидны. К выводам, аналогичным теории Друда, он пришел самостоятельно и потому считал себя вправе «указать ему на ошибки» как равный равному. И снова в его письмах сначала упоминаются связанные с наукой темы и только потом — личные. «Помнишь, какую неловкость я допустил в прошлый раз? — пишет он. — Но можешь не волноваться, Друду я об этом не напишу ни слова. Как твоя учеба, как ребенок, как настроение? Хочется думать, что и то, и другое, и третье в полном порядке. Посылаю тебе множество поцелуев, надеюсь, это тебя подбодрит. {104} Будущее с лихвой воздаст нам то, о чем можно только мечтать в настоящем».
Эйнштейн надеялся, что его блестяще аргументированное письмо к Друду поможет ему найти место в университете, он ясно дал понять, что в этом нуждается. Но Друд попросту отмахнулся от его возражений. Атакуя одного из гигантов тогдашней науки, школьный учитель на временной должности ни на что другое и не мог рассчитывать, но гордость Эйнштейна была жестоко уязвлена. Тремя месяцами ранее он писал Милеве, что Друд — «человек несомненно блестящий», теперь же он превратился в «не лучшего представителя рода человеческого», чей ответ только подтвердил тезис о его косности. Эйнштейн еще раз уверился в том, что все тупицы мира заключили сговор против него лично. «Неудивительно, что поневоле постепенно становишься мизантропом», — пишет он Милеве. В письме к Паулю Винтелеру он обещает, что переформулирует свои возражения в хлесткую критическую статью и тогда «Друду несдобровать». «Бездумное преклонение перед авторитетом — главный враг истины», — заявляет Эйнштейн.
Но его угрозы оказались пустыми словами. Он не стал публиковать статью и никогда ничем не задевал Друда. В своей знаменитой, перевернувшей представления физиков статье о квантах света Эйнштейн первую ссылку делает на работу Друда и никоим образом не критикует его методы. Все его угрозы были шумовыми эффектами, он актерствовал так же, как тогда, когда живописал Милеве свои конфликты с матерью. Но, что весьма существенно, снобизм Друда пробудил в Эйнштейне дух противоречия и заставил его поклясться, что он женится на своей беременной возлюбленной во что бы то ни стало. Эйнштейн сказал Милеве, что принял «окончательное решение» согласиться на любую работу, как бы она ни противоречила его «личным амбициям». Как только он найдет работу, они поженятся и тайно заживут одним домом, а свои семьи поставят перед фактом. «Тогда никто не сможет бросить в мою {105} любимую камень, и горе тому, кто посмеет сказать хоть слово упрека в твой адрес», — пишет он Милеве. В старости Эйнштейн утверждал, что женился на Милеве только из чувства долга, но, судя по этим строчкам, им руководили другие, более сильные чувства. Его унизили, и он нуждался в поддержке Милевы, он хотел, чтобы в борьбе со всеми обывателями мира у него был преданный сторонник.
Милеве было приятно читать эти обещания, но относилась она к ним не без скепсиса. Она была слишком тонким человеком, чтобы принять его актерство за чистую монету, и предостерегала его, чтобы он не опускал планку своих требований чересчур низко. По ее словам, если бы он согласился на «действительно плохую работу», это было бы глупо и она «чувствовала бы себя — хуже некуда, просто не могла бы жить». Эйнштейн теперь всерьез подумывал о том, чтобы наняться в страховую компанию, рассчитывая, что ему сможет оказать протекцию отец Мишеля Бессо, бывший директором крупной фирмы в Триесте. По подсказке Поста Винтелера он подал заявление на вакантное преподавательское место в техническом училище города Бургдольфа под Берном, но ему отказали. В какой-то средней школе также было преподавательское место, но Эйнштейну предпочли его старинного приятеля Марселя Гроссмана. Надежды на работу в патентном бюро все не сбывались, а когда Эйнштейн попытался получить там административную должность, ему ответили отказом. Ему удалось найти только еще одну временную работу в частном пансионе в Шафхаузене. Его преподавательская деятельность в основном сводилась к тому, что он готовил девятнадцатилетнего англичанина Льюиса Кагена к школьным экзаменам.
Милева попыталась пересдать выпускные университетские экзамены в конце июля 1901 года. По-видимому, в ее ситуации на успех рассчитывать не приходилось. Беременность стала для нее серьезным психологическим испытанием и, кроме того, судя по ее письму к Эйнштейну, написанному в самый {106} разгар подготовки, Милеву все время отвлекали мысли о нем, она скучала и не могла сосредоточиться. Она писала ему, что много работает, что ей нужно изучать труды и лекции Вебера, но тут же прибавляла, что «ни одной минуты не проходит» без того, чтобы она не думала о встрече с ним, о том, что «увидит его не в мечтах, а воочию, и осыплет поцелуями, которых так жаждет ее сердце».
Но вместо того, чтобы быть с ней рядом и поддержать в период испытаний, Эйнштейн предпочел провести каникулы с матерью и сестрой, поселившись в отеле «Парадиз» в Меттменштеттене. Оттуда он прислал Милеве письмо, в котором пожелал ей удачи на экзаменах, а также сообщил, что в патентное бюро его не взяли и что у матери есть какие-то подозрения насчет их отношений — намек достаточно невнятный. Едва ли такие вести могли подбодрить Милеву. Милева также упоминала, что у нее было «несколько мелких размолвок» с профессором Вебером незадолго до экзаменов. Возможно, отношения Милевы с ее научным руководителем были испорчены его неприязнью к Эйнштейну. Шансы Милевы на успех могли уменьшиться не только из-за ее трудностей с математикой, но и из-за того, что она воспринимала научные баталии своего возлюбленного как свои собственные.
Как бы то ни было, Милева снова провалила экзамены. Средний балл у нее был 4.0, тот же, что и годом раньше. Она снова оказалась единственной из экзаменуемых, кому не дали сертификата на право преподавания, у остальных пяти претендентов средний балл был 5.0 и выше. Милева забросила диссертацию и дала клятву больше никогда не сотрудничать с Вебером. В состоянии крайней подавленности она вернулась в Воеводину, чтобы сообщить родителям «неприятные новости» об учебе и личной жизни. Они с Эйнштейном решили, что он предварит ее приезд письмом, в котором сообщит отцу Милевы о своем намерении жениться на ней. Милева попросила Эйнштейна, чтобы он дал ей прочесть это письмо и чтобы оно было по возможности {107} коротким — очень разумная предосторожность, если учесть, какие дипломатические способности Эйнштейн выказал в прошлом.
Во время каникул его стычки с матерью продолжались, но Милева отказывалась верить, что Полина никогда не изменит враждебного к ней отношения. «Это означало бы, что ею движут только честолюбие и эгоизм, а таких матерей не бывает», — писала она. С натужным оптимизмом эта двадцатипятилетняя женщина настаивала, что сможет переубедить родителей Эйнштейна и развеять то неверное впечатление, которое они о ней составили, сколько бы времени ей на это ни потребовалось. Милева намекала, что разработала ряд хитроумных стратегических ходов, чтобы переломить ситуацию, но в качестве единственного примера приводила одну достаточно беспомощную идею. Она намеревалась снискать расположение кого-либо из тех людей, которых родители Эйнштейна особенно ценили, почему-то полагая, что в этом случае они оценят и ее самое. Все это было не более чем самообманом, утешительными бреднями. На самом деле Милева не верила полностью никому и ни в кого, кроме Эйнштейна, а он еще раньше писал ей, что даже их лучший друг Мишель Бессо, кажется, удручен ее беременностью. В ответ она причислила Бессо к их с Эйнштейном врагам-обывателям, настолько увязшим в трясине банального существования, что «подлинные человеческие отношения перешли для них на задний план».
Обстоятельства, при которых Милева вернулась в родительский дом, ее семья восприняла достаточно болезненно. Эйнштейн со смехом говорил, что Марица Марич собиралась задать ему хорошую трепку. Однако, похоже, родители Милевы отнеслись к ситуации с огорчением, но с пониманием. Если что-то и привело их в настоящую ярость, это письмо матери Эйнштейна, содержавшее злобные нападки на характер их дочери. У Милевы просто в голове не укладывалось, что Полина могла ее так неистово поносить. Соответственно, Милева больше не могла {108} притворяться, говоря себе и другим, что по сути Полина человек хороший. Безуспешно пытаясь скрыть свой гнев под маской иронии, она пишет Элен Савич, что глубоко несчастна из-за «прекрасного поведения моей дорогой свекрови». «Как видно, у этой дамы одна цель: испортить как можно больше жизнь не только мне, но и своему сыну. Ох, Элен, я никогда бы не поверила, что бывают такие бессердечные люди, она же воплощенная злость!»
Почти сразу по получении письма Полины, то есть в начале ноября, Милева возвращается в Швейцарию, чтобы быть как можно ближе к Эйнштейну. В сентябре он приступил к преподавательской работе в Шафхаузене, в двадцати милях от Цюриха. Она поселилась в нескольких милях от него, в городке Штейн-Ам-Рейн, в отеле Штейнерхоф. Этот выбор уменьшал шансы, что слухи о ее приезде дойдут до его родителей. Как всегда, она опасалась, что он сболтнет лишнее, и строго-настрого проинструктировала его, какие меры предосторожности ему следовало предпринять, чтобы Полина и Герман ни о чем не догадались. Эйнштейн не должен был говорить о ее приезде даже сестре, это тоже было рискованно. «Я больше не хочу конфликтов. Сама мысль о них приводит меня в ужас, — пишет она. — Без них мне хорошо и спокойно... Скажи родителям, что я в Германии».
Милева прожила в отеле всего несколько недель. Как ни странно, Эйнштейн уклонялся от свиданий с ней, и вполне понятно, что Милева на него сердилась, об этом говорят два сохранившихся письма. Он утверждал, что у него нет денег на более частые поездки, она не принимала подобных объяснений — он получал 150 франков в месяц, имея крышу над головой и живя на всем готовом. Милева предлагала прислать ему деньги, грозилась, что уедет, если он по-прежнему будет пренебрегать ею. «Если бы ты только знал, как я хочу тебя видеть, — писала она. — Я думаю о тебе все дни напролет, и ночи тоже».
Милева посылала ему цветы, он посылал ей книги, ее отклики на них говорят о многом. Так, {109} монография по термодинамике, написанная немецким физиком Максом Планком, удостоилась ее небрежного отзыва: «Это было интересно». Теперь Милеву занимало другое, она с увлечением читала книгу о гипнозе, написанную Августом Форелем, директором психиатрической клиники Бюргольцли в Цюрихе. Когда Милева училась в Политехникуме, она прослушала курс по психологии, причем лектор отзывался о гипнозе как о недозволенном методе воздействия на психику. Идеи Фореля вызывали у нее «аналогичное негодование и отвращение», представлялись ей «насилием над человеческим сознанием». Она писала об этом предмете с куда большим жаром, чем о физике. В своем ниспровержении медицинских авторитетов она была столь же решительна, сколь Эйнштейн по отношению к своим коллегам. Она объявила, что Форель — шарлатан, который может одурачить «стадо глупцов», но никак не ее. Во многих письмах Эйнштейна содержатся обещания когда-нибудь в дальнейшем изложить ей свои идеи, он пишет как учитель, обращающийся к любимой ученице. Она отвечает в той же тональности, обещает объяснить ему, почему ей кажутся аморальными эксперименты Фореля.
Милева вернулась домой в конце ноября, на восьмом месяце беременности. Хотя она и мало общалась с Эйнштейном, поездка в Швейцарию слегка подняла ей настроение, но надежд на то, что он получит постоянную работу, у нее было немного. Милева прекрасно понимала, чем он не нравился работодателям — у него «был очень злой язык» и он был евреем. Она писала Элен, что они по-прежнему оставались «незадачливой влюбленной четой» и, несмотря на все невезение, она по-прежнему «любит Эйнштейна без памяти».
Эйнштейн прервал научные контакты с профессором Вебером. Его руководителем считался теперь сотрудник Цюрихского университета профессор Кляйнер, заинтересовавшийся его теоретическими разработками. Милева по-прежнему верила в научный {110} гений Альберта и пела дифирамбы его «великолепной работе» о молекулярных силах в газообразных веществах, которую он предложил на суд Кляйнеру в качестве докторской диссертации, но впоследствии от нее отказался. Милева «читала эту работу с восхищением и радовалась, что у ее любимого такая прекрасная голова на плечах». Эйнштейн был еще лучшего мнения о собственном детище, но профессор Кляйнер не спешил вынести о нем свое суждение, и это действовало Эйнштейну на нервы. «Надеюсь, он не посмеет дать плохой отзыв о моей диссертации, в противном случае мне с этим ограниченным господином делать нечего», — писал он в конце ноября. Через три недели он издергался и рассвирепел еще больше. «Поразительно, сколько препятствий ставят эти старые филистеры на пути у тех, кто не принадлежит к их стаду», — сетует Эйнштейн. По-видимому, в его работу входили упомянутые ранее нападки на Друда, чей ответ его оскорбил, и Эйнштейн решил, что второй такой оплеухи не потерпит. «Если он не одобрит эту работу, я опубликую и ее, и его отказ и выставлю его дураком, — грозит Эйнштейн. — Но если он ее примет, посмотрим тогда, что скажет милейший герр Друд». Эйнштейн проникся холодным презрением к иерархии, царившей в научном мире, он был убежден, что ретрограды вроде Кляйнера видят в каждом одаренном молодом человеке угрозу своему достоинству. Эйнштейн дал торжественную клятву, что в будущем станет помогать «всем способным молодым людям», оказавшимся в аналогичном положении.
Эйнштейн уклонялся от встреч с Милевой, когда она жила в Штейн-Ам-Рейне, но тем удивительнее, что в последующие недели он буквально забросал ее письмами. Он жаловался на свое полное одиночество, на то, что в Шафхаузене не разговаривает ни с кем, кроме своего ученика Кагена. Это было очередное преувеличение, и, кроме того, он достаточно приятно проводил время на концертах и {111} музыкальных вечерах, где выступал и в роли участника, и в роли слушателя. Тем не менее для него единственной формой подлинных человеческих контактов была переписка с Милевой или, говоря его словами, ее письма были «единственной радостью, которая грела ему душу», и он буквально проглатывал каждое письмо. Если их хотя бы три дня не было, он шутливо сетовал, что, вероятно, почтальон пускает их на растопку или на другие неудобопроизносимые нужды. Он просил Милеву подробно описывать, что она делает каждый день, чтобы он мог в картинах представить себе ее жизнь, и признавался, что ее письма помогали ему бежать от действительности в вымышленный мир, окрашенный ее присутствием. «Они предназначены заменить мне жену, друзей, приятелей и родителей, и прекрасно справляются со своей задачей», — писал он ей. Тут же он уточняет, что, «разумеется», предпочел бы не мечтать о ее обществе, но быть с ней вместе. В другом письме он говорит, что ему лучше всего, когда он один, он не нуждается ни в каком обществе, но тут же добавляет «за исключением твоего». Нет оснований не верить Эйнштейну, когда он в том же письме признает, что, по его мнению, «у каждого нормального мужчины должна быть возлюбленная». Он действительно пришел к такому выводу, но применять его на практике Эйнштейну оказалось куда труднее, чем теоретизировать на сей счет.
Эйнштейн порой сознательно углублял разрыв между собой и окружающими. Похоже, он стремился к одиночеству для того, чтобы убедиться в собственной внутренней независимости. В Шафхаузене он выдержал схватку с директором пансиона Якобом Нюешем. этот сюжет напоминает о его первых серьезных конфликтах с матерью. Эйнштейн постоянно ужинал вместе с доктором Нюешем, его женой и четырьмя детьми, и это ему ничуть не нравилось. Он попросил увеличить ему зарплату настолько, чтобы он мог питаться вне дома; возможно, таким образом он рассчитывал сэкономить на желудке и скопить немного денег. Доктор Нюеш ответил рассерженным {112} и резким отказом, но пошел на попятный, когда Эйнштейн дал слово, что в противном случае предложит свои услуги в другом месте. Это были пустые угрозы, учитывая, с каким трудом Эйнштейн нашел даже свою нынешнюю работу, но тем больше он гордился одержанной победой. «Да здравствует безрассудство, — написал он Милеве, — оно — мой ангел-хранитель в этой жизни».
Живописуя этот эпизод, Эйнштейн становится на котурны; помнится, в таких же красках он описывал ей свои баталии с матерью. Доктор Нюеш «весь покраснел» от злости, но вынужден был отступить после мастерски проведенной Эйнштейном контратаки. Семейству Нюешей осталась в удел «бессильная ярость»: он будет-таки столоваться в соседнем трактире. Дальнейшее повествование выдержано в рамках жанра. Эйнштейн остался очень доволен своим первым походом в трактир, там в первый же день он познакомился и подружился с двумя фармацевтами. Однако проходит еще несколько дней, и все посетители трактира превращаются в глазах Эйнштейна в неумных и скучных обывателей. Он пишет Милеве, что на переменах вертит в руках свой карманный нож и безучастно смотрит в окно. «Люди в Штафхаузене думают, что я ни разу в жизни не смеялся, — пишет он в том же письме. — Они не видели, каким я бываю, когда моя Долли со мной».
В тот четверг, во время последнего ужина у Нюешей, Эйнштейну, наконец, забрезжила надежда. Он увидел, что на край его глубокой тарелки опирается конверт, это оказалось письмо от Марселя Гроссмана. Он сообщал, что долгожданное объявление о конкурсе на замещение вакантной должности в патентном бюро должно вот-вот появиться в газете. И, самое главное, Гроссман не сомневался, что это место получит именно Эйнштейн. Альберт написал, что «у него голова кругом пошла от радости», а через неделю возликовал еще больше, получив письмо с просьбой предложить свою кандидатуру от самого директора патентного бюро Фридриха Халлера. {113} Сообщение о вакансии инженера второго класса появилось в швейцарской федеральной газете 11 декабря. Эйнштейн подал заявление через неделю, но положительного ответа дождался только в июне. Впоследствии ему рассказали, что Халлер намеренно составил такой список требований к кандидату на должность, чтобы весьма специальные профессиональные знания Эйнштейна ему соответствовали. Эйнштейну предстояло получать от 3500 до 4500 швейцарских франков в год. Его друг Якоб Эрат заметил, что жизнь в Берне очень дорога и этих денег будет недостаточно, чтобы содержать семью, но Эйнштейн был не в том настроении, чтобы прислушиваться к подобным советам. Он написал Милеве, что Эрат (который сам женился очень поздно, в 1914 году) воспринимает женитьбу «как горькое лекарство, которое следует принимать в строго определенное время». Занятно, добавил он, что двое людей настолько по-разному смотрят на вещи.
Как это бывало уже не раз, Эйнштейн, исполнившись оптимизма, стал куда теплее относиться к своим ближним. Летом он жаловался, что в трудную минуту друзья готовы его оставить. Теперь его благодарность Гроссману, «который никогда не переставал думать о нем», не знает границ. Профессор Кляйнер перестал быть филистером от науки и консерватором, твердо решившим чинить Эйнштейну препятствия. Хотя он так и не прочел диссертации, но превратился в просвещенного наставника, всячески поддерживавшего Эйнштейна в его стремлении развивать идеи об относительности движения. «Он совсем не такой дурак, как я думал, и, более того, он славный малый», — написал Эйнштейн. Но особенно усиливаются его чувства к Милеве. «Теперь все наши беды позади, — продолжает он. — Только сейчас, когда у меня с плеч свалился этот ужасный груз, я понимаю, как сильно я тебя люблю». Что из того, что он «не в первый раз» забыл об ее дне рождения? Скоро он заключит свою верную Долли в объятия «и назовет женой перед Богом и людьми». Светлое будущее им обеспечено, хотя Эйнштейну {114} оно представлялось всего лишь возвратом в прошлое. Первой его реакцией на обнадеживающую весточку от Гроссмана были обращенные к Милеве слова о том, что «теперь мы будем студентами ... и останемся ими на всю жизнь» и нам не будет дела до всего остального мира. Получив письмо от Халлера, он обещает Милеве: «Скоро ты снова будешь моей «ученицей», как тогда в Цюрихе. Ты ведь тоже на это надеешься?»
О том, что у Милевы очень скоро родится ребенок и с этим могут быть связаны реальные трудности, Эйнштейн особенно не задумывался. Он отделывался тем, что шутя называл будущее дитя «Гансерль» (Гансик), имея в виду, что это должен быть непременно мальчик. Милева же писала ему о нашей «Лизерль» (Лизочка), с шутливой настойчивостью намекая, что ждет девочку. Он просил ее нарисовать «смешную малютку», которую она собирается произвести на свет. Более серьезным тоном он упомянул о ребенке только один раз, причем слова его носят достаточно зловещий характер. «Нам осталось решить только одну проблему, как оставить нашу Лизерль при нас. Мне не хотелось бы от нее отказываться. Спроси своего отца. Он человек опытный и знает жизнь лучше, чем твой совсем заработавшийся и непрактичный Джонни». За этими словами следует шутливое предупреждение, что малютке ни в коем случае не нужно давать коровье молоко, потому что от него глупеют.
Однако эта шутка едва ли сделала предыдущую фразу более безобидной. Мы не знаем, возникал ли в предыдущих письмах вопрос о том, чтобы отдать ребенка в чужие руки. Возможно, именно в этой связи Милева в одном из писем говорит Эйнштейну, что с Савич нужно сохранять хорошие отношения, «потому что она может помочь нам в очень важном деле». Но фраза эта настолько туманная и расплывчатая, что на ней нельзя основывать никаких выводов. Слова Эйнштейна написаны в нетипичной тональности и кажутся неискренними. Они служат {115} намеком, что он уже сделал выбор (не в пользу ребенка) и хочет, чтобы другие его поддержали. Милева была на сносях, но конкретного предложения заключить брак так и не получила. Незамедлительно съезжаться с ней Эйнштейн тоже не собирался. Он решил последовать совету профессора Кляйнера и до того, как для него освободится место в патентном бюро, опубликовать свои идеи касательно экспериментов для выяснения существования и свойств эфира. Это означало, что ему придется пробыть в Штафхаузене все зимние каникулы, не считая нескольких рождественских дней, которые он провел с сестрой в отеле «Парадиз» в Меттменштеттене. «Как жаль, что тебя там не было, — написал он Милеве. — Но мы с тобой окажемся в нашем общем раю очень скоро».
Позднее Эйнштейн дал понять, что пребывание в отеле не доставило ему удовольствия. Милева прислала ему туда рождественские подарки — табак и лакомства, которые он съел почти сразу. В письме он благодарит за посылку, рисует картину их будущей жизни и жалуется на то, как скучал в обществе сестры:
«Когда ты станешь моей маленькой женушкой, мы будем вместе прилежно заниматься наукой и потому никогда не превратимся в двух старых обывателей, так ведь? Моя сестра показалась мне на этот раз непроходимо глупой. Только не становись похожей на всех на них — это было бы невыносимо. Ты всегда должна оставаться моей колдуньей и моим уличным сорванцом... Все, кроме тебя, кажутся мне чужими, они словно отделены от меня невидимой стеной».
| {116} |
Милева родила девочку в конце января или в начале февраля 1902 года. Роды были трудные, после них она тяжело болела, и у нее не было сил писать Эйнштейну. Никаких записей о рождении ребенка не сохранилось, но принято считать, что это событие произошло вдали от Швейцарии, возможно, в доме родителей Милевы. Ее отец сообщил новость Эйнштейну, который признался, что «был напуган до полусмерти». Он предполагал, что дела обстоят не вполне благополучно и, наверное, увидев на конверте почерк Милоша Марича, заподозрил самое худшее.
Эйнштейн ответил письмом, исполненным сочувствия и сострадания к своей бедной, милой возлюбленной, где сокрушался по поводу того, при каких грустных обстоятельствах «наша дорогая Лизерль» появилась на свет. «Тяготы всех других судеб по сравнению с этим ничто», — восклицает он и забрасывает адресатов вопросами, подобающими взволнованному молодому отцу. Здорова ли девочка? Хороший ли у нее аппетит? На кого из родителей она больше похожа? Кто ее кормит? Еще не успев увидеть своей дочери, Эйнштейн объявляет, что уже ее любит. Он просит Милеву, как только она поправится, прислать фотографию девочки или нарисовать ее портрет. Ему нравится рассматривать рождение ребенка с научных позиций, он шутит: «Хорошо бы мне тоже родить Лизерль, это должно быть потрясающее чувство». Он просит Милеву «вести наблюдения» за развитием ребенка и добавляет: «Разумеется, она уже научилась плакать, но смеяться {117} научится еще очень нескоро. В этом скрыта глубокая истина».
Нет никаких данных в пользу того, что Эйнштейн хоть раз в жизни видел свою дочь. Какой бы бурный энтузиазм он ни выражал сразу после ее рождения, он. как кажется, был больше всего озабочен тем, чтобы избавиться от бремени отцовства при первой возможности. Существование Лизерль осталось тайной для самых близких его друзей, и через несколько месяцев девочка бесследно исчезла из его жизни. Эйнштейн никогда не говорил о ней на людях, и наши современники ничего бы про нее не узнали, если бы публикаторы «Наследия Эйнштейна» не обнаружили его писем к Милеве. Никаких других упоминаний о ней в обширном архиве Эйнштейна не сохранилось. Не удалось найти никакой официальной записи об ее рождении, хотя эйнштейновед Роберт Шульман и профессор Белградского университета Милан Попович, правнук Елены Савич, неоднократно пытались это сделать. Летом 1986 года Шульман отправился в Югославию, чтобы искать данные о Лизерль в местных городских архивах. Никаких ее следов не нашлось ни в Нови-Саде, где семейство Маричей проводило зиму, ни в Каче, где они жили летом. Затем Шульман работал в архивах Будапешта, но тоже безрезультатно. Беспорядки в бывшей Югославии помешали ему продолжить поиски, но он надеется их возобновить.
Милева приехала к Эйнштейну в Швейцарию через несколько месяцев после рождения дочери. Ребенка с ней не было. Мы не знаем, кто ухаживал за Лизерль в отсутствие матери (хотя, скорее всего, этим занималась родня Милевы), потому что какие-либо сведения о первых полутора годах жизни девочки отсутствуют. Делать сколько-нибудь обоснованные умозаключения о ее судьбе можно только начиная с сентября 1903 года, когда Лизерль снова упоминается в переписке. Милева вернулась под родительский кров и обнаружила, что ребенок заразился скарлатиной. Об этом сообщили Эйнштейну, он ответил буквально следующее: «Я очень сожалею, {118} что Лизерль постигло такое несчастье. У скарлатины бывают очень длительные и неприятные последствия. Только бы все обошлось. А как записали ребенка? Мы должны позаботиться о том, чтобы в будущем у нее не было никаких сложностей».
Последнее высказывание — единственный намек, имеющий отношение к тайне Лизерль, но и он удручающе невнятен. Одно из возможных объяснений исчезновения девочки состоит в том, что болезнь ее оказалась смертельной, во времена отсутствия антибиотиков это было вполне возможно. Однако слова Эйнштейна о дальних последствиях наводят на мысль, что заболевание Лизерль не считали опасным для жизни. Эйнштейна тревожили проблемы, не связанные со здоровьем ребенка. Вопрос о регистрации наводит на мысль, что девочку отдали для удочерения, и Эйнштейн стремился замести следы. Тогда отсутствие официальной записи об ее рождении служит свидетельством того, как тщательно он это сделал.
Из-за рождения Лизерль Эйнштейн мог потерять найденное им с таким трудом место патентоведа в Берне. Он получил швейцарское гражданство всего год назад, и такое пятно на репутации, как незаконный ребенок, помешало бы ему добиться успехов и признания и на государственной службе, и в консервативном столичном обществе. Внебрачные дети не были в Швейцарии чем-то из ряда вон выходящим, в 1901 году они составляли 11,8 процента всех новорожденных в Цюрихе. Половина матерей незаконнорожденных были иностранками, т.е. случай Милевы был достаточно типичен. «Приличное общество» воспринимало рождение внебрачного ребенка как скандал, и Эйнштейн был вынужден пойти на компромисс.
«В некоторых слоях общества часто рождались внебрачные дети и к таким фактам относились достаточно терпимо, — пишет Роберт Шульман. — Но для жителя Берна, состоявшего на государственной службе, это был не вариант». Возможно, скудные доходы молодой четы послужили еще одной причиной {119} избавления от дочери, хотя это не помешало Эйнштейну жить с Милевой одной семьей после заключения брака. Возможно, Эйнштейн отнесся бы к ребенку иначе, если бы его звали не Лизерль, а Гансерль, — он хотел сына. Не исключено, что девочка была искалечена болезнью. Однако все это — только предположения.
Бесспорно, появление на свет ребенка изменило отношения Эйнштейна с Милевой. Она имела теперь на него больше прав, чем когда-либо. Рождение ребенка возложило на Эйнштейна ответственность за две жизни. Неизвестно, знала ли вообще Полина о рождении девочки, но есть письмо, написанное ею спустя несколько недель после этого события: «Этой госпоже Марич я обязана самыми горькими минутами, вернее, часами, в жизни. Если бы я была в силах, я сделала бы все, чтобы она исчезла с нашего горизонта, она мне по-настоящему не нравится».
Милева стала причиной раскола в семье Эйнштейнов. Майя попыталась выступить в ее защиту, из-за чего произошел бурный скандал, и они с матерью расстались более чем холодно. «Она знает, что мы категорически против связи Альберта с госпожой Марич, что мы не желаем иметь с ней ничего общего и что у нас с Альбертом из-за этого возникают постоянные трения», — пишет Полина. Существенно то, что это строки из письма к женщине, которую Эйнштейн называл своей второй матерью — к Полине Винтелер. Полине Эйнштейн было неприятно думать, что Майя будет обсуждать помолвку Эйнштейна в Аарау, где еще живы воспоминания о том, как он увлек и бросил Мари Винтелер. Больше всего Полина сожалеет о том, что «утратила какое-либо влияние» на сына, но тут она, возможно, заблуждается. Хотя он и отказывался расстаться с Милевой, решение избавиться от Лизерль могло в какой-то степени отражать его желание смягчить гнев Полины. Должно быть, ее слова «если она окажется в положении, я тебе не завидую» все еще звучали у него в ушах. {120}
Профессор Шульман предполагает, что подруга Милевы Элен Савич помогла организовать удочерение, но все это тоже в значительной степени домыслы, основанные почти исключительно на упоминании Милевы о возможной помощи со стороны Элен Савич «в одном важном деле». Может быть, Эйнштейн и Милева наводили справки о Лизерль, а может быть, и нет, когда в конце лета 1905 года побывали у Савич в Белграде. Однако профессор Джон Стейчел подчеркивает, что сохранившиеся письма не вполне укладываются в эту схему. Милева написала Савич вскоре после свадьбы с Эйнштейном в январе 1903 года, в письме говорилось о том, как хорошо все складывается, и не упоминала о дочери. Если Элен была в курсе истории с Лизерль, то, как справедливо замечает Стейчел, странно, чтобы Милева писала ей такие вещи. С другой стороны, известно, что ее дочь впоследствии уничтожила некоторые письма Милевы, может быть, для того, чтобы не осталось никаких упоминаний о Лизерль и ее судьбе.
Эйнштейн получил в 1909 году письмо, которое кончалось «поклоном жене и дочери». Его написал японский студент Аяо Каваки, но оно, как и очень многое в этой истории, наводит на ложный след. По-видимому, произошла совершенно безобидная путаница: фотограф снял маленького Ганса Альберта в платье, какое в те времена носили и мальчики, и девочки. Он был настолько похож на девочку, что его собственная дочь Эвелина впоследствии какое-то время полагала, что видит на снимке не своего отца Ганса Альберта, а исчезнувшую Лизерль.
Возможно, дочь Эйнштейна до сих пор живет под другим именем. Ей должно быть сейчас больше девяноста лет. Как шутит Джералд Холтон: «В один прекрасный день она может прийти и сказать: «Меня зовут Анастасия. Мне нужны письма моих родителей».
Имеется косвенное доказательство, что сам Эйнштейн допускал такую возможность. Чтобы привести его, нам снова придется совершить скачок во {121} времени и обратиться к периоду его второй женитьбы. Тогда объявилась женщина, которая называла себя давно исчезнувшей дочерью Эйнштейна, а своего сына — его внуком. В 1935 году в Англии она просила, чтобы ей помог связаться с Эйнштейном высокопоставленный поклонник его таланта Фридерик Линдеман, впоследствии получивший титул виконта Червелла. Она утверждала, что не смогла встретиться с Эйнштейном из-за препон, чинимых ее враждебно настроенной «мачехой» Эльзой.
Линдеман отнесся к женщине без доверия, но счел ее историю достаточно правдоподобной, чтобы послать телеграфное предупреждение в Принстон, где три года назад после отъезда из Берлина поселился Эйнштейн.
В числе прочих она обратилась и к Янушу Плещу, другу Эйнштейна в годы его жизни в Берлине. Летом 1933 года Плещ переехал в Англию, чтобы избежать нацистских преследований. Ему тоже ее рассказ показался на удивление убедительным.
«Я даже начал замечать сходство между Эйнштейном и ребенком, умным и приятным мальчиком. Она сумела меня убедить, я попросил о содействии друзей, которые ей тоже поверили, и мы стали хлопотать, чтобы помочь ей, нашли для нее работу и определили мальчика в школу. Потом я написал Эйнштейну, постаравшись как можно тактичнее объяснить ситуацию и сообщить о дочери и внуке. К моему величайшему недоумению, Эйнштейн не выказал к ним должного интереса, и, чтобы как-то пробудить в нем родственные чувства, я послал ему два очень приличных рисунка, выполненных мальчиком, и его фотографию. Конфуз! Я думал, что портрет мальчика растрогает Эйнштейна. Но получил от него письмо, что вся эта история — чистое мошенничество. Эйнштейна она очень позабавила, а меня от нее бросало в краску несколько месяцев».
Плещ излагает эту историю, очевидно, для того, чтобы посмеяться над собой и «показать, что приходится терпеть великим людям». Другой приятель Эйнштейна, Макс фон Лауэ, который был также {122} втянут в ситуацию с самозванкой, обиделся за Линдемана, которого так ловко одурачили, и горько сетовал на доверчивость англичан. Он тоже излагает этот эпизод как «весьма комический». Но как бы Эйнштейн ни держался, он воспринял появление самозванки достаточно серьезно — он организовал частное расследование.
Профессор Дон Ховард из университета Кентукки документально восстановил всю цепочку событий. Линдеман послал телеграмму не самому Эйнштейну, а его коллеге и близкому другу Германну Вейлю. В ней была просьба задать профессору несколько вопросов и телеграфом немедленно сообщить ответы. Оказалось, что Эйнштейн не имел ни малейшего представления об особе, именуемой в послании Линдемана госпожой Хершдорфер. Вскоре, однако, удалось установить ее личность. Это была Грета Маркштейн, берлинская актриса. Секретарь Эйнштейна, Элен Дюкас, попросила знакомого сыграть роль «еврейского следователя» и выяснить, из какой семьи на самом деле происходит Маркштейн. Он справился с этим заданием за восемь или девять месяцев. Его отчет, небрежно напечатанный на двух страницах, свидетельствует, что Маркштейн родилась куда раньше Лизерль, а именно — в августе 1894 года в Вене. Ее отца звали Самуил, он был служащим венгерского банка, умер в конце первой мировой войны, мать умерла в 1923 году. У Маркштейн была репутация «не вполне нормальной», отмечает детектив и приходит к выводу, что «она весьма подходит» для роли вымогательницы.
Итак, Маркштейн оказалась мошенницей. Задним числом стало понятно, что она боялась разоблачения с того момента, как Линдеман отправил свою телеграмму, потому и звонила ему с просьбами действовать осторожнее. Некоторые вопросы, однако, остаются. По мнению профессора Ховарда, поведение Эйнштейна говорит в пользу гипотезы об удочерении. Похоже, он допускал возможность того, что Лизерль жива, а он ничего не знает об ее судьбе. «Меня мучает другой вопрос, — пишет Ховард. — Маркштейн знала нечто, что делало ее версию очень {123} убедительной. Что именно?» Существует документальное доказательство того, что Эйнштейн имел с Маркштейн контакты, когда оба жили в Берлине, то есть задолго до ее обращений к его друзьям. Письмо, отправленное им в городскую ассоциацию профсоюзов, свидетельствует, что он уплатил ей восемьдесят рейхсмарок. Судя по контексту письма, это была какая-то полуофициальная выплата (он упоминает Маркштейн как «артистку-лектора»), но его слова до конца не ясны.
Также озадачивает сочиненное Эйнштейном полуабсурдное стихотворение, которое он послал Плещу, когда надувательство было раскрыто. Немецкий в нем немножко «гуляет», но перевод точен.
|
Мои друзья меня дурачат: Я прижил дочь на стороне. Да, в жизни было все иначе, Жены и дел хватало мне. Но я приятно удивлен: Я был умен и так силен, Чтобы с двойною жизнью справиться. Пусть думают. Мне это нравится. |
Какая бы мрачная тень ни легла на жизнь Эйнштейна в связи с Лизерль, ясно, что жизнь Милевы омрачилась еще сильнее. Ганс Альберт давал это понять достаточно ясно задолго до того, как история с Лизерль стала достоянием гласности. После беседы с ним в 1962 году биограф Эйнштейна Питер Микельмор писал о «загадочном, предшествовавшем браку инциденте», из-за которого отношения между Эйнштейном и Милевой дали трещину. Только теперь стало понятно, что Ганс Альберт имел в виду.
«Друзья заметили, что настроение у Милевы сильно изменилось, и подумали, что, может быть, ее роман близится к концу. Между Эйнштейном и Милевой что-то произошло, но Милева не вдавалась в объяснения, называя случившееся «сугубо личным». Она все время с грустью думала об этом, {124} и, по-видимому, Эйнштейн был в каком-то смысле ответственен за происшедшее. Друзья пытались вызвать Милеву на откровенность, чтобы дать ей выговориться и облегчить душу. Она же стояла на своем — дело касалось только их двоих; этого секрета она не раскрыла до конца жизни, так что достаточно значительный в биографии Эйнштейна эпизод остался окутанным тайной».
Ссылаясь на Ганса Альберта, Микельмор писал об этом таинственном событии как о причине последующих трудностей в браке Эйнштейна с Милевой. В нем он находил объяснение той мрачной рефлексии, в которую Милева со временем погружалась все чаще и чаще. Вероятно, Милева не хотела расставаться с дочерью, считала, что Эйнштейн заставил ее согласиться на этот шаг и винила во всем его. Возможно также, что сначала она не слишком противилась этому шагу, но потом ее стало мучить чувство вины.
В старости Эйнштейн описывал Милеву как особу молчаливую, недоверчивую и склонную к депрессии, приписывая эти качества шизофрении, имевшейся у нее в роду по материнской линии. В данном случае к его словам следует относиться с большой осторожностью. Они могут быть связаны с желанием снять с себя ответственность за психическую болезнь своего младшего сына. Карл Зелиг, основываясь на словах самого Эйнштейна, пишет, что по натуре она была «мечтательницей с тяжелым, неповоротливым умом, и это часто сковывало ее в жизни и в учебе». Ее современники, добавляет тот же биограф, считали ее «мрачной, немногословной и недоверчивой». Филипп Франк, горячий поклонник Эйнштейна, отмечал, что «Милева не умела вступать в непосредственный и приятный контакт со своим окружением», в ней было «что-то непробиваемое и непреклонное», чувствовался контраст между ее «жесткой, склонной к самоограничению натурой» и беззаботной жизнерадостностью Эйнштейна, которая, по мнению Франка, часто бывала Милеве в тягость. {125}
Любовные письма Милевы, написанные задолго до рождения Лизерль, действительно наводят на мысль, что ей были присущи и угрюмость, и задумчивость, но в годы их молодости они с Эйнштейном разнились в этом отношении не так сильно, как думает Франк. Эйнштейн в молодые годы сам признавался, что у него было «немало заскоков» и постоянные перепады настроения — от радостного до подавленного. Человек, которого, по его же собственному мнению, отделяла от других людей невидимая стена, едва ли был способен на «непосредственные и приятные контакты» со своим окружением. Что касается жесткости и склонности к самоограничению, достаточно вспомнить стремление Эйнштейна посвятить свою жизнь «строгим ангелам науки». На трудности, встретившиеся им обоим в молодости, Милева реагировала как пессимистка, ей казалось, что весь мир стремится ее покарать. Однако бывали моменты, когда она выказывала оптимизм перед лицом трудностей, черпая силу в своих надеждах на будущее семейное счастье. Если с течением времени она все глубже погружалась в меланхолию, причиной тому не только дефекты ее характера, но и ее взаимоотношения с Эйнштейном. Отказ от дочери мог оказаться травмой, от которой Милева так и не сумела оправиться.
По словам Микельмора, Милева осталась с Эйнштейном, потому что «знала: ее любовь к этому человеку была достаточно сильна, чтобы выдержать подобное испытание». В течение нескольких лет после рождения Лизерль отношения между Эйнштейном и Милевой продолжались и выглядели достаточно безоблачными. И только теперь, мысленно возвращаясь к этим событиям, мы видим, как в душе у Милевы начали скапливаться обиды и недовольство, приведшие к печальным последствиям.
До поступления на работу в патентное бюро Эйнштейну оставалось еще четыре месяца, но он бросил преподавательское место в Шафхаузене и переехал в Берн. Он писал Милеве, что охотно бы промучился еще год-другой под началом доктора Нюеша, {126} если бы это помогло полностью оправиться ей после родов. На самом деле, к вящему гневу Нюеша, Эйнштейн с величайшим удовольствием бросил его в середине учебного года и похвастался приятелю, что «покидал Нюеша с театральными эффектами». В Берне Эйнштейн поселился в уютной «берлоге» и прислал Милеве чертеж, в точности указав на нем расположение всех предметов от постели до ночного горшка. Ему нравился старинный город со сводчатыми галереями, тянувшимися на четыре километра вдоль улиц, так что во время дождя можно было пройти от одного конца Берна до другого и не промокнуть. Чтобы заработать, он дал в местной газете объявление о частных уроках математики и физики (первый урок — бесплатный).
Среди тех, кто откликнулся на это объявление, был Морис Соловин, кипящий энтузиазмом студент-венгр из Бернского университета, который жаждал, чтобы его посвятили в то, что он называл «таинства физики». Соловин впоследствии вспоминал громовое «Войдите» в ответ на его стук в дверь и взгляд необычайно блестящих глаз, устремленный на него из недр комнаты, где пахло кофе и трубочным табаком. Эйнштейн и Соловин сразу нашли общий язык, и оживленная дискуссия между ними длилась два с половиной часа, причем последние полчаса на улице, потому что они никак не могли расстаться. «Меня восхищал его необычайно острый ум, способность проникать в самую суть предмета и удивительное умение ориентироваться в проблемах современной физики, — пишет Соловин. — Он не был блестящим лектором, не прибегал к эффектным образам. Он объяснял суть предмета медленным и ровным голосом, но чрезвычайно ясно». Занятия, вернее, дискуссии Эйнштейна и Соловина затрагивали широкий круг научных тем, собеседники делали экскурсы в философские труды Платона, Юма и Джона Стюарта Милля. Вскоре третьим в их беседах стал Конрад Габихт, который свел знакомство с Эйнштейном, когда они оказались соседями в Шафенхаузене. Сын директора банка, изучавший {127} математику и физику в Мюнхене и Берлине, завершал теперь свое образование в Берне.
Частные уроки не принесли Эйнштейну много денег, он шутил, что заработал бы больше, если бы стал уличным скрипачом. Куда важнее было то, что общение с Соловиным и Габихтом доставляло ему радость. Молодые люди стали интеллектуальными побратимами, чем-то вроде трех мушкетеров от науки, и для смеха начали торжественно именовать себя «Олимпийской академией». Эйнштейн благодаря своему таланту, обаянию и интеллекту, разумеется, оказался в роли лидера. В посвящении, написанном ему на латыни, коллеги по «Академии» характеризуют его как «специалиста в области возвышенных искусств, человека, наделенного величайшим спокойствием духа и всеми добродетелями семьянина, бессменного высшего иерарха в церкви нищих духом». В качестве «президента Академии» он вел их собрания, наслаждаясь атмосферой взаимного восхищения и чуть нарочито приподнятого настроения. Имеется прекрасная фотография членов «Олимпийской академии», молодых людей со щегольскими усами, у всех троих воротнички с отогнутыми уголками и галстуки бабочкой. Слева — Габихт, франтоватый, сдержанный, в очках, на темных волосах аккуратный пробор, в руке — сигара. В середине улыбающийся Соловин, одетый, как и Габихт, в легкую тройку, но загорелый и растрепанный. Справа, в более темной одежде, Эйнштейн, носовой платочек уголком торчит из нагрудного кармана, задумчивый взгляд устремлен вдаль. «Академия» стала его собственным вымышленным миром, подобным тому, какой он создал для себя с Милевой; и там, и тут Эйнштейн укрывался от отчаянно скучной обывательской жизни.
Эйнштейн всегда считал, что представление о физике в целом важнее, чем специальные знания. Он отрабатывал свои идеи в беседах с коллегами, совместная работа помогала ему генерировать новые идеи. В числе ученых, чьи труды они прорабатывали, был Эрнст Мах, «несокрушимые скептицизм {128} и независимость» которого особенно вдохновляли Эйнштейна. Трое друзей вели дискуссии со студенческим энтузиазмом, раздражая соседей своими громкими и бурными спорами, которые затягивались до поздней ночи. Как пишет Соловин, они в это время с удовольствием и беспорядочно перекусывали колбасой, швейцарским сыром, медом, фруктами, крутыми яйцами, пили чай. Для бодрости потягивали кофе по-турецки. Соловин нарисовал карикатуру, отражающую пристрастие Эйнштейна к гастрономическим утехам: на ней бюст Эйнштейна со всклокоченными кудрями обведен полукругом из колбас и сосисок. Однажды в день рождения Эйнштейна Габихт и Соловин купили ему икры и думали, что он будет в восторге. «Обычно, когда Эйнштейн пробовал что-нибудь необыкновенное, он приходил в экстаз и осыпал блюдо преувеличенными похвалами», — вспоминает Соловин. К несчастью, на этот раз президент «Олимпийской академии» так увлекся, объясняя галилеев принцип инерции, что съел изысканную закуску, не обратив на нее ни малейшего внимания. «Так это была икра? — промолвил он, когда друзья опомнились от изумления и объяснили ему, в чем дело. — Не стоит подавать деликатесы простофилям вроде меня, они их все равно не оценят».
Многие дискуссии «академиков» происходили во время прогулок. Эйнштейн и Соловин часто вставали в шесть утра, чтобы пройти двадцать с лишним километров от Берна до Туна; этот город на берегу озера считался одним из самых живописных в Швейцарии. Там они проводили вторую половину дня и вечером возвращались поездом. Приятели также с удовольствием посещали концерты: многие выдающиеся музыканты, отправившись в турне по Европе, останавливались в Берне. Был случай, когда Соловин удрал с заседания «академиков», назначенного на его собственной квартире, с тем, чтобы послушать прославленный чешский квартет. Друзьям он оставил записку с извинениями и ссылкой на «неотложные дела», а также «искупительную жертву» {129} — четыре крутых яйца. Эйнштейн и Габихт их съели, но отомстили Соловину за предательство тем, что до ужаса прокурили его квартиру и свалили ему на кровать мебель, тарелки и чашки. Соловин не переносил табачного дыма и по приходе «чуть не упал в обморок». «Я открыл окно нараспашку, — вспоминает он, — и начал разбирать на кровати завал вещей высотой чуть ли не до самого потолка».
Габихт и Соловин не были единственными, с кем Эйнштейн сдружился в Берне. Люсьен Шаван, инженер-электрик из Лозанны, также брал у него уроки физики, их занятия переросли в длительную дружбу. Эйнштейн возобновил отношения с Гансом Фройшем, студентом-медиком Бернского университета, с которым был близок, когда оба учились в школе в Аарау. Эта крепкая и сердечная дружба с мужчинами, по мнению Милевы, угрожала ее исключительному праву на душевную близость с Эйнштейном, и она встревоженно писала ему, что он начинает забывать о ней, пока она после родов живет в родительском доме. Эйнштейн осыпал ее уверениями в неизменности своих чувств, хотя слова его звучат несколько двусмысленно. «Не нужно ревновать к Габихту и Фройшу — что значат они для меня по сравнению с тобой! Мне все время не хватает тебя, но я стараюсь вести себя по-мужски, то есть этого не показывать. Тем не менее, здесь очень приятно. Однако я, конечно же, предпочел бы быть с тобой в провинциальном болоте, а не без тебя в Берне».
Сплошные «но». Удовольствие, которое Эйнштейн получал от своего нового окружения, мешало ему придерживаться представления о том, что они с Милевой противостоят враждебному миру. Но он старался остаться в рамках этой концепции. Летом он написал о том, что с группой приятелей отправился на гору Битенберг, в окрестностях Туна. По тону письма понятно, что настроение у него прекрасное, но он уверяет Милеву, что ему станет куда лучше, когда после выходных приятели его оставят. «Я бы предпочел совершить восхождение на Битенберг {130} с тобой, а не с группкой мужчин — я же сам мужчина, в конце-то концов, — писал он Милеве. — Ты не можешь представить себе, с какой нежностью я о тебе думаю, когда тебя со мной нет; это правда, несмотря на то, что, когда мы вместе, я отнюдь не паинька».
16 июня 1902 года Эйнштейн наконец-то получил назначение в патентное бюро: его избрали техническим экспертом третьего класса, причем с испытательным сроком. Коллега предупредил его, что работа невероятно скучная и канцелярская, что ему предстоит быть чистым исполнителем. Зато Эйнштейн наконец-то мог вызвать Милеву к себе — они решили пренебречь общественным мнением и оба этим гордились. Весь свой восьмичасовой рабочий день Эйнштейн, не вставая с места, корпел над техническими данными, его задачей было выявить, что именно является уникальным в каждом изобретении, предложенном к патентованию.
Иногда он отзывался об этих своих занятиях как о «работе для сапожника», то есть о чисто рутинной деятельности, оставляющей голову свободной для занятий наукой. Однако уже в самом начале своей патентоведческой деятельности он уверял одного из приятелей, что «работа необычайно разнообразная и заставляет много думать». Она требовала умения проникать в суть проблемы, иногда невнятно или путано изложенной в заявках.
Анализировал Эйнштейн чисто прикладные вещи: от незначительных инженерных усовершенствований до новой конструкции печатных машинок. Эйнштейн всегда с симпатией относился к бытовой технике. Уже в очень зрелом возрасте он сам запатентовал несколько изобретений, и индивидуальных, и совместных, на электробытовые приборы, в разработке которых принимал участие, в частности, на бесшумный холодильник для домашних нужд и на слуховой аппарат нового типа. Истоки этого интереса к бытовой технике нужно, по-видимому, искать в детстве, в общении с дядей, инженером-электриком, и в роде деятельности Германа {131} Эйнштейна. Халлер, директор патентного бюро, был «еще более строгим, чем мой отец», но Эйнштейн питал к нему почти сыновнюю привязанность.
Осенью 1902 года Герман Эйнштейн заболел. Его здоровье пошатнулось под бременем постоянных неудач в делах, сердце сдало. Недуг оказался смертельным. Сын приехал к нему в Милан и застал отца в безнадежном состоянии. 10 октября Герман умер в одиночестве: он попросил своих домашних выйти из комнаты, когда почувствовал, что его покидают силы.
Эта смерть оставила в душе Эйнштейна неизгладимое ощущение вины, преследовавшее его всю жизнь. По свидетельству двух хорошо знавших его людей, Элен Дюкас и Бенеша Хоффмана, у него осталось «мучительное чувство потери». В биографии, над созданием которой они работали вместе, его состояние описано так: «...потрясенный и едва понимающий, что к чему, изнемогающий от безысходного отчаянья, он не переставал спрашивать себя, почему умер не он, а его отец». Они также цитируют слова Эйнштейна о том, что смерть отца была самым страшным из пережитых им потрясений.
Удар усугубило и то, что теперь на плечи Эйнштейна легла ответственность за мать, которая унаследовала долги Германа и не имела доходов, позволяющих их заплатить. Эйнштейн содержал ее на свои весьма скудные средства, и конец жизни она провела в состоянии тягостной для нее материальной зависимости. Полина поселилась у главных кредиторов своего покойного мужа, то есть у своей сестры Фанни и ее супруга Рудольфа в Германии, в городе Гешингене. Большую часть последующих десяти лет она провела у этой четы, родителей второй жены Эйнштейна, и в 1910 году переехала с ними в Берлин. На следующий год она покинула их кров и стала вести хозяйство у одного овдовевшего купца в Хейлбронне, городке в долине Некар, а в 1914 году вернулась в Берлин, чтобы взять на себя заботу о доме своего овдовевшего брата Якоба. Ее несчастья не смягчили ее чувств по отношению к Милеве и, {132} может статься, усилили ее материнское честолюбие. Успехи Эйнштейна должны были выступать в качестве компенсации за ее собственные неудачи.
На смертном одре Герман Эйнштейн наконец-то дал согласие на брак своего сына с Милевой. О браке было объявлено в декабре того же года в Берне, Цюрихе и в Нови-Саде, церемония состоялась в бернской ратуше 6 января 1903 года. Она прошла очень спокойно, пожалуй, даже формально. Свидетелями были Соловин и Габихт, а празднование свелось к ужину в местном ресторане. Медового месяца не было, и имеется свидетельство, что, когда новобрачные пришли в свое семейное гнездышко, оказалось, что у Эйнштейна нет ключей. Этот эпизод был отзвуком их студенческих дней в Цюрихе, когда квартирная хозяйка в любое время суток могла услышать крик: «Это Эйнштейн. Я опять ключи забыл!» На свадебных приглашениях указан адрес «Тилиерштрассе, 18» (правый берег реки Аар), по этому адресу Эйнштейн зарегистрировался у городских властей через четыре дня после свадьбы. В октябре супруги переехали в квартиру на втором этаже дома 49 по Крамгассе, где теперь находится небольшой музей Эйнштейна. Дом стоит в старом городе, то есть в средневековой части Берна, между двумя из одиннадцати бернских фонтанов, прославленных своей причудливой резьбой по мрамору, и в сотне метров от знаменитой башни с часами. В этом доме и родилась теория относительности.
Оба, и Эйнштейн, и Милева, отзывались о семейной жизни самым лучшим образом, но в своих письмах делали акцент на разных вещах. В конце января 1903 года Альберт писал Мишелю Бессо: «Теперь я добропорядочный женатый человек, веду с женой очень приятную и уютную жизнь. Она умеет позаботиться обо всем, прекрасно готовит и все время в хорошем настроении». Это скорее панегирик домашней хозяйке, чем задушевному другу, а слова о бодром настроении Милевы, как кажется, выражают облегчение, что эпизод с Лизерль (во всяком случае, {133} на тот момент) больше не висит мрачным облаком на семейном небосклоне. Тем не менее Эйнштейн по-прежнему очень любит свою жену, и она, как будет видно из дальнейшего, принимает участие в его интеллектуальной жизни.
Что до Милевы, она писала Элен Савич следующее: «Сейчас я к нему, к моему сокровищу, привязана еще больше (если это вообще возможно), чем когда мы жили в Цюрихе. Он — мой единственный друг и товарищ, мне не нужно другого общества, и часы, когда он со мной рядом, это счастливейшее время в моей жизни». Ясно, что Милева душевно зависит от Эйнштейна, и есть что-то печальное в том, что она инстинктивно ищет опоры в воспоминаниях о Цюрихе, а их студенческая жизнь кажется ей эталоном счастья. В том же письме содержится намек, что мысли о Лизерль по-прежнему мучают Милеву, поскольку она спрашивает подругу, нельзя ли найти преподавательскую работу в Белграде и ей, и Эйнштейну. По мнению Юргена Ренна и Роберта Шульмана, это дало бы возможность Эйнштейну и Милеве самим воспитывать девочку. Но из этого замысла ничего не вышло. Когда Милева осенью отправилась проведать дочь, то обнаружила, что беременна.
В открытке, отправленной из Белграда, где она, по-видимому, оказалась проездом, Милева пишет, что это может быть ее обычная утренняя слабость. Через две-три недели Эйнштейн уверяет ее в письме, что «вовсе не сердится, что она «скоро окажется еще с одним птенчиком». И добавляет: «На самом деле я этому очень рад, я еще раньше подумывал о том, не стоит ли нам позаботиться, чтобы у тебя появилась новая Лизерль». В этом же письме Эйнштейн высказывает опасения в связи со скарлатиной, которой болела Лизерль. Его высказывание «я уже раньше подумывал» наводит на мысль о том, что вопрос об отказе от ребенка был согласован между ними еще до болезни Лизерль и никак не связан с ее последствиями. Действительно ли Эйнштейн подумывал о втором ребенке — вопрос весьма спорный. Ясно, что вторая беременность Милевы была случайной, а {134} не запланированной, и столь же ясно, что свои истинные мысли на этот счет Эйнштейн держал при себе. В конце письма он просит Милеву возвращаться домой как можно скорее. «Прошло уже три с половиной недели, а на более долгий срок хорошая женушка своего мужа не оставит. У нас дома все выглядит не так ужасно, как ты думаешь. Уборка тебе предстоит не слишком большая».
Ганс Альберт, старший сын Эйнштейна, родился 14 мая 1904 года, и как пишет биограф Милевы Дорд Кршич, только тогда ее родители по-настоящему признали этот брак. Кршич приводит, по-видимому, апокрифическую историю о том, что Милош Марич проделал длинный путь до Берна, дабы подарить своему зятю чек на 100 000 австро-венгерских крон. Эйнштейн отказался от этой кругленькой суммы (примерно 25000 нынешних долларов) и, как пишет Кршич, произнес трогательную речь о том, что женился на Милеве по любви, а не ради денег. К сожалению, нет никаких других данных о том, что и упомянутое предложение, и, соответственно, героический отказ действительно имели место.
Соловин вспоминает, что Милева присутствовала на собраниях «Олимпийской академии» и внимательно слушала, но не вмешивалась в дискуссии. По имеющимся свидетельствам, Милева чувствовала себя достаточно свободно в обществе «академиков». Соловин и Габихт были в числе тех немногих, кто «сумел завоевать своевольное сердце Милевы», как пишет биограф Эйнштейна Карл Зелиг. Эйнштейн часто дразнил свою жену, делая вид, что хочет рассказать рискованный анекдот в присутствии гостей. «Не помню, вы уже слышали эту шутку о старой шлюхе...» — начинал он, прекрасно зная, что Милева немедленно вскочит с места с укоризненным «Альберт!». Как-то раз к Габихту подошел ремесленник, который продавал металлические таблички с вырезанными на них именем и титулом покупателя. По просьбе Габихта он сделал надпись «Albert Ritter von Steissbein, Президент Олимпийской Академии», а Габихт прикрепил изделие на дверь квартиры {135} Эйнштейна. «Ritter von Steissbein» можно, не греша буквализмом, перевести как «Рыцарь зада». При добавлении к «Steiss» (ягодицы по-немецки) окончания «bein» получается немецкое слово, означающее «копчик», но оно созвучно с неприличным «Scheissbein», или «фекалия». Как пишет Соловин, «Эйнштейн и Милева чуть не умерли со смеху», а неприличное прозвище запомнилось. Эйнштейн как-то прислал Габихту открытку, на которой было неразборчиво нацарапано: «К несчастью, напились в стельку и оба лежим под столом. Примите и проч. Ваш покорный слуга Steissbein с супругой».
После того как Эйнштейн успешно сдал требующиеся для государственной службы экзамены, его испытательный срок закончился, и в сентябре 1904 года он получил постоянное место в патентном бюро. Туда примерно в то же время по настоянию Эйнштейна устраивается и Бессо. В последующие несколько месяцев он стал свидетелем и участником того, как гений Эйнштейна совершил свой потрясающий взлет. По сравнению с его научными штудиями работа в патентном бюро казалась Эйнштейну скучной, но по пути домой он имел возможность обсуждать с Бессо свои научные и философские идеи. Подобно Милеве в студенческие годы, друг Эйнштейна участвовал в его научной работе. Семьи Эйнштейна и Бессо стали почти неразлучны, Милева с Анной Бессо очень подружились.
1905 год стал для Эйнштейна решающим годом: у него вышли три статьи, потрясшие основы физики. Эйнштейн отправлял статьи публикаторам с интервалами меньшими, чем в два месяца, и, как неоднократно отмечалось, они затрагивали весьма далекие друг от друга темы. Но ряд ученых указывает на связи, существующие между статьями. Профессор Юрген Ренн отмечает, что Эйнштейн смотрит на мир как на «построенный из частиц», истолковывая явления в терминах атомов, молекул, электронов или сгустков энергии. Каждая из статей является завершающим звеном в длинной цепи трудов, {136} принадлежащих великим представителям классической физики: Больцману, Планку и Лоренцу. Из писем Эйнштейна видно, с какой жадностью он впитывал их идеи. Однако, обладая совершенно другим, чем у них, способом мышления, он сумел по-новому увидеть и истолковать их труды и оценить те революционные выводы, которые из них следовали. Их труды были подобны восхитительному плоду, который уже созрел и который пора было сорвать.
Статьи Эйнштейна отличаются изяществом и кавалерийским натиском, который был совершенно чужд подходу к решению проблем, принятому тогда в науке и сводившемуся к медленному переходу от обстоятельного анализа экспериментальных данных к объясняющей их теории. Эйнштейн же в начале статьи выражал неудовлетворенность общепринятыми взглядами на предмет, выделял те идеи, которые были неизящны или дисгармоничны. Прибегая к формулировке Джеральда Холтона, ученые могли отмести его возражения уже потому, что он исходил в основном из эстетических критериев. «Далее он провозглашает некий весьма общий принцип. Потом показывает, как сделанные из него выводы помогают устранить те слабые места, о которых упоминалось в начале статьи. И в конце каждой статьи, исходя из предложенного в ней общего принципа, Эйнштейн делает ряд прогнозов о поведении физических объектов и говорит, что эти прогнозы поддаются экспериментальной проверке, хотя она может оказаться сложной». Этот подход был уникальным (больше в научном мире к нему не прибегал никто) и давал ошеломляющие результаты.
Говоря с Габихтом о своих статьях, Эйнштейн назвал первую из них «весьма революционной». Он отправил ее в «Annalen der Physik» 17 марта, то есть через три дня после своего дня рождения. Опубликовали ее в июле. Среди прочих результатов в ней предлагалось объяснение фотоэффекта, о котором Эйнштейн так увлеченно писал Милеве в начале ее первой беременности. Эксперименты показали, что лучи света, падая на поверхность некоторых металлов, {137} выбивают оттуда электроны. Удивительным казалось то, что скорость, с которой электроны отрываются от поверхности, зависит не от степени освещенности, а от цвета лучей. Например, под воздействием ярчайшего красного света электроны вылетали с меньшей скоростью, чем под воздействием тусклого голубого. Этот факт не поддавался никаким объяснениям, пока Эйнштейн не выдвинул гипотезу, что луч света переносит энергию в виде мельчайших частиц, которые он назвал квантами световой энергии. Когда интенсивность освещения увеличивалась, на поверхность металла падало больше квантов и, соответственно, с нее выбивалось больше электронов. Но скорость, с которой они отрывались от поверхности, увеличивалась только тогда, когда становились больше сами кванты энергии, то есть когда частота светового излучения повышалась, и оно по цвету становилось ближе к голубой части спектра. По словам Эйнштейна, существует нижний порог частоты излучения, то есть нижняя граница величины квантов, которые способны выбить электроны с поверхности металла. Если величина квантов будет меньше этого порогового числа, электроны вообще не смогут оторваться от поверхности металла.
Идея статьи была действительно революционной. Понятие «квант» использовал ведущий немецкий физик Макс Планк, чтобы объяснить феномен свечения раскаленных тел (например, раскаленная кочерга светится красным). Но именно Эйнштейн понял, какие далеко идущие выводы можно сделать из трудов Планка. К его объяснению отнеслись скептически, поскольку в те времена господствовало мнение о волновой природе света. В каком-то смысле Эйнштейн возвращался к представлению о свете как о потоке частиц, предложенному когда-то Ньютоном, но впоследствии отвергнутому, поскольку представления о волновой природе света лучше объясняли такие явления, как интерференция и дифракция. Но хотя Эйнштейн говорил о квантах света (или о фотонах, как их назвали впоследствии), {138} он говорил также о частоте светового излучения, то есть приписывал свету волновую характеристику. Он поставил науку перед лицом знаменитого парадокса: свет обладал и волновыми, и корпускулярными свойствами. Именно за эту работу Эйнштейн с опозданием получил Нобелевскую премию в 1922 году, но упомянутое противоречие продолжало мучить его всю жизнь. Уже в конце жизни он написал Бессо, что так и не имеет четкого представления о том, что такое квант света. «В наши дни каждый студент думает, что ему это понятно, — писал Эйнштейн. — Но он ошибается».
Следующая великая работа была получена «Annalen der Physik» 11 мая и опубликована в июле. Ее предметом было броуновское движение, названное так в честь шотландского ученого Роберта Броуна. В начале 1897 года Броун при помощи микроскопа наблюдал за беспорядочным зигзагообразным движением мелких частиц в жидкости, например, цветочной пыльцы в воде. Броуна поразило то, что это движение не было обусловлено ни наличием потоков в жидкости, ни испарением, ни какой-либо другой внешней причиной. Более чем через семьдесят пять лет Эйнштейн разрешил эту загадку: частицы пыльцы двигались потому, что двигались окружающие их молекулы воды. Говоря словами Ч.П. Сноу: «Все это напоминало цирковой фокус, который, когда его объяснят, кажется совсем простым».
В то время, когда Эйнштейн сделал свои великие открытия, еще оставались физики, сомневавшиеся в реальном существовании атомов и молекул, а некоторые, как, например, Эрнст Мах, упрямо отказывались поверить в них и после его гениальных работ. Даже для таких пионеров атомистической теории, как Людвиг Больцман, она оставалась прежде всего математическим инструментом при решении определенных проблем. Однако труды Больцмана послужили основой для работ Эйнштейна, который наполнил понятие атом физическим смыслом и дал настолько близкие к непосредственным доказательства существования молекул, насколько {139} это было возможно. Поразительно то, что Эйнштейн дал объяснение броуновскому движению до того, как узнал, что этот феномен описан. В своих автобиографических заметках он вспоминает: «Я обнаружил, что в соответствии с атомистической теорией должно существовать и быть доступным наблюдению движение микроскопических частиц в суспензии, причем не знал, что это явление, называемое броуновским движением, занимает ученых уже очень давно». Бессо, друг Эйнштейна, сообщил ему, сколь широко известен этот феномен и как он называется.
Самая великая из трех статей, статья о теории относительности, поступила в редакцию 30 июня и была опубликована 26 сентября. В ней не приводится никаких ссылок, это показывает, что Эйнштейн пришел к соответствующим выводам совершенно самостоятельно, одной силой мысли. Однако мы знаем, что он, благодаря чтению, обладал широким научным кругозором, и отсутствие ссылок только дополняет представление об ученом-одиночке, работающем вне исследовательских учреждений. Эйнштейн либо не отдавал себе отчета, что следует платить дань уважения предшественникам, либо, по его мнению, их работы были настолько широко известны, а он пошел настолько дальше них, что указывать источники бессмысленно.
Как мы уже упоминали, статья, где изложены основы теории относительности, посвящена устранению теоретической аномалии: работа электромотора и динамо-машины объяснялась исходя из разных принципов. Юрген Ренн утверждает, что для создания теории, позволяющей объяснить, исходя из единого принципа, явления, на которых основывается работа этих сходных по сути приборов, Эйнштейн принял атомистический взгляд на электричество. Если рассматривать электрический ток как поток электронов, то работа этих двух приборов может быть объяснена, исходя из принципа относительности движения. Математические выкладки, соответствовавшие этой идее, имелись в трудах великого {140} физика Лоренца, однако Эйнштейн отвергал идею эфира, которая в работах Лоренца была основной. «Эйнштейн опять подобрал то, что почти валялось на дороге: взял уже имевшуюся теорию и придал ей новый физический смысл, — пишет Ренн. — Он буквально переворачивал существующие идеи вверх тормашками».
Суть теории относительности пытались популярно изложить миллионом способов, бесконечно варьируя примеры, основанные на вспышках сигнальных огней, секундомерах с остановом и набирающих скорость поездах. Мы не пойдем этим многократно исхоженным путем. По сути задача Эйнштейна состояла в том, чтобы примирить две теории: ньютоновы законы движения и теорию электромагнитных колебаний, созданную шотландцем Кларком Максвеллом в 1870-х годах. Синтез этих двух теорий устранял упомянутую выше аномалию «мотор-динамо». Он же давал ответ на вопрос, которым Эйнштейн задавался с шестнадцати лет: а что будет, если двигаться со скоростью света. Законы Ньютона не запрещают движения с такой скоростью, но в рамках концепции света, предложенной Максвеллом, движение с такой скоростью приводит к противоречиям. Если рассматривать свет как электромагнитные колебания, то есть как волну, то наблюдатель, движущийся с той же скоростью и в том же направлении, в котором распространяются колебания, просто не сможет их заметить, так как будет все время находиться рядом с одним и тем же пиком или впадиной. Другими словами, если предположить, что наблюдатель движется со скоростью света, то свет для него перестанет существовать.
Имеется и более серьезная проблема. В соответствии с законами Ньютона не существует такого понятия, как состояние абсолютного покоя или абсолютного движения. Например, скорость автомобиля можно определять по отношению к Земле, к Луне или к какой-нибудь дальней галактике. На первый взгляд это противоречит тому, что по Максвеллу скорость света имеет абсолютное (то есть не {141} зависящее от системы отсчета) значение — 186 000 тысяч миль в секунду. Эйнштейн сделал следующее. Приняв эти внешне противоречащие друг другу принципы за постулаты, он устраняет противоречие, преобразуя общепринятое понимание скорости как отношения пути, пройденного телом, ко времени, за которое оно прошло этот путь. Чтобы сохранить скорость света постоянной, то есть не зависящей от скорости наблюдателя по отношению к источнику света, Эйнштейну пришлось искривить время и пространство, причем в его картине мира возможны вещи, с которыми трудно смириться здравому смыслу.
Например, по теории Эйнштейна, линейка, то есть мерный эталон, становится короче, если она движется по отношению к наблюдателю. При скорости, равной девяноста процентам скорости света, ее длина станет вдвое меньше стационарной и при дальнейшем приближении к скорости света будет сокращаться все стремительнее. Если бы линейка могла достигнуть скорости света, длина ее стала бы нулевой, но это невозможно, поскольку по той же теории относительности ее масса (мера инертности тела) в этом случае стала бы бесконечно большой, и движение сделалось бы невозможным. Человек, который держит линейку, не заметил бы всех этих удивительных перемен: ее длина меняется только с точки зрения наблюдателя, по отношению к которому она движется. Но при существенно меньших скоростях, то есть при скоростях, с которыми мы встречаемся в обыденной жизни, наблюдатель не заметит никаких изменений в длине движущейся линейки.
Со временем происходят еще более загадочные вещи, могущие поколебать наши представления о реальности. По Эйнштейну, движущиеся часы должны тикать медленнее, чем находящиеся в состоянии покоя. Именно этот факт, по-видимому, и побудил одну венскую газету оповестить читателей: «Сенсация математики — минуте угрожает опасность». Нам кажется, что, глядя на часы, мы получаем какие-то объективные сведения, что наш {142} ярлычок «сейчас» приложим к любому месту в космосе, то есть что одновременность существует как объективное понятие. Эйнштейн же показал, что одновременность — тоже понятие относительное, то есть зависит от вашей точки зрения.
И почти в качестве вовремя не замеченного следствия из этой статьи, Эйнштейн опубликовал в «Annalen der Physik» в сентябре 1905 года короткую статью о связи между массой и энергией. Он показывает, что если тело испускает энергию в виде излучения, то уменьшение его массы пропорционально количеству выделенной им энергии. Это необыкновенный вывод, поскольку он означает, что любая энергия обладает массой. Но его подлинное значение стало ясным только через два года, когда Эйнштейн объявил, что верно и противоположное утверждение: любая масса обладает энергией. Его великая формула «Е = mc2», где Е — энергия, m — масса, а с — скорость света, стала одной из самых знаменитых в мире. Если с выражается в метрах в секунду, то с2 — очень большое число — девять с шестнадцатью нулями. Другими словами, очень небольшая масса может превратиться в огромное количество энергии, как это происходит при распаде ядер атомов тяжелых металлов, таких, как плутоний или уран. Эйнштейн назвал эту формулу самым важным следствием своей теории относительности, а изобретение атомной бомбы было самым впечатляющим доказательством правоты этих слов.
Внесла ли Милева свой вклад в теорию относительности и если внесла, то какой? То, что он был велик, утверждали многие. «В этих строчках живет ее интеллект», — писала сербка Десанка Трбухович-Гжурич, биограф Милевы. «Ее вклад достаточно весом», — утверждает Дорд Кршич, сербский физик, который на протяжении тридцати лет изучал жизнь Милевы. «Есть основания полагать, что изначальная идея принадлежит ей», — говорит доктор Эванс Гаррис Уолкер, один из главных апологетов Милевы, сотрудник Института исследования раковых заболеваний в Эджвуде, штат Мэриленд. Если все эти {143} заявления справедливы, нежелание Эйнштейна признать заслуги Милевы в создании теории относительности есть просто факт интеллектуального мошенничества. Заявления сторонников Милевы действительно ошеломляют, в 1990 году они стали сенсацией в Нью-Орлеане на ежегодном съезде Американской ассоциации за развитие науки, где впервые были преданы гласности.
Первым в защиту прав Милевы выступил доктор Уолкер, его поддержала Сента Троймель-Плоец, лингвист по специальности. Их оппонентом был профессор Джон Стейчел, с которым доктор Уолкер уже успел скрестить копья на страницах американского журнала «Physics Today». Их стычка в Нью-Орлеане оказалась достаточно ожесточенной, доктор Уолкер вспоминает «шум и выкрики враждебно настроенной аудитории. Профессор Стейчел, редактор первого тома «Наследия Эйнштейна», оставался верен своему уже опубликованному мнению о том, что никаких убедительных доказательств сотрудничества Эйнштейна с Милевой не существовало. Он заявил, что доктор Уолкер «фантазер, который при оценке реальности основывается на собственных желаниях». Уолкер потом вспоминал, что, по мнению его противников, он хотел опорочить имя Эйнштейна, поскольку тот был евреем. Уолкер утверждает, что «мотив такого рода у меня отсутствовал». Уолкер придерживался мнения, что Стейчел искажал исторические факты. Он повторил, что, по его убеждению, «ключевые идеи, составляющие суть теории относительности», принадлежат Милеве, а роль Эйнштейна состоит только в том, что «он сумел должным образом их формализовать». Его союзница Троймель-Плоец заявила: «Для мужчины того времени было вполне нормальным присвоить идеи своей жены и пожинать плоды. Эйнштейн был более чем нормальным человеком».
Это было впечатляющее заявление, и отголоски дебатов замелькали в заголовках газет. Так, лондонская «Times» напечатала на первой странице: «Право миссис Эйнштейн на славу — из области {144} относительного...». Однако мало кто всерьез исследовал аргументацию каждой из сторон.
Профессор Стейчел безусловно не отрицает, что мужчинам случалось выдавать достижения своих родственниц за собственные. Он приводит в пример астронома Марию Винкельман, муж которой пытался приписать себе принадлежавшую ей честь открытия кометы в 1702 году. Французскую писательницу Колетт муж вынудил издать некоторые ранние произведения под его именем, а несколько произведений, которые Феликс Мендельсон исполнял как собственные, принадлежали его сестре Фанни. То есть прецеденты были, но профессор Стейчел не видит убедительных доказательств того, что Милева действительно попала в число этих жертв покушения на интеллектуальную собственность. Если бы Эйнштейн и Милева вместе подписали статью, в этом бы не было ничего необычного. Уже существовал прецедент: совместная работа Пьера и Марии Кюри, чье сотрудничество после свадьбы, состоявшейся в 1895 году, привело к открытию двух новых элементов — радия и полония.
Сам термин «радиоактивность» впервые появился в одной из их совместных работ, датируемых 1898 годом, а в 1903 году они вдвоем получили Нобелевскую премию по физике вместе с Анри Беккерелем. Лондонский астроном Уильям Хаггинс и его жена Маргарет (оба, подобно Эйнштейну, страстно любившие играть на скрипке) совместно опубликовали большую серию статей в период с 1889 но 1905 год. Уильям всегда заявлял о себе как об основном авторе и сначала писал статьи от первого лица единственного числа, но вскоре перешел на первое лицо множественное число, чтобы отдать должное содействию своей жены. Еще один пример научного сотрудничества супругов дают венский физик Пауль Эренфест и его жена Татьяна, которые, как и Мария Кюри, подружились с Эйнштейном и Милевой. Совместные труды супругов Эренфест по статической механике, завершенные через пять лет после создания теории относительности, содержат ссылки на раннюю работу Эйнштейна в их области. {145}
Утверждение об авторстве Милевы впервые выдвинула ее биограф Тржбухович-Гжурич. Книга вышла на сербском языке в 1969 году, но стала популярной у читателей только после смерти автора, когда в 1983 году была издана в переводе на немецкий. В книге очень много соблазнительных намеков, но основывается она по большей части на слухах. Так, согласно утверждению автора, Эйнштейн в 1905 году якобы сказал отцу Милевы: «Всем, что я сделал и чего достиг, я обязан Милеве. Она дарит меня высочайшими взлетами вдохновения, она — мой ангел-хранитель, она оберегает меня от неприятностей в жизни и, прежде всего, в науке. Без нее я не смог бы ни начать своей работы, ни, тем более, ее закончить». Эти слова по тону напоминают многое из того, что молодой Эйнштейн писал в своих любовных посланиях, но Тржбухович-Гжурич не была с ними знакома. Однако мы уже знаем, что переписка Эйнштейна с Милевой свидетельствует скорее об эмоциональной, чем об интеллектуальной близости. И в отличие от писем, принадлежащих перу самого Эйнштейна, исследовательница пользуется свидетельством из третьих рук. то есть пересказом эпизода со слов Миланы Боты, подруги студенческих дней Милевы.
В 1929 году, давая интервью одному белградскому журналисту, Бота утверждала, что сама Милева сказала ей о своей роли в создании теории относительности пятью или шестью годами раньше. По ее словам, Милеве было тяжело обсуждать эту тему, то ли потому, что ей было больно вспоминать «счастливейшие часы в ее жизни», то ли потому, что она щадила репутацию Эйнштейна. Тржбухович-Гжурич приводит много высказываний о вкладе Милевы в теорию относительности; они принадлежат ее родственникам и знакомым и наводят на мысль, что мнение об ее соавторстве, если не авторстве, было достаточно распространено в ее кругу. Но имело ли оно под собой какие-то основания? Милана Бота не была незаинтересованным лицом: судя по ее словам, она была очень привязана к Милеве, и, {146} возможно, в ней по-прежнему жила неприязнь к Эйнштейну («этот немец, которого я не могу видеть», говорила она в молодости). Также следует учитывать традиции городского фольклора, по которым местным героям и героиням придается несоразмерное значение. Эта тенденция проявилась и у Тржбухович-Гжурич, которая, по ее словам, гордилась Милевой, «нашей великой сербской женщиной».
Предположения о роли Милевы оказались столь живучими отчасти и по той причине, что Эйнштейн не мог убедительно объяснить, как он пришел к теории относительности. Дело не только в том, что в его статье не приведено никаких ссылок: в зрелые годы он часто противоречил сам себе, отвечая на вопрос, что больше всего повлияло на него как на создателя теории относительности. Например, остается неясным, какова роль так называемого опыта Майкельсона—Морли, проведенного в 1887 году. Эти двое ученых пытались выяснить, как меняется скорость света в зависимости от относительной скорости эфира (гипотетическая среда, в которой распространяются световые волны); оказалось, что скорость света не изменяется ни при каких условиях. В 1922 году Эйнштейн произнес в Японии речь, где сказал, что этот «беспримерный результат» «открыл ему дорогу» к теории относительности, но за год до смерти он написал письмо, где сказано, что этот опыт «существенной роли не сыграл».
Сторонники Милевы пытались дополнить картину возникновения теории относительности. Эван Гаррис Уолкер выдвинул предположение, что именно Милева обратила внимание Эйнштена на опыт Майкельсона—Морли, и потому «она могла открыть основные принципы теории относительности с тем же успехом, что ее муж». Впрочем, нет никаких свидетельств ни в пользу посылки Уолкера, ни в пользу его вывода, но имеется конкретное свидетельство, которое можно истолковать против них. Занявшись подробным опровержением версии Уолкера, Стейчел приводит письмо Эйнштейна к Милеве от 1899 {147} года, где тот сообщает, что прочел статью, посвященную описанию тринадцати опытов, связанных с эфиром, среди которых был и опыт Майкельсона. Эйнштейн отзывается о статье как об «очень интересной», но никак не выделяет по значению опыт Майкельсона (еще девять экспериментов, описанных в статье, дали отрицательный результат). Стейчел с насмешкой отзывается о предположении, что опыт Майкельсона был волшебным ключиком, позволявшим проникнуть в тайны относительности. Если бы это было так, замечает он, любой из ученых, ознакомившихся с упомянутой статьей, мог бы опередить Эйнштейна.
Аргументы доктора Уолкера сводятся к следующему. Во второй половине жизни Эйнштейн намеренно принижал значение опыта Майкельсона— Морли, чтобы скрыть, насколько он в научном плане обязан Милеве. Но противоречивые отзывы Эйнштейна об этом эксперименте скорее наводят на мысль, что в зрелые годы он многое забыл и сам не может отчетливо представить, как рождались его идеи. Кроме того, он имел привычку приспосабливать свою речь к запросам аудитории и слегка видоизменять те или иные эпизоды для вящего драматического эффекта.
Наши аргументы, разумеется, можно было бы отмести, если бы удалось показать, что Милева подписала статью о теории относительности в качестве соавтора. Десанка Тржбухович-Гжурич заявляет, что так и было. Она утверждает, что, по словам русского физика Абрама Федоровича Иоффе, все три эпохальные статьи 1905 года были подписаны «Эйнштейн—Марич». По ее словам, Иоффе видел оригиналы статей, когда работал у Вильгельма Рентгена, в чью честь было названо открытое им излучение: Рентген рецензировал статьи, присланные для публикации в «Annalen der Physik».
Ее слова о двойной подписи подхватил доктор Эванс Уолкер, который в 1955 году опубликовал в советском журнале «Успехи физических наук» №2, том 57, статью о том, что авторство великих статей {148} 1905 года принадлежит «Эйнштейну—Марити». Доктор Уолкер придавал особенное значение слову «Марити», то есть венгерской форме сербской фамилии «Марич». Он утверждал, что во всех биографиях Эйнштейна фамилия его жены дается в сербском варианте. «Иоффе должен был действительно видеть статью, подписанную рукой Милевы; только так могла запасть ему в память венгерская форма фамилии «Марич». Этот факт — сильнейшее доказательство того, что Милева действительно была соавтором теории относительности».
Иоффе умер в 1960 году, так что ему вопросов уже не задашь. Однако по меньшей мере одна известная биография Эйнштейна, где используется написание «Марити», была издана за год до выхода в свет той статьи Иоффе, в которой упоминается двойная фамилия. То, что в ней написано, заставляет сильно потускнеть доводы доктора Уолкера. Иоффе пишет, что автором статьи о теории относительности был «до той поры никому не известный служащий патентного бюро в Берне Эйнштейн—Марити», и в скобках добавляет: «Марити — фамилия его жены, которая по швейцарским обычаям пишется после фамилии мужа». Ясно, что Иоффе под двойной фамилией «Эйнштейн—Марити» разумел одного Эйнштейна: в конце концов Милева не была «до той поры никому не известным служащим» патентного бюро.
Уолкер считает, что Иоффе ошибся в истолковании двойной фамилии, но его ошибка была бы существенна только в том случае, если бы имелись убедительные свидетельства, что он своими глазами видел двойную фамилию на рукописи статьи. Но Иоффе ни в одной из своих печатных работ этого не утверждает. И действительно крайне маловероятно, что его научный руководитель Рентген мог показать ему эту рукопись. Рентген был экспериментатором, а не теоретиком, и было бы странно, если бы статью о теории относительности поручили рецензировать ему. Скорее это должен был делать Макс Планк или редактор «Annalen» Пауль Друд. И как {149} справедливо спрашивает Джон Стейчел: «Если Рентген успел прочесть статью до ее публикации в 1905 году, зачем он ждал до 1906 года, чтобы попросить у Эйнштейна ее репринт?»
Однако претензии сторонников авторства Милевы нельзя полностью игнорировать, так как основного вещественного доказательства в их пользу или против не существует. В 1943 году Эйнштейна попросили выставить на благотворительный аукцион в поддержку американской антигитлеровской военной политики оригинал статьи о теории относительности. Он не смог этого сделать и вспомнил, что после публикации не стал хранить оставшийся у него текст. Сторонники гипотезы о заметании следов могут думать что им угодно, но скорее всего Эйнштейн использовал эту рукопись как бумагу для черновиков и делал на ее страницах новые выкладки. Для аукциона он повторно написал текст прославленной статьи под диктовку своего секретаря, причем время от времени переспрашивал, действительно ли так он это когда-то сформулировал. «Я мог бы сказать это куда проще», — говорил он Элен Дюкас.
Настаивая на столь больших заслугах Милевы в создании теории относительности, ее сторонники только мешают по достоинству оценить ее действительную роль в создании этой теории — не как основной из авторов и даже не как активной участницы творческого процесса, но как преданной помощницы, которой Эйнштейн был неизменно благодарен за поддержку. Эйнштейн однажды сказал, что мог бы жить и работать в здании маяка на маленьком острове — так мало зависел он от людей. На самом деле он опирался на помощь сотрудников во все времена своей научной деятельности. Многие из них вспоминали, что ему нужно было «проговаривать» свои идеи, пусть даже в форме монолога, лишь бы его охотно и внимательно слушали. Именно роль такой слушательницы и могла играть Милева, когда Эйнштейн бился с теорией относительности, — это кажется правдоподобным хотя бы потому, что большую {150} часть работы он делал дома. Существуют анекдотические истории о том, как он пытался урвать минуты для занятий наукой во время отсидки в патентном бюро, как лихорадочно прятал бумаги в стол, услышав, что к нему идут. И хотя, по словам Майи, начальство закрывало глаза на то, что в присутственные часы Эйнштейн занимался посторонними делами, все же основную часть научной работы он должен был делать в свободное от службы время.
Со времени их свадьбы круг общения Эйнштейна сильно расширился, что уменьшило его зависимость от Милевы, но пока еще не осложнило их отношений. Этому суждено было случиться позже. В апреле 1904 года он все еще подписывал письма к Гроссману словами «от Альберта и его студентки». Вплоть до 1908 года он в письмах к Милеве охотно рассуждал о физике. Профессор Джералд Холтон, признанный в мире авторитет по истории создания теории относительности, писал: «С самого начала они читали специальную литературу вместе. Эйнштейн — человек, которому нужны книги и нужен собеседник..... Нет никаких сомнений в том, что они с Милевой много говорили об его текущей работе». Доктор Питер Бергман, работавший с Эйнштейном с 1936 по 1941 год, говорит примерно то же: «Когда люди сотрудничают в области теоретической физики, точно оценить вклад каждого из них, сказать, что один сделал, например, сорок, а другой шестьдесят процентов работы — невозможно. Но из писем, хотя они дают лишь фрагментарное представление о происходившем, мнение Эйнштейна совершенно ясно: ему очень помогло то, что он обсуждал свои теории со своей будущей женой».
Есть также основания полагать, что Милева, как и в студенческие годы, продолжала исполнять при Эйнштейне роль научного секретаря, подбирать нужные материалы, сверять факты. Ее биограф Дорд Кршич рисует себе такую картину: муж и жена при свете стариной лампы вместе работают до глубокой ночи. Он полагает, что Милева занималась научной {151} работой вместе с Эйнштейном «спокойно, скромно и незаметно для глаз людских». Широко известно, что Эйнштейн говорил друзьям: «Математическую часть работы за меня делает жена». Возможно, эти слова носят апокрифический характер, может быть, это шутка. Но она дошла как семейная легенда до Пола Эйнштейна, правнука Милевы, живущего сейчас на Гавайях. Самый же яркий, убедительный и гармоничный рассказ о завершающем этапе создания теории относительности записан со слов Ганса Альберта, которого интервьюировал Питер Микельмор. В пересказе последнего дело было так:
«Милева помогала Эйнштейну решать некоторые математические задачи, но никто не мог быть ему помощником непосредственно в творческой работе, в генерировании множества свежих идей. На превращение общей концепции в цепь стройных математических выкладок ушло около пяти недель изматывающей работы. Когда она закончилась, Эйнштейн был в таком физическом изнеможении, что на две недели слег. Милева проверила статью, потом перепроверила еще несколько раз и отослала. «Это великолепная работа», — сказала она мужу».
Хотя эпизод дошел до нас как минимум в троекратном пересказе, почти наверное, Милева именно так излагала его сыну. Отсюда видно, что она считала свою роль в создании теории относительности куда более скромной, нежели ее нынешние апологеты. Идеи принадлежали только Эйнштейну, замысел и композиция статьи — тоже, и именно он дошел до изнеможения в процессе работы. Милева, тем не менее, помогала мужу «решать некоторые математические задачи», проверяла выкладки, искала описки.
Очень важно не делать из этих слов далеко идущих выводов. А их легко сделать, если переоценить три вещи: степень математической неподготовленности Эйнштейна, математические знания его жены и сложность математического аппарата теории относительности. Да, учитель Эйнштейна профессор Минковский действительно отзывался о нем как о {152} «сущем лентяе», которого совершенно не интересует математика. Сам Эйнштейн признавался, что в студенческие годы манкировал предметом, и ему не хватало математической интуиции, позволяющей отделить главное от второстепенного. Но в Политехникуме он получил по математике более высокие оценки, чем Милева: так, по теории функций ему поставили 11 баллов при максимальной оценке 12, а ей — 5. И, что самое главное, по мнению Юргена Ренна, алгебраические выкладки в теории относительности сложностью не отличаются. «Если бы он не мог самостоятельно справиться с математикой такого уровня сложности, на его научной карьере можно было бы поставить крест», — пишет Ренн. Кроме того, он указывает, что принципиально новой была не математическая часть — ее в значительной степени сделал Лоренц, а истолкование соответствующих формул, предложенное Эйнштейном. Сомневался ли кто-либо из его коллег в том, что Эйнштейн обладал достаточным интеллектуальным масштабом для создания теории относительности? Разумеется, нет, заявляет физик Авраам Пейс, общавшийся с Эйнштейном в последние девять лет его жизни и пристально изучавший развитие его идей. «Каких еще доказательств вам надо? Русалку со дна морского достать, что ли?»
Сопоставление фактов биографии Эйнштейна наводит на мысль, что если кто-то и принимал творческое участие в создании теории относительности, то эта честь принадлежит не Милеве, а Бессо. В речи, произнесенной в 1922 году в Японии, Эйнштейн с благодарностью подчеркнул его роль. Он вспоминал, как однажды обратился «к одному своему другу в Берне», чтобы обсудить с ним свои недоумения по поводу инвариантности скорости света. Эйнштейн провел год «в бесплодных размышлениях» об этом предмете, но разговоры с Бессо помогли ему прорваться к ясности. «Я очень долго обсуждал с ним проблему и вдруг понял, в чем дело, — рассказывал Эйнштейн. — На следующий день я пришел к нему и, не поздоровавшись, сказал: «Спасибо вам. Я {153} полностью решил задачу». По его словам, через пять недель в результате мгновенного озарения была создана вся теория относительности. Нет никаких указаний на то, что ключевая идея о неабсолютности времени принадлежит Бессо, но их беседы каким-то образом сыграли роль катализатора в создании теории относительности. По словам Эйнштейна, его друг служил для его идей «резонатором», причем лучшим в Европе. Эта метафора встречается сейчас во всех источниках, повествующих об их отношениях, но она не точна, и сам Бессо ее не принимал. «Резонатор» это экран, который ставится за оркестром, чтобы усиливать звук и направлять его в сторону аудитории. Функция резонатора никак не состоит в том, чтобы сделать звук отчетливее для самого музыканта, сфокусировать звуковые волны, как это произошло благодаря Бессо с идеями Эйнштейна.
В любом случае Бессо не был нимфой Эхо: имеются убедительные доказательства, что он внес большой вклад в интеллектуальное становление и развитие Эйнштейна. Именно с ним Эйнштейн обсуждал броуновское движение, он же посоветовал Эйнштейну в 1897 году изучить труды Эрнста Маха и, опираясь на собственные работы времен обучения в Политехникуме, помог многое понять в прикладной термодинамике. Эйнштейн жаловался на «мелочность» Бессо, на его привычку возиться с подробностями, требовать полной ясности в доказательствах, но именно эти качества помогли самому Эйнштейну. Эйнштейн нашел ответы, но Бессо, по-видимому, сумел задать правильные вопросы.
Эйнштейн ярко и впечатляюще характеризует таланты Бессо в письме, которое он в 1926 году отправил директору патентного бюро, чтобы тот не увольнял Бессо со службы. В этом послании, которое, кстати, привело к желаемым результатам, Эйнштейн говорит, что сильная сторона Бессо — это его выдающийся интеллект, а слабость его состоит в том, что «он действительно недостаточно решителен». И продолжает:
«Все сотрудники бюро знают, что в трудном случае за советом нужно обращаться именно к Бессо, {154} он невероятно быстро схватывает и техническую суть и юридический аспект каждой заявки и охотно помогает своим коллегам быстро овладеть предметом, потому что, если можно так выразиться, его вклад в работу — это озарения, а силу воли и необходимую решительность должны проявлять его коллеги».
Бессо не нравилось, что его роль сравнивают с ролью резонатора, сторонники Милевы тоже протестуют против такого уподобления, когда речь идет о ней. На самом деле по отношению к Милеве эта оценка куда справедливее, чем по отношению к Бессо. Резонатор порождает эхо, которое так точно совпадает с исходным звуком, что последний сам по себе уже не слышен. Для достижения этого эффекта резонатор должен быть поставлен близко к источнику основного звука. Бессо случалось оспаривать научные взгляды Эйнштейна; у нас нет данных, что Милева делала это даже в те годы, когда Эйнштейн за ней ухаживал. Несомненно, она была его основной помощницей, но, судя по ее ответам, воспринимала его идеи без критики.
Многие из ее писем утрачены, но те, что сохранились, весьма показательны, особенно ее ответ в 1894 году на письмо Эйнштейна, где тот впервые затрагивает круг тем, связанных с будущей теорией относительности. В письме Милевы содержатся любовное вышучивание, рассуждения о погоде и просьбы дать совет, как подготовиться к надвигающимся экзаменам. Как справедливо отмечает профессор Стейчел, она откликалась на все темы, затронутые Эйнштейном, кроме научных. Этот факт также наводит на мысль, что основной вклад Милевы в теорию относительности был не интеллектуального, а эмоционального свойства. Даже ее помощь как математика лучше рассматривать под этим углом. С ней Эйнштейн чувствовал себя спокойнее, увереннее, это была дополнительная опора.
У молодого Эйнштейна не было ни научного имени, ни научных связей, и он бросал вызов величайшим умам своего времени. Как бы он ни верил в силу своего интеллекта, он не был готов к тому, {155} чтобы в одиночку бросить вызов всему научному миру с его сложившейся иерархией авторитетов и ценностей. Ему нужен был не союзник для совместной борьбы, Эйнштейну требовался вдохновитель. Ему нужны были, говоря словами Юргена Ренна, «большие эмоциональные ресурсы», и Милева помогала их обеспечить.
Духовный ландшафт большинства молодых ученых складывается из приобретенных знаний, заемной мудрости и апробированных идей; их честолюбие не простирается дальше того, чтобы, цитируя того же Ренна, «отыскать себе биологическую нишу, которую великие оставили без внимания». Множество ученых благополучно делают себе карьеру внутри таких ниш, на узкоспециальном поприще, и никогда не покидают его. С Эйнштейном было иначе. Похоже, любовь Милевы и ее безоглядная вера в его одаренность создали своеобразный микроклимат — он жил в замкнутом и самодостаточном мире, где мог, свободный от внешних догм, оттачивать свои глобальные концепции и углублять интуиции. Чтобы ему хватило смелости для избранной им миссии, он нуждался в ком-то, кто подтверждал бы и его собственную значительность, и правильность избранных им целей. Один такой союзник стоил сотни, если у него была соответствующая картина мира. Милева была готова принять мир, состоящий из них двоих.
| {156} |
Статьи Эйнштейна, написанные в 1905 году, отнюдь не вызвали бурной реакции в научном мире, напротив, их практически не заметили. По словам его сестры, Эйнштейн ожидал резкого неприятия и немедленных критических выступлений против теории относительности и был очень обескуражен молчанием большинства ученых. В числе счастливых исключений была реакция весьма влиятельного в научном мире Макса Планка. Если бы не он, трудам Эйнштейна пришлось бы дожидаться своего часа куда дольше. Той же зимой Планк включил теорию относительности в свои лекции, она поразила воображение его ассистента Макса фон Лауэ, и тот стал первым представителем академической науки, посетившим Эйнштейна в Берне. Когда фон Лауэ оказался в патентном бюро, внешность великого ученого произвела на него столь невыгодное впечатление, что он не сразу окликнул Эйнштейна, когда тот проходил мимо («Я не мог поверить, что это и был создатель теории относительности»). Не лучшее впечатление произвела на фон Лауэ и дешевая сигара, которой его угостил Эйнштейн. Когда они шли через мост, фон Лауэ незаметно выбросил сигару в реку. Один из первых и очень активных сторонников теории относительности, фон Лауэ в старости признался, что ему самому понадобились десятилетия, чтобы понять ее значение и значимость вытекающих из нее следствий. Именно этим он публично объяснял тот факт, что теорию относительности признали далеко не сразу. {157}
Приезд фон Лауэ был первым скромным знаком окончания научной изоляции Эйнштейна. Время шло, количество новообращенных релятивистов увеличивалось. Некий польский профессор даже сказал своему коллеге: «Появился новый Коперник». Будущий нобелевский лауреат немец Макс Борн назвал работу Эйнштейна «откровением», еще одним влиятельным сторонником его теории стал Минковский, тот самый профессор из Цюриха, который отзывался об Эйнштейне как о «совершеннейшем лентяе». Тем не менее большинство физиков не интересовалось новой теорией, не понимало ее или в нее не верило. В июле 1907 года, то есть через два года после публикации трех статей, Планк писал Эйнштейну, что сторонники теории относительности составляют «весьма незначительное меньшинство ученых».
Новообретенные поклонники Эйнштейна были поражены убожеством обстановки, в которой жил «новый Коперник». Якоб Лауб, ученик Минковского и один из первых паломников, посетивших Эйнштейна в Берне, застал его стоящим на коленях у камина: в квартире было холодно, и Эйнштейн тыкал кочергой в огонь. Физика оставалась для него любимым делом, занятия которым он втискивал в узкий просвет между служебными и семейными обязанностями. В начале 1907 года он отозвался о себе как о «почтенном федеральном служащем, бумажном черве», которому из-за ухода за двухлетним сыном остается очень немного времени для двух своих хобби, то есть для физики и игры на скрипке. А в 1906 году Милева дала понять Элен Савич, как трудно жить на мизерную зарплату служащего. К Милеве должна была приехать подруга, которой предстояло жить у них дома, и она задавалась вопросом, каким образом «наш тощий кошелек выдержит это испытание».
Интересы Милевы все больше сосредотачивались на маленьком Гансе Альберте, он становился смыслом ее жизни. Ее любовь к нему усиливалась по мере того, как проявлялась его индивидуальность, и она {158} с гордостью писала о «невероятных вопросах», которыми он забрасывает своих родителей. «Мальчик у нас такой забавный, мы с большим трудом удерживаемся от смеха и сохраняем серьезный вид, когда ему приходит в голову очередная уморительная идея», — рассказывает она Элен. Несмотря на такую нежность, Милева пыталась придерживаться строгих научных принципов в воспитании. «Следуешь ли ты общим принципам воспитания или своим собственным, не опробованным другими людьми? — спрашивала она подругу. — Я искала литературу, имеющую отношение к предмету, и не нашла ничего толкового. Может быть, ты мне что-нибудь посоветуешь?» Эта просьба открывает нам глаза на особенности характера Милевы. Если Эйнштейн сам выискивал и шерстил литературу, «имеющую отношение к предмету», то у Милевы был более педантичный склад ума, она любила быть не ведущей, а ведомой и подчиняться авторитетам.
Милева писала, что свободное время Эйнштейн проводит дома, играя с сыном, но добавляла, что на него наваливается все больше административной работы, и его бумаги с выкладками «громоздятся на столе такими кипами, что становится страшно». Годы шли, на плечи ее мужа ложился все больший груз трудов и обязанностей, и, соответственно, нарастала ее тревога. Милева с тоской вспоминала их студенческую жизнь в Цюрихе. Она спрашивала Савич, считает ли та, что они с Эйнштейном сильно изменились за минувшие, совместно прожитые годы, и добавляла: «У меня часто бывает такое чувство, что я сижу в знакомой тебе комнате в Цюрихе и радуюсь самым счастливым дням в своей жизни... Когда я думаю о тебе, ты часто видишься мне такой, какой была в те годы, и редко такой, какой ты стала сейчас. Как тебе кажется, это очень странно?»
Именно в 1907 году в голову Эйнштейну пришла, по его словам, «самая счастливая мысль в моей жизни». Вот что он вспоминает: «Я сидел на стуле в патентном бюро в Берне и вдруг подумал: «Если человек находится в состоянии свободного падения, {159} он не должен чувствовать своего веса». Я был ошеломлен. Эта простая мысль произвела на меня глубокое впечатление. Она послужила толчком к созданию теории гравитации». В сентябрьской статье 1905 года изложено то, что сейчас, в отличие от общей, называют «специальной теорией относительности»; в этой работе еще не решены проблемы, связанные с ускорением. Светлая мысль Эйнштейна состояла в том, что гравитация и ускорение в определенном смысле эквивалентны. Если человек летит вниз, то его ускорение — это ускорение свободного падения, порожденное силой земного тяготения, и в этом состоянии для человека сила тяжести отсутствует (он не ощущает собственного веса). Эйнштейн понял, что расширить теорию относительности, включив в нее ускорение, означает создать новую теорию гравитации, которая придет на смену ньютоновой.
В эти годы Эйнштейна волновали не только проблемы, связанные с теорией относительности. Его интерес к вопросу о природе излучения все возрастал, особенно его занимала корпускулярная теория света, используемая в квантовой механике. В числе не самых значительных, но интересных работ было изобретение прибора для измерения маленьких количеств электричества. Честь создания этой «Maschinhen», или «машиночки», приписывается Милеве, которая якобы создала ее в сотрудничестве с братом Конрада Габихта Паулем. По мнению Тржбухович-Гжурич, создание этого прибора отняло так много времени, потому что Милева была вынуждена заниматься домашним хозяйством, а также отличалась скрупулезностью и перфекционизмом. Описание прибора дается в статье за подписью братьев Габихтов, он запатентован на имя Эйнштейн— Габихтов, историю его создания подают как очередной пример того, что Милеве в который раз не воздали должного. Так, говорят, что один из братьев спросил ее, почему она не настаивала на указании своего авторства. «Зачем? — якобы ответила она. — Мы же неразделимы, мы вдвоем один камень (Ein Stein)». {160}
Плохо в этой истории то, что она ничем убедительно не подтверждается: основной источник — та же Тржбухович-Гжурич. В биографии Эйнштейна, написанной Карлом Зелигом, вскользь упоминается о помощи Милевы в создании прибора, но на чем Зелиг основывался — неизвестно. И, что главное, вклад Милевы в создание «машиночки» не подверждается письмами за соответствующий период. «Машиночка» неоднократно фигурирует в переписке Эйнштейна с Паулем Габихтом и другими его корреспондентами, но о Милеве в этой связи нет ни слова. За 1908 год сохранилось единственное письмо Эйнштейна к Милеве, но о приборе в нем не упоминается. Ничего не пишет Милева о своем участии в этих разработках и Элен Савич. В общем, идеи об ее авторстве столь же несостоятельны, сколь и конструкция прибора. «Машиночка» оказалась очень сложной и ненадежной в эксплуатации и не получила широкого применения.
В июне 1907 года Эйнштейн снова пытается проникнуть в академические круги, на этот раз он предлагает свои услуги в качестве приват-доцента (лектора без постоянной зарплаты) Бернскому университету. Его выслушали более чем прохладно. Статью по теории относительности профессор экспериментальной физики назвал «невразумительной». Кроме того, Эйнштейн не мог удовлетворить обязательного требования к приват-доценту — представить факультетскому начальству «Habilitationsschrift» — рукопись еще не опубликованной статьи. Ему отказали, и он стал искать место преподавателя математики. Но получил открытку от своего бывшего научного руководителя, профессора Альфреда Кляйнера, который следил за его успехами и теперь хотел, чтобы Эйнштейн работал под его крылом, то есть стал профессором в Цюрихском университете. В качестве первого шага к этой должности Кляйнер посоветовал ему повторить попытку стать приват-доцентом в Бернском университете. На этот раз Эйнштейн сумел удовлетворить всем тамошним требованиям, и в 1908 году получил свою первую академическую {161} должность. Но место это было незавидное, к тому же Эйнштейну приходилось совмещать преподавание с работой в патентном бюро. Поэтому он читал лекции в неудобное для слушателей время, в семь часов вечера, и был вынужден в летнем семестре довольствоваться аудиторией из трех своих друзей. Его сестра, изучавшая в Берне романские языки, иногда приезжала на эти лекции «для моральной поддержки». Эйнштейну случалось читать лекции и для одного слушателя.
Имеются данные в пользу того, что в 1908 году отношения между Эйнштейном и Милевой были теплыми. На Пасху Милева с Гансом Альбертом поехала к родителям в Воеводину, а Эйнштейн остался в Берне. Он писал ей в том же тоне, в каком выдержана переписка их студенческих лет, с энтузиазмом рассказывал о научной работе, с горячностью рассуждал о недостатках, которые обнаружил в математическом аппарате, предложенном Минковским для теории относительности, и об экспериментальной проверке ее правильности, проведенной в Вюрцбургском университете в Германии. Он также рассказывал, какие книги заказал — по кинетической теории газов и собрание классических юмористических произведений. Все это перемежается любовной болтовней: Эйнштейн по традиции жалуется, что без хозяйской руки Милевы квартира в Берне «заросла грязью». «Я пишу всякий вздор, но разве это имеет значение?» — спрашивает Эйнштейн и забрасывает Милеву ворохом разнообразных идей, как это бывает, когда человеку легко с собеседником.
Но существенное отличие от начального периода их жизни в Берне заключается в том, что Эйнштейн впервые приступил к официальному научному сотрудничеству с человеком из академического круга. Этим человеком был математик Якоб Лауб, с которым Эйнштейн опубликовал свою первую совместную статью. Его неоднозначные отзывы о Лаубе вызывают в памяти более ранний период, когда он начал обсуждать научные проблемы с Бессо. Тогда {162} Эйнштейн, чтобы успокоить Милеву и не вызвать у нее ревности, хвалил Бессо, но так, чтобы его похвалы можно было принять за критику. Теперь та же участь постигла Лауба. Эйнштейн пишет жене, что они очень много работают вместе, что недавно вернулись с длительной совместной прогулки и что они даже едят вместе. Но добавляет: «Несмотря на общение с Лаубом, жить в одиночестве мне не нравится. Я с нетерпением жду твоего возвращения». Эйнштейн пишет, что Лауб «славный малый, но чересчур, просто болезненно честолюбивый. Но он делает выкладки, на которые у меня просто нет времени, и это хорошо».
В это лето видимость счастливого брака еще сохранялась, во время отпуска Эйнштейны посылали друзьям открытки самого радостного содержания. Они взяли Ганса Альберта с собой в Мюррен, расположенный над живописной, стиснутой обрывистыми скалами долиной Лаутербруннен и в соседнее селение Изенфлух, откуда открывается прекрасный вид на гору Юнгфрау. В этот период Эйнштейн разделял любовь Милевы к гористым швейцарским пейзажам; предыдущим летом они увлекались походами на Бернский Оберланд. В дальнейшем его пристрастия изменились, и его секретарь Элен Дюкас в 1952 году писала, что он не любил гор, потому что они «мешали ему смотреть вдаль». Он полюбил пустоши, прерии и море, все огромное, не имеющее видимых границ. Возможно, горы ассоциировались у него со студенческими годами, проведенными с Милевой, будили сладкие и мучительные воспоминания о путешествии на Шплингенский перевал. Ганс Альберт в зрелом возрасте говорил, что «вид любой горы» действовал отцу на нервы, и замечал, что, учитывая его «швейцарское прошлое», это достаточно странно. Ганс Альберт также полагает, что одна из причин, по которым Эйнштейн любил парусный спорт, были «морские просторы, открытая его взору бескрайняя даль». В зрелом возрасте Эйнштейн, как и Шелли, полюбил пустынные места, где «душе {163} возможность веровать дана, что бесконечна, как они, она».
Известность Эйнштейна все росла, поэтому весной 1909 года ему представилась возможность сменить работу. В Цюрихском университете была создана должность второго профессора на кафедре теоретической физики, и это место по рекомендации профессора Кляйнера предложили занять Эйнштейну. Одна из самых трогательных историй об Эйнштейне, — это история о том, как Фридрих Адлер, который первым получил предложение от университета, сам отказался от упомянутой должности в пользу Эйнштейна. Адлер, бледный и худой молодой человек, сын основателя Австрийской демократической партии, отличался принципиальностью. По общепринятой версии, он отказался от профессорства, заявив, что «его дарования не идут ни в какое сравнение с талантом Эйнштейна». Впоследствии Эйнштейн и Адлер подружились, стали соседями, но рассказанная история представляется особенно интересной с учетом дальнейших событий жизни Адлера. В 1916 году, одержимый идеями пацифизма и неприятием социалистами первой мировой войны, он застрелил премьер-министра Австрии. Адлера приговорили к смертной казни, но приговор пересмотрели, и он отделался 18 месяцами тюремного заключения.
История о самопожертвовании Адлера почерпнута у Филиппа Франка, который, несомненно, слышал ее от самого Эйнштейна. Но еще более любопытные сведения содержит письмо Эйнштейна, адресованное Бессо и написанное в период, когда они обсуждали петицию в защиту Адлера. С порядочностью, присущей его натуре в лучших ее проявлениях, Эйнштейн готов сделать все, дабы спасти жизнь своего старинного приятеля. Но с язвительностью, которая была ему присуща в равной мере, Эйнштейн обрисовывает Бессо характер Адлера. С одной стороны, Эйнштейн хотел, чтобы в петиции был сделан акцент на доброте и на отсутствии эгоизма. С другой стороны, просто, чтобы тот «был в {164} курсе», Эйнштейн сообщает Бессо, что Адлер — человек неуравновешенный, интеллектуально бесплодный, упрямый мечтатель, чья склонность к самопожертвованию замешана на мазохизме, а готовность стать мучеником граничит со стремлением к самоубийству. Именно в связи с этой характеристикой Эйнштейн излагает Бессо эпизод 1909 года, то есть хочет продемонстрировать не благородство Адлера, а его безумие. Правда, по-видимому, заключается в том, что Адлер не слишком стремился занять место профессора в Цюрихе. Профессор Роберт Шульман, изучивший письма Адлера к отцу, полагает, что, по мнению Адлера, наниматели сами ставили его кандидатуру на второе место. Адлер считает, что Кляйнер попросту размахивал вакансией у него перед носом, имея его в виду как запасной вариант и надеясь в конце концов устроить на эту должность Эйнштейна, которого считал принадлежащим «к числу ведущих физиков-теоретиков». Адлер был оскорблен и отказался от притязаний, чтобы избежать унижения.
Какими бы мотивами ни руководствовался Адлер, Эйнштейн получил должность, несмотря на антисемитизм, столь распространенный в Европе начала века. Давая окончательный отзыв о пригодности Эйнштейна на эту должность, его будущие факультетские коллеги отметили свойственные ему «неприятные качества», столь распространенные среди евреев. По их мнению, к таким свойствам относились «назойливость, наглость и торгашеское отношение к академическим должностям». К счастью для Эйнштейна, сотрудники факультета все же сочли недостойным превращать бытовой антисемитизм в кадровую политику. Тайное голосование состоялось в марте, десять человек были «за», один воздержался. Эйнштейна утвердили в должности 7 мая, и 6 июля 1909 года он покинул патентное бюро.
Еще через несколько дней Эйнштейн получил повое подтверждение своего растущего престижа. Основанный Кальвином Женевский университет отмечал свое 350-летие, и в честь этого события {165} некоторые ученые были удостоены звания его почетных докторов. В их числе — Мария Кюри, Эрнест Сольвей, Вильгельм Оствальд (его Герман Эйнштейн когда-то просил подбодрить сына) и сам Эйнштейн. Эйнштейн чуть было не пропустил церемонию, так как выбросил приглашение. Он подумал, что изысканно оформленное письмо на латыни «не имеет к нему непосредственного отношения и не представляет интереса».
О том, что Эйнштейн стал профессором в Цюрихе, написали в местных газетах, из них о его новом назначении узнала Анна Майер-Шмидт. Десять лет назад, когда она была просто Анной Шмидт, Эйнштейн общался с ней, живя в отеле «Парадиз» в Меттменштеттене, и посвятил ей пылкие стихи. Анна, теперь уже замужняя дама, прислала Эйнштейну открытку, в которой поздравила его с новой должностью, и в мае 1909 года получила от него очень сердечное ответное письмо. Оно было коротким, но весьма сентиментальным, и дышало тоской о прошлом. Эйнштейн пишет, что «безмерно рад» ее открытке и вспоминает о «нескольких чудесных неделях», проведенных в ее обществе. «Я от всей души желаю вам счастья и удачи», — пишет Эйнштейн, — и думаю, что вы, бывшая когда-то такой пленительной и счастливой девушкой, стали не менее счастливой и прекрасной женщиной». Эйнштейн уверяет Анну, что он сам ничуть не изменился, остался таким же «простосердечным малым»; изменилось только время, прошла их юность, «волшебная пора, когда человеку кажется, что на небесах не умолкают виолончели». Что бы Эйнштейн не имел в виду, письмо получилось таким, словно он вздыхает о былой любви. Это впечатление от письма только усиливает единственное, отмеченное грустью и беспомощностью перед обстоятельствами, упоминание о Милеве: «Госпожа Марич и в самом деле стала моей женой».
Эйнштейн настойчиво просил Анну посетить его в Цюрихе, причем указывал адрес института, где ему в октябре предстояло начать работу. По-видимому, {166} как только Анна получила это письмо, она отправила ответ, но его перехватила Милева. Он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Милева заподозрила, что у ее мужа начинается роман, и выразила мужу Анны весьма резкий протест против этой «неуместной» переписки. Она написала господину Майеру, что Эйнштейн тоже возмущен письмом его жены и даже отправил его обратно с припиской, что отказывается его понимать. Однако через две недели Эйнштейн написал Майеру, что Милева действовала исключительно по собственной инициативе, никак не с его ведома. По его словам, Анну абсолютно не в чем упрекнуть, Милева была просто ослеплена ревностью. Ясно, что Эйнштейн был рассержен на жену и чувствовал себя очень неловко, хотя говорил, что частично берет вину за происшедшее недоразумение на себя. Он просит извинения за свое «необдуманное поведение», признавая, что, возможно, ответил на первую открытку Анны «с излишней сердечностью, тем самым воскрешая нашу прежнюю взаимную симпатию». Но он утверждает, что намерения у него были совершенно невинные и обещает, что его отношения с Анной никак развиваться не будут.
Из-за инцидента с письмом Эйнштейн почувствовал себя униженным, эта рана долго не заживала. По прошествии пяти месяцев он написал Бессо, что «душевное равновесие, утраченное из-за М(илевы)» к нему так и не вернулось. В апрельском письме к матери он извиняется за свое «плохое настроение» и просит ее не тревожиться на этот счет. По его словам, нехорошо вымещать на других свою подавленность и злость, «человек должен перемалывать их в одиночку». Горький осадок от случившегося оставался у него на протяжении сорока лет. В 1951 году, когда и Анны, и Милевы уже не было в живых, он в письме к дочери Майеров ударяется в рассуждения о патологической ревности, свойственной его первой жене. Он говорит, что эта нездоровая черта характера «типична для столь уродливых женщин». {167}
По словам профессора Джона Стейчела, когда он приступил к работе над письмами Эйнштейна в качестве выпускающего редактора, первым шокировавшим его высказыванием оказался именно этот отзыв о Милеве. Его недоброжелательность едва ли смягчает тот факт, что по мнению многих в зрелые годы Милева не отличалась привлекательностью. Один из современников пишет, что «лицо у нее было жесткое и застывшее, как гипсовая маска», по словам другого, «лицо у нее было суровым, почти грубым». В это нелегко поверить, глядя на ее студенческие или свадебные фотографии, хотя на них Милева тоже не выглядит красавицей. Но в молодости душевный огонь и радостная целеустремленность делали ее по-настоящему хорошенькой. По мере того, как брак Милевы с Эйнштейном распадался, этот внутренний огонь угасал. Вот почему Милева с годами превратилась, если верить ее критикам, в «столь уродливую женщину».
О том, что Милева была очень ревнива, вспоминают многие. Ганс Альберт тоже признает за матерью эту черту. Он говорит: «Она была типичной славянкой с очень сильными и устойчивыми отрицательными эмоциями. Она никогда не прощала обид». Но ее ревность была прямым следствием ее безграничной слепой преданности Эйнштейну, которую в начале их отношений он так ценил. Когда-то он черпал в этой преданности силу, потом порожденные ею собственнические чувства стали казаться Эйнштейну удушающими. Но он сам уверил Милеву в том, что они вдвоем противостоят остальному миру, сплошь населенному обывателями. Понятно, что сближение с людьми, находящимися за пределами их магического круга, Милева воспринимала как предательство. В любом случае, письмо, подобное тому, какое он получил от Анны Майер-Шмидт, не обрадовало бы ни одну жену. Эйнштейн сам спровоцировал Милеву на поступок, который заставил его отшатнуться, и чем больше он отдалялся от нее, тем сильнее она за него цеплялась. {168}
История с письмом Анны Шмидт обозначила для Милевы еще один этап отчуждения, возникшего между ней и Эйнштейном. Мужа отнимала у нее его работа, его приятели, его коллеги, а теперь вдобавок появилась эта женщина из прошлого. Растущая известность ее мужа в научном мире, по-видимому, тоже внушала Милеве опасения, так как разделяла ее с Эйнштейном — он получал доступ в избранный круг, ее же уделом оставались домашние заботы. В сентябре 1909 года Эйнштейн впервые в жизни поехал на конференцию, проходившую в Зальцбурге, чтобы сделать доклад о структуре излучения. Одному из своих коллег он признался, что до тридцати лет не видел ни одного живого физика; теперь ему предстояло выступить перед самыми выдающимися из них. Словно желая показать, что хочет отдохнуть от жены и от дома с его угнетающей обстановкой, Эйнштейн уехал на конференцию за несколько недель до ее начала. Милева, оставшись одна с Гансом Альбертом, со смешанными чувствами раздумывала о предстоящем переезде в Цюрих. Семь лет, проведенных с Эйнштейном в Берне, Милева в письме к Савич назовет «множеством прекрасных, но, нужно признаться, также множеством горьких и трудных дней». Милева с гордостью пишет, что Эйнштейн принадлежит теперь к числу «самых выдающихся немецкоязычных физиков» и в научном мире «за ним все так ухаживают, что становится не по себе». Но ее гордость за мужа смешивается с опасениями за их будущее. «Я счастлива, что к нему пришел успех, которого он действительно заслуживает, — пишет она подруге. — Остается только пожелать, чтобы слава не испортила его как человека, я очень на это надеюсь».
Самые лучшие воспоминания о возвращении Эйнштейна в Цюрих принадлежат перу его друга Филиппа Франка, а также его ученика Давида Рейшинштейна; и тот, и другой утверждают, что слава помогла Эйнштейну обрести глубокую, подлинную веру в себя, которая в корне отличалась от бравады, свойственной ему в студенческие годы. Он полностью {169} утвердил себя как физик и теперь знал, что в научном мире прислушиваются к его голосу. «Одним из результатов его великих научных открытий стало то, что Эйнштейн, наконец, обрел глубокое чувство внутренней защищенности, — пишет Франк. — Он избавился от бремени многих проблем, столь часто тяготивших его в молодости, и мог не придавать значения повседневным бытовым трудностям». Рейшинштейн употребляет еще более сильные слова, он пишет, что вера в свое призвание превратилась у Эйнштейна в уверенность «в своей собственной великой миссии», что «в эти годы душа Эйнштейна обрела крылья», «все возраставший успех сообщил ему чувство превосходства, а ощущение собственной незащищенности и несостоятельности в борьбе с жизненными трудностями исчезло». По мнению Рейшинштейна, Эйнштейн был настолько полноценным человеком, что это подавляло окружающих, между строк можно прочесть, что гордость Эйнштейна граничила с высокомерием. Франк отзывается об Эйнштейне не столь критически, но тоже дает понять, что его излишняя сдержанность не помогала общению. Он не воспринимал всерьез повседневные заботы окружающих и был в общении с ними то по-детски жизнерадостен, то откровенно циничен.
Это не означает, что Эйнштейн изменился, просто присущее ему чувство отстраненности от других людей стало сильнее. Оно способствовало тому, что он все дальше отходил от Милевы, в которой уже не нуждался для ощущения счастья, но самодостаточности он так и не обрел. Франк отмечает парадоксальные особенности Эйнштейна. Он, казалось, был способен «глубоко и искренне сочувствовать» первому встречному, но «замыкался и уходил в себя», когда кто-то пытался установить с ним настоящий человеческий контакт. В общении с ближними он обозначал границы, которые никому не позволял преступать. Эти барьеры между ним и окружающими обеспечивали ему внутреннюю безопасность. Он все еще был внимателен к жене, во всяком {170} случае настолько, чтобы соблюдать мелкие условности, вроде покупки ей рождественского подарка, что, впрочем, он всегда оставлял на последний момент. Сохранилась открытка от 17 декабря 1909 года, в которой Эйнштейн просит Габихта срочно сообщить ему название и выходные данные нотного альбома с мелодиями старинных танцев, который он решил подарить Милеве на Рождество.
Страдания Милевы усугублялись тем, что она чувствовала себя все более одинокой. Друзей, на чье участие она могла рассчитывать, у нее было мало. К примеру, та же Элен Савич не была ее безоговорочной союзницей. Похоже, в глубине души она больше симпатизировала Эйнштейну, чем Милеве, которая была для Элен и подругой, и соперницей. Вскоре после переезда в Цюрих Милева, упоминая в письме о все возрастающем отчуждении между ней и Эйнштейном, обращается к Савич с мягкими упреками. Ее намеки на некоторую враждебность со стороны Савич воскрешают в памяти лето 1909 года, когда та смеялась над Милевой вместе с матерью Эйнштейна. Вот что пишет Милева:
«Видишь ли, когда человек становится таким знаменитым, у него остается немного времени для жены. Ты пишешь, что я ревную к науке, и между строк твоего письма сквозит некое злорадство, но что поделаешь, всегда одним достается жемчуг, а другим футляр... Возможно ли (я часто спрашиваю себя об этом), что я человек глубоких чувств и больших страстей, который неистово борется и сам же от этого страдает, который только из гордости, а может статься, и из застенчивости привыкает носить маску высокомерия и превосходства и, в конце концов, начинает верить, что маска и есть его подлинное лицо. И, если это действительно так, если в душе я не столь горда, буду ли я достойна твоей любви? Знаешь, я так нуждаюсь в любви и так хочу услышать твое «да», что ради него приму твои слова о негоднице-науке, которая во всем виновата, и посмеюсь над ними...». {171}
Слова Милевы «я так нуждаюсь в любви» соответствуют тому, что говорил о ней ее старший сын. Оспаривая мнение Филипа Франка о ее жестком характере, Ганс Альберт пишет: «Жесткая? Суровая? Я не думаю, что это правильно. Она была человеком, перенесшим множество несчастий, но суровой она не была. Я бы сказал, что ... она была способна дарить любовь и очень в ней нуждалась. То есть не была человеком, у которого все шло от головы». По мере того, как отношения Эйнштейна с Милевой ухудшались, Ганс Альберт все больше сближался с матерью. В письме к Элен Милева говорит, что Ганс Альберт родился в мае, поэтому, наверное, его примут в школу на год позже, чем большинство его ровесников, и ее, Милеву, это очень радует. «Он еще год пробудет с мамой, — пишет Милева. — Мы очень привязаны друг к другу и просто неразлучны».
В то время, когда отношения в семье были более чем прохладными, Милева зачала второго сына. Мы не знаем, была ли эта беременность случайной или нет, но теперь у нее появился второй человек, нуждавшийся в ее любви, к которой Эйнштейн становился все равнодушнее. Эдуард Эйнштейн родился 28 июля 1910 года. Родители звали его «Тете» (а также «Тетель» «Теде» и «Тедель»), это прозвище происходит от сербского слова «дите» (ребенок), которое Ганс Альберт забавно искажал. Эйнштейн написал друзьям, что «аист принес нам чудесного здорового мальчика», и казался счастливым отцом. Однако появление на свет младенца не облегчило семейной жизни. Жалованье у Эйнштейна было такое же, как в патентном бюро, если не меньше. Как он однажды пошутил: «Рассуждая о теории относительности, я ставлю часы в каждой точке пространства, но в жизни я не могу обзавестись часами даже для своей комнаты».
Ребенок требовал от отца также времени и внимания, и с этими проблемами Эйнштейн справлялся, проявляя удивительную гибкость. Вот как вспоминает об этом Ганс Альберт. {172}
«Я сомневаюсь, что он всерьез интересовался мной и братом, когда мы были совсем маленькими. Но но словам матери, он прекрасно умел ухаживать за детьми. Когда она была занята по дому, он откладывал в сторону свои занятия и часами нас нянчил, обычно держа на коленях. Я помню, что он рассказывал нам сказки и часто играл на скрипке, чтобы нас успокоить. Но мать говорила, что даже самый громкий детский плач tie мог отвлечь отца от занятий. Он продолжал работать как ни в чем не бывало, никакой шум не мог ему помешать».
Одно из самых ранних воспоминаний Ганса Альберта об отце связано с канатной дорогой из спичечных коробков и веревки, которую Эйнштейн смастерил для него. «Тогда это была одна из лучших моих игрушек, и она работала».
Ганс Таннер, первый, кто под руководством Эйнштейна писал диссертацию, так рассказывает о посещении его квартиры:
«Он сидел у себя в кабинете, перед ним возвышалась кипа бумаг, исписанных формулами. Правой рукой он писал, левой придерживал у себя на коленях младшего сына, и одновременно ухитрялся отвечать на вопросы старшего, который играл в кубики. Эйнштейн сказал: «Погодите минутку, я сейчас закончу», — и какое-то короткое время я приглядывал за детьми, а он продолжал работать. Я впервые увидел, как великолепно он умел сосредотачиваться».
Очень похожее описание неупорядоченного быта в доме Эйнштейна дает Давид Рейшинштейн. Из его слов никак не следует, что Милева ленилась хозяйничать, напротив, она, по-видимому, была необычайно деятельной. Придя к Эйнштейнам, Рейшинштейн застал входную дверь открытой нараспашку: предполагалось, что воздух с улицы высушит только что вымытый пол и свежевыстиранное белье, висевшее в коридоре. «Я вошел к Эйнштейну в комнату; с философским видом он одной рукой подталкивал колыбель, где лежал младенец (жена Эйнштейна в это время возилась на кухне). Во рту у {173} Эйнштейна была скверная, очень скверная сигара, в свободной руке открытая книга. Печка отчаянно дымила. Господи, как он мог все это выносить?»
Однажды, по словам Рейшинштейна, Эйнштейн уснул на кушетке у себя в комнате, и чуть не угорел из-за плохой тяги в печке. Его жизнь спас случайно зашедший к нему приятель-медик, профессор Цюрихского университета Генрих Цангер, который открыл все окна и привел Эйнштейна в чувство. Эйнштейн вообще многим обязан Цангеру, необычайно энергичному человеку с широким кругом интересов. Цангер, высокий фермерский сын с резкими чертами лица, впервые пришел к Эйнштейну в 1905 году, чтобы поговорить о броуновском движении, и постепенно стал его доверенным лицом в делах профессиональных и личных. Эйнштейн ценил его как человека тонкого, глубоко чувствовавшего, хорошо разбиравшегося в психологии, и с благодарностью говорил, что питал к Цангеру почти сыновние чувства, и тот оказал на него большое влияние. Решительность и незаурядные человеческие качества Цангера в полной мере проявились в 1906 году, когда он спас жизни более чем ста людей, засыпанных во время аварии на шахте во Франции. Спасатели готовы были сдаться и прекратить поиски, но Цангер, убежденный, что под землей еще остались живые и их можно найти, сумел настоять на продолжении работ. Когда брак Эйнштейна с Милевой окончательно распался, Цангер как преданный друг помогал ему в делах, связанных с разводом.
Эйнштейн подолгу, до самого вечера рассуждал с учениками о физике; это тоже было формой бегства от нелегкой домашней обстановки. Ганс Таннер вспоминает, как однажды они просидели в кафе на Бельвюплац до самого закрытия, а потом Эйнштейн пригласил его к себе домой, чтобы он помог проверить, нет ли ошибок в статье Планка. Рейшинштейн вспоминает, что однажды Эйнштейн отказался от их обычной вечерней беседы в кафе потому, что у Милевы был день стирки, и. соответственно, он должен был сидеть с детьми. Однако {174} его контакты с женой становились все более ограниченными. Так, в театр он обычно ехал прямо с работы, а она поджидала его там с ужином — парой бутербродов, которые он съедал перед спектаклем или в антракте. Эйнштейн часто приглашал друзей к себе домой на музыкальные вечера, которые только отдаляли супругов друг от друга. «У нас дома часто собираются гости для вечерних музицирований, так что спокойно посидеть вдвоем нам почти не удается», — пишет Милева Элен Савич в начале 1911 года. Она с гордостью сообщает подруге, что не пропустила ни одной публичной лекции Эйнштейна, но это может означать, что она старалась не спускать с мужа глаз, памятуя об истории с Анной Майер-Шмидт. Однако у Милевы еще сохранялся интерес к науке, подогреваемый успехами ее мужа, и, кроме того, во время его лекций она получала удовольствие, все менее доступное ей дома, то есть сидела, слушала его голос и чувствовала себя «его маленькой студенткой».
Милева отметила у себя опасную черту: она привыкала жить воспоминаниями о прошлом, в особенности о студенческих годах в Политехникуме. Как она писала Савич, ей кажется, что «нам, женщинам, куда труднее расстаться с прошлым, мы цепляемся за воспоминания о том чудесном времени, которое называется молодостью, и помимо своей воли желаем, чтобы все оставалось, как тогда». Мужчины, по мнению Милевы, «куда лучше приспосабливаются к настоящему». Ирония судьбы состоит в том, что семейную жизнь, при которой они оба останутся вечными студентами, сулил Милеве Эйнштейн, а не наоборот. Но сам он тоже плохо умел жить настоящим, коль скоро Анне Майер-Шмидт без труда удалось смутить его душевный покой. Когда она снова написала ему в 1926 году, он в ответном письме вспомнил о «чудесном времени нашей юности», которое «словно воскресло, вырвавшись из-под спуда». Получается, что Милева умела признаться себе, какую власть имеет над ней прошлое, {175} а Эйнштейн просто загонял свои воспоминания в подполье.
Судя по высказываниям его коллег, Эйнштейн в описываемый период вел себя скорее как холостяк, нежели как человек семейный. Рейшинштейн вспоминает, что они вдвоем пошли на лекцию по психоанализу, которую читал некий «Господин Н»., сотрудник Эйнштейна. Аудитория состояла в основном из молодежи, которая хотела «просветиться в вопросах любви и ее влиянии на подсознание». Эйнштейна доклад не слишком заинтересовал, но после него он все же составил компанию лектору, который отправился в кафе с группой слушателей. Среди них были, в частности, две сестры, девушки «редкой красоты и обаяния», славянки, как и Милева, приехавшие в Цюрих учиться. В кафе лектор продолжал развивать свои идеи, стремясь подвести под них научную базу, но Рейшинштейн заметил, что Эйнштейна «куда больше интересовали прекрасные глаза, чем проблемы психоанализа, о которых рассуждал его друг». Далее он пишет:
«Н. не сразу заметил, к чему приковано внимание Эйнштейна, и продолжал излагать свои доказательства. Но вдруг увидел, куда Эйнштейн смотрит, и понял, что тот пропустил мимо ушей все его объяснения. Н. с негодованием швырнул книгу на стол и сказал: «Знаете, профессор, если бы вы влюбились, это было бы для вас важнее всех ваших квантовых теорий». Эйнштейн ответил мягко, несколько смущенным тоном: «Нет, господа, мои квантовые теории для меня очень важны». И посмотрел на меня, точно ждал от меня подтверждения».
Связь Эйнштейна с женой все ослабевала, очередным тяжелым испытанием для их близости оказался переезд, куда более психологически трудный, нежели из Берна в Цюрих. Весной 1910 года, то есть всего через шесть месяцев после того как он стал профессором в Цюрихе, Эйнштейн сообщил матери, что ему предложили больший оклад в более крупном университете. Его пригласили в Немецкий {176} университет в Праге, где ему предстояло приступить к работе весной 1911 года.
Милеве грядущий переезд казался почти непосильным. Одно дело — богемная жизнь с Эйнштейном в уютном Берне или Цюрихе и совсем другое — жизнь в столице Богемии с ее напряженной атмосферой и исполненной драматизма архитектурой: устремленными в небо шпилями и позолоченными куполами. Переезд в Прагу был шагом, требовавшим почти такой же отваги, какую она проявила пятнадцать лет назад, когда уехала из отчего дома, чтобы начать новую жизнь в Швейцарии. Тогда она была молодой девушкой, одержимой жаждой знаний и желанием сделать карьеру на научном поприще. Теперь она была замужней женщиной за тридцать, обремененной двумя детьми. Переезд нужен был только для карьеры ее мужа. Она ничего не выигрывала.
Эйнштейн тоже испытывал сомнения касательно переезда. Ему, как и Милеве, нравилась жизнь в Цюрихе. Нравилась непринужденная атмосфера города, живописно расположенного на берегу озера, нравилось и то, что рядом столько друзей, с которыми можно музицировать и вести дискуссии. И, самое главное, Эйнштейну хорошо работалось: за восемнадцать месяцев, проведенных в Цюрихе, он опубликовал одиннадцать статей. Прага же не являлась серьезным научным центром; почему Эйнштейн туда все-таки поехал, по сей день остается загадкой. Милева писала Элен Савич, что он принял это решение «после долгих размышлений и только из-за материальных преимуществ», но едва ли эти слова являются исчерпывающим объяснением. Ему действительно предстояло впервые получить звание полного профессора, и, разумеется, как человек, у которого растут сыновья, он нуждался в увеличении оклада — деньги имели для Эйнштейна большее значение, чем принято думать. Но у него были хорошие виды на повышение и в Цюрихе. Его своеволие раздражало многих на факультете, однако прибавка к жалованью летом 1910 года была многообещающим знаком. Ее дали после того, как студенты {177} обратились к факультетскому начальству с ходатайством, дабы удержать Эйнштейна в Цюрихе.
Однако те же факторы, которые делали Цюрих приятным для жизни местом, могли побудить такого беспокойного человека, как Эйнштейн, его покинуть. Десятью годами раньше Эйнштейн, измученный самодовольным невежеством физиков в Винтертуре, написал Милеве: «Неужели, если дела у меня пойдут хорошо, мною овладеет та же интеллектуальная лень? Думаю, что нет, но испытываю страх. Это было бы ужасно». Смена интеллектуального окружения была способом предотвратить подобную опасность. За место в Праге шла серьезная борьба, но главный соперник Эйнштейна Густав Яуман в гневе снял свою кандидатуру: по его словам, интерес, проявленный руководством Немецкого университета к Эйнштейну, свидетельствовал, что оно предпочитает новизну подлинным достоинствам.
Милева, для которой Цюрих стал родным домом, неохотно, но все же согласилась на переезд.
Если бы она знала, какой мрачной окажется жизнь в Праге, то едва ли сдалась без более упорной борьбы. Прага была достаточно неуютным местом, во многом из-за напряженных отношений между коренным населением страны — чехами — и захватившими ее немцами, подданными Габсбургской империи. На академию распространялась сложившаяся в девятнадцатом веке система апартеида. Один университет предназначался для чехов, второй — для говорящего по-немецки меньшинства, причем сотрудники каждого из университетов соблюдали жесткую субординацию и совершенно не общались друг с другом. Профессора двух университетов могли вступить в контакт разве что на зарубежном конгрессе, а вернувшись в Прагу, снова переставали узнавать друг друга. Национальные проблемы усугублялись наличием в городе большой еврейской общины: гетто было формально признано частью города в 1850 году. Антисемитизм был давно распространен среди чехов, этим предрассудком, получившим мощное подкрепление с приходом нацистов к {178} власти, заразилась и немецкая община. Эйнштейн с Милевой не могли вписаться в общество этого многонационального города.
И у Ганса Альберта, и у мужа падчерицы Эйнштейна Дмитрия Марьянова позже сложилось впечатление, что Эйнштейну очень нравилась Прага. Однако письма ученого свидетельствуют об обратном, хотя он был действительно очень доволен в апреле, когда приступил к исполнению новых обязанностей. Эйнштейн писал друзьям, что у него есть все условия для работы в «великолепном институте», хвалил его обширную библиотеку и свою новую должность. Он стал директором Института теоретической физики, и это его «очень радовало». Имеются не вполне проверенные сведения, что с первой нанятой квартиры Эйнштейнам пришлось съехать, так как соседи жаловались, что плач маленького Эдуарда им мешает; но потом семья поселилась на левом берегу Влтавы, в Смиховом квартале. Их трехкомнатная квартира располагалась в бельэтаже нового дома, построенного в стиле модерн. Там было проведено электричество, а возросшие доходы мужа позволили Милеве нанять прислугу для помощи по дому. Но едва ли эти удобства, особенно после жизни в сияющей чистотой Швейцарии, помогали Эйнштейнам смириться с всепроникающей пражской грязью и царившей в городе мерзостью запустения.
Одной из главных бытовых проблем были блохи. Возможно, Эйнштейн занес их в квартиру, когда купил подержанный матрас. Блохи обитали в комнате горничной наряду с клопами. Эйнштейн, зайдя туда на минуту, чтобы потушить огонь, обнаружил на себе множество насекомых. Чтобы избавиться от них, можно было только принять ванну, а эта процедура в Праге тоже была не из легких. Воду для стирки и домашних нужд брали прямо из Влтавы, эта коричневая неприятная жидкость оставляла на ванне и мисках темные следы. Для приготовления пищи брали чуть лучшую воду из питьевого фонтанчика на улице, но Эйнштейн писал в Берн своему другу Люсьену Шавану, что пить можно только {179} кипяченую воду. Немудрено, что в таких условиях случались вспышки тифа, из-за блох в воздухе носилась угроза бубонной чумы. Кроме того, летом в городе с его чадным воздухом стояла гнетущая жара.
Впоследствии Эйнштейн шутил по поводу трудностей жизни в Праге. «Чем грязнее нация, тем она выносливее», — говорил он. В мае 1911 года он хвастался Бессо, что «мальчики у него — настоящие здоровяки, каких редко отыщешь среди городских детей». На самом же деле в пражский период жизни болели все члены его семьи, а один из гостей отметил, что и сам Эйнштейн «серьезно болен». Эти беды ложились тяжелым бременем на плечи Милевы, которой было к тому же очень одиноко. Она всегда с трудом завязывала новые знакомства, и у нее было мало шансов найти точки соприкосновения с профессорами и их женами. В их разговорах то и дело слышались выпады против ее соотечественников-славян, а косность их взглядов составляла разительный контраст с либерализмом, принятым в Цюрихе. Филипп Франк, который впоследствии сменил Эйнштейна на его посту в Немецком университете, вспоминает следующий эпизод. Двое немецких профессоров видят, что уличная вывеска над тротуаром покосилась и вот-вот упадет. «Ну, это ничего, — говорит один из них. — Надо надеяться, свалится на голову какому-нибудь чеху».
Ближайший сотрудник Эйнштейна был этническим чехом, но вырос и получил образование среди немцев. Он отказывался покупать почтовые открытки, если на них было хоть что-то написано по-чешски, и постоянно вступал из-за этого в конфликты с почтовыми служащими. Когда Эйнштейн спросил кого-то из университетского обслуживающего персонала, где можно купить простыни, ему посоветовали чешский магазин. Но едва его предшественник на университетском посту Фердинанд Липпих прослышал об этом, как тотчас послал к Эйнштейну свою горничную, чтобы та передала совет сделать покупку в немецком магазине. «Вражда между немцами {180} и чехами достаточно сильна», — заметил Эйнштейн.
Первые впечатления Эйнштейна о чехах сводились к тому, что у них очень хорошая кухня, и они достаточно обходительны. Однако уже через несколько месяцев он сетует, что они враждебно настроены по отношению к окружающим и лишены гуманизма. Они «бездушны и недоброжелательны к своим собратьям». — писал Эйнштейн. Он видел, что живет в расколотом обществе, что на улицах кричащая роскошь соседствует с нищетой. Большинство населения не любило немцев и не знало их языка. Эйнштейн упрашивал Бессо, чтобы тот «скрасил его одиночество» и приехал «разбить свой вигвам» в Праге. «Сколько пользы мог бы принести здесь человек с твоим интеллектом и добротой», — писал Эйнштейн.
Вскоре Эйнштейн обнаружил, что у занимаемой им должности тоже есть свои недостатки. Хотя его пригласили исключительно в качестве физика-теоретика, выяснилось, что он должен также участвовать в «экспериментальных авантюрах». Кропотливая работа в лаборатории давалась Эйнштейну не лучшим образом («он всегда испытывал радостное удивление, если все получалось как надо», — вспоминает Ганс Альберт) и отнимала у него время, которое он мог посвятить размышлениям. Студенты тоже были менее толковыми и трудолюбивыми, чем в Швейцарии. Эйнштейна очень огорчало, что они не интересуются его «прекрасной наукой». Его предупреждал об этом Антон Лампа, один из тех, по чьей инициативе Эйнштейна пригласили в Прагу, но тот отказывался верить. Он думал, что добьется «эха в этой чаще», если голос его будет достаточно внятным. Эйнштейна постигло разочарование: только один юноша и полдюжины «бестолковых» девушек регулярно посещали его семинары. В научном плане Пражский университет был провинцией европейской физики, это означало, что коллеги Эйнштейна не могли компетентно обсуждать его работу. Кроме того, Эйнштейна раздражало засилье бюрократии. Он шутил, что вынужден «обращаться к вице-королю, {181} чтобы получить санкции на покупку мела». «Писанине» не было ни конца, ни края, говорил Эйнштейн.
Наниматели отнеслись к Эйнштейну подозрительно, как только он сообщил, что не исповедует никакой религии. Официальные лица успокоились только, когда он с подобающей торжественностью объявил себя иудеем. Эйнштейн, так ненавидевший всякие формальности, был вынужден купить себе помпезную парадную форму для принесения присяги австрийским властям при вступлении в должность. Форма состояла из треуголки с пером, мундира и брюк с широким золотым кантом, теплой шинели из толстого черного сукна и шпаги. Эйнштейн всегда одевался так небрежно, что однажды, когда он прибыл на торжественный прием в роскошный пражский отель, швейцар принял его за монтера, вызванного для ремонта электропроводки. Каждый день по дороге на работу Эйнштейну приходилось растягивать рот в улыбке перед институтским швейцаром, который, дыша перегаром, подобострастно ему кланялся. Манерам жителей Праги, отмечал Эйнштейн, присуща странная смесь раболепия и помпезности.
Эйнштейн с отвращением от всего этого отворачивался, но неприятие окружающего мира уже не объединяло его с Милевой. Когда он находил новых друзей, они не становились ее друзьями. Вот что пишет Марьянов:
«Ему нравилось сидеть на берегу реки возле кафе в тени деревьев, попивая со своими коллегами кофе с молоком или пиво. Милева тоже была математиком. Ей хотелось бы принять участие в этих научных дискуссиях, но ее оставляли дома с детьми, и она с каждым днем становилась все более неразговорчивой и мрачной... Пылкая натура Милевы мешала ей смириться с тем, что в свою научную работу Эйнштейн ее полностью не посвящал».
Знакомый Эйнштейна по Праге Макс Брод оставил нам его портрет, от которого мороз идет по коже. Брод сегодня известен главным образом как человек, спасший для потомков сочинения своего {182} друга Франца Кафки: тот завещал сжечь все его неопубликованные произведения, но Брод завещания не выполнил. Он и сам был писателем, принадлежал к пражской интеллектуальной элите, а познакомился с Эйнштейном в доме Берты Фанты, жены фармацевта, хозяина аптеки «Единорог». Берта Фанта интересовалась наукой и философией и каждый четверг открывала двери своего дома для пражских интеллектуалов, преимущественно евреев. Кафка, тогда еще сравнительно малоизвестный, изредка появлялся на ее вечерах, но сидел в углу, почти не открывая рта. Эйнштейн, напротив, со всем пылом участвовал в философских дискуссиях, в частности о Канте и Гегеле. Его холодное равнодушие к обывательскому здравому смыслу и общим местам производило на окружающих сильное впечатление. Макс Брод, который часто аккомпанировал Эйнштейну на фортепьяно, когда тот исполнял партию скрипки в сонатах Моцарта, изобразил Эйнштейна в своей новелле «Искупление Тихо Браге».
Реальный Тихо Браге был назначен придворным математиком в Праге в 1599 году и умер двумя годами позже из-за того, что перепил на пиру. Он добился небывалой для своего времени точности астрономических расчетов, благодаря чему и вошел в историю. В работе и наблюдениях ему помогала сестра София. Макс Брод в своей новелле вывел Эйнштейна в образе Иоганна Кеплера, коллеги Тихо Браге, сменившего его на посту придворного астронома. В быту Кеплер был не слишком располагающим человеком, сам признавался, что «как собака боится мытья», его жена Барбара отличалась скверным характером и склонностью к депрессиям. Кеплер установил, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, а не по круговым, как считалось со времен древних греков, в этом состоит его основной вклад в современную астрономию.
Макс Брод наделил своего Кеплера таким жутковатым спокойствием, что знакомые Эйнштейна сразу поняли замысел автора. Брод изобразил ученого, всецело поглощенного своей работой, которому его преданность науке служит линией непреодолимой {183} обороны против «помрачений разума, вызванных чувствами». Он напоминает героя баллады, который продал сердце дьяволу за пуленепробиваемую кольчугу. Об его «почти нечеловеческой отрешенности» Брод пишет следующее: «Подобное отсутствие эмоций казалось непостижимым, напоминало о дыхании ветра с ледников... У этого человека не было сердца, и поэтому ничто во внешнем мире не могло внушить ему страх. Он был бесстрастен и не способен любить». Описывая это неестественное спокойствие, Брод заставляет другого своего героя, Тихо Браге, цедить сквозь стиснутые зубы следующее: «Безгрешен, как ангел! Это он-то? Скорее, такое отсутствие симпатий и сострадания сродни жестокости». В другом месте Тихо бросает в лицо Кеплеру следующее: «На самом деле вы служите не истине, а самому себе, своей безупречности и неоскверненности».
Брод, стесняясь прямых аналогий, впоследствии утверждал, что хотя и взял Эйнштейна в качестве прообраза для своего Кеплера, но ни в коем случае не имел в виду, что Эйнштейну свойственна бессердечность. Брод якобы хотел воспроизвести только его нетерпимость к предвзятым и ходячим мнениям. Выдающийся специалист по физической химии Вальтер Нернст прочел новеллу и сказал Эйнштейну: «Кеплер — это вы». В своей биографии Эйнштейна Филипп Франк цитирует Брода. Франк говорит, что Эйнштейн испытывал страх перед близостью с другим человеком и «из-за этой своей черты всегда был один, даже если находился среди студентов, коллег, друзей или в кругу семьи».
Сам Эйнштейн прекрасно сознавал свою все нарастающую изоляцию от окружающего мира. Большую часть пражского периода он провел, блуждая, как Алиса в стране чудес, в парадоксах квантовой теории. Окна его университетского кабинета выходили на парк психиатрической лечебницы, и он шутя сравнивал себя с блуждавшими по аллеям душевнобольными. «Там бродят сумасшедшие, которые квантовой теорией не занимаются», — говорил он Франку. Но Эйнштейн не был безумцем, и его {184} блуждания не были бесцельными. Он продвигался вперед, в особенности в понимании гравитации.
Четырьмя годами раньше Эйнштейн пришел к выводу, что гравитационное поле может искривлять световые лучи. Это была весьма неожиданная идея: лучи света казались чем-то нематериальным, не подверженным воздействию гравитации. В 1907 году Эйнштейн полагал, что отклонение лучей в гравитационном поле из-за его малости невозможно зарегистрировать. Теперь он пришел к выводу, что это отклонение можно обнаружить экспериментальным путем, то есть проследить, как искривляются лучи звезд, проходящие мимо Солнца. Он вычислил предполагаемую величину отклонения звездного луча от прямой и в июне 1911 года обратился к астрономам, чтобы те проверили его результат.
В каком-то смысле Эйнштейн возвращался к идеям прошлого, он мог вычитать их в научно-популярной литературе, которую, будучи ребенком, с такой жадностью глотал. В 1717 году во втором издании своей великой «Оптики» Ньютон задается вопросом: «Не воздействуют ли на световые лучи удаленные от них тела?» — но оставляет этот вопрос без ответа. Эйнштейн не знал о том, что его опередил немецкий астроном Иоганн Георг фон Солднер, который в 1801 году получил для звездных лучей почти ту же величину отклонения в поле тяготения Солнца. Впоследствии, когда Филипп Ленард станет сторонником нацистов, он сделает достоянием гласности статью Солднера, дабы доказать, что ариец, работавший в восемнадцатом веке, сумел превзойти еврея, работавшего в девятнадцатом. Однако для Эйнштейна его результат, полученный в 1911 году, послужил лишь отправной точкой для дальнейшей работы. Через четыре года он установит, что подлинная величина отклонения вдвое превышает найденную им в 1911 году, когда он еще не знал, что само пространство тоже «искривлено».
Эйнштейна теперь буквально рвали на части, и большую часть осени 1911 года Милева провела в одиночестве. В сентябре ее муж поехал па конференцию в Карлсруэ, в октябре прочел цикл лекций {185} для учителей средних школ в Цюрихе. Но самое престижное приглашение ждало его в конце ноября: Эйнштейн принял участие в проходившем в Брюсселе конгрессе, который организовал химик и крупный промышленник Эрнест Сольвей. Эйнштейн ворчал, что этот первый из сольвеевских конгрессов не что иное как «шабаш ведьм», и только отвлекает его от работы. В действительности же организаторы конгресса, пригласив на него Эйнштейна, тем самым поставили его в один ряд с самыми величайшими учеными двадцатого столетия.
Помимо Марии Кюри и Макса Планка, в конгрессе участвовали Эрнест Резерфорд, создавший модель атома, Гендрик Лоренц, голландский физик, чьи работы послужили базой для теории относительности, и легендарный математик Анри Пуанкаре. С двумя из этих гигантов науки Эйнштейн сдружился, они во многом повлияли на формирование его личности. Одним из них был Лоренц, вместе с которым Эйнштейна выдвинули на Нобелевскую премию в 1912 году, но тогда Эйнштейну ее не дали. Эйнштейн начал переписываться с Лоренцем по поводу радиоактивности в марте 1909 года. Уже в мае Эйнштейн пишет: «Я восхищаюсь этим человеком как никем другим, могу сказать, что я люблю его». С Лоренцем Эйнштейн впервые встретился в феврале 1911 года, когда читал лекцию в Лейдене; они с Милевой остановились у Лоренца дома. Само сияние доброты Лоренца уничтожило в душе Эйнштейна мысли о том, что он ее недостоин, сказано в письме, где Эйнштейн пылко благодарил своего лейденского хозяина за гостеприимство. Из Брюсселя Эйнштейн вернулся, испытывая еще большее восхищение перед Лоренцем, который, по его словам, «председательствовал на конгрессе с несравненным тактом и невероятной виртуозностью».
Абрахам Пейс пишет, что в духовном плане Лоренц играл для Эйнштейна роль отца, и в этом нет причин сомневаться. Седобородый Лоренц был старше Эйнштейна на четверть века, он был спокоен и исполнен достоинства. Лоренц с симпатией относился к людям, умел окружить их душевным теплом. {186} В особенности это относилось к Эйнштейну, чьи изыскания были непосредственно связаны с трудами самого ученого. Их общий друг вспоминает, как однажды Лоренц дал Эйнштейну задачу, а потом откинулся на стуле, улыбаясь «в точности, как отец, который смотрит на самого любимого из сыновей, будучи в полной уверенности, что мальчик расколет этот крепкий орешек, и задаваясь вопросом только о том, как именно он это сделает».
По словам Пейса, Лоренц принадлежал к верхушке голландского среднего класса и почти всю жизнь провел в комфорте. Перекати-поле Эйнштейн отчасти завидовал безмятежности и стабильности его жизни. В своей взволнованной речи над гробом Лоренца Эйнштейн скажет, что «вся его жизнь — это драгоценное произведение искусства, отточенное до последней детали». То, что все время маячило перед Эйнштейном и от него ускользало, Лоренцу удалось: он нашел компромисс между истовым служением науке и обывательским благополучием. Ту же попытку, хотя с куда более скромными средствами, предпринял когда-то Герман Эйнштейн. Портрет отца, нарисованный Эйнштейном («чрезвычайно добрый, мягкий и мудрый человек») также вспоминается при чтении упомянутой надгробной речи. Эйнштейн говорит о «неисчерпаемой доброте и великодушии Лоренца в сочетании с абсолютной безупречностью и глубоким чувством справедливости, а также верной интуицией в отношении людей и жизненных ситуаций». «Все с радостью следовали за ним, — говорит Эйнштейн, — ибо чувствовали, что он никогда не стремился господствовать, но всегда — служить».
Другим важным для Эйнштейна событием оказалась встреча на конгрессе с Марией Кюри, которую в тот период изрядно допекала пресса. Основываясь на украденных письмах, газеты смаковали историю о том, что у Кюри роман с французским физиком Полем Ланжевеном. Пошли слухи, что любовники собираются сбежать от глаз людских, причем Ланжевен намерен покинуть жену. Сложившаяся ситуация была унизительной для Кюри. Шестью {187} годами ранее Пьер Кюри погиб под колесами конки, с тех пор Мария Кюри была в глазах публики безутешной вдовой, хранящей верность памяти мужа. Теперь она оказалась в роли вавилонской блудницы, выставленной на посмешище; это был международный скандал. Эйнштейна, для которого проблемы адюльтера вскоре должны были превратиться из академических в личные, газетная шумиха по поводу Кюри слегка развлекала, но в основном вызывала презрение. «Газеты раздувают скандал из ничего, все это чистый вздор», — сказал он приятелю. По словам Эйнштейна, было известно, что Ланжевен намерен развестись с женой; если он и Кюри влюблены друг в друга, то это их дело. То был здоровый взгляд на вещи, в соответствии с ним Эйнштейн будет впоследствии строить и свою жизнь, а потоки грязи, которые пресса вылила на Кюри, только укрепили его решимость не делать свои личные дела достоянием гласности.
Наиболее показательно для характеристики самого Эйнштейна его отношение к Кюри как к женщине. Ему трудно было поверить, что Ланжевен мог испытывать к ней более чем дружеские чувства. Он видел Кюри в обществе Ланжевена и его жены, и ему показалось, что все трое держатся друг с другом совершенно непринужденно. Что более существенно, Кюри, по мнению Эйнштейна, была лишена женских чар. «Она блистательно умна, — писал Эйнштейн, — но при всей страстности своей натуры настолько непривлекательна, что не может представлять ни для кого опасности».
Имеется мнение, что Милева присутствовала на конгрессе и имела возможность разделить успех, выпавший на долю мужа. На самом деле он оставил ее дома. В начале октября Милева отправила ему жалобное письмо, из которого явствует, как тяжела ей их длительная разлука. «Наверное, в Карлсруэ было очень интересно, — пишет Милева. — Я с удовольствием побывала бы там и посмотрела на всех этих замечательных людей... Мы не видели друг друга уже целую вечность, мне интересно, узнаешь ты меня при встрече или нет». Она по-прежнему подписывается {188} «Долли», вернее «Deine alten D». («твоя старушка Долли»), именует Эйнштейна «Бабу» — это его новое ласкательное прозвище. В его открытках, обращенных к «Liebes weiberl» («любимой женушке») и подписанных «Ба», видны проблески подлинного чувства. В час дня, находясь в душном вагоне поезда, идущего на Брюссель, Эйнштейн обнаружил, что Милева дала ему с собой завтрак — ветчину и яблоки, — и, по его словам, «испытал приступ нежности» к жене. Как это ни глупо, прежняя любовь вспыхивала в душе Эйнштейна именно в такие неромантические моменты: путь к его сердцу по-прежнему лежал через желудок.
В конце этого же года Эйнштейн узнал, что Мари Винтелер, его бывшая возлюбленная, которой он нанес такую сильную душевную травму, вышла замуж. «Теперь эта тень, лежавшая на моем прошлом, станет не такой темной», — пишет он Бессо. Но судьба послала чете Эйнштейнов еще одно напоминание о прошлом, особенно тягостное для Милевы. В письмах Эйнштейна упоминается, что жившая у них дома служанка Фанни родила незаконного ребенка. Они изо всех сил пытались его пристроить, но из этого ничего не вышло, и в сентябре 1911 года было решено, что ребенок останется с Фанни, то есть в квартире у Эйнштейнов, а в дальнейшем его отдадут бабушке. Для Милевы эта ситуация служила напоминанием о драме, пережитой девять лег назад, и не могла пройти бесследно.
Из воспоминаний Пауля Эренфеста о его визите в Прагу в 1912 году видно, что Милева все больше отходит на задний план в жизни Эйнштейна.
Эренфест был блистательным физиком, по мнению Эйнштейна, лучшим из всех известных ему лекторов и преподавателей своего предмета. Однако он был человеком внутренне глубоко несчастным и неуверенным в собственных силах. Он ставил перед собой титанические задачи и сомневался, что может с ними справиться. Эренфест был чрезвычайно привязан к своей жене Татьяне, которая участвовала в его работе. Впоследствии отношения между ними {189} осложнились. Жизнь Эренфеста закончилась трагически: в припадке отчаянья он застрелил своего умственно отсталого младшего сына, затем покончил с собой.
Подверженный перепадам настроения, Эренфест был одним из самых близких друзей Эйнштейна. Они начали переписываться весной 1911 года, затем Эйнштейн пригласил австрийца Эренфеста, путешествовавшего по Европе в поисках работы, пожить у него в Праге. Они сразу нашли общий язык, их оживленные дискуссии о физике перемежались с музицированием: играли Брамса, Эйнштейн — партию скрипки, а Эренфест — фортепьяно.
Эренфест вел дневник, где подробнейшим образом описывал все, что с ним случалось. Он даже набрасывал портреты людей, сидевших напротив него в поездах. В дневнике сказано, что в Прагу, па вокзал имени Франца Иосифа, Эренфест прибыл днем, без десяти три. Но примечательно то, что в его записях о «невероятно счастливых» днях, проведенных с Эйнштейном в Праге, имя Милевы почти не фигурирует. Она сопровождала Эйнштейна, когда он с сигарой в зубах встречал Эренфеста на вокзале. Через неделю она пришла с мужем посадить его гостя на поезд. Но больше о ней почти ничего не сказано. В биографии Эренфеста говорится, что прямо с поезда Эйнштейн повел Эренфеста в кафе. Пока мужчины находились в обществе Милевы, они вели обычную светскую беседу о Праге, Цюрихе и Вене. Только когда она отправилась домой, мужчины оживились и начали горячо обсуждать проблемы статистической механики.
Эренфест очень полюбил Ганса Альберта, в промежутках между научными дискуссиями шутил и болтал с мальчиком, называя его «liebes, liebes buberl», то есть «любимый, любимый ребенок», и сидел за столом только рядом с ним. Они с Гансом Альбертом побывали в музее, и Эренфест не отходил от него во время воскресной послеобеденной прогулки, в которой участвовал также маленький Тете: его колясочку катил Эйнштейн. Ганс Альберт переносил тяготы пражской жизни лучше всех в семье. «Ему нравится ходить в школу, он сделал большие {190} успехи в игре на фортепьяно и любит задавать отцу вопросы, причем очень интересные, о физике, математике и естествознании», — писала Милева.
Но маленький Ганс Альберт часто бывал и грустным, у него проявлялась тяга к одиночеству. По пути из школы он подолгу задерживался у реки и смотрел, как пенится, преодолевая плотину, вода. Сила водной стихии его гипнотизировала, и он проводил в созерцании столько времени, что встревоженная Милева бранила сына за эти задержки по дороге из школы домой. Вода зачаровывала Ганса Альберта, возможно, поэтому он и стал гидравликом. Он получал возможность растворить свое «я» в могущественном безличном начале, которое прокладывало русла рек; его отец таким же образом соотносил свое «я» с космосом. Можно только строить догадки, не задерживался ли Ганс Альберт у реки для того, чтобы подольше не возвращаться домой. Однако, по его собственным словам, именно в это время он начал чувствовать, что между родителями имеются серьезные разногласия.
Он рассказывал своей второй жене, Элизабет, что ощутил ухудшение отношений между родителями в мае 1912 года, то есть когда ему исполнилось восемь лет. Теперь мы знаем, что именно в это время возобновились контакты Эйнштейна с женщиной, которой суждено было стать его второй женой — с кузиной Эльзой. Еще ни в одной биографии Эйнштейна не было убедительных сведений о том, какую роль сыграла Эльза в распаде его первого брака. Всю вину за происшедшее обычно возлагали на Милеву. То, что связь Эйнштейна с кузиной так долго оставалась тайной, можно приписать как его незаурядному умению заметать следы, так и тому восхищению, какое он вызывал у окружающих. Люди, знавшие правду, позаботились о том, чтобы скрыть ее на несколько десятков лет.
| {191} |
Те, кто знал и Милеву, и Эльзу, считали последнюю более привлекательной: светловолосая, голубоглазая, пышная (возможно, из-за любви к шоколаду), она, когда была в расцвете лет, могла бы сойти за валькирию в любительской постановке Вагнера. Тем не менее в ней было что-то нелепое. Ходит много обидных анекдотов о ее близорукости. Так, говорят, на каком-то банкете она приняла за салат декоративную композицию, украшавшую стол, и стала резать орхидею у себя на тарелке. Из тщеславия она предпочитала очкам лорнет, и Эйнштейн, по слухам, ходил постоянно растрепанным потому, что она взяла на себя роль его парикмахера и хваталась то за ножницы, то за лорнет, чтобы оценить результаты своих трудов.
Ее прическа тоже выглядела не слишком аккуратно, но непокорные волосы были не единственной чертой, напоминавшей о том, что Эйнштейн и Эльза — родственники. На фотографиях видно, что у обоих мясистые носы, крутые лбы, волевые подбородки. Со временем их сходство стало еще более разительным, на многих поздних фотографиях Эльзу, если пририсовать ей усы, не отличишь от Эйнштейна. Раввин, который посетил их через шестнадцать лет после того, как они, наконец-то, поженились, писал: «Госпожа Эйнштейн поразительно похожа на своего мужа. Она тоже невысокая и плотная, волосы у нее не такие седые, как у мужа, но вьются так же, как у него, мелкими волнами. Даже одеты они с мужем были почти одинаково: на ней тоже брюки и свитер». {192}
Они были во многом похожи, и потому Эйнштейну с Эльзой было легко. Жизнь с Милевой означала для него разрыв с семьей, теперь же, когда брак распадался, он снова устремился в лоно семьи в поисках тепла и надежности. Он и Эльза были родственниками по двум линиям. Ее отец Рудольф был двоюродным братом Германа Эйнштейна, а ее мать Фанни была сестрой Полины Эйнштейн. Когда очередное деловое начинание Германа терпело крах, Рудольф выступал в качестве его основного кредитора. Именно с Рудольфом и Фанни поселилась Полина после смерти Германа в 1902 году и не расставалась до тех пор, пока в 1911 году не заступила в должность экономки в Хейльбронне. Эльза родилась в Гешингене, маленьком швабском городке, откуда происходили многие члены этого семейства. Эйнштейн же считал его чем-то вроде духовной родины (одному из членов «Олимпийской академии» он написал посвящение, которое начиналось словами: «Уроженцу Гешингена»). Эльза говорила на том же швабском диалекте, что Эйнштейн, с детства знала те же присловья и поговорки, и даже воспоминания у них были общими. В детстве им случалось быть товарищами по играм, так как семья Эльзы часто ездила в Мюнхен, где ребенком жил Эйнштейн. Семьи вместе выезжали на пикники, и, самое занятное, они впервые в жизни побывали в театре в один день (в Мюнхенской опере, она — в партере, он — на галерке). Позже Эльза говорила, что она еще девочкой влюбилась в своего кузена за то, что он так прекрасно играл Моцарта на скрипке.
Как и Эйнштейн, Эльза, будучи чуть старше двадцати, соединила свою жизнь с человеком, которого не одобряла ее семья. Это был некий Макс Ловенталь, родом из Швабии, торговец текстилем. Она родила от него двух дочерей, Ильзу и Марго. Ее сын, родившийся в 1903 году, вскоре умер. Биографы Эйнштейна часто называют Эльзу вдовой, но на самом деле, прожив с мужем 12 лет, она развелась с ним 11 мая 1908 года. После развода она поселилась {193} в Берлине, на Хаберландштрассе, этажом выше своих родителей.
Причины развода неясны, имеются не слишком надежные сведения, что с Максом Ловенталем Эльзе не повезло и он спустил их общие деньги. После развода Эльза хотела найти себе нового избранника не только ради себя, но и ради дочерей, которым была бесконечно предана. Обе девочки были хрупкого сложения, нежные и чувствительные. Дмитрий Марьянов, ставший впоследствии мужем Марго, писал о своей невесте, что «она застенчива, как котенок, который привык не отходить от матери». Почти все, кто говорил пли писал об Эльзе, вспоминают, как сильны были у нее материнские чувства; по мнению Марьянова, даже чересчур. «Ее материнский инстинкт граничил с ненормальностью, он заставлял ее вмешиваться во все, что касалось ее дочерей. Он управлял ею, а она управляла дочерьми по своему произволу», — писал Марьянов. Его брак с Марго оказался неудачным, так же, как брак Эльзы с Ловенталем. и во многом потому, что Марго не освободилась от влияния своей матери.
Многие источники описывают Эльзу как добродушную простушку, но это неверно. Во-первых, она далеко не всегда бывала добродушной. Когда кто-то действовал наперекор ее стремлениям, она оказывалась опасным и волевым противником и проявляла немалую агрессивность, защищая от посторонних вторжений покой своего второго мужа. Эльза была человеком, далеким or науки, но обладала определенными интеллектуальными запросами. У нее была большая, хорошо подобранная библиотека немецкой и европейской литературы, в 1913 и 1914 годах она участвовала в любительских чтениях поэзии, среди авторов, чьи стихи она декламировала, был Генрих Гейне. Хотя в каком-то обзоре и был дан неблагоприятный отзыв об ее актерских способностях, там же было сказано, что публика ей горячо аплодировала. Эльза давала уроки декламации и правильной дикции, чтобы покрыть хоть часть расходов {194} на образование своих дочерей, у нее были большие мимические способности. Как бы мало ни было открыто ее взору и в прямом, и в духовном смысле, она умела чувствовать и обладала острым умом.
Несомненно, ее интересы ограничивались домашним кругом. Эльзе нравилось заботиться о людях, готовить для них, хлопотать вокруг них, делать так, чтобы они чувствовали себя как дома. Ей нравилось создавать тот швабский Gemutlichkeit, которым они с Альбертом наслаждались в детстве. Для Эйнштейна эти ее черты имели неодолимую притягательную силу. Буржуазная южно-германская устойчивость быта, которая казалась «обывательской» юному влюбленному мятежнику, теперь воспринималась им как тихая гавань.
Отношения между Эйнштейном и Эльзой завязались, когда он в последнюю неделю пасхальных каникул 1912 года приехал в Берлин. Формально целью его поездки было общение с учеными коллегами, но большую часть свободного времени он проводил с Эльзой и ее семьей. Взаимная симпатия между ними вспыхнула, по-видимому, почти мгновенно, и понятно, что Эйнштейн в конце концов заговорил о своей неудачной семейной жизни. Эльза оказалась благодарной слушательницей, ее было нетрудно убедить, что роль злодейки в этой пьесе играет Милева. Эйнштейну с ней было легко, ему даже нравилось, когда она смеялась над ним в своей «милой манере». Вдвоем они съездили на пикник в Ванзе, живописное место на юго-западной окраине Берлина, где река Хафель, разливаясь, образует цепочку невероятно красивых озер. Вокруг них растут дубы, березы и сосны, лесистая местность славится своими старинными замками и живописными уголками, где легко скрыться от посторонних глаз, именно поэтому в Ванзе традиционно ездят влюбленные пары. Эйнштейн впоследствии напишет о «блаженных» воспоминаниях, а романтический пейзаж, навевающий спокойствие и грусть, будет обладать для него особым очарованием. «За эти несколько дней я очень полюбил Вас и привязался к Вам, как мне ни трудно в этом признаться», — напишет {195} Эйнштейн Эльзе через неделю после возвращения в Прагу.
Здесь следует отметить, что Эльза была не единственной родственницей, на которую заглядывался Эйнштейн. Из письма ясно, что то ли во время этой же поездки, то ли раньше он флиртовал с ее младшей сестрой Паулой, и теперь он пользуется случаем снова уверить Эльзу, что в его сердце царит она одна, а Паула сейчас его даже раздражает. «Я сам не понимаю, как она могла мне когда-то нравиться. На самом деле все очень просто. Она была молодая девушка, и она меня поощряла. Тогда этого было достаточно. Сейчас осталось приятное воспоминание о недолгом капризе, об игре фантазии».
Эльзе еще предстояло узнать о привычке Эйнштейна заглядываться на прекрасных дам, но на тот момент его объяснения ее успокоили. Письмо Эйнштейна было ответом на ее письмо, отправленное вскоре после его отъезда из Берна. С него началась тайная переписка, продолжавшаяся почти два года. Чтобы не возбудить подозрений у Милевы, Эльза писала Эйнштейну на служебный, а не на домашний адрес, и взяла с него слово, что он уничтожит все ее письма. Но его ответы она бережно сохраняла. Первые по времени письма Эльза перевязала ленточкой, обернув предварительно в бумагу, на которой написала: «Прекраснейшие из писем на память о самых счастливых годах». О существовании этой пачки безусловно знал Марьянов, который считал, что, «если его письма к ней когда-нибудь увидят свет, они окажутся в числе самых прославленных любовных писем мира». Копии писем недавно стали доступны публикаторам «Наследия Эйнштейна», их выпустило издательство Принстонского университета.
Первое послание Эйнштейна к Эльзе, датируемое 30 апреля 1912 года, представляет собой нервозное и сбивчивое объяснение в любви. Но вначале Эйнштейн рассуждает о своей матери. Он узнал, что Полина подумывает о возвращении в Берлин, где намеревается стать экономкой у своего брата Якоба {196} Коха и его жены Джулии. Это была та самая «тетушка Джулия», которую Эйнштейн когда-то называл «воплощением высокомерия, настоящим монстром», и сейчас он предвидел «самые прискорбные последствия», если его мать окажется у нее в подчинении. «Очень опасно попадать в такую полную зависимость от родственников», — говорит он Эльзе.
Эйнштейна очень тяготили напряженные отношения в семье, Эльза тоже сталкивалась с этими проблемами. Жить в такой непосредственной близости к родителям, как она, — дело нелегкое. Эйнштейн отметил, что родня Эльзы «следит за каждым ее шагом». Эльза имела возможность на собственном опыте проверить, какой у Полины характер, между ними часто возникали трения, когда та жила у Эльзиных родителей. Так что Эйнштейн, делясь с кузиной своими опасениями по поводу планируемого переезда матери, имел все основания рассчитывать на ее сочувствие.
«Разумеется, я не намерен сообщать матери, что узнал о ней эти неприятные вещи. У нее мои слова вызвали бы только гнетущее чувство стыда, а в ее возрасте люди к лучшему не меняются. Когда-то я очень страдал из-за того, что совершенно не мог ее любить. Теперь, когда я думаю о плохих отношениях между моей женой, сестрой и матерью, я должен с огорчением признаться, что все трое не отличаются сердечностью и отзывчивостью. Но я должен кого-то любить, иначе жизнь станет совсем невыносимой. И «кто-то» — это Вы, и Вы ничего не можете с этим поделать. Я не спрашиваю у Вас разрешения. Я один правлю в царстве теней, в мире своего воображения, или, во всяком случае, я воображаю себе, что это так».
В конце письма Эйнштейн с возмущением опровергает мнение Эльзы о том, что Милева им помыкает. Он сам изливал Эльзе свое негодование на жену, которая его допекает и пилит, но теперь, когда ему ясно дали понять, какая картина его семейных отношений складывается с его же слов, ему стало как-то не по себе. Он соглашается, что может показаться {197} мужем-подкаблучником, но утверждает, что поддается Милеве только из жалости. Он пишет Эльзе: «Я с полной убежденностью заявляю Вам, что считаю себя вполне достойным представителем своего пола. Надеюсь, у меня когда-нибудь появится возможность Вас в этом убедить». Мысль о романе с Эльзой казалась Эйнштейну и притягательной, и пугающей. Через неделю после такого решительного объяснения в любви он посылает ей второе письмо, где берет обратно все свои рискованные предложения:
«Я не могу выразить, как я Вас жалею и как бы мне хотелось стать кем-то в Вашей жизни. Но если мы уступим нашим чувствам, это сильно осложнит нам жизнь и принесет много горя. Вы знаете это не хуже моего. Но мне бы не хотелось, чтобы Вы разочаровались во мне. Вы мне очень нравитесь, и я честно дал Вам это понять. Прошу Вас, не судите обо мне по моей матери».
Эйнштейна очень заботило, что думает о нем Эльза. Последний абзац письма начинается словами: «Пожалуйста, сохраните обо мне теплые воспоминания и думайте обо мне без горечи». Однако тон послания — это тон человека, который сам намерен диктовать, как будут развиваться отношения. Эйнштейн очень напирал на то, как сильно он страдает: «куда сильнее, чем Вы», уверял он Эльзу. Он имел в виду, что оба они нуждались в человеке любящем и сочувствующем, но он вдобавок был связан с неприятным ему партнером. Явно намекая, что страдает от неудовлетворенной страсти. Эйнштейн сетует на невозможность «любить, в полном смысле этого слова — любить» женщину, которую ему суждено видеть лишь во время своих редких поездок в Берлин. Он пишет, что ему все время приходится бороться с приступами черной меланхолии. Тем не менее он готов «примириться с неизбежным, дабы предотвратить худшее».
Через две недели Эйнштейн решил окончательно победить свою привязанность. Он объявляет Эльзе, что пишет ей в последний раз. Он уговаривает ее {198} принять то же решение, предупреждает: «Я чувствую, что если мы с Вами слишком сблизимся, из этого не выйдет ничего хорошего ни для нас обоих, ни для наших близких». Он по-прежнему хочет, чтобы она думала о нем хорошо, и пишет: «Когда я обращаюсь к Вам с такими словами, я делаю это не из жестокости или из недостатка чувств, но потому, что, подобно Вам, я несу свой крест, ни на что не надеясь». Он еще не раз назовет Милеву своим крестом, по-видимому, считая, что он, подобно Христу, идет по пути самопожертвования. Но неискренность этих фраз или степень его самообмана становится очевидной в конце письма. Эйнштейн просит Эльзу не забывать, что «у нее есть кузен, которому она всегда может довериться и «чье сердце для нее всегда открыто». А чтобы ей легче было выразить свое доверие, он обещает прислать ей новый адрес, по которому она в дальнейшем сможет с ним связаться.
Как следует из этих слов, Эйнштейну с Милевой предстоял очередной переезд. Растущий престиж Эйнштейна в научном мире привел к тому, что едва он оказался в Праге, как начались попытки его оттуда переманить. В августе 1911 года он получил предложение из Утрехтского университета, за которым последовали другие приглашения: из Берлина, из Вены, из Лейдена. Одной из причин, по которым Эйнштейн поехал в Берлин, было желание выяснить, какие возможности представятся ему там для научной работы. Ему действительно предложили место в Берлине, но он ответил отказом, причем заявил, что некие обстоятельства не позволяют ему быть рядом с Эльзой. На самом деле он всего лишь поступил как человек, верный своим обязательствам, поскольку уже дал согласие на работу в другом месте. 30 января, то есть за два с половиной месяца до поездки в Берлин, он заключил контракт сроком на десять лет. Ему предстояло быть профессором на кафедре физики в своем родном швейцарском Политехникуме и начать работу в октябре того же года. {199}
Переговоры об этом месте начались с сентября 1911 года, когда его приятель Генрих Цангер приехал к нему в Прагу в качестве посредника, представляя интересы своих цюрихских коллег. Его также настойчиво приглашал в Цюрих Марсель Гроссман, возглавлявший теперь в Политехникуме отделение математики и физики. Для Эйнштейна это была приятная ирония судьбы: Alma Mater, которая отвергла его вскоре после окончания курса, всячески его заманивала. И теперь он сможет изменить устаревшую учебную программу, которая когда-то так его угнетала. «Аллилуйя», — написал он своему приятелю Альфреду Штерну, когда его назначение утвердили, и добавил, что оно доставило большую радость всей его семье, «нам, старикам, и двоим нашим медвежатам».
Эйнштейн шутил, что чувствует себя как почтовый голубь, возвращающийся на родной чердак. На самом же деле, судя по воспоминаниям Филиппа Франка, занявшего его место в Праге, Эйнштейн не без колебаний согласился вернуться в свое прошлое. Это видно из того, что, когда его договор о новом назначении был, по-видимому, уже подписан, он продолжал еще долгое время настойчиво выяснять, какие возможности открываются ему в других местах, например в Берлине. Франк полагает, что в пользу Цюриха его склонила Милева, которая тянулась к этому городу, ставшему для нее родным. Как она говорила Бессо, у нее остались настолько двойственные впечатления от жизни в Праге, что вдали от нее она тосковать не будет, а переезжать еще в один незнакомый город и осваиваться там ей бы не хотелось. Если Эйнштейн действительно пошел на поводу у Милевы, то это один из его последних компромиссов такого рода. Но, возможно, Франк прав. Эйнштейн всегда терялся, когда на практике оказывался перед выбором, и предпочитал, если была такая возможность, чтобы за него это сделал кто-то другой. Поэтому он многократно перетасовывал пасьянс из вакансий, когда, казалось бы, выбор уже сделан. Таким образом он {200} старался выйти из ситуации, сохранив лицо и никого не обидев. Особенно виноватым он чувствовал себя по отношению к Лоренцу, своему другу и кумиру, который сперва использовал свое влияние, чтобы Эйнштейна пригласили в Утрехт, а затем предложил ему стать своим преемником в Лейдене. Когда Эйнштейн отверг первое из этих предложений, он, по его собственному признанию, написал Лоренцу «с тяжелым сердцем, как если бы я писал отцу, по отношению к которому совершил несправедливость».
Эйнштейны возвратились в Цюрих в августе 1912 года, въехали в квартиру на Хофштрассе, дом 116. Ганс-Альберт предложил, чтобы отец в честь этого знаменательного события продефилировал по улицам в парадном мундире Пражского университета. Эйнштейн согласился, с улыбкой сказав: «Что ж, в худшем случае меня примут за бразильского адмирала». У него были все причины для хорошего настроения. Он вернулся на белом коне в город, где начался их с Миле вой роман. Если их чувство друг к другу и могло воскреснуть, как Феникс из пепла, то только здесь. Ганс Альберт вспоминает, как его отец с беззаботным видом ходил по комнатам своего нового дома, весело насвистывая; он был полон энергии. Возвратившись из Политехникума в конце дня, Эйнштейн с удовольствием играл с детьми и, если работа у него шла без перебоев, резвился не меньше их. Но ему приходилось нелегко: научная деятельность требовала громадных усилий. Позднее он скажет Эльзе, что никогда в жизни не работал столько, сколько зимой 1912 года. Как он писал своей кузине, он приступил к «героической попытке расширить теорию относительности, включив в нее гравитацию».
В 1908 году его бывший учитель Герман Минковский облек теорию относительности в более совершенную математическую форму, сделав пространство и время неразделимыми и объединив их в четырехмерный объект, называемый «пространство-время». Следующим шагом было нахождение нового языка для описания топографии этого четырехмерного {201} пространства. Эйнштейн обратился за помощью к тому же приятелю, чьими конспектами он пользовался в студенческие годы. «Гроссман, ты должен мне помочь, иначе я сойду с ума», — заявил он почти сразу же по приезде в Цюрих. И Гроссман, как проводник с мачете в руках, стал прокладывать Эйнштейну путь через джунгли неевклидовой геометрии. Это трудно проходимая, жутковатая область, где сумма углов треугольника не равна 180 градусам, а пространство искривлено так, что в некоторых случаях параллельных прямых не существует. Но неисследованной эту область назвать было нельзя. Первопроходцами в ней были чистые математики, которые почти за век до того, как Эйнштейн заинтересовался предметом, стали изучать абстрактные пространства произвольной размерности и кривизны. Теперь Эйнштейну предстояло придать одному из таких пространств глубокий физический смысл.
Чтобы включить в свою теорию относительности гравитационные поля, Эйнштейну нужен был математический аппарат, удобный для этой причудливой геометрии. В 1913 году они с Гроссманом опубликовали статью, в которой начали осуществлять свой замысел, применяя так называемый тензорный анализ. Статья Эйнштейна, датируемая 1913 годом, грешит тем, что они с Гроссманом сами впоследствии оценили как концептуальные недочеты, но она уже весьма близка к общей теории относительности, которую Эйнштейн завершит и опубликует еще через три года. Эйнштейн преисполнился уважения к математике, и выкладывался на работе, как никогда в жизни. «По сравнению с этой задачей первоначальная теория относительности — просто детские игрушки», — писал он в самом начале сотрудничества с Гроссманом.
Интенсивная работа требовала от Эйнштейна полной самоотдачи, душевных сил на семью оставалось все меньше. Кроме того, его сотрудничество с Гроссманом было огорчительным для Милевы: оно напоминало о том, что она уже не помощница Эйнштейну в его научных поисках. Свободного времени {202} у него было крайне мало, и он никогда не проводил его вместе с женой. Ганс Альберт вспоминает, что по утрам отец в одиночестве нежился в постели, а по вечерам музицировал, обыкновенно в компании друзей. Чаше всего он отправлялся в гости к Адольфу Гурвицу, профессору математики из Политехникума, с которым они играли Корелли, Генделя и Шумана (любимого композитора Милевы). Обычно в воскресенье вечером Эйнштейн брал с собой домашних и шел к Гурвицу, причем в дверях вместо приветствия восклицал: «К вам господин Эйнштейн со своим курятником!»
Дочь Гурвица Лизбет, которая вскоре близко подружилась с Милевой, отмечает в своем дневнике, что жена Эйнштейна часто бывала молчаливой и грустной. Ее мучили ревматические боли в ногах, она с трудом ходила, и зимой, когда бывало скользко, появлялась на крыльце у Гурвицев бледная и испуганная, тяжело опираясь на руку мужа, чтобы не упасть. Милева надеялась, что с наступлением тепла здоровье у нее улучшится, и говорила, что летом думает полечиться грязями. Но проблемы у нее были не только со здоровьем. «Альберт с головой ушел в физику, и у него остается очень мало времени на семью или не остается вовсе», — писала Милева Элен Савич. Складывается впечатление, сетовала Милева, что он живет только ради физики.
Через два дня после того, как было написано это письмо, Лизбет Гурвиц отметила у себя в дневнике, что Эйнштейн, невнятно сославшись на «семейные обстоятельства», с извинениями уклонился от обычного вечернего музицирования. На следующий день Лизбет с матерью навестили Милеву и увидели, что лицо у нее сильно распухло. Лизбет полагала, что на лице у Милевы следы побоев. Эйнштейн был человек физически сильный, и как бы мы ни относились к этим словам, но Ганс Альберт вспоминает, что за плохое поведение отец его бил. Имеется и вполне безобидная версия происшедшего. В день визита Лизбет Эйнштейн в ответ на {203} приглашение своего друга, профессора Альфреда Штерна, прийти в гости послал ему записку с извинениями, объясняя при этом, почему пишет он, а не Милева: по его словам, Милеве «слегка нездоровится: у нее болят зубы». Разумеется, это может быть просто благопристойная отговорка — брак явно распадался, и Эйнштейн так плохо разбирался в собственных чувствах, что компрометирующая его версия остается правдоподобной. Известно, что в документах о разводе (они хранятся в Иерусалиме и не доступны для ознакомления) имеется фраза о применении насилия.
Свидетельство Лизбет производит особенно сильное впечатление, если принять во внимание дату ее визита к Милеве. 14 марта 1913 года — день рождения Эйнштейна, ему исполнилось тридцать четыре. В этот же день, по имеющимся данным, возобновилась его переписка с Эльзой. Первый шаг сделала она (по-видимому, послала ему поздравление). Возможно, ее открытка стала причиной неприятной сцены.
Как будто специально для того, чтобы письмо не осталось без ответа, Эльза попросила Эйнштейна указать ей книгу по теории относительности, годную для человека без специальных знаний, а также прислать ей свою фотографию. В ответном письме Эйнштейн уклонился от обещания посетить ее в Берлине, сославшись на занятость, но, по его словам, был очень тронут, что она о нем думает. «Если Вы когда-нибудь окажетесь в Цюрихе, мы совершим с Вами прекрасную прогулку (без участия моей жены, к несчастью, ревнивой)», — обещает он. Через девять дней он еще настойчивее приглашает Эльзу приехать в Швейцарию. И снова пренебрежительно отзывается о Милеве. «Я много бы отдал, если бы мог провести несколько дней с Вами, но без моего... креста», — пишет Эйнштейн. В это время он, по его же собственным словам из письма к Эренфесту, предпринимает «буквально сверхчеловеческие усилия» по созданию общей теории относительности, он совершенно измучен и говорит Эльзе: «А сейчас {204} мне нужно хоть немного покоя, иначе я развалюсь на части».
Но мир никак не хотел оставить Эйнштейна в покое. В июле 1913 года за ним отрядили еще одну мощную захватническую экспедицию. Немецкий «десант», то есть Макс Планк и Вальтер Hepнст с женами в арьергарде, высадился в Цюрихе, чтобы предложить Эйнштейну работу в Берлине. В случае согласия он немедленно становился членом великой Прусской академии наук, получал кафедру в Берлинском университете и место директора в Институте физики имени Кайзера Вильгельма, который вот-вот должны были открыть. Эти должности предполагалось очень щедро оплачивать, Эйнштейну предоставлялась полная свобода действий, от него не требовалось даже преподавания, он мог целиком посвятить себя науке. Условия для такого молодого ученого были великолепные, но Эйнштейн попросил дать ему время на размышление. Он обещал, что гости узнают его ответ, когда осмотрят живописные окрестности Цюриха и вернутся с прогулки. Эйнштейн всю жизнь любил театральные эффекты. И сейчас он сказал, что встретит Планка и Нернста на вокзале, и в случае согласия будет размахивать белым платком. Маленький спектакль был разыгран, и торжествующие немцы вернулись домой.
У Эйнштейна были веские причины сдаться. В Берлине сложилась очень сильная физическая школа, ему открывалась возможность общаться с лучшими учеными мира. Кроме того, Эйнштейну хотелось сбросить с себя груз преподавания. Этим летом в Цюрихе у него каждую неделю было пять часов лекций и двухчасовой семинар; кроме того, он был научным руководителем у нескольких студентов. Он написал Лоренцу, что не мог устоять против «искушения занять место, которое освободит меня от всех обязательств с тем, чтобы я мог целиком посвятить себя науке». Эренфесту он сказал о новой должности как о «странной синекуре», на которую согласился, потому что «чтение лекций действовало на нервы». {205}
Как ученого его смущала некоторая легкая неуверенность, сумеет ли он оправдать возложенные на него надежды. Немцы относились к нему как к «курочке-рябе», а он сомневался, сможет ли снести еще одно золотое яйцо.
У Эйнштейна были и другие причины нервничать. Германия, по его мнению, была оплотом авторитаризма, конформизма, духовной и интеллектуальной косности, которые всегда внушали ему отвращение. Поэтому он без сожалений бросил школу в Мюнхене и последовал за родителями в Италию. По той же самой причине он еще юношей отказался от немецкого гражданства. А теперь ему предложили вернуться не просто в Германию, но в Берлин, средоточие прусского обскурантизма. Он сдавался на милость тех сил, от которых когда-то бежал, и, что не было случайным совпадением, возвращался в сферу влияния своей семьи.
Когда Филипп Франк в 1948 году опубликовал книгу об Эйнштейне, он ничего не знал о его переписке с Эльзой, но тем не менее не сомневался, что присутствие Эльзы подсластило пилюлю. Франк пишет: «Эйнштейн помнил, что его кузина Эльза еще совсем молоденькой девушкой бывала в Мюнхене, и ему импонировали ее приветливость и жизнерадостность. Приятная перспектива общения с берлинской кузиной побуждала его думать о прусской столице не столь неприязненно». Эти слова Франка привлекли особенное внимание Роберта Кларка, автора более поздней биографии ученого. Кларк допускал, что они основаны на высказываниях самого Эйнштейна, но отметал предположение, что Эйнштейн был готов вступить в новую любовную связь в то время, когда брак его еще не распался. Сказанное Франком также противоречит мнению большинства биографов о том, что для Эйнштейна наука всегда и во всем была на первом месте. В пользу же версии Франка свидетельствует письмо Эйнштейна к Цангеру, датируемое 1915 годом, где говорится о «нежной заботе моей кузины, которая {206} на самом деле и была причиной моего переезда в Берлин».
Это высказывание, как и многие высказывания Эйнштейна, нужно воспринимать критически. Оно относится к периоду, когда, пытаясь оправдать свое отношение к Милеве, он стремился вызвать у Цангера симпатию к Эльзе и подчеркнуть, как много она для него значит. Думать, что Эйнштейн решил переехать в Берлин только из-за Эльзы, неверно в той же мере, как и полностью это отрицать. То, что Эльза могла ему дать, то есть любовь и заботу, уравновешивало негативные аспекты его жизни в Берлине. Благодаря ей он снова оказывался в поле противодействующих сил, в среде, где гнетущее начало (прусский дух) и начало уютное, утешающее (ее любовь) пребывали в относительном, хотя и не сулящем душевного спокойствия равновесии. В этом смысле Эйнштейн действительно возвращался домой.
В ожидании официального приглашения Эйнштейн отправил Эльзе три письма, в которых объяснял, что научный мир оказывает ему «колоссальную честь» и благодаря новому назначению он как ученый обретает полную свободу. Но лейтмотивом писем была надежда на «счастливое время», которое они проведут вдвоем. «От меня не требуется, чтобы я читал лекции, я буду совершенно свободен делать то, что хочу. А я едва ли не больше всего хочу снова оказаться рядом с Вами, вместе с Вами, идти куда вздумается и разговаривать обо всем на свете».
Вполне понятно, что Милева не разделяла его энтузиазма по поводу переезда в Берлин. Помимо того, что ей не хотелось покидать свой любимый Цюрих и вновь травмировать детей, вырывая их из привычного окружения, она не питала никаких иллюзий ни насчет того, как относятся к славянам в Германии вообще, ни насчет того, как относятся лично к ней родственники мужа. Эйнштейн не выказывал ей особого сочувствия, ее переживания даже доставляли ему удовольствие. В августе он написал Эльзе: «Переезд вызывает у моей жены двойственные чувства, так как она страшится моей родни и {207} больше всего (надеюсь, вполне обоснованно) страшится Вас. Но мы можем прекрасно проводить время вместе, не причиняя ей боли. И Вы не можете отнять у нее того, чем она не владеет».
Сначала Эйнштейн планировал перебраться в Берлин осенью, но потом написал Эльзе, что не может принудить себя так резко порвать с Политехникумом. Он решил остаться в Цюрихе до весны 1914 года. Этим он только продлевал мучения Милевы, но сам получал возможность подготовиться к тем трудностям, с которыми ему предстояло справляться в Берлине.
В августе 1913 года, во время отпуска, супруги отправились в давно задуманный поход, прошли через горы восточной Швейцарии, и через перевал Малоджа спустились к озеру Комо в Италии. Кроме Ганса Альберта, с ними была Мария Кюри с дочерьми Ирэной и Евой. Этот маршрут стал печальным напоминанием о романтическом путешествии двенадцатилетней давности, когда они вдвоем поднялись на Шплунгенский перевал.
Совместный поход был задуман в марте, когда Эйнштейн ненадолго приехал в Париж читать лекцию и остановился с Милевой у Кюри. Утонченное великолепие столицы Франции произвело на них сильное впечатление, даже для Эйнштейна такие поездки были внове, и супруги остались очень признательны своей хозяйке за то, что она в столь короткое время ухитрилась показать им Париж.
В день отъезда Эдуард был болен, и Милеве пришлось задержаться. Ее отсутствие не слишком огорчило Эйнштейна, его интересовало общение только с Марией Кюри. Ганс Альберт вспоминает, как они вместе задумчиво смотрели на маленькие глубокие озерца, следы ледникового периода, и как мадам Кюри экзаменовала отца, спрашивая названия всех окрестных гор. Еве Кюри запомнилось, как она, Ирэна и Ганс Альберт громко хохотали, когда Эйнштейн, увлеченно беседовавший с Марией, вдруг остановился, схватил ее за руку и воскликнул: «Мне нужно знать, что происходит с пассажирами в {208} падающем лифте!» Он, как всегда, размышлял о проблемах гравитации.
Несомненно, Эйнштейн и Мария Кюри испытывали друг к другу глубочайшее уважение. Именно благодаря ее отзыву о нем он получил должность профессора в Цюрихе. Позднее он будет вспоминать о «возвышенной и ничем не омрачавшейся дружбе», которая длилась двадцать лет. Эти слова написаны уже после смерти мадам Кюри, в 1934 году, и не отражают того факта, что его отношение к ней было двойственным.
Эйнштейн превозносил Склодовскую-Кюри за те черты, какие, по общему мнению, являлись составляющими его собственного величия: «ее духовная сила, ее целеустремленность и чистота помыслов, ее строгость к себе, ее объективность, ее неколебимая независимость суждений, умение остро чувствовать социальную несправедливость и несовершенства общества. Но он признавал, что эти качества придавали ее облику жесткость, которую люди, знавшие ее не слишком хорошо, могли истолковать неправильно. В письме к Эльзе, отправленном сразу после той прогулки, Эйнштейн высказывался куда более обидно: «Мадам Кюри необыкновенно умна, но в се жилах течет рыбья кровь. Это означает, что искусство радости и страдания ей почти не доступно. Далее он писал, что свои чувства она выражает в основном брюзжанием, а ее дочь Ирэна «еще хуже матери — сущий гренадер».
Далее следуют уверения, что общество Эльзы он предпочел бы «всем отпускам на свете».
В этой связи характерен разговор с Эстер Саламан, молодой женщиной, еврейкой, которая училась в Берлине и слушала его лекции. Однажды она высказала грустное предположение, что не сможет стать физиком-теоретиком, так как у нее не хватает творческих способностей. Голосом, который, как казалось Эстер, доносился издалека, Эйнштейн проговорил: «Очень немногие женщины обладают творческими способностями. Будь у меня дочь, я бы не хотел, чтобы она изучала физику. Я рад. что моя {209} жена ничего не смыслит в точных науках. Моя первая жена их знала». Собеседница заметила, что Мария Кюри работала весьма продуктивно. «Мы провели несколько отпусков вместе с семьей Кюри, — отвечал Эйнштейн. — Мадам Кюри никогда не замечала, как поют птицы».
Но самое удивительное — другое. Осуждая эмоциональную глухоту Кюри, он с пафосом произносит слова, которые свидетельствуют о не меньшей ограниченности мира его собственных чувств. «У меня нет чувства общности с другими людьми, и я не создан для семьи. Я дорожу своим покоем. Я хочу понять, каким Бог создал мир». То есть Эйнштейн не одобрял равнодушия к птичьему пению, но равнодушие к человечеству его не смущало. Однако спокойная уверенность, с которой он рассказывал о себе, показалась Эстер наигранной. «Голос Эйнштейна скорее скрывал, чем раскрывал его внутреннюю сущность, — вспоминает она. — Эйнштейн был доброжелателен, по держал людей на расстоянии и даже не слишком им верил».
Эйнштейн увидел в Марии Кюри то же суровое отношение к собственным чувствам, какое оберегал в себе, и эта черта ему не понравилась. Похоже, она не понравилась ему именно в женщине, ибо, на его взгляд, большинство женщин, занимающихся наукой, обречены на неудачу и, соответственно, на тяжелую душевную травму, а те немногие, кто сумел добиться успеха, заплатили за это утратой всего, что составляет женское очарование. Горькие слова Эйнштейна о научной деятельности Милевы приобретают особенное значение. Один из его биографов истолковывает их в том плане, что она «отличалась назойливостью» и висела у мужа камнем на шее, требуя, чтобы он допустил ее к научному сотрудничеству. Но из контекста следует, что высказывание Эйнштейна нужно истолковывать более широко. Он считал, что научная деятельность почти неизбежно засушивает женщину.
Эйнштейны все еще поддерживали видимость благополучного брака, когда решили в 1913 году {210} отвезти детей в Нови-Сад, к бабушке с дедушкой. Ганс Альберт живо помнит эту единственную поездку к ним, в идиллически спокойную сельскую местность. Ему очень понравился летний дом Маричей, по которому бегали цыплята и кошки, а также расположенный за ним огород, где росли самые разные овощи, и сад с множеством фруктовых деревьев. Когда изнурительная жара сменялась грозовым дождем, местные дети с наслаждением шлепали босиком по лужам, мальчику тоже хотелось поплескаться с ними, но ему не разрешали — в то время у него болели уши, и родные боялись обострения. От Нови-Сада у детей осталось еще одно сильное впечатление: Эдуард и Ганс Альберт были крещены в православие.
Старшему навсегда запомнилось красивое пение церковного хора, а крестивший их священник прекрасно запомнил маленького Эдуарда, который расшалился и делал все, чтобы нарушить чинное течение службы. Нет сведений о том, присутствовал ли Эйнштейн на церемонии, дал ли на нее согласие. На самом деле пока не было обнаружено проштемпелеванное в Нови-Саде письмо к Цангеру, где Эйнштейн рассказывает о маршрутах своих поездок, считалось, что Милева с детьми ездила к родителям без него. Супруги вернулись в Цюрих порознь, а что касается отношения Эйнштейна к крещению сыновей, известно единственное его высказывание: ему это безразлично, а родственникам жены доставило большую радость. Милева относилась к ортодоксальному православию столь же скептически, сколь и Эйнштейн — к ортодоксальному иудаизму, но брак распадался, и она стремилась укрепить связь детей с родней по материнской линии.
После того как Эйнштейн 23 сентября прочел лекцию в Вене, он в одиночестве отправился в Германию, чтобы навестить «кое-кого из немецких родственников». Он намеревался посетить Хейльбронн, Ульм и Берлин, где предполагал встретиться с Эльзой. Он писал ей об этом рандеву с весны, уверяя, что {211} они «доставят друг другу много радости». По возвращении он писал:
«Вот я снова у себя в Цюрихе, но меня словно подменили. Теперь у меня есть кто-то, о ком я могу думать с неизменным удовольствием, ради кого я могу жить. Если бы я еще сомневался в своих чувствах, то Ваше письмо, ожидавшее меня в Цюрихе, укрепило меня в них. Мы будем обладать друг другом, то есть тем, чего нам так мучительно не хватало, и каждый из нас благодаря другому обретет душевное равновесие и будет с радостью смотреть на мир».
Эйнштейн провел в Берлине неделю. Эльза, окружая его любовью и заботой, превзошла самое себя. Оба с удовольствием вспоминают, как охотно он съедал кушанья, которые она для него готовила, эта тема часто фигурирует в их переписке. «В Вашем письме меня больше всего порадовало то, что Вам было очень приятно готовить для меня грибы, и Вы до сих пор об этом вспоминаете, — писал он ей в середине октября. — Я Вам очень благодарен и за грибы, и за эти слова, и я очень дорожу Вашим признанием». Эльза посылала ему по почте пакетики гусиных шкварок, и он уверял ее, что, если бы она прочитала ему самое прекрасное стихотворение, оно не могло бы растрогать его сильнее. «Я догадываюсь, какие выводы сделал бы психолог из этого признания, и не стыжусь их», — признается Эйнштейн. Слишком долго пребывать на высотах духа, и только на них утомительно, и он не сомневается, что она не станет презирать его за те «низменные чувства», которые проявились в любви к хрустящим шкваркам.
Та же материнская забота видна в попытках Эльзы научить Эйнштейна хоть как-то ухаживать за собой. Когда он был в Берлине, она подарила ему щетку для волос, которую он впоследствии называл своей «колючей подружкой», и посоветовала побольше следить за своей внешностью. В письмах он стал регулярно докладывать ей, как он выполняет ее рекомендации, в его словах чувствуется гордость ребенка, {212} который успешно справляется с новым сложным заданием. «Щеткой пользуюсь постоянно, умываюсь старательнее некуда», — сообщает он ей. И нельзя не вспомнить, как в студенческие годы тоном триумфатора он писал Милеве о том, что научился бриться. Забота о нем Эльзы, ее наставления, напоминающие влюбленное кудахтанье, поначалу очень импонировали Эйнштейну. Он сообщил ей, что с радостью подчиняется ее «дружескому руководству» во всем, а однажды даже написал, что ему полезно, когда его отчитывают. Иначе он может поверить, что все считают его «то ли святым, то ли яйцом без скорлупы, а я, слава Богу, ни тем, ни другим не являюсь».
Однако уже тогда можно было предположить, что Эльзина опека очень скоро станет Эйнштейну в тягость, так же как опека Милевы или его матери. Еще до поездки в Берлин он посмеивался над ее проповедью здорового образа жизни. Он говорил, что хочет умереть с минимальной помощью медиков, а до того собирается грешить против своего здоровья, «как моя зловредная душа того пожелает», то есть курить, есть что вздумается и когда вздумается и работать до изнеможения. Прогуливаться он согласен только в приятном обществе («то есть, к сожалению, редко»), а спать будет тогда, когда ему захочется. Что до ухода за собой, он тоже не был склонен проявлять безграничного терпения. Он соглашался (или делал вид, что соглашается) регулярно пользоваться расческой, но против чистки зубов категорически возражал, ссылаясь на «научные данные». Свиные щетинки могут просверлить алмаз, говорил он, где же его бедным зубам их выдержать. К концу года он объявил Эльзе, что не желает прихорашиваться, это противно его натуре. Уход за собой был для Эйнштейна первым шагом к «оберлиниванию» — он сам изобрел этот термин, означавший превращение в напыщенного и самодовольного немца, а этот тип людей был ему особенно неприятен. {213}
Берлинцы казались ему воплощением обывательского начала. Вот один из яростных пассажей на их счет в обращенном к Эльзе письме. «Когда они встречаются с англичанами или французами — контраст разительный. Какие же они грубые и неотесанные! Тщеславие и отсутствие настоящей уверенности в себе. Чисто внешние признаки цивилизованности (безукоризненно вычищенные зубы, элегантный галстук, наглаженный фрак, безупречный костюм) и бескультурье во всех человеческих проявлениях (грубость разговоров, манер, голоса, чувств)».
Эйнштейн ясно дал Эльзе понять, чтобы она не пыталась подогнать его под этот стандарт. «Если мой вид вызывает у вас брезгливость, постарайтесь найти себе друга, который, в отличие от меня, соответствует вашим женским чаяньям», — мрачно предупреждает он ее и подписывается: «С самыми свирепыми ругательствами ваш грязный, честный Альберт». В этом письме, как и в следующем, он отпускает язвительные шутки насчет того, что целует ей ручки «на расстоянии, то есть с соблюдением всех правил антисептики и стерильности». Себя он именует «неисправимым грязнулей».
Эйнштейн говорил Эльзе, что его неряшливость и своеобразные манеры это форма самозащиты: они отпугивают дураков, которые иначе досаждали бы ему куда больше. В точности так же, как когда-то Милеве, он старается внушить Эльзе мысль, что она одна, благодаря своей духовной свободе, достойна его мира, который станет вселенной для них двоих. «Как было бы славно, если бы мы могли жить вдвоем, вести самое неприхотливое хозяйство и почти цыганский образ жизни», — мечтательно пишет он ей. Эти слова напоминают о его студенческом «совместном хозяйстве» с Милевой и о его давнем стремлении совместить домашний уют и богемную свободу. Разумеется, он не мог утверждать, что с Эльзой его объединяет общая научная миссия. Максимум того, на что он отважился, это с натяжкой сравнить свои занятия физикой с ее декламацией. В этом отношении они оба «странники, избранные из {214} толпы обывателей и призванные плясать на тугом канате». Его любимый конек — физика, а она может «горделиво гарцевать на излюбленной лошадке поэтов».
Но оставаться в рамках нарисованной им картины было невозможно. Мало сказать, что Эйнштейна не интересовало декламационное искусство Эльзы, он весьма подозрительно относился к тому, что ей нравится выступать на сцене. Он предостерегал ее против «неутоленного и болезненного честолюбия» и настаивал, чтобы она занялась чем-нибудь более достойным, например благотворительностью. Однако со стороны Эйнштейна имела место попытка, пускай мимолетная, выдать их отношения за союз двух интеллектуалов, которые выше обыденных житейских нужд. Но чаще всего он писал, что хочет от своей кузины простого человеческого сочувствия, что ему нужен «кто-то, с кем он сможет по-человечески поговорить и кто будет относиться к нему с участием». Если ему будет дарована такая любовь, он «перестанет чувствовать себя обездоленным».
Эльза постепенно занимала все большее место в жизни Эйнштейна, и, соответственно, ее напряженные отношения с его матерью создавали все больше сложностей. Эйнштейн называл ссору Эльзы с матерью «опасной эскападой» и испытал большое облегчение, когда его кузина сделала первые шаги к примирению. В знак того, что она хочет навести мосты, Эльза попросила Альберта по дороге из Берлина домой передать от нее матери коробку конфет. Он доложил, что Полина очень сожалеет о размолвке и хочет наладить отношения едва ли не больше Эльзы. Он даже давал понять, что Полина одобряет их роман. «Мать утешала меня, говоря, что я скоро окажусь рядом с вами, причем я не давал ей никакого явного повода для этих слов», — пишет он Эльзе. На самом же деле тайная антипатия между женщинами отнюдь не исчезла, и есть основания предполагать, что Эйнштейна она устраивала. Он советовал Эльзе проявлять максимальную сдержанность в общении с его матерью и ни в коем случае не изливать {215} ей душу. По его словам, Полине пришлось принять тот факт, что Эльза ее великодушно простила, и поэтому Полина оказалась в неловком и унизительном положении, и вполне заслуженно.
Милева не расспрашивала Эйнштейна о его кузине, когда он вернулся в Цюрих. Ему казалось, что у жены могли возникнуть какие-то подозрения хотя бы потому, что он стал больше ухаживать за своей внешностью, но, возможно, его опасения были продиктованы просто чувством вины. Он писал Эльзе, что Милева «отнюдь не недооценивает тот факт, сколь много Вы для меня значите». Но на этом этапе еще не ясно, считала ли Милева Эльзу опасной соперницей или просто одной из недоброжелательных родственниц мужа. «Теперь она днем и ночью думает, как ей защитить себя от ваших посягательств», — пишет Эйнштейн Эльзе в конце года. Но несмотря на плохие отношения между супругами, нет никаких свидетельств о том, что Милева воспринимала Эльзу как потенциальную разлучницу. Эйнштейн писал, что, когда он бывает вдвоем с женой, они проводят время в «ледяном молчании», которое кажется ему «еще более ненавистным, чем прежде». Но намерений расстаться с ней у Эйнштейна не было. Напротив, он хотел продолжать свой роман, сохраняя видимость благополучного брака и не нарушая условностей чересчур сильно. Он писал Эльзе, насколько ему было бы приятнее, если бы она, а не Милева могла сопровождать его в поездке во Францию, где он планировал в 1914 году прочесть цикл лекций. «Но жизнь устроена так, что мы все время вынуждены притворяться. Только когда мы рождаемся или умираем, нам позволено вести себя искренне».
Эльза восприняла его слова о совместном «неприхотливом хозяйстве» чересчур буквально. Но когда в начале 1913 года она попыталась заставить Эйнштейна, что называется, «выложить карты на стол», ответ его был недвусмысленным. «Неужели Вы считаете, что одному из супругов просто получить развод, если нет доказательств вины второго?» — {216} спрашивает он. И добавляет, что никакой суд не удастся убедить в том, что брак его распался, хотя обвиняет в этом только Милеву с ее хитростями. Он пишет, что относится к жене как к посторонней, что у них разные спальни, и он старается не бывать с ней наедине. «Мне кажется вполне терпимым такой вариант «совместной жизни» с ней. Я не понимаю, почему Вы в этой ситуации чувствуете себя настолько обиженной».
Его последующие письма полны яростных нападок на Милеву, словно таким способам он стремится убедить Эльзу, что предан ей, и только ей. Он характеризует свою жену как «неприветливую, лишенную чувства юмора особу, которая сама не получает от жизни никакой радости и одним своим присутствием отнимает ее у других»; она всегда пребывает в угнетенном состоянии духа и сама же угнетает окружающих, из-за нее в доме обстановка как на кладбище. По натуре «подозрительная и неприятная», она чувствует себя жертвой, если ближний обходится с ней так же, как она с ним. По словам Эйнштейна, стоит ему представить себе Милеву и Эльзу в одной комнате, как его бросает в дрожь.
Однако несмотря на все эти выпады, он неохотно признает, что у Милевы есть причины для отчаянья. «До сих пор она имела возможность почти ни с кем не общаться, исключением, к моему несчастью, был только я». Теперь ей предстояло регулярное и достаточно плотное общение с родней Эйнштейна, а это была не самая приятная перспектива. В декабре 1913 года, когда до переезда оставалось уже совсем недолго, Эйнштейн писал Эльзе:
«Жена все время стенает по поводу нашего предстоящего переезда в Берлин: она очень боится моих родственников. Она чувствует себя несчастной, ей кажется, что весь мир против нее ополчился, и она боится, что после конца марта ей уже не видать ни минуты покоя. Ну что ж, доля правды в этом есть. Моя мать человек, в общем, доброжелательный, но в качестве свекрови — сущая дьяволица. Когда мы {217} оказываемся в ее обществе, я каждую секунду жду взрыва».
Какое-то время Милева и Полина старались при общении обходить все острые углы, щадя чувства друг друга, или, говоря словами Эйнштейна, «выплясывали танец с завязанными глазами среди разложенных на полу яиц, без грации, но очень комично». Потом возобновились военные действия. Полина попросила Майю, не ставя в известность Милеву, вручить рождественские подарки внукам. Подарки были возвращены, и Милева объявила, что и она, и мальчики навсегда порывают всякие отношения со свекровью. По-видимому, они так и не восстановились. Эйнштейн отреагировал на случившееся лаконичным высказыванием, что история возмутительная, но его, к счастью, все это не волнует.
Однако он согласился с решением жены и написал Эльзе, что «когда его мать кого-то ненавидит, то становится по отношению к этому человеку очень коварной». И далее:
«Неудивительно, что в такой обстановке пышным цветом расцветает любовь к науке, уводящей меня из юдоли слез в атмосферу покоя, где нет ничего личного и уж конечно нет брани и нытья. Но я надеюсь, что Вы поможете мне немного спуститься с этих высот, если можно, без помощи расчески и зубной щетки, но посредством приветливого взгляда и сердечной беседы».
Переезд приближался, обстановка в доме становилась все напряженнее и, соответственно, Эйнштейн все больше уходил в работу. Его письма к Эльзе за первые два месяца 1913 года отличаются краткостью и, в основном, сводятся к извинениям. Он занят «действительно значительными вещами»: пытается развить свою теорию гравитации с учетом жесткой критики со стороны таких людей, как Планк и фон Лауэ. «Я днем и ночью напряженно думаю, как углубить те воззрения, к которым я шел на протяжении последних двух лет и которые являются существенным шагом вперед в области фундаментальных {218} физических проблем», — пишет Эйнштейн Эльзе. После такой тяжелой работы ему не до влюбленного воркования, так же как «не до игры на скрипке человеку, который только что держал в руках тяжелый молоток». Но он уверяет ее, что по-прежнему ждет встречи и надеется на время сбросить груз физических проблем, гуляя с ней по лесам в окрестностях Берлина. Он мечтает снова испытать не только то же удовольствие, какое принесла ему их совместная поездка в Ванзе два года назад, но и идиллическое и идеализированное блаженство их общего детства. «Мы воскресим все наши детские воспоминания и забудем все скверное, что в них есть».
После Рождества Милева отправилась в Берлин, чтобы подыскать семье новую квартиру. Эйнштейн в письме к Эльзе шутил по этому поводу: «Оказывается, семейная жизнь все еще может доставить какую-то радость». Он имел в виду отъезд жены. Однако он боялся, что общение Милевы с его родней приведет к новым осложнениям, и хотел, чтобы она с ними не общалась. «Чем меньше трений, тем лучше». — писал он Эльзе. Во время поездки неприятных инцидентов у Милевы с родней Эйнштейна не возникло.
Милева остановилась у Фрица Габера, одного из ведущих берлинских ученых, директора Института физической химии и электрохимии имени кайзера Вильгельма. Габер был маленький человечек, франтовато одетый, большеголовый, с высоким лбом, совершенно лысый, в огромным пенсне. Он отличался такой же ужасающей близорукостью, как и Эльза, и однажды очень насмешил Эйнштейнов: приняв сигарочницу за чашку, он налил туда чаю и собрался его выпить.
Габер был евреем, но в отличие от Эйнштейна сделал все, чтобы вписаться в рамки условностей немецкого общества. Под маской наружного высокомерия он скрывал теплоту и сердечность и был одним из тех людей, кто в период развода оказывал Эйнштейну моральную поддержку. Габер начал {219} научную переписку с Эйнштейном, когда тот был в Праге, и способствовал его переезду в Берлин. Теперь он помогал Милеве искать жилье и проникся к ней самыми теплыми чувствами.
По ее возвращении Эйнштейн написал Эльзе, что Милева заподозрила «некую опасность», исходившую от берлинской кузины, поскольку та с очевидной неискренностью предлагала свою помощь в поисках жилья. Впрочем, Эйнштейн, по его словам, отказался обсуждать с Милевой своих родственников.
Супруги покинули Цюрих в конце марта, в Германию ехали порознь. Эйнштейн намеревался навестить своего дядю Цезаря Коха в Антверпене, затем Эренфеста и Лоренца в Лейдене. Милева отвезла детей на каникулы в Локарио, врачи сказали, что тамошний климат поможет Эдуарду оправиться от очередного букета болезней. Мальчик ухитрился одновременно подхватить грипп, коклюш и воспаление среднего уха. Как хладнокровно заметил Эйнштейн, у всего есть свои положительные стороны. Приезд Милевы в Берлин откладывался, и Эйнштейну предоставлялась возможность свободно проводить время с возлюбленной. День их встречи приближался, и он взволнованно писал Эльзе о том, что они две недели проведут вместе: «Аллилуйя... Я просто воскресну». В начале апреля он писал Эренфесту: «В Берлине мне нравится, ... отношения с людьми радуют, особенно отношения с моей ровесницей-кузиной, с которой меня связывает давняя дружба».
Милева появилась в Берлине в середине апреля, какое-то время супруги поддерживали видимость нормальной семейной жизни. Нормальной, разумеется, по понятиям Эйнштейна. Так, был случай, когда приглашенные на обед друзья застали дома одну Милеву. Где ее муж, никто не знал, пока наконец не раздался телефонный звонок. Оказывается, Эйнштейн уже больше часа ждал своих гостей на станции метро «Далем», ошибочно полагая, что договорился встретиться с ними именно там. Настроение у него в начальный период жизни в Берлине {220} было прекрасное. «Жизнь в Берлине складывается лучше, чем я предполагал», — пишет он профессору Гурвицу в мае. Да, он «вынужден придерживаться определенных правил ... в том, что касается одежды и пр.», чтобы не огорчать своих застегнутых па все пуговицы коллег. Но в целом, как с явным удивлением отмечает Эйнштейн, берлинцы «весьма похожи на людей».
Милева была другого мнения на этот счет. Эренфест, неделю гостивший у супругов, вспоминал, что она чувствовала себя несчастной и тосковала по Швейцарии. Жизнь в Берлине оправдывала ее мрачные предчувствия, ее подавленность передалась и старшему сыну. «Милева, мрачная и унылая, занималась домашним хозяйством, — писал со слов Ганса Альберта Питер Микельмор. — Друзей в Берлине у нее не было. Она с первой минуты возненавидела этот город». Гансу Альберту в Берлине тоже было неуютно, хотя Эренфест обращался с ним, как добрый дядюшка: водил его в зоопарк и на прогулки. В новой школе мальчика раздражали казарменная дисциплина и зубрежка: он был сыном своего отца.
В 1914 году на летние каникулы Милева уехала с сыновьями в Цюрих. Ганс Альберт полагал, что в сентябре, после каникул, они вернутся в Германию. На самом деле для его родителей отъезд Милевы в Цюрих стал началом конца их семейной жизни. К мужу Милева уже не вернулась.
В зрелом возрасте Ганс Альберт так и не смог дать убедительных объяснений тому, что произошло между его родителями. Он замечал, что отношения между отцом и матерью постепенно менялись, что Милева в конце концов совершенно перестала заниматься наукой. Но последнее как причину развода он отметает:
«Я так до конца и не понял, почему они разъехались. Я пытался задним числом восстановить события, в частности, на основе его полупризнаний и обмолвок, и мне кажется, что по его мнению, семья отнимала у него слишком много времени, а {221} его долгом было всецело сосредоточиться на работе. Я не верю, что ему это удалось: в семье у него было больше времени для физики, потому что о нем заботились, а без семьи он должен был в одиночку справляться с бытом и вести свою жизненную борьбу».
На вопрос, а как перенесла разрыв Милева, Ганс Альберт ответил: «Очень тяжело».
Когда Эйнштейн смотрел вслед увозившему Милеву поезду, он плакал. Ему было тяжело идти, Габеру пришлось проводить его с вокзала домой. Друг Эйнштейна Януш Плещ впоследствии писал, что «глаза у Эйнштейна были на мокром месте», на них легко наворачивались слезы, когда он слушал рассказы о несчастьях, постигших других людей. Но из-за собственных бед он плакал крайне редко. Достаточно распространенное мнение о том, что Эйнштейн плакал не из-за разрыва с женой, а из-за разлуки с детьми, кажется нам не слишком убедительным. Отъезд Милевы был поворотным пунктом в его жизни. Кончилась одна эпоха и начиналась другая, полная неопределенности. Как бы он ни был озлоблен на Милеву, должно быть, его мучила память о том времени, когда их совместное будущее казалось ему пределом мечтаний, когда он писал ей: «Без тебя моя жизнь — это не жизнь».
| {222} |
Первая мировая война началась в родных местах Милевы, то есть на границе между Сербией и Австро-Венгрией, в результате многолетних напряженных и все ухудшавшихся отношений между этими странами. Эйнштейн в письме к Элен Савич от декабря 1912 года отметил, что острота ситуации нарастает, но добавил: «Я полагаю, что этим милитаристским игрищам не следует придавать значения». Через 18 месяцев в Сараево эрцгерцог Фердинанд был убит сербским студентом, и в июле 1914 года Австрия объявила Сербии войну. Россия, главный союзник Сербии, тут же встала на защиту ее интересов, система европейских союзнических обязательств втянула в локальный конфликт другие великие державы, и он перерос в мировую войну. Началось четырехлетнее кровопролитие.
В эти годы Эйнштейн проявил себя как активный пацифист, готовый ради своих убеждений идти наперекор общественному мнению и не боящийся публичного осуждения. На воззвании, поддерживавшем политику Германии в войне, стояли подписи девяноста трех ведущих немецких интеллектуалов, но подпись Эйнштейна отсутствовала. Напротив, он и несколько его единомышленников подписали альтернативный «Манифест к европейцам», содержавший призывы к международному сотрудничеству. Эйнштейн также вступил в партию пацифистов и оказывал тайную поддержку антивоенным организациям в Швейцарии и Голландии. Но при всей искренности своей позиции он старался не допускать крайностей — работа Эйнштейна финансировалась оголтелыми милитаристами. Не прерывал он дружбы {223} и с коллегами, в том числе с Габером и Нернстом, разрабатывавшими химическое оружие. В частной беседе он мог заявить, что вина за происходящее — в тупости и воинственности немцев, но во время публичных выступлений избегал столь вызывающих высказываний и винил во всем агрессивность, заложенную в природе человека.
Эйнштейну не хватало оптимизма и веры в то, что ближнего возможно спасти — а без нее нельзя было в одиночку начать крестовый поход против войны. «Европа в помрачении разума затеяла что-то невообразимое, — говорил он Эренфесту. — В такие времена видно, к какой гнусной породе зверей мы принадлежим. Происходящее вызывает у меня и жалость, и отвращение». Война в его письмах фигурирует как нечто далекое, смутно представимое и не затрагивающее его слишком глубоко. «Несмотря на всеобщие бедствия, к которым становишься причастным в основном из чтения газет, я живу счастливо и необычайно спокойно», — писал он весной 1915 года, когда под Ипром впервые применили отравляющие газы, а на Восточном фронте погибли тысячи людей. Эйнштейн похвалялся своей «сознательной невовлеченностью» в войну и говорил, что и в этот мрачный период истории можно жить в довольстве и уюте, глядя на остальное человечество отстраненно, как служитель сумасшедшего дома смотрит на душевнобольных.
Милева с детьми временно поселилась в пансионе в Цюрихе. Позже Ганс Альберт вспоминал: «Это были едва ли не худшие времена, потому что никто из нас не знал, что сулит будущее, временный ли это разрыв или семья окончательно распалась». Эйнштейн сказал жене, что в Берлине он сможет предложить ей только раздельное существование двух людей под одной крышей, но не любовь. После всего, что произошло между ними, теплые отношения представлялись ему невозможными: «Я предлагаю корректные, почти формальные отношения. Все личное должно быть сведено к минимуму». Он желал, чтобы она не становилась ему поперек дороги и {224} открывала рот только тогда, когда ее спросят. Он хотел жить своей собственной жизнью и сам по себе, к этому и сводилась суть требований.
Переписка того периода, по-видимому, содержит подробности, обидные для обеих сторон, и по-прежнему не доступна биографам, поэтому конкретные условия, которые Эйнштейн выдвинул Милеве, неизвестны, но из тех писем, к которым мы имели доступ, явствует, что диктовал условия только он, и обсуждению они не подлежали. Милева подчиниться не пожелала, сложилась патовая ситуация. «Я не намерен просить тебя о разводе, но желал бы, чтобы ты с детьми оставалась в Швейцарии, — пишет Эйнштейн в июле 1914 года. — Я прошу тебя только об одном: каждые две недели посылать мне сведения о сыновьях, которых я люблю всем сердцем. Я их целую».
Эта нежность не нашла отклика в душе десятилетнего Ганса Альберта: он не отвечал на самые трогательные письма из Берлина. Эйнштейн обвинил Милеву в том, что она их перехватывает и настраивает мальчика против отца. На ее уверения, что она тут не при чем, ответом был новый ультиматум: она вправе читать то, что он пишет сыновьям, но не должна обсуждать с детьми его письма. Она также не должна читать или обсуждать ответы Ганса Альберта. Если же что-то в письмах Ганса Альберта покажется Эйнштейну звучащим с чужого голоса, он прекратит всякие контакты с мальчиками.
Эго была достаточно бессмысленная угроза: ее исполнение ранило бы, и очень глубоко, прежде всего самого Эйнштейна. Говоря его словами, он не понимал, почему, если он не в состоянии жить с Милевой, это должно отражаться на его отношениях с детьми. Его постоянно мучила мысль о том, что Милева старается очернить его в глазах сыновей. Он узнавал в Гансе Альберте черты, присущие ему самому в юности, и в каждом письме делал попытки вызвать у мальчика эмоциональный отклик, снискать ею доверие и симпатию. Он всячески поощрял игру Ганса Альберта на рояле («Ты не поверишь, {225} сколько радости тебе и твоим друзьям может принести твое умение играть»), рассказывал анекдотические истории о своем «совершенно немузыкальном» отце. Он также одобрял увлечение Ганса Альберта яхтами и греблей («Должен сказать тебе, что в твоем возрасте я больше всего любил проводить время на воде»). Но особенно пытливо он выяснял, каковы интеллектуальные интересы сына, надеясь, что они окажутся похожими на его собственные. «Я очень рад, что тебе нравится геометрия, — писал он. — В свое время я больше всего любил ею заниматься. Я бы с огромным удовольствием обучал тебя сам, но, к несчастью, это невозможно». В начале 1915 года Эйнштейн пишет сыну: «Через несколько лет ты сможешь практиковаться в искусстве мыслить. Уметь по-настоящему думать — это прекрасно».
Эйнштейн посылал из Берлина деньги Милеве и детям, но она жаловалась, что их не хватает. Счета оставались неоплаченными, она бочком проскальзывала мимо хозяйки пансиона, чтобы не услышать напоминание о просроченной плате за квартиру. Она была слишком горда, чтобы обратиться за помощью к отцу, но ей пришлось просить денег в долг у одной из подруг. Она также пыталась подработать уроками математики и игры на фортепьяно.
Эйнштейн утверждал, что щедр к ней настолько, насколько позволяют обстоятельства. «Я охотно прислал бы тебе больше денег, но у меня у самого их не осталось, — писал он Милеве в сентябре 1914 года. — Сам я живу более чем скромно, почти по-нищенски. Только так мы сможем отложить что-то для наших мальчиков». Той же осенью Эйнштейн упаковал и отправил Милеве и детям большую часть мебели из их бывшей квартиры и все их оставшиеся там вещи. В декабре он пообещал ежеквартально выплачивать Милеве содержание, всего 5600 рейхсмарок в год. Заранее отметая возможные возражения, он пишет: «Я хочу, чтобы меня больше не беспокоили по пустякам. Себе я не оставил ничего, кроме самых необходимых вещей: мне нужно, чтобы было за чем работать и на чем спать». {226}
Горькая для Эйнштейна правда заключалась в том, что для него подобный «брак на расстоянии» был в некоторых отношениях обременительнее, чем совместное пребывание в четырех стенах. Потребность Милевы в его поддержке стала более явной, чем прежде, и Милева приобрела куда большую власть над мальчиками. Раздраженный тон писем Эйнштейна наводит на мысль, что он оказался в положении человека, вынужденного держать оборону. «Если бы двенадцать лет назад я знал тебя так же хорошо, как знаю сейчас, я бы совершенно иначе воспринимал свои обязательства по отношению к тебе», — пишет он жене.
К концу 1914 года друзьям Эйнштейнов стало ясно, что брак окончательно распался. Милева съехала из пансиона и сняла квартиру на Волташтрассе, поблизости от Политехникума. Там она поставила ёлку и пригласила семейство Гурвицев отметить Новый год. Гости пили чай с пирожными, слушая уверения Милевы, что Эйнштейн будет по-прежнему заботиться о своей семье. Он прислал в подарок детям настольные игры, сам же провел Рождество в гостях у профессора Нернста, где рассуждал о физике и играл на скрипке.
Эйнштейн поселился в холостяцкой квартире, Эльза жила неподалеку, за углом, и он мог посещать свою кузину так часто (или так редко), как его душе будет угодно. Такой уклад его вполне устраивал: достаточно близко к ней, чтобы наслаждаться ее поддержкой и домашним уютом, и достаточно далеко, чтобы ничем себя не стеснять. «Что касается личной жизни, я еще никогда не чувствовал себя таким безмятежным и счастливым», — писал он Цангеру в июле 1915 года. Он пояснял, что живет «очень замкнуто, но не ощущает одиночества» благодаря кузине, которая окружила его заботой и любовью.
Лето он провел вместе с Эльзой на острове Рюген, одном из самых дальних форпостов Германии в Балтийском море. Там Эйнштейн наслаждался созерцанием бескрайних пустынных морских просторов; позднее он напишет, что это был самый полный {227} отдых за всю его взрослую жизнь. Еще через много лет он шутя скажет своему младшему сыну, что люди похожи на море: иногда они спокойны и приветливы, иногда бушуют и представляют опасность. Главное — помнить, что они состоят в основном из воды.
Неприятные эмоции меньше досаждали Эйнштейну, когда ему удавалось применить свой любимый прием: перевести их из личного плана в общий. Как он это делал, можно понять на примере уже цитированного письма, где он похвалялся Цангеру безмятежностью своей тогдашней жизни. В этом письме Эйнштейн изображал Милеву хладнокровной интриганкой, которая расчетливо планирует свои шаги с целью отторгнуть от него детей. Он добился, чтобы она разрешила Гансу Альберту отправиться с ним в поход по горам в начале июля, но в последнюю минуту получил от сына письмо, что тот отказывается ехать. Эйнштейн не мог скрыть свое раздражение, он был уверен, что во всем виновата Милева с ее кознями, но, преисполнившись добродетели, продолжал: какие все это мелочи по сравнению с безрассудной злобой и ненавистью, царящими в отношениях между людьми во время войны. «Пока человек молод, он дорожит только живыми чувствами и презирает холодный расчет, — пишет Эйнштейн Цангеру. — Но сейчас я думаю, что слепые эмоции порождают бедствия куда большие, чем те, которые могут возникнуть из самых расчетливых интриг».
Поход по горам состоялся в сентябре. Отец с сыном добрались пешком до юга Германии, ночуя на постоялых дворах, и даже сколько-то прошли на лодке по Дунаю. Но на вопрос, намерен ли он вызвать семью обратно в Берлин, Эйнштейн ответил уклончиво: «Я хочу, чтобы вы получили образование в Швейцарии», — сказал он и сменил тему. В октябре Эйнштейн пеняет сыну на «отсутствие сердечности» в его последнем письме. «Я не приеду к тебе в гости, пока ты сам этого не захочешь», — пишет он. {228}
В 1915 году Эйнштейн работал с необычайной даже для него интенсивностью; на этом фоне поразительно то, какие усилия он прилагал, чтобы сохранить контакт с сыновьями. Он силился завершить общую теорию относительности и, насколько это было возможно, отсекал от себя контакты с внешним миром. Почти все письма, требовавшие ответа, откладывались в сторону и через какое-то время оказывались в печке. Наиболее напряженно он работал с середины до конца ноября и в это время не писал практически никому. В числе исключений были Давид Гильберт, великий немецкий математик, чья работа по гравитации оказалась очень близка к трудам самого Эйнштейна, и Милева с Гансом Альбертом. Короткая записка Эйнштейна к Милеве от 15 ноября свидетельствует, что супруги заключили перемирие. «Твое письмо меня искренне обрадовало, — пишет он ей, — так как из него я вижу, что ты не пытаешься ни препятствовать моим отношениям с мальчиками, ни ограничивать мое с ними общение. Со своей стороны могу сказать тебе, что эти отношения — самая значимая часть моей личной жизни».
Через три дня Эйнштейн потряс научный мир. Он объявил, что может объяснить отклонение орбиты Меркурия; оно было обнаружено в 1859 году и с тех пор ставило ученых в тупик. Эйнштейн узнал о существовании этого феномена в 1907 году, он стал пробным камнем для теории относительности и ее подтвердил. Это означало, что после восьми лет напряженных размышлений о гравитации Эйнштейн, наконец, открыл новые фундаментальные законы, позволяющие объяснить устройство Вселенной лучше, чем удавалось до него. Авраам Пейс отозвался об этом событии как о самом, наверное, сильном эмоциональном потрясении в жизни Эйнштейна. Разумеется, потрясении радостном. Эйнштейн писал, что сердце у него колотилось и было такое чувство, будто что-то оборвалось внутри. «Я был в экстазе неделю», — говорил он Эренфесту. {229}
Описать упомянутое астрономическое явление достаточно просто. На каждом витке эллиптической орбиты Меркурия у него слегка изменяются координаты перигелия — точки, в которой он оказывается ближе всего к солнцу. Этот эффект называется отклонением орбиты (или вековым смещением перигелия орбиты) Меркурия. Если в соответствии с законами ньютоновской механики рассчитать влияние тяготения других планет на движение Меркурия, то в результате этих вычислений отклонение орбиты получится существенно меньшим, чем фактическое. Некоторые астрономы приписывали величину отклонения наличию еще не обнаруженной планеты, которую предположительно именовали Вулканом. Но попытки обнаружить Вулкан ни к чему не привели, равно как и попытки дополнить законы ньютоновой механики специальными гипотезами «на случай». Красота теории Эйнштейна состояла в том, что его уравнения давали точную величину отклонения без «умножения сущностей». И более того, они объясняли, почему он раньше, вычисляя отклонение светового луча в поле тяготения, получал величину, меньшую фактической.
Еще несколько дней он работал как одержимый, и общая теория относительности обрела законченные контуры. Эйнштейн показал, что гравитация является не силой, с которой одно тело воздействует на другое, а свойством пространства-времени. Объекты с большой массой порождают искривления пространственно-временного континуума, и соответствующие четырехмерные кривые служат как бы направляющими линиями, по которым движутся меньшие объекты; в качестве аналогии можно привести движение шарика, когда он, катясь по неровной поверхности, выбирает путь наименьшего сопротивления. Большинству людей трудно представить себе это искривленное четырехмерное пространство, и лучше подобных попыток не предпринимать. Эйнштейн создал теорию, которая помогла распутать целый узел физических проблем, но она способна окончательно запутать простых смертных. {230}
Ученый был измучен сверхнапряженной работой. В декабре 1915 года он написал Бессо, что «доволен, но вконец измотан». Его угнетала военная истерия, все нараставшая в Берлине, и он признался Эренфесту, что «всеми фибрами души жаждет вырваться отсюда». Какое-то время он носился с мыслью съездить в Швейцарию, но потом объявил, что из-за крайней усталости не сможет выдержать сложностей, которые, как он знал из опыта, ждут его при пересечении границы. Однако он пообещал Гансу Альберту, что приедет в будущем году на Пасху, «хотя бы для этого ему пришлось поставить палатку на границе и жить в ней, пока его не пустят на другую сторону».
Его мучили мысли о том, что Ганс Альберт взрослеет без него. Эйнштейн, так сильно любивший своего отца и так мучительно переживавший его интеллектуальные несовершенства, мечтал играть роль ментора при собственном сыне. «Альберт приближается к возрасту, когда длительное общение со мной может стать для него очень важным, — писал он Милеве. — Ты смело можешь отпускать его ко мне, чтобы мы время от времени жили вместе. Твои отношения с ним от этого не пострадают, я буду влиять на него только в интеллектуальном и эстетическом плане». Но мысль о том, чтобы кто-то из мальчиков поехал в Берлин и попал под влияние родни ее мужа, повергала Милеву в ужас, и Эйнштейн это прекрасно знал. Все его обещания, что он не допустит тесного общения мальчиков с членами своей семьи, не могли убедить Милеву, и Эйнштейн жаловался, что ему приходится просить ее о том, на что он имеет право — о возможности видеть своих детей. Его поездка к ним на Пасху приобретала теперь еще большее значение, но могла осложнить отношения.
Эйнштейн настойчиво просил Ганса Альберта разучить партию фортепьяно в каком-нибудь произведении для фортепьяно и скрипки, чтобы, когда он приедет, они могли сыграть его вместе. В исполненном любви письме он говорит сыну, что «недавно {231} сделал массу интересных вещей» и с нетерпением ждет времени, когда они смогут обсудить их. Возможно, это будет только через несколько лет, но и сейчас у них найдется немало общих тем. Он пишет сыну об «изумившем его несколько дней назад странном происшествии» во время небольшого приема, куда была приглашена хиромантка. «Она посмотрела мне на ладонь и рассказала про меня вещи, которые были совершенно точными, хотя до этой встречи она меня никогда не видела, — пишет он. — Поразительно, не так ли?» Имеются более поздние данные, что Эйнштейн «в какой-то степени» верил в такого рода явления, в том числе и в телепатию. По свидетельству Фриды Баки, жены его приятеля, доктора Густава Баки, Эйнштейн считал естественным, когда один человек «воспринимает вибрации», исходящие от другого. Чтобы их вовсе не чувствовать, нужно быть толстокожим, как слон, говорил он.
Но та же гадалка могла бы предупредить Эйнштейна, что его пасхальный визит приведет к весьма печальным последствиям, и что виной их будет в значительной мере его собственная нечуткость. В феврале 1916 года он оглушил Милеву следующим предложением: «Итак, поскольку наша раздельная жизнь прошла проверку временем, я прошу тебя о разводе». Далее он меняет тему и в дружелюбном тоне советует ей давать детям хлорид кальция для укрепления костей и зубов. Эйнштейн не учел, что Милева его по-прежнему любила и надеялась, что их брак еще возможно спасти. То, что они разъехались, было ей очень тяжело, но уверения Эйнштейна, что он не хочет развода, несколько смягчали ситуацию. Теперь Милева не могла хвататься и за эту соломинку.
В дальнейшем Эйнштейн достаточно прозрачно намекал, что писал под влиянием Эльзы и ее близких. Он предлагал Милеве поставить себя на его место и понять, какое сильное давление на него оказывали. Эльзина личная жизнь стала предметом пересудов, от них страдала, в первую очередь, ее старшая {232} дочь Ильза. Она была девушкой на выданье, и сплетни о матери могли помешать Ильзе устроить свою жизнь. Неужели Милева не понимала, как тяготила Эйнштейна подобная ситуация? Все, чего он хотел, это прояснить ее и расставить все по местам, оформив свои отношения с Эльзой.
При таких неблагоприятных предпосылках пасхальный приезд Эйнштейна начался на удивление хорошо. Мальчики встретили отца так «вежливо и приветливо», что он даже письменно выразил благодарность Милеве: во-первых, за то, как она воспитывает детей («ничего лучшего я и пожелать не мог») и, во-вторых, за то, что она не настраивает их против него. Однако через несколько дней все резко изменилось. Эйнштейн хотел взять Ганса Альберта в очередной поход по горам, это вызвало яростную перепалку с Милевой. Возможно, она, измученная своими страхами и неуверенностью в завтрашнем дне, заподозрила мужа в намерениях разлучить ее с сыном. Эйнштейн в бешенстве уехал. Ганс Альберт снова озлобился против него и перестал отвечать на его письма. Эйнштейн сказал Бессо, что решил окончательно и бесповоротно никогда больше не видеть свою жену. «Я был бы уже сломлен и душевно, и физически, если бы не нашел в себе сил удалить ее на безопасное расстояние, так, чтобы не видеть ее и не слышать».
Эта горькая весть подкосила Милеву. В ней что-то надломилось, и после отъезда Эйнштейна не он, а она испытала крайний упадок сил, физических и душевных. Несколько месяцев она была в состоянии столь тяжелого кризиса, что близкие опасались за ее жизнь. Имеется ряд свидетельств, что она перенесла несколько сердечных приступов, но о подробностях ее болезни известно обескураживающе мало. Мы располагаем только обрывочными сведениями, почерпнутыми, в частности, из писем Бессо и Цангера; они оба посещали Милеву и рисуют картину как ее физического недомогания, так и крайней тревожности и депрессии. Единственное, чем могли помочь Милеве врачи, это рекомендациями {233} лежать неподвижно и избегать волнений. Она была не в состоянии присматривать за детьми, заботу о них временно взяла на себя Элен Савич, которая покинула истерзанную войной Сербию и жила теперь в окрестностях Лозанны.
Сначала Эйнштейн решил, что Милева притворяется, желая воспрепятствовать разводу. Он сказал Бессо, что не остановится ни перед чем, чтобы воздействовать на нее, и добавил: «Вы и представления не имеете о природной хитрости подобных жен-шин». Эйнштейн, впрочем, утверждал, что, узнав о состоянии Милевы, он собрался было вернуться в Цюрих, несмотря на «тяжелые воспоминания» о пасхальном визите. Но по зрелом размышлении он решил этого не делать, поскольку, окажись он в Цюрихе, Милева наверняка пожелала бы его увидеть, а его присутствие едва ли подействует на нее как успокоительные таблетки. Ее болезнь могла и не быть притворной, но он-то подозревал, что Бессо и Цангер — двое добрых малых, которых провели за нос. Как ребенок, который когда-то обжегся, он, Эйнштейн, лучше других знал, сколь опасен этот огонь.
Полина Эйнштейн разделяла мнение сына: она писала Эльзе, что Милева болеет тогда, когда ей это выгодно: «Может быть, ей слегка и нездоровится, но в основном она притворяется». Полина была озабочена только одним: почему сын не воспользовался случаем и не взял на себя присмотр за детьми. Однако добросердечный, неизменно преданный Эйнштейну Бессо его осудил. Как бы Эйнштейн ни поступал, отношение к нему Бессо оставалось неизменным, но его ничто не могло остановить, если он считал нужным воззвать к совести своего гениального друга. Он писал Эйнштейну, что недуг Милевы отнюдь не является обычным приступом ипохондрии, что следы страданий запечатлелись в се облике очень давно. Про Милеву ни в коем случае нельзя сказать, что она не хочет взять себя в руки, напротив, она относится к себе слишком требовательно, она перегрузила себя непосильным трудом, когда {234} старалась заработать денег для мальчиков. С необычайным тактом, но очень твердо Бессо отражал выпады Эйнштейна, направленные против Милевы. Все мы грешники, пишет Бессо Эйнштейну, и все заслуживаем более снисходительных суждений о наших поступках. Иначе быть нам всем в аду.
Эти упреки заставили Эйнштейна отступить, но только затем, чтобы снова пойти в атаку. Не замечая того, что он противоречит своему предыдущему письму, Эйнштейн уверяет Бессо, что вовсе не считал болезни Милевы притворными. Он говорит, что они — «чисто нервного происхождения» и типичны для слабого пола. С готовностью развивая эту тему, он высказывает общие взгляды на отношения мужчин и женщин.
«Дорогой Мишель! Мы, мужчины, существа слабые и зависимые, я с радостью признаюсь в этом кому угодно. Но по сравнению с этими женщинами любой из нас — король, так как он твердо стоит на собственных ногах и не пребывает в непрерывном ожидании, что ему будет предоставлена опора извне. Они же постоянно ждут, что явится кто-то и отдаст себя в их распоряжение. А если этого не происходит, они оказываются сломленными».
На этом он не останавливается и достаточно резко и неуклюже высказывается в защиту своего решения о разводе. Неужели его, Эйнштейна, поведение кажется Бессо таким ужасающим? Да кто бы согласился провести остаток жизни так, чтобы в ноздрях все время стоял дурной запах? Во всяком случае не он, Эйнштейн, а если его за это отправят в ад, ну что ж, как Богу будет угодно.
Он пишет Бессо: «На протяжении 20 лет мы хорошо понимали друг друга. Теперь же я вижу, как в душе у тебя закипает гнев на меня, и причина его — женщина, дела которой тебя не касаются. Оставь! Она того не стоит, будь она хоть тысячу раз права».
Эйнштейн просил друга информировать его о состоянии здоровья Милевы и с радостью хватался за любой намек на то, что раздражавшая его {235} проблема может быстро решиться. «Твое молчание представляется мне добрым знаком, — писал он Бессо в начале августа. — Надеюсь, дела в Цюрихе постепенно налаживаются». Еще более явно он выказал свое отношение к происходящему двумя неделями позже. Эйнштейн убедил себя, что Милева страдает туберкулезным менингитом — воспалением мозговых оболочек, которое может оказаться смертельным. «Меня радует, что состояние моей жены улучшается, хотя и медленно, — писал он. — Но разумеется, если это мозговой туберкулез, что весьма вероятно, быстрый конец был бы предпочтительнее долгих страданий».
Эти строки вклинились в самое банальное повествование: он потерял какой-то адрес, его поездку в Голландию пришлось отменить. Тон письма — деловой и жесткий, Эйнштейн явно дает понять, что если Милева умрет, он плакать не будет. Однако Милева не умирала. Ее болезнь тянулась, не разрешаясь ни в ту, ни в другую сторону, улучшения чередовались с ухудшениями, она часто оказывалась в больнице. Дома ее постель выставили на балкон, где она лежала днем и ночью, глядя на крыши Цюриха и окружающие его горы. Иногда силы возвращались к ней настолько, что она могла снова приглядывать за детьми, отдавать распоряжения по хозяйству и даже учить Ганса Альберта музыке. Порой ей было не обойтись без помощи профессора Цангера и его жены. Один из ее неожиданных перепадов настроения отражен в декабрьском письме Бессо к Эйнштейну. Пять недель все было хорошо, пишет Бессо, потом «приступы» возобновились. Бессо считал, что причиной их было письмо, которое Ганс Альберт получил от отца. Мальчик отказался показать его матери, и у нее тотчас начался «приступ».
Но еще до этого рецидива ее болезни Эйнштейн пошел на тактическую уступку. «Отныне я не намерен тревожить ее просьбами о разводе, — сообщил он Бессо в сентябре. — В этом вопросе моя борьба с родней подошла к концу. Я научился не поддаваться женским слезам». На самом деле, этим искусством {236} он так и не овладел, но в тот момент состояние Милевы тяготило его сильнее, чем состояние Эльзы. Коль скоро жена шла на эмоциональный шантаж, Эйнштейн готов был уступить, и в следующем месяце он повторяет: «Я позабочусь о том, чтобы больше не причинять ей беспокойства. Что касается развода, я совершенно определенно отказываюсь от своей просьбы о нем».
Однако Милева продолжала болеть, из чего явствует, что шантаж не входил в ее намерения. Эйнштейн пишет Элен Савич, что состояние Милевы его очень огорчает, но признается, что чувства его к ней измениться не могут: «Несмотря на все мое сочувствие, она превратилась для меня в ампутированную конечность, и это навсегда. Мы больше никогда не станем близкими людьми, я кончу свои дни вдали от нее, и уверенность в этом мне необходима».
Эйнштейн прекрасно знал, что знакомые не одобряют его жесткости по отношению к Милеве, и уже в первые дни после их разъезда понял, что в глазах ближних нужно выглядеть хорошо. В мае 1915 года в письме к Цангеру он заявляет, что не порви он с Милевой, он бы не выжил. Он хотел, чтобы его друг это понял, «чтобы внешняя сторона происшедшего не ввела тебя в заблуждения и чтобы ты не думал обо мне хуже, чем я того заслуживаю». Теперь, через год после разъезда с Милевой, он благодарит Савич за то, что та не осудила его, руководствуясь только внешней стороной происшедшего и правилами приличия, как это сделало «большинство его знакомых». Он с сожалением добавляет, что дети не понимают его поступков, они рассержены на него и глубоко обижены. Перспективы ему рисовались достаточно мрачные: «Я полагаю, как мне ни больно это признать, что для них лучше, если отец их больше никогда не увидит. Я же буду доволен, если они станут полезными членами общества и уважаемыми людьми».
Ганс Альберт снова стал проявлять к отцу открытую враждебность, Эйнштейна это очень удручало. {237} «Я думаю, что температура его чувств ко мне опустилась ниже нуля, — пишет он Бессо. — Но будь я на его месте, в его возрасте и в аналогичной ситуации, я бы, вероятно, реагировал на случившееся так же, как он». Эйнштейн давал понять Бессо. что хотел бы, чтобы тот в каком-то смысле заменил мальчику отца, но эти пожелания ставили Бессо в достаточно неловкое положение. Милева, зная об его близости к Эйнштейну, настолько его опасалась, что в его присутствии проявления ее болезни усиливались. Поэтому Бессо, не желая ее расстраивать, избегал слишком тесных контактов с Гансом Альбертом, к которому был очень привязан.
Эйнштейн продолжал писать сыну, иногда ему даже удавалось добиться ответа. «Вам с Тете не следует бояться того, что вы остались одни, — пишет он сыну. — Пускай меня с вами нет, знайте, что у вас есть отец, которому вы дороже всего, который постоянно о вас думает и всегда готов о вас позаботиться». К концу 1916 года Эйнштейн открыто заговорил о переезде старшего сына к нему в Берлин. Он знал, что тем самым подтвердит худшие опасения своей жены, поэтому сначала делал вид, что не будет действовать без согласия Милевы: «Вопрос не стоит о том, чтобы против воли Мицци забрать Альберта, — пишет он Бессо. — Я же, в конце концов, не тиран».
Эйнштейн знал, что воспитание Ганса Альберта потребует от него много сил, но очень хотел участвовать в будущем сына. «Я ношусь с мыслью о том, чтобы забрать Альберта из школы: я хочу обучать его сам, — пишет он Бессо в марте 1917 года. — Мне кажется, я могу дать ему очень много, и не только в интеллектуальном плане. Как ты думаешь, жена сумеет это понять?» Он также был готов взять на себя расходы в случае, если его сын поселится у Майи в Люцерне. Такой мелочи, как согласие Милевы, Эйнштейн придавал все меньшее значение. В конце мая он обещает, что «без крайней необходимости» не будет делать ничего, «что могло бы еще ухудшить душевное состояние моей жены». Однако всего {238} через три дня он пишет без обиняков: «При таких обстоятельствах следует считаться не с моей женой, но только с тем, что хорошо для мальчика».
К своему младшему сыну Эйнштейн относился далеко не так тепло, как к старшему. Эдуард научился читать необычайно рано, мгновенно запоминал и без единой ошибки цитировал длинные отрывки из прочитанного. Уже перед поступлением в начальную школу он с удовольствием читал газеты, чуть позже увлекся Шиллером и Гете. Он был редкостно одаренным ребенком, но отца это скорее тревожило, чем радовало. Эйнштейн с самого начала был озабочен тем, что Эдуард удовлетворяет свою жажду знаний без всякого контроля, предостерегал сына от превращения в книжного червя, советовал «оставить себе что-нибудь для чтения в зрелые годы». Эйнштейну было куда проще общаться с Гансом Альбертом, учеником способным, но не блестящим, который успевал в школе примерно так же, как в прошлом его отец. Ему Эйнштейн мог мягко попенять за орфографические ошибки, посочувствовать в связи с трудностями латыни, уверить его, что хорошие оценки — это не главное.
Эйнштейна смущал не только непомерно развитый интеллект Эдуарда. Эдуард был очень открытым и эмоциональным ребенком, временами он буквально излучал радость, временами становился нервозным и раздражительным. Цангер описывал его как «хрупкого малыша» с застенчивыми девичьими манерами, которые были «совершенно чужды Эйнштейну». Ганс Альберт держался совершенно иначе. Он так хорошо умел скрывать свои чувства, что соученики звали его «Steinli», то есть камушек. Автор стихотворения, посвященного вечеру встречи одноклассников уже после окончания школы, называет его «самым бесстрастным из людей нашего века», который постоянно прячет свои чувства за широкой улыбкой и никогда не теряет самообладания. Эйнштейн признавал, что Ганс Альберт «бесспорно неразговорчив и замкнут», но не воспринимал это как {239} недостаток. Чувствительность Эдуарда тревожила его куда больше.
Отец считал, что Милева слишком носится с постоянными болезнями младшего сына, и это ему только вредит. Мало того, что Эдуард перенес все обычные детские болезни, он постоянно мучился мигренями, у него болели уши. Эйнштейн, который панически боялся любых болезней, поставил мальчику диагноз: ипохондрия. А когда Эдуарду было шесть с половиной лет, его отец пришел к выводу, что у мальчика психическое расстройство.
Это был весьма суровый приговор, особенно учитывая возраст ребенка, но Эйнштейн был глубоко убежден в его справедливости. В декабре 1916 года он написал Бессо: «Я рад, что у моего бедного младшего сына все благополучно, но у меня нет никаких иллюзий на его счет. Надо уметь смотреть правде в глаза, даже если это тяжело». Более развернутый намек на те же обстоятельства он сделал в марте следующего года. По его словам, он не верил, что Эдуард может стать нормальным взрослым человеком. Поэтому Эйнштейн едва ли не желал сыну смерти — в точности как Милеве несколько месяцев назад: «Кто знает, может, было бы лучше, если бы он покинул этот мир до того, как по-настоящему узнает жизнь».
Далее в том же письме Эйнштейн возлагает на себя вину за психическую неустойчивость сына: «Я виноват в том, что он такой, и я осыпаю себя упреками впервые в жизни». Эйнштейн объясняет, что недуг сына передался по наследству и что причина его — туберкулез лимфатических узлов, которым страдала Милева. В период, когда они зачали Эдуарда, он видел, что у жены увеличены лимфатические железы, но тогда он ничего не знал об этом заболевании. «Теперь несчастье налицо, и оно было неизбежным. Выход один: терпеть и не жаловаться. Мы должны ухаживать за больными и утешаться, глядя на здоровых».
Этот отрывок написан как самообвинение, однако в нем Эйнштейн делает акцент на собственном {240} неведении. Подоплека цитируемого высказывания — желание снять вину с себя и возложить ее на Милеву. Состояние Эдуарда и связанные с ним проблемы вызывали у Эйнштейна отвращение, и выход из сложившейся ситуации он предоставил искать друзьям. Профессор Цангер предложил отправить Эдуарда на длительный срок в детский санаторий. Эйнштейн согласился, но не удержался от замечания, что ему больше по душе древнеспартанские методы воспитания детей. Со временем он все больше и больше раздражался из-за цены лечения и все больше утверждался в мнении, что тепличные условия и хлопоты врачей принесут сыну больше вреда, чем пользы. «Тете должен вернуться домой: я больше не могу за него платить, — пишет он Бессо в ноябре 1917 года. — Я не верю в возможности рентгеновских лучей, в эту новую медицинскую магию. Я дошел до состояния, когда доверие мне внушает только диагноз post mortem».
Через несколько дней Эйнштейн пишет Пантеру, что современная медицина — это заразный недуг, которым страдает человечество, и что он не желает, чтобы его сын провел детские годы «в чем-то вроде дезинфекционной камеры». По иронии судьбы он сам в этот же период перенес тяжелый физический и нервный срыв, его состояние сильно напоминало состояние Милевы. Нервное перенапряжение было вызвано не только его разрывом с женой, но и тем, что он чудовищно перегрузил себя работой. Общая теория относительности сделала его триумфатором, но вместо того, чтобы дать себе отдых, он написал в 1916 году десять научных статей и книгу по теории относительности, рассчитанную на широкого читателя. К этому следует прибавить трудности жизни в воюющей стране и давние неприятности с желудком, которые он приписывал тяготам своей студенческой жизни. Бремя этих обстоятельств оказалось слишком тяжелым.
Эйнштейна мучили сильнейшие боли во всем теле, за два месяца он потерял в весе двадцать с лишним килограммов. Сначала он боялся, что у него {241} рак, но врач диагностировал желчно-каменную болезнь и прописал лечение минеральными водами, а также строгую диету. Преданный и незаменимый Цангер помогал доставать нужные продукты, тем же занималась берлинская родня, используя свои связи на юге Германии. Врач настаивал на лечении минеральными водами на курорте Тарасп, но Эйнштейн отнесся к этому так же скептически, как к санаторному лечению сына и предпочел поехать к родным в Люцерн, что было куда дешевле. Со временем диагноз пересмотрели в пользу язвы желудка, однако прошло несколько лет, прежде чем Эйнштейн полностью поправился. Когда он болел, его посетила Хедвига Борн, жена физика Макса Борна, и спросила, боится ли он смерти. «С какой стати? — отвечал Эйнштейн. — У меня так развито чувство солидарности со всеми людьми, что мне безразличны границы существования конкретного индивида».
Во время болезни Эйнштейн еще сильнее сблизился с Эльзой, окружившей его поистине материнской заботой. Летом 1917 года он переехал в соседнюю с ней квартиру, причем постарался внушить Бессо, что это была ее идея. Он хвалил Эльзины кулинарные таланты — ее стряпня помогала ему набрать потерянные килограммы — и неограниченно пользовался теми удобствами, какие ему обеспечивал достаток и связи ее семьи. Филипп Франк вспоминает, как навестил Эйнштейна в Берлине и получил приглашение отобедать в доме Эльзиного отца. Франк из вежливости отклонил приглашение, сказав, что во времена, когда продуктов не хватает, хозяева едва ли обрадуются нежданному гостю. Эйнштейн ответил: «Бросьте стесняться. Напротив, у моего дяди куда больше продуктов на душу населения, чем у среднестатистического немца. Сидя за его столом, вы способствуете восстановлению социальной справедливости».
Именно в этот день Франк впервые увидел Эльзу. Она восхваляла научные таланты Эйнштейна и в качестве примера привела его умение ловко открывать экзотические банки с консервами, из которых {242} в значительной мере состоял их рацион. В период, когда берлинцы голодали, она ухитрялась добывать для Эйнштейна свежие яйца и масло, он ел их каждый день. Эйнштейн мог по-прежнему потворствовать своей слабости к хорошему табаку: он получил в подарок сто отменных сигар. Это был «уникальный случай в наше-то время», Эйнштейн обрадовался ему как ребенок, писала Эльза Полине.
Нет никаких свидетельств в пользу того, что Эйнштейн был по-прежнему безумно влюблен в свою кузину. Напротив, если верить его собственным словам, он старался избегать любых страстей. Он уверял Милеву, что не намерен отказываться от холостяцкого образа жизни, «который оказался для меня настоящим благословением». В отношении замкнутости и самодостаточности он уподоблял себя нефтяному пятну, плывущему по воде. «Я понял, насколько неустойчивы все человеческие отношения, — писал он Цангеру, — и научился изолировать себя как от излишнего тепла, так и от холода, мой температурный баланс теперь вполне устойчив».
Но за Эльзины заботы нужно было платить, а она твердо решила заполучить Эйнштейна в мужья. В начале 1918 года он, уступив ее требованиям, вновь попросил у Милевы развода. В соответствии с семейной легендой, он пообещал Милеве, что «всегда будет ей верен — по-своему».
Он обратился к Милеве тогда, когда она была особенно уязвима. Ее выздоровление затянулось, и в конце 1917 года к ней в Цюрих приехала младшая сестра Зорка, чтобы помогать по хозяйству. Но у Зорки вскоре проявились признаки тяжелой депрессии, и в феврале 1918 года Цангер сообщил Эйнштейну, что ее придется поместить в психиатрическую лечебницу. В следующем письме сказано, что Зорка лечится в психиатрической клинике Бюргольцли, в Цюрихе (впоследствии ее пациентом окажется и Эдуард.) И в довершение всех несчастий Милевы ее брат Милош, служивший медиком в австрийской регулярной армии, попал в русский плен. Сердце у нее было разбито, она ослабела от длительной {243} болезни и страданий и больше не могла сопротивляться. Начались переговоры об условиях развода.
Одним из людей, принимавших участие в бракоразводном процессе, был берлинский коллега Эйнштейна Фриц Габер. У него были причины сочувствовать обоим супругам: в трагической истории его первого брака и в истории семейной жизни Эйнштейнов было много общего. Подобно Милеве, возлюбленная Габера Клара Иммервагр была его коллегой — она первой из женщин получила докторскую степень по химии в университете Бреслау. Подобно Милеве, она была тихой и непритязательной, слегка шепелявила, что подчеркивало ее природную застенчивость. Она тоже была женщиной мыслящей и идейной. Когда Габер опубликовал свою основную работу о газах, он посвятил ее жене с благодарностью за «безмолвное сотрудничество». Они работали дома бок о бок, за разными столами — Клара делала выкладки для мужа и тщательно проверяла его результаты.
Вскоре, однако, все пошло прахом. Габер был таким же невнимательным мужем, как Эйнштейн — он вполне мог сесть в поезд, забыв, что Клара осталась ждать его у железнодорожной кассы. Уход за ребенком также отнял у Клары немало сил — она стала менее одухотворенной, более заурядной. У нее начались депрессии, она, как и Милева, перестала следить за собой, сделалась толстой, неопрятной и непривлекательной. «Глубокая привязанность, порожденная общностью образования, целей и интересов, сменилась летаргией чувств, супруги всего лишь терпели друг друга, отчуждение между ними нарастало». Их отношения закончились трагедией. Кларе Габер казалось недопустимым, что ее муж изобретал отравляющие газы, и когда он уехал на Восточный фронт, чтобы лично наблюдать за их применением, Клара покончила с собой.
Возможно, помогая Эйнштейну пройти через бракоразводный процесс, Габер надеялся, что так он хоть немного избавится от мучивших его призраков прошлого. Возможно, он также чувствовал свою {244} ответственность за происходящее: он способствовал переезду Эйнштейна в Берлин и тем самым ускорил наступление кризиса в отношениях между супругами. Вначале он приложил много усилий, чтобы примирить их, но вскоре признал поражение и тогда задался целью добиться для Милевы «по возможности наилучших условий развода». Также в пользу Милевы действовал неутомимый Бессо, выступавший, когда это требовалось, в качестве посредника. В мае 1918 года Эйнштейн был вынужден признать, что его жена ведет себя «очень достойно» и они общаются «в совершенно дружелюбном тоне». «Я отдаю себе отчет, что мои прежние жесткость и нетерпеливость во многом осложнили ситуацию», — писал Эйнштейн.
При разводе наиболее щекотливой проблемой было улаживание финансовых вопросов. По собственному признанию Эйнштейна, сделанному в мае 1917 года, его годовой доход после уплаты налогов составлял 13 000 рейхсмарок. Из этой суммы 7 000 он посылал Милеве и 600 марок отдавал матери. В январе 1918 года он утверждал, что за минувший год отправил Милеве 12 000 марок, то есть практически весь свой чистый заработок. С учетом всех «нерегулярных и непредвиденных» выплат Милеве и детям, Эйнштейну, по его словам, грозила опасность растратить все свои сбережения и не иметь возможности обеспечить будущее своих детей.
Козырем Эйнштейна стала Нобелевская премия по физике. Если жена не будет чинить препятствий к разводу, деньги, вручаемые Нобелевскому лауреату, отойдут к ней и полностью обеспечат и ее будущее, и будущее детей. Если нет, она не получит ничего сверх 6 000 швейцарских франков в год — суммы, которую Эйнштейн считал разумным и возможным ей выделить. Предлагая Милеве нобелевские деньги, Эйнштейн вовсе не хотел, как считают многие, отметить ее вклад в создание теории относительности — он просто хотел получить развод удобным для себя способом. Денежный эквивалент премии, выплачиваемый в шведских кронах, {245} соответствовал сумме в 180 000 швейцарских франков, причем эта валюта была устойчива, в отличие от падавшей немецкой марки, которую Эйнштейн использовал для предыдущих выплат. Но оставалась одна проблема: Эйнштейн еще не получил Нобелевской премии.
Нобелевский комитет отличался консервативностью и не хотел присуждать премию за теорию относительности: она все еще оставалась спорной, и не была достаточно подтверждена экспериментальными данными. Эйнштейн стал Нобелевским лауреатом очень нескоро, только в 1922 году. Ему досталась премия, оставшаяся неврученной в 1921 году, и получил он ее не за теорию относительности. По иронии судьбы, он получил ее за открытие законов фотоэлектрического эффекта, то есть за теорию, выводы из которой, позднее сделанные другими учеными, вызывали у него раздражение всю оставшуюся жизнь.
Эйнштейн настолько в себя верил, что уже в 1918 году не сомневался, что станет обладателем Нобелевской премии. Милева подобных сомнений тоже не испытывала — и ее вера в Эйнштейна оставалась неколебимой. Начиная с 1910 года, когда Эйнштейн был впервые выдвинут на Нобелевскую премию, его имя только два раза не фигурировало в списках кандидатов, однако когда обсуждались условия развода, ни Эйнштейн, ни Милева не могли поручиться, что он действительно станет обладателем нобелевских денег. Но оба полагали, что это только вопрос времени. Пока же оно не пришло, Эйнштейн обязался регулярно выплачивать Милеве определенные суммы.
В бумагах, представленных на рассмотрение суда, Эйнштейн был вынужден признать, что совершил супружескую измену. В них также упоминались яростные стычки между супругами, делавшие совместное проживание невозможным. Он писал Бессо, что бракоразводный процесс изрядно развлекает всех, кто в курсе его дел, и что ему очень надоела возня с пересылкой документов из Берлина в Цюрих и {246} обратно. Однако эти хлопоты не остались без вознаграждения. Имеется расписка Эйнштейна, подтверждающая, что в декабре 1918 года он получил в дар от Эльзиного отца пакет акций, выпущенных, в частности, железной дорогой Босния-Герцеговина. Как кажется, Эльзин отец медлил с вручением этого подарка, дожидаясь, когда будут оговорены все условия развода. В расписке сказано, что в случае смерти Эйнштейна акции снова становятся собственностью Эльзы.
Суд признал Милеву и Эйнштейна разведенными 14 февраля 1919 года. Эльза и Эйнштейн выждали требуемое приличиями время и 2 июня зарегистрировали брак. Это произошло в одном из берлинских бюро записи актов гражданского состояния, и событие отметили так же скромно, как начало неудачного брака Эйнштейна с Милевой. Впрочем, через несколько месяцев вся жизнь Эйнштейна совершенно изменилась.
| {247} |
В период брака с Милевой Эйнштейн был известен только среди физиков. Однако прошло несколько месяцев после его женитьбы на Эльзе, и он стал мировой знаменитостью. Он вызывал благоговение у людей, имевших самое смутное представление о сути его открытий. Он первый стал символом великого ученого для массового сознания, он стал суперзвездой.
Своей внезапной славой Эйнштейн обязан сочинителям эффектных заголовков для английских и американских газет. «Революция в науке», «Новая теория строения вселенной», «Ниспровержение механики Ньютона» — захлебывалась лондонская «Тайме» 7 ноября 1919 года. «Лучи изогнуты, физики в смятении. Теория Эйнштейна торжествует», — объявила «Нью-Йорк тайме» двумя днями позже. Научные экспедиции, базировавшиеся в Собрале, деревне на севере Бразилии, и на острове Принчипе в Гвинейском заливе, зафиксировали искривление звездных лучей вблизи Солнца — факт, предсказанный общей теорией относительности. Когда об этом доложили в Королевском обществе в Лондоне, сообщение произвело фурор. Президент Королевского общества объявил теорию относительности высочайшим достижением человеческой мысли.
Абрахам Пейс назвал эти события «началом эйнштейновской легенды». То, что в Лондоне никто не мог изложить идеи Эйнштейна на языке, отличном от математического, значения не имело. Люди устали от войны, им хотелось отвлечься, и теория относительности стала темой номер один, сенсацией для массового читателя. Искривленное пространство {248} и отклонение световых лучей были у всех на устах, эти слова, что бы они ни значили, завораживали публику. Всякому, кто когда-либо смотрел на ночное небе, оно казалось волшебным и полным тайн, и вот внезапно эти тайны оказались раскрытыми. В концепции мира, предложенной Эйнштейном, почти все было не таким, каким казалось, это соответствовало смятению и растерянности, царившим в то время в умах людей. Вместе с тем теория знаменовала торжество человеческой логики, она была гимном разуму, прозвучавшим после бессмысленного варварства войны. Эйнштейн не был единственным человеком, искавшим в науке возможность скрыться от темных и иррациональных сил.
Разумеется, репортеры ринулись выяснять, какой человек стоит за новой сенсацией. И обнаружили, что им необычайно повезло. Вместо типичного седовласого академика их взору предстал эксцентричный тип со всклокоченными волосами, дерзким обаянием и чувством юмора, переходящим в сарказм. Эйнштейн оказался эффектной и колоритной фигурой, он был фотогеничен, и вскоре представители прессы при каждом удобном и неудобном случае стали забрасывать его вопросами на самые неожиданные темы. «От меня хотят статей, заявлений, фотографий и пр., — писал он на Рождество 1919 года. — Все это напоминает сказку о новом платье короля и отдает безумием, но безобидным». Он вскоре ощутил себя Мидасом, но все, к чему он прикасался, обращалось не в золото, а в газетную шумиху.
Средства массовой информации создали Эйнштейну имидж мудреца и оракула, и теперь его внимания домогался весь мир. В течение следующих десяти лет он побывал в Скандинавии, в Соединенных Штатах Америки, в Японии, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке, в Южной Америке и в Великобритании, где известный лондонский эстрадный театр «Палладиум» предложил ему сцену, чтобы он три недели вел собственную программу, а дочь лорда Холдейна, под чьим кровом Эйнштейну {249} предстояло жить, при встрече с ним упала в обморок. Во время поездки в Женеву его осаждали толпы молодых девиц, одна из них даже попыталась вырвать у него прядь волос. В его честь называли сигары, младенцев, телескопы и башни, непрерывным потоком шли письма. Этому не суждено было иссякнуть никогда. Кто только не писал Эйнштейну: доброжелатели, религиозные психопаты, шарлатаны, просившие денег, общественные организации и движения, искавшие его поддержки, школьники и, наконец, одна маленькая девочка, задавшая вопрос: «А вы действительно есть?»
Эльза грудью встала на защиту Эйнштейна от этого безумного натиска любопытствующей публики. Она превратилась в смесь генерального распорядителя и сторожевой собаки, она составляла график его встреч и выступлений и избавляла его от нежелательных посетителей. Она, стоя в дверях, долго и подозрительно рассматривала каждого нового гостя в лорнет и резко спрашивала, какого рода дело его сюда привело. Ее свирепость нагоняла страх, и один из постоянных посетителей сравнил ее с Цербером — трехглавым псом, охраняющим вход в преисподнюю. «Не обращайте внимания на резкость фрау Эйнштейн, — сказал ее муж одному из физиков, желавших нанести ему визит. — Она старается меня защитить».
Дом номер пять, где жили Эйнштейн и Эльза, находился на засаженной деревьями улице Хаберландштрассе, в Баварском квартале Берлина. Какой-то посетитель назвал само здание «на редкость уродливым», но их квартира была обставлена непритязательно и приятно. Как бы в память о детском прозвище Эйнштейна большая гостиная называлась комнатой Бидермайера — честного простака — из-за своей тяжелой, несколько мещанской и очень надежной деревянной мебели. Первым, что обращало на себя внимание в гостиной, был громадный рояль, на котором Эйнштейн держал футляр от своей скрипки; балконом в этой комнате пользовались редко, {250} но через его застекленную дверь в гостиную лились потоки света. В квартире была небольшая темноватая столовая для семейных трапез с массивным, во всю стену, сервантом, и библиотека со стеллажами под потолок. На стенах висели картины, полки были заставлены фарфором, на подоконнике стоял аквариум с золотыми рыбками. Обстановка не отличалась оригинальностью, но создавала столь милый сердцу Эльзы уют.
По-видимому, жизнь в этой квартире была для Эйнштейна возвращением в детство. Говоря словами мужа его падчерицы, Рудольфа Кайзера, здесь царила та атмосфера «обывательского достатка и благополучия», в которой Эйнштейн вырос. И теперь, и тогда вокруг него были не бедность и не богатство, но основательность быта и буржуазный комфорт. И теперь, и тогда это давало Эйнштейну как чувство защищенности, так и безопасный повод для бунтарства. Филипп Франк считал, что его друг оставался «чуждым» своему новому окружению, «богемным гостем в доме представителей среднего класса». На самом деле Эйнштейн был в своей стихии.
Одной из первых обязанностей Эльзы стал уход за умирающей женщиной. Несколькими годами раньше мать Эйнштейна прооперировали по поводу рака желудка. В 1918 году боли возобновились, стало ясно, что болезнь Полины неизлечима. Она пожелала быть рядом с сыном и в начале 1920 года переехала в его новый дом, к Эльзе, чтобы провести там последние месяцы. Эйнштейн поставил ее постель в своем кабинете, он писал Цангеру, что «она из последних сил цепляется за жизнь, но выглядит неплохо». От морфия у нее уменьшались боли, но исчезало чувство реальности. В конце жизни сознание у нее помутилось. Как писал Эйнштейн Бессо, все это было очень тяжело и печально. Почти извиняющимся тоном он добавлял, что от волнения не может работать.
Честолюбие Полины подстегивало сына, в детстве и юности оно было для него одним из основных стимулов к развитию. Он охотно рассказывал ей {251} о своих успехах, в мае 1919 года отправил пачку газетных вырезок, «чтобы мама получила новую порцию пищи для своей материнской гордости, которая и так уже достигла немалых размеров». Когда Эйнштейн теоретически обосновал отклонение Меркурия, то первое, что он сделал, это открыткой известил мать об «отрадной новости». Теперь ее смертельная болезнь лишила его энергии. В конце января 1920 года он написал Максу Борну, что «положение (Полины) безнадежно и страдания ее невыразимы» и что, по-видимому, пройдет немало месяцев, прежде чем она обретет последний покой. Теперь он и не думал демонстрировать свое равнодушие к обыкновенным человеческим страстям и заботам, напротив, выражал зависть Борну, который умел над ними подняться.
«Все это уменьшает мою и без того ослабевшую жажду великих достижений. Вы же — совсем другой человек. У вашего маленького семейного клана есть свои трудности... А вы читаете лекции по теории относительности, чтобы выручить институт, и работаете над статьями так, словно вы одинокий и свободный юноша, живущий в блаженном уединении в собственной хорошо отапливаемой квартире, и никакие заботы отца семейства вас не волнуют. Как вам это удается?»
Полина Эйнштейн умерла в феврале 1920 года, много раньше, чем ожидал ее сын. Он писал Цангеру, что она претерпела «ужасающие мучения»; и «мы все в состоянии совершенного изнеможения. Вот когда спинным мозгом понимаешь, что такое узы крови. Передо мной словно выросла стена, я вижу только ее и никаких перспектив на будущее». Годом раньше он уверял своего друга Эрвина Фрейндлиха, что нет такого человека, чья смерть могла бы вывести его, Эйнштейна, из состояния равновесия. Теперь Кэте, жена Фрейндлиха, втайне злорадствовала, видя, что эти слова оказались пустым бахвальством. «Эйнштейн плакал, как плакал бы любой нормальный человек, — писала она. — И я поняла, что есть люди, которые ему по-настоящему дороги». {252} На следующий месяц он отправил письмо с соболезнованиями Хедвиге Борн, чья мать умерла от инфлюэнцы. «Я знаю, как это ужасно — видеть, как твоя мать страдает, и быть бессильным ей помочь, — писал Эйнштейн. — Все утешения тут бесполезны».
Однако чувства Эйнштейна к матери не утратили амбивалентности. Доктор Януш Плещ, который ухаживал за Полиной в период ее последней болезни и подружился с ее сыном, писал, что Эйнштейн был глубоко удручен состоянием матери, но не был совершенно поглощен своим горем. По-видимому, Плещ ощущал тайное неприятие и враждебность Эйнштейна к Полине. Когда в 1914 году умерла раздражавшая его всю жизнь тетушка Джулия, он признался Эльзе: «...пусть Бог меня простит, но я не испытываю по этому поводу никакой скорби». Теперь он по-настоящему страдал, особенно жгучей его боль делало чувство вины. Дата смерти Полины во многом символична. Семейная жизнь Эйнштейна с Милевой началась под знаком смерти его отца, начало семейной жизни с Эльзой омрачила кончина матери. Казалось, судьба намекала, что цена близости — смерть.
Хотя он и говорил Хедвиге Борн, что в подобной ситуации любые утешения бесполезны, он все же пытался к ним прибегнуть. «Жизнь стариков, тех, кто от нас ушел, продолжается в жизни младшего поколения, — писал он ей. — Разве теперь, после горестной утраты, вы не чувствуете этого сами, глядя на своих детей?» После смерти матери отношения с сыновьями стали занимать главное место в душевной жизни Эйнштейна; к тому же в результате второго брака он обзавелся двумя приемными дочерьми, которые взяли его фамилию еще до того, как он удочерил их официально. Эйнштейн относился к ним с нежностью, даже с любовью, но сторонним наблюдателям она не напоминала отцовские чувства. В конце концов дочери Эльзы приходились ему троюродными племянницами. {253}
Ильза, любимица матери, утонченная и привлекательная молодая женщина, умела превосходно поддерживать светский разговор и стильно одевалась. В 1924 году она вышла замуж за Рудольфа Кайзера, издававшего ведущий литературный журнал Германии, и переехала с ним в обставленный по последней моде дом, где они устраивали приемы для самого фешенебельного общества. Ильза часто бывала у матери, по Эйнштейн предпочитал проводить время в обществе ее младшей сестры. Марго, хрупкая и нервная девушка, была проще Ильзы и не так красива, не отличалась ее общительностью и светскостью. В 1930 году она вышла замуж за Дмитрия Марьянова, но осталась жить с матерью. Марго и Эйнштейн очень подружились, он всячески поддерживал ее намерение стать скульптором.
По словам Марьянова, Марго была столь застенчива, что, когда ее заставали врасплох нежданные посетители отчима, она «не один раз» пряталась под стол. Тот прикрывал ее скатертью, и она оставалась в своем убежище до ухода гостей. Согласно другим источникам, причина крылась не в застенчивости, а в собственнических чувствах Марго к Эйнштейну. Она открыто ревновала его к людям, которые слишком подолгу беседовали с ним, и выказывала при этом пыл, обычно ей совершенно не свойственный. Она отчаянно критиковала его, разумеется не на людях, за неряшливость в одежде и дурные манеры, даже беззлобно высмеивала. Эта деспотическая привязанность сильно напоминает чувство, которое испытывала к мужу ее мать. Когда Эльза состарилась, Эйнштейн чаще показывался на людях с Марго, чем с ней.
Подавленность, охватившая Эйнштейна после смерти матери, была созвучна общей атмосфере уныния, царившей в послевоенной Германии, однако он писал Цангеру, что его берлинские коллеги стали более приятными людьми, потому что после поражения самодовольства у них поубавилось. «Неудача делает людей куда более человечными, чем успех», — говорил он. Но Эйнштейн являл собой {254} подходящую мишень для озлобленности, скопившейся в униженной стране. Его начали травить, против него объединились антисемиты, научные противники и люди, не принимавшие его пацифизма. Его враги устроили беспорядки во время лекции, которую он читал в феврале 1920 года в Берлинском университете, а в августе в самом большом концертном зале Берлина прошел массовый митинг, единственной целью которого была дискредитация его идей. Проведение митинга оплачивала новая организация, именовавшая себя «Группой по изучению немецкой натурфилософии», в нее входил Филип Ленард, чьими лекциями Милева когда-то восхищалась. Эйнштейн окрестил эту организацию «антирелятивистской компанией». Присущее ему своеобразное чувство юмора проявилось в том, что он пошел на собрание группы и, сидя в ложе, аплодировал и смеялся, когда его поливали грязью со сцены.
Эйнштейн сказал своим друзьям, что зрелище его очень развлекло, но его тайная ярость нашла выход в статье, которую он написал для местной газеты. Обдавая презрением своих критиков, которые, как он полагал, были недостойны его ответа, Эйнштейн утверждал, что они никогда не раскрыли бы рта, будь он «чистокровным немцем, со свастикой на рукаве или без оной». Он был оскорблен, и его реакцию по-человечески можно понять, но она публично продемонстрировала, сколь тонка броня его спокойной самодостаточности.
Статья вызвала удивление и смущение в кругу его друзей. «То, что люди еще способны огорчить и рассердить вас до такой степени, что ваше душевное спокойствие оказывается поколебленным, не соответствует вашему образу, который я ношу в тайном святилище своего сердца», — написала ему Хедвига Борн. Эйнштейн, напоминает она, говорил ей об уходе от грубости, несовершенства и суеты обыденной жизни в уединенный храм науки. «Итак, если теперь сточные воды жизни лижут ступени вашего храма, закройте дверь и засмейтесь. Просто скажите себе: «В конце концов, я не зря вошел в этот храм. {255} Не поддавайтесь злобе, оставайтесь по-прежнему святым в храме». Этому совету Эйнштейн пытался следовать всю жизнь. Но, как он признавался супругам Борн: «Все мы вынуждены время от времени приносить жертвы на алтарь глупости, чтобы порадовать и это божество, и человечество».
Быт мужа Эльза организовала таким образом, чтобы он мог проводить в одиночестве столько времени, сколько захочет. Спальни у них были в разных концах квартиры, Эльза объясняла это тем, что Эйнштейн «невероятно громко» храпит и спать с ним рядом невозможно. Если он выходил из своей комнаты ночью, то, как правило, отправлялся на кухню с кафельными стенами, где импровизировал на скрипке, наслаждаясь хорошей акустикой. Днем он мог уединиться в маленькой угловой башенке, которая, по словам Рудольфа Кайзера, «обеспечивала полное уединение, а следовательно, независимость». Горничной было позволено раз в неделю, в отсутствие хозяина, стирать пыль с книг, но Эльза не имела право переступать порог кабинета. Ее это обижало, пишет Плещ, но «Эйнштейн оставался непреклонным: независимость прежде всего».
Плещ характеризует своего друга как человека, «фанатично отстаивавшего» свою независимость вплоть до того, что членам его семьи, и Эльзе в первую очередь, не разрешалось применительно к себе и к нему использовать местоимение «мы». Янушу Плещу казалось, что смысл первого лица множественного числа просто не доходил до Эйнштейна. Плещ только один раз видел Эйнштейна в ярости: это случилось, когда с губ Эльзы нечаянно сорвалось запретное слово. Он, чьи письма к Милеве пестрели словами о работе, которую «мы» сделаем, и о жизни, которую «мы» будем вести, не позволял своей второй жене сказать ни слова от имени «их». «Говори о себе или об мне, но о нас — не смей», — одернул Эльзу Эйнштейн. Насколько большое значение он этому придавал, видно из стихотворения, найденного среди его бумаг: {256}
|
Нелепое «мы» меня ставит в тупик: Ведь к ближнему в душу никто не проник, Любой договор недомолвки таит, За внешней гармонией хаос сокрыт. |
Ту же мысль Эйнштейн высказывает в замечательно сдержанном отзыве о своей биографии, принадлежащей перу Рудольфа Кайзера и посвященной Эльзе. Книга, на его взгляд, «написана настолько хорошо, насколько вообще ее мог написать автор, который волей-неволей остается самим собой и который не более, чем я, способен слиться с другим человеком». Но при этом он делает оговорку: «Если что-то в данной биографии и упущено, то оно относится к области иррационального, противоречивого, странного и даже безумного».
Эльза редко называла Эйнштейна Альбертом. Говоря о нем, она употребляла слова «мой муж», «мой супруг» или, изредка, «профессор». Но чаще всего из ее уст звучала его фамилия: «Эйнштейну нужно то-то», «Эйнштейну требуется то-то». Несмотря на эту существовавшую между ними дистанцию, он находился в полной зависимости от Эльзы. Она даже выдавала ему деньги на карманные расходы, зная, что, если ему доверить большую сумму, он, повинуясь первому душевному порыву, может отдать ее как откровенному мошеннику, так и на доброе дело. В воспоминаниях об Эйнштейне Плещ рисует нам портрет ребенка, во всем зависящего от матери:
«Ум его не ограничен ничем, и тело, соответственно, не подчиняется никаким заранее установленным правилам: он спит, пока его не разбудят; он бодрствует, пока ему не скажут, что пора спать; аппетит к нему приходит, когда ему подают кушанье, и тогда он может есть, пока его не остановят. Я помню, что ему неоднократно случалось съесть от пяти до десяти фунтов клубники за один присест... Поскольку Эйнштейн, как кажется, не испытывает обычных желаний, а именно: есть, спать и пр., — за ним нужно присматривать как за малым ребенком. Со второй женой ему очень повезло». {257}
Складывается ощущение, что Эйнштейну было приятнее всего существовать в некоем трансе, и он охотно возлагал на других заботы о своих житейских нуждах. Как вспоминает Марьянов, обычно обед в его доме начинался с того, что Эльза с трудом отрывала Эйнштейна от работы, окликая его все более и более требовательным тоном. Профессор появлялся в столовой, погруженный в размышления, он что-то протестующе бормотал себе под нос и шел к столу, как лунатик. Перед ним ставили тарелку с супом, он ритмичными движениями механически подносил ложку ко рту и опускал ее, а когда к нему обращались с вопросом или пытались вовлечь в общую беседу, рассеянно тряс головой. То, что ему подавали, он съедал молча, без комментариев. Казалось, его ум блуждает в далеких пространствах и никак не может вернуться в тело. А оно было всецело предоставлено заботам Эльзы.
Эльза писала, что порой Эйнштейн, погруженный в мысли, не замечая ее, рассеянно бродил по квартире. Он уходил в свой кабинет, возвращался, иногда подходил к роялю, в задумчивости брал несколько нот и снова отправлялся в кабинет. В такие моменты Эльза старалась не попадаться ему на глаза или уходила из дома; тогда она оставляла на столе какую-нибудь снедь, чтобы Эйнштейн, вернувшись на грешную землю, мог перекусить. Ее муж напоминал мальчика, заблудившегося в мире грез, он мог выйти под дождь без плаща и шляпы, потом вернуться и неподвижно стоять на лестнице. Плещ рассказывает, что однажды, когда Эйнштейн возвратился из зарубежной поездки, Эльза открыла его чемодан и обнаружила, что вещи в нем очень аккуратно и заботливо уложены. Она справедливо решила, что здесь не обошлось без заботливой женской руки, и стала с пристрастием допрашивать мужа, кто окружил его таким вниманием в се отсутствие. Эйнштейн сначала слегка смутился, потом признался, что заботливая женская рука принадлежит самой Эльзе. Она уложила чемодан перед отъездом, и он его с тех пор ни разу не открыл. {258}
Жилось Эльзе нелегко, так как она стала в Берлине объектом язвительной критики. О ней злословили, говорили, что она в силу недостаточного интеллектуального развития недостойна быть спутницей Эйнштейна. Ее упрекали в том, что она мешает посещать мужа его коллегам-ученым, предпочитая им знаменитостей из мира политики и искусства. Обвиняли и в том, что она греется в лучах его славы, но не ценит по-настоящему его внутреннего величия. Все это было несправедливо. Филипп Франк писал: «Окружающие были склонны смотреть на нее чересчур критически и, словно чтобы компенсировать дань уважения, которую нехотя платили ее мужу, обрушивали на нее те упреки, которые на самом деле желали бы высказать ему».
Эльза никогда не претендовала на то, что понимает теорию относительности. На вопросы любопытных отвечала: «Мне не обязательно разбираться в ней, это не нужно для моего счастья». Но все было не так просто. Ее подруга Антонина Валлентен полагает, что она раздражалась и даже чувствовала себя униженной, поскольку ее неосведомленность в физике люди принимали за глупость. Валлентен писала: «Благодаря своему быстрому уму Эльза, конечно, могла бы хоть краешком глаза заглянуть в тот мир, где жил ее великий муж, но она сознательно от этого воздерживалась, и Эйнштейн был благодарен ей за то, что она сохраняла между ним и собой эту демаркационную линию». Подруга Эльзы, вероятно, переоценивает ее интеллектуальные возможности, но в приведенном здесь высказывании есть доля истины.
Валлентен полагает, что Эйнштейн с легким сердцем эксплуатировал Эльзу, то есть сваливал на нее самые неприятные дела. Приказы избавляться от нежеланных посетителей отдавал он, а отражать их натиск ей приходилось в одиночку. Когда он хотел, он отменял распоряжения своей жены, давал непредусмотренное интервью или неожиданно принимал полученное приглашение. {259}
Его дом на Хаберландштрассе действительно посещали многие знаменитости, не принадлежащие к миру науки — от Чарли Чаплина до Генриха и Томаса Маннов, но эти визиты были возможны только потому, что доставляли удовольствие самому Эйнштейну. Однако ту невинную радость, которую получала от них Эльза, ей ставили в упрек. Валлентен не раз подчеркивает, что она была во многих отношениях очень робкой женщиной, и в отличие от застенчивости Эйнштейна, ее собственная «не компенсировалась чувством удовлетворенности собой». Плещ считает, что Эльза «намеренно держалась в тени, на заднем плане, и никогда по доброй воле не оказывалась в центре внимания».
Существует тенденция обвинять Эльзу в том, что на самом деле было присуще самому Альберту Эйнштейну. Речь идет о его отношении к славе, которое не было однозначным. Ему искренне не нравилось постоянное внимание средств массовой информации, и он пренебрежительно отзывался о связанных со славой церемониях. Например, от торжественных официальных обедов Эйнштейн отказывался, называя их «часом кормления зверей в зоопарке». Но слава — наркотик, и к нему привыкают. Ганс Альберт считал, что его отец был склонен к актерству, то есть нуждался в публике, и через много лет вспоминал о том, как они вдвоем путешествовали по американской глубинке, где Эйнштейна никто не узнавал. Сначала это его очень веселило, потом стало огорчать и нервировать. Эйнштейну нравилось внимание общества к его особе, он любил, чтобы его слушали, и резко отзывался о собственной популярности скорее всего потому, что стыдился своего тайного тщеславия.
Эта амбивалентность проявилась особенно ярко в период его контактов с писателем Александром Мошковским. Эйнштейн дал ему несколько интервью, которые были впоследствии объединены в книгу, изданную в 1921 году. Для Эйнштейна, которому было приятно, что его суждения имеют общественный {260} вес, это была небольшая поблажка по отношению к себе. Но друзья его пришли в ужас, потому что «Антирелятивистская компания» неоднократно упрекала его в саморекламе. Друзья поспешили свалить вину за происходящее на Эльзу, убежденные, что это она из любви к славе сбивает с пути истинного своего мужа-небожителя. Хедвига Борн незамедлительно отправила Эйнштейну письмо с требованием взять обратно свое разрешение на публикацию («и, более того, сделать это срочно и заказным письмом»). Она объяснила:
«Если бы я не знала вас так хорошо, я бы отнеслась к вам, как к любому другому человеку, то есть не сочла ваши мотивы безупречными. Я бы решила, что подоплека происходящего — тщеславие. Эта книга с моральной точки зрения подписала бы вам смертный приговор в глазах всех, за исключением четырех-пяти ваших друзей. И она была бы наилучшим подтверждением для бросаемых вам обвинений в саморекламе... Дорогой друг, пожалуйста, поскорее снимите с нас это бремя... Я никогда и ни с кем не буду обсуждать нынешнюю ситуацию, потому что я более чем достаточно наслышана о том, как вы не любите, когда женщины вмешиваются в ваши дела. «Дело женщин — стряпать и только»; но иногда случается, что они и сами кипят от негодования».
В последнем предложении — игра слов, основанная на немецком «стряпня» («kohen») и вскипать («über-kohen»). Но какие бы иллюзии Хедвига Борн ни питала относительно тщеславия Эйнштейна, по поводу его отношения к противоположному полу она не заблуждалась.
Муж Хедвиги Макс поддержал ее атаку на Эйнштейна и выбрал такой же, как у жены, тон родительского наставления. Он извинился, что вмешивается в чужие дела, но написал Эйнштейну: «Вы этого не понимаете, в таких делах вы ребенок. Мы все вас любим, и вам стоит прислушаться к мнению здравомыслящих людей (но никак не вашей жены)». Ответ Эйнштейна очень характерен. «Вся эта история мне совершенно безразлична, равно как любая суета и мнение всех и вся, — отвечал он. — Поэтому {261} мне ничего не грозит». Однако показательно то, что Эйнштейн пообещал не допустить выхода книги. Несмотря на предпринятые им усилия, книга под названием «Эйнштейн: поиски и исследования» все же увидела свет. Когда Ганс Альберт купил ее в Цюрихе, отец рассердился. Он потребовал, чтобы сын обменял ее на что-нибудь другое и чтобы в будущем советовался с папой, прежде чем обзаводиться «чем-нибудь подобным»: «Я не смог предотвратить ее публикацию, и это меня очень огорчило».
Особый интерес представляет приведенное в книге мнение Эйнштейна касательно женского образования. Автор книги позволяет себе смелое замечание, что взгляды Эйнштейна по этому вопросу «отличаются терпимостью, но едва ли... он был горячим поборником женского образования».
«Как и во все другие области человеческой деятельности, — говорил Эйнштейн, — женщинам должен быть открыт доступ в пауку. Но прошу не понять меня превратно, если к возможным результатам женского образования я отнесусь с определенной долей скептицизма. По воле природы женщина такова, что сама ее организация чинит ей определенные препятствия и не позволяет нам возлагать на нее те же надежды, что на мужчину».
Согласно автору книги, Эйнштейн полагал, что высокие достижения в науке женщинам недоступны. Марию Кюри он воспринимал как «блистательное исключение, какие возможны и в дальнейшем без существенного изменения роли женщины в обществе». Однажды он даже взорвался: «Неужели природа могла создать половину рода человеческого без мозгов! Непостижимо!»
Мошковский считает это высказывание гротеском и ни в коем случае не советует принимать его всерьез. Это «шутливое преувеличение» всего лишь выражает уверенность Эйнштейна в том, что физическим различиям между полами соответствуют и различия в духовной и душевной организации. Женщины обладают тонкостью чувств, которая мужчинам недоступна, но достижения в науке определяются {262} «преобладанием умственного начала». Поэтому, писал Мошковский со слов своего великого собеседника, Кеплера или Галилея в юбке так же невозможно представить себе, как Микеланджело женского пола. Единственным утешением для прекрасных дам может служить то, что, хотя женщине не под силу дать миру дифференциальное исчисление, она смогла дать миру Лейбница и ей обязан своим существованием сам Кант.
По-видимому, взгляды Эйнштейна на творческий потенциал женщин выражены здесь достаточно точно. В письме к одной из своих поклонниц он отмечает, что изучение математики «всегда плохо сказывается на женщинах», потому что они не способны выдержать подобное напряжение. Хедвига Борн вспоминает, как он однажды сказал: «Что касается вас, женщин, то ваша способность создавать новое сосредоточена отнюдь не в мозге». Эйнштейн не был сторонником женского равноправия и писал своему сыну Эдуарду, что за права женщин борются только мужеподобные особы.
По иронии судьбы, в период, когда Эйнштейн так презрительно отзывался о реальном и потенциальном вкладе женщин в науку, его собственная научная продуктивность резко упала. После первой мировой войны он взялся за общую теорию поля. Он хотел вывести набор уравнений, описывающих одновременно и гравитационные, и электромагнитные поля. Тогда считалось, что все взаимодействия в природе могут быть сведены, в принципе, к электромагнитным и гравитационным, так что общая теория электромагнетизма и гравитации разрешила бы все загадки мироздания. Идея ее создания была безмерно притягательна для Эйнштейна с его благоговейной верой во вселенскую гармонию и порядок, а масштаб задачи соответствовал его представлениям о собственной высокой миссии. Его воображение поразила идея уроженца Германии, математика Германа Вейля, который предложил расширить общую теорию относительности, включив в нее электромагнитное поле, то есть описать электромагнитное {263} поле, подобно гравитационному, в терминах геометрии пространства. Этот замысел, хотя Эйнштейн и увидел в нем изъян, показался ему безмерно привлекательным с эстетической точки зрения.
Последовали годы напряженной работы, но его научная интуиция уже не была такой острой, как прежде. И он упорно игнорировал данные о том, что упомянутые два вида полей — не единственные существующие во Вселенной, внутри атома имеют место качественно иные взаимодействия. Даже в наши дни те, кто отдает должное героической попытке Эйнштейна найти общие законы, описывающие Вселенную, удивляются донкихотству его методов.
В 1929 году, незадолго до пятидесятилетия Эйнштейна, репортеры объявили, что он стоит на пороге очередного великого открытия. Публика жаждала подробностей, и когда вышла его очередная статья, она была полностью перепечатана в «Нью-Йорк Геральд Трибьюн». В Лондоне ее вывесили в витрине универмага «Селфридж», около которой собирались толпы. Все это было данью славе Эйнштейна, объяснялось гипнозом его имени, но на деле для непрофессионалов его тридцать три уравнения ничего не говорили: они описывали лишь несколько частных задач, и их применение было сопряжено с безмерными техническими трудностями.
На протяжении тридцатых годов Эйнштейн продолжал свои попытки достигнуть синтеза; его помощниками были Уолтер Майер, затем Питер Бергман и Валентин Баргман. Чего стоила шумиха, поднятая вокруг его изысканий, свидетельствует то обстоятельство, что во всем мире лишь очень незначительное число физиков вело изыскания в той же области. Другой великий ученый, Вольфганг Паули, обронил язвительную реплику о том, что упорство и изобретательность Эйнштейна сулят миру ежегодное рождение новой всеобъемлющей теории. «Представляется психологически интересным тот факт, — заметил Паули, — что какое-то время каждый создатель новой теории считает ее «окончательным решением». {264}
Стремление Эйнштейна во что бы то ни стало идти своим путем, которое в прошлом увенчалось таким блистательным успехом, теперь заводило его в тупик. Это был героизм безумия, и с тем же героизмом безумия он напрочь отвергал идеи квантовой механики. Более того, его желание разделаться с парадоксами этой науки, которые он сам же помог выявить, было одной из причин, подтолкнувших его заняться единой теорией поля.
В 1924 году француз Луи де Бройль с новых позиций взглянул на работу Эйнштейна о фотоэффекте, написанную в 1905 году. Эйнштейн предположил, что свет, то есть электромагнитные колебания (волны), одновременно представляет собой поток «частиц света» (квантов света, впоследствии названных фотонами). Де Бройль же сделал обратное предположение; по его концепции такие элементарные частицы, как электрон, обладают волновыми свойствами, то есть могут в каком-то смысле рассматриваться как волны. Далее немецкий ученый Вернер Гейзенберг показал, что в субатомном мире царит принцип неопределенности, поскольку точно указать одновременно скорость и положение частицы невозможно. Вы можете с точностью сказать, где она была или с какой скоростью двигалась, но либо то, либо другое. И дело тут не в технических трудностях. Неопределенность — это фундаментальный закон природы. Субатомный мир может быть описан только в терминах вероятности. Одно из основных понятий квантовой механики — это «волновая функция», величина, указывающая, с какой вероятностью событие имеет место в субатомном мире. С позиций квантовой механики любое событие в субатомном мире полностью описывается волновыми функциями участвующих в нем частиц.
В соответствии с так называемой копенгагенской интерпретацией квантовой теории, до того, как частица будет «остановлена» посредством акта наблюдения или измерения, для нее допустимо огромное количество состояний. Самой знаменитой иллюстрацией этой идеи служит придуманный Эрвином {265} Шредингером парадокс о коте, который может быть жив и мертв одновременно. Эйнштейн, стиснув зубы, боролся с этой неопределенностью («Бог не играет в кости» — таков его прославленный афоризм) и вел ожесточенные дискуссии с ведущим теоретиком-квантовиком датчанином Нильсом Бором. По иронии судьбы его возражения только помогли окончательному становлению новой теории, так как заставили ее сторонников прояснить не до конца обоснованные моменты. Но это противостояние еще больше удалило Эйнштейна от проблем, находившихся в центре внимания современной ему физики, ими занимались молодые мыслители, не отягощенные его предвзятостью. Абрахам Пейс писал, что друзья и коллеги Эйнштейна испытывали «чувство потери, чувство, что уважаемый ими полководец бросил их во время битвы». У Эренфеста даже как-то по щекам потекли слезы: так тяжело ему было говорить, что Бор прав, а его любимый друг Эйнштейн заблуждается.
Утрату лидирующего положения в науке Эйнштейн компенсировал для себя тем, что все активнее участвовал в общественной жизни, отдавая дань своему страстному политическому идеализму. Рост открытого антисемитизма в Германии обратил его симпатии к сионизму — движению, чьей целью было возвращение евреев на историческую родину. В 1921 году он вместе с Хаимом Вейцманом, в будущем — первым президентом Израиля, отправился в лекционное турне по Америке с целью сбора средств для еврейского университета в Палестине. Двумя годами позже он посетил Палестину и стал первым почетным гражданином Тель-Авива. Эйнштейн также выступал в поддержку коммунистического режима в Москве и даже помог основать организацию под названием «Ассоциация друзей новой России». Марьянов пишет, что особенно сильное впечатление на Эйнштейна произвел рассказ Марго о том, что в советской России искоренена проституция. Его воззрения иногда считают более наивными, чем они были на самом деле, но они часто не отличались {266} практичностью, а его участие в деятельности общественных организаций носило эпизодический характер. В 1922 году он вступил в Комитет интеллектуального сотрудничества, основанный при Лиге Наций. Он отказался от членства очень быстро, потом вошел в комитет снова, но почти не участвовал в его повседневной работе и в 1931 году порвал с этой организацией навсегда.
Одной из причин, по которой он в первый раз прервал свое членство в комитете, было инспирированное правыми силами убийство Вальтера Ратенау, министра иностранных дел Германии, еврея, пацифиста, его хорошего знакомого. Смерть Ратенау глубоко потрясла Эйнштейна и явилась еще одним свидетельством того, насколько отравленной становится атмосфера в стране, где он родился. Теми же реакционными и антисемитскими настроениями объясняется история, происшедшая с Эйнштейном, когда берлинский муниципалитет сделал попытку подарить ему загородный дом на берегу реки Хафель. Этот замысел увяз в трясине действительно существовавших юридических сложностей и некомпетентности чиновников, а потом подвергся яростным нападкам со стороны экстремистов, пытавшихся унизить Эйнштейна. В конце концов летом 1929 года он на свои средства приобрел участок земли поблизости от деревни Капут, под Берлином, и построил собственный дом.
Сестра Эйнштейна Майя гостила у него на вилле осенью 1930 года и написала одной своей приятельнице, что дом «обставлен со всеми современными выкрутасами, но с большим вкусом». Архитектурное решение виллы отличалось простотой, часть мебели прежде находилась в квартире на Хаберландштрассе. Комнаты были скромных размеров, за исключением одной общей, выходившей в сад. Спальня Эйнштейна одновременно служила ему и кабинетом, который был столь же священен и неприкосновенен, сколь его маленькая башня в Берлине. Холл, как и вся вилла изнутри, был отделан темным деревом, но не выглядел мрачным, так как {267} пол был выложен яркой плиткой в шахматном порядке. Падчерицы Эйнштейна любили отдыхать на солнечной террасе, сам же он предпочитал находиться в северной, затененной части дома.
Место для виллы было выбрано, по словам Майи, «просто великолепное». Она стояла на пригорке в лесу, с него открывался вид на соседнее озеро и на «все окрестные холмы». Одинокие прогулки по лесу доставляли Эйнштейну «несказанное удовольствие», а его богатые друзья в складчину купили ему великолепную яхту из красного дерева, которую он держал на реке, в эллинге у Плеща.
В этой маленькой лодке Эйнштейн мог побыть один. А мог и насладиться обществом близкого ему человека, побыть с ним или с ней вдали от визитеров и Эльзы. Майя пишет, что той осенью провела с ним много времени на воде. По ее словам, самые лучшие воспоминания о вилле Капут связаны у нее с прогулками на яхте, во время которых они с братом иногда оживленно разговаривали, иногда подолгу молчали. И просто радовались, что они вместе. Эйнштейн говорил Эдуарду, что время, которое он провел под парусами, было «великолепным и ни с чем не сравнимым», но настроение у него во время этих путешествий по реке бывало неровное. Как вспоминал один его знакомый, когда они втроем — он, Эйнштейн и Ганс Альберт — шли на яхте и Ганс Альберт «делал что-то, что казалось отцу ошибочным, Эйнштейн взрывался и обрушивался на гимназическое образование, которое, по его мнению, было совершенно бестолковым и служило причиной всех ошибок, совершаемых людьми во взрослой жизни».
Конрад Вахсман, архитектор, строивший виллу Капут, сблизился с семьей Эйнштейнов. Его воспоминания, недавно изданные на немецком языке, свидетельствуют, что отношения между супругами были в тот период достаточно напряженными. В семье часто случались скандалы, шли даже разговоры о том, чтобы разъехаться. Причина стычек была всегда одна и та же — женщин влекло к прославленному {268} на весь мир профессору, как стальные стружки — к магниту, пишет Вахсман, и Эйнштейн охотно откликался на их внимание. У него завязывались отношения с поклонницами, иногда кратковременные, очень редко — близкие, но неизменно уязвлявшие гордость его жены. Эйнштейн провоцировал у Эльзы такие же приступы ревности, за которые когда-то порицал Милеву. Она по нескольку дней почти не разговаривала с мужем, ограничиваясь в общении лишь самыми необходимыми словами, и ходила по дому с натянутой ледяной улыбкой.
Когда такое случалось, Эйнштейн либо замыкался в себе, либо удирал из дома к друзьям-мужчинам, чаще всею к Плещу или Максу Планку. В конце концов терпение у него истощалось, он взрывался, обрушивался на «ребяческое» поведение своей жены, и оба супруга угрожали друг другу разрывом отношений. Марьянов вспоминает, как он и Марго невольно оказались свидетелями подобного скандала. Они сидели в комнате, куда вошли захваченные очередной перепалкой Эйнштейн с Эльзой. «Он был возбужден и рычал, как лев, а да будет вам известно, что если Альберт, разозлившись, повышает голос, то его слышно во всех уголках дома».
Отношения мужа с прекрасным полом выросли в серьезную для Эльзы проблему далеко не в один день. Теория относительности вызвала сенсацию во всем мире, ореол славы сделал обаяние Эйнштейна неодолимо притягательным. Куда бы он ни пошел, он оказывался в центре внимания, преимущественно женского. У женщин вдруг возникала необъяснимая страсть к пауке, предмету, обычно нагоняющему на них сон. Каждая из дам просила, чтобы Эйнштейн изложил свою теорию лично ей, благо при этом она могла слушать его голос и видеть обращенный на нее взгляд. Один из участников званого обеда во Франкфурте вспоминает, как Эйнштейн после окончания трапезы принял участие в камерном концерте, и его тут же окружила толпа фанатичных поклонниц, которые наперебой осыпали его комплиментами. Одна из таких экзальтированных {269} особ ушла домой в полной уверенности, что Эйнштейн спиритуалист, потому что он верит «в четвертое измерение».
До поры до времени Эльза терпимо относилась к этому повышенному женскому интересу, он ее даже развлекал. Марьянов знал ситуацию изнутри, он подробно описывает, какие методы применяли светские дамы в охоте на Эйнштейна.
«Многие из них были очень красивы, и почти все они жаждали общения более близкого, чем то, на которое, в соответствии с условностями, претендовали в самом начале знакомства. Некоторые, чтобы добиться встречи с ним, прибегали к стратегическим уловкам, достойным штабных генералов, другие действовали с ошеломляющей прямотой. Так, одна дама, когда ее представили Эйнштейну, повернулась к Эльзе и без обиняков спросила: «Могу я поговорить несколько минут с профессором Эйнштейном?», давая понять, что присутствие Эльзы нежелательно. Эльза тактично ответила: «Да, конечно, можете, — и понимающе улыбнулась мужу». Он ответил ей улыбкой, потому что оба прекрасно поняли мотивы просительницы.
Эльза с исключительной деликатностью и тактом умела выходить из подобных положений, но не попадать в них было невозможно, и некоторые из них были для нее весьма неприятными.
Многие женщины пытались войти в жизнь Эйнштейна. Некоторые письменно обращались к нему с просьбами о короткой встрече, другие приносили цветы и оставляли их вместе с письмом и собственным адресом. Мы, домашние, воспринимали эти знаки внимания как пустые атрибуты славы, и только. Мне поклонницы Эйнштейна казались дамами, попавшими в наш век из эпохи романтизма с ее культом блистательных героев и полководцев».
По мнению Марьянова, все эти авансы оставляли Эйнштейна вполне равнодушным, потому что «у него не было темного пламени в крови», а свою «здоровую любовь к физическим удовольствиям» он реализовывал исключительно посредством прогулок {270} и занятий парусным спортом. Но имеются многочисленные данные, что Марьянов заблуждался. Не последнее место среди них занимает история Греты Маркштейн, немецкой актрисы, которая заявляла, что приходится Эйнштейну дочерью. Хотя эти слова и оказались ложью, ее отношения с Эйнштейном, как выяснилось, были куда более близкими, чем следовало из его слов.
Абрахам Пейс ссылается на письма Эйнштейна, относящиеся к началу 20-х годов и «доказывающие, что на протяжении нескольких лет он испытывал сильное чувство к женщине существенно младше него». Их роман закончился в последние месяцы 1924 года, когда он написал ей, что «вынужден искать в мире звезд то, в чем ему отказано на Земле». Но Пейс настаивает, что чувство это было очень глубоким и отношения с этой женщиной «были эмоционально богаче» отношений с Милевой. Ее ответные письма не доступны биографам, и Пейс не называет ее имени. Однако есть веские основания предполагать, что это была одна из первых секретарш Эйнштейна, Бетти Ньюмен, племянница его близкого друга, доктора Ганса Мюзама. Косвенным доказательством могут служить почерпнутые из писем Эльзы сведения о том, что Эйнштейн всерьез поссорился с Мюзамом, своим близким другом, который прежде навещал его чуть ли не каждый день и пользовался его особым доверием.
Вера, жена Хаима Вейцмана, которая сопровождала мужа и Эйнштейна в лекционном турне по Америке, писала о нем как о человеке «веселом и склонном к флирту». Эльза сказала миссис Вейцман, что не возражает, если Эйнштейн будет строить ей глазки, потому что интеллектуальные женщины ему по-настоящему не нравятся. Напротив, его тянет к женщинам, занятым физическим трудом, причем тяга эта основана «на жалости». Примерно то же пишет Януш Плещ, который отзывается о своем друге как о человеке «достаточно сексуальном» и в полной мере пользующемся своим природным обаянием. «Его интерес к женщинам не был {271} чересчур избирательным, — пишет Плещ, — но здоровое дитя природы привлекало его больше, чем утонченная светская дама». В качестве примера он приводит случай, когда Эйнштейн зашелся от восторга при виде девушки, месившей тесто. Эльза забеспокоилась, и только ее хитроумное вмешательство предотвратило их сближение. Плещ поделился своими наблюдениями с сыном, которому принадлежит куда более откровенное высказывание: «Эйнштейн любил женщин, и чем грязнее, чем примитивнее они были, чем больше от них пахло потом, тем больше они ему нравились».
Марьянов полагает, что физическая красота никогда не имела для Эйнштейна большого значения. Он соглашается с Эльзой, что чувства Эйнштейна к женщинам часто имели в своей основе жалость. На его взгляд, все женщины, которым удалось в той или иной степени сблизиться с Эйнштейном, были простушками. Этот факт с недоумением обсуждали его близкие. Марьянову казалось, что его тестя привлекали некрасивые женщины, потому что он испытывал к ним чувство сострадания. Однако, по другим сведениям, чувство сострадания вызывало у Эйнштейна в одинаковой мере и женское уродство, и женская красота.
Он как-то сказал одному своему знакомому, что вид молоденькой и хорошенькой женщины нагоняет на него грусть, так как напоминает о быстротечности жизни. Герта Валдоу, служившая у пего в горничных с 1927 по 1932 год, говорила: «Ему нравились красивые женщины, а они его просто обожали».
Валдоу была постоянной свидетельницей того, сколь мало тревожился Эйнштейн о соблюдении приличий. Например, он имел привычку выходить из ванны, не запахивая халата. И такую нескромность он проявлял не только в стенах собственного дома. Так, однажды он загорал, прикрыв плечи халатом, когда к нему подошла одна из его кузин, и он вскочил, чтобы с ней поздороваться; халат упал, открыв ее взору его наготу. Молодая женщина {272} покраснела, но Эйнштейн отнюдь не смутился. «Сколько лет вы замужем?» — спросил он. «Десять», — последовал ответ. «И сколько же у вас детей?» — «Трое». — «И вы до сих пор краснеете?» — насмешливо спросил он.
Герта Валдоу видела, что обстановка в семье достаточно тяжелая, и причиной тому были женщины; нескольких из них она хорошо знала. На концерты и в оперу Эйнштейна чаще всего сопровождала Тони Мендель, еврейка, богатая и элегантная вдова. Она дарила Эльзе шоколад и всякие лакомства, но Валдоу чувствовала, что «близкую дружбу» Тони с Эйнштейном его супруга терпит скрепя сердце. Перед их совместными вечерними выходами фрау Мендель заезжала за профессором в собственной машине, которую вел шофер, она же и оплачивала билеты. Но деньги на карманные расходы мужу по-прежнему выдавала Эльза, и неприятные сиены разыгрывались всякий раз, когда он просил жену о дополнительной сумме, связанной с его выходами в свет. Эйнштейн посещал роскошную виллу фрау Мендель на Ванзе и часто оставался там на ночь, до шести утра громко играя на рояле в музыкальной гостиной. Их дружба продолжалась и после прихода Гитлера к власти, когда они вынуждены были покинуть Германию, и он поселился в Принстоне, а она — в Онтарио. Валдоу также вспоминает, что Эйнштейна часто посещала Эстелла Каценелленбоген, богатая и элегантная владелица цветочного бизнеса, возившая его по городу в собственном дорогом лимузине.
Блондинка-австрийка Маргарет Лебах летом 1931 года каждую неделю приезжала к Эйнштейну на виллу. Она тоже возила в подарок Эльзе лакомства — испеченные собственными руками ванильные булочки. Хозяин дома в стихах воспел их дивный аромат, от которого «ангелочки поют в небесах». По словам Валдоу, Эльза предоставляла Лебах полную свободу в общении с Эйнштейном.
«Всегда, когда бы она ни приехала, фрау профессор отправлялась в Берлин с поручениями или по своим делам. Она уезжала в город рано утром и {273} возвращалась поздно вечером. Устранялась, так сказать. Австрийка была моложе, чем фрау профессор, была очень живая и привлекательная и не меньше, чем сам профессор, любила посмеяться».
Эйнштейн вдвоем с Лебах часто ходили на яхте по Хафелю, так что их отношения были секретом Полишинеля для людей, живших по соседству. Эльза была по горло сыта ванильными булочками, ее терпение грозило лопнуть. Герта подслушала крупный разговор Эльзы с дочерьми, предметом которого была австрийская захватчица. Эйнштейна не было дома, и горничная сквозь деревянную стену виллы слышала, как девушки требовали, чтобы мать либо добилась прекращения этих отношений, либо разъехалась с мужем. Падчерицы при этом называли Эйнштейна просто Альбертом, а не «папой Альбертом», как обычно. Эльза плакала, но на жесткие меры не соглашалась. Ее поездки в Берлин продолжались.
Однако Эльза чувствовала себя униженной, и это порой выливалось в неистовые приступы ревности. Однажды после прогулки на яхте Эйнштейн забыл взять оттуда на виллу какие-то носильные вещи, требовавшие стирки. Его услужливый помощник Вальтер Майер вызвался сходить за ними и принес узел с одеждой, а Эльза отправилась его разбирать. Очень скоро Эйнштейна позвали, и гости услышали достаточно резкий обмен репликами. Оказалось, что в числе вещей, принесенных Манером, был очень элегантный и очень открытый женский купальник. Майер подумал, что он принадлежит Марго. Конрад Вахсман, рассказывая об этом эпизоде, добавил, что купальник принадлежал «хорошей знакомой» Эйнштейна и что Эльза «дошла до белого каления». Не называя имени женщины, он продолжает:
«Ее приезды на виллу Капут тяготили домашних Эйнштейна и вызывали у них раздражение, во-первых, потому, что были предметом толков для жителей соседней деревни. По правде говоря, я понимал чувства Эльзы Эйнштейн, которую очень жалел, потому что каждый визит этой красивой женщины отравлял атмосферу на вилле на несколько дней». {274}
Эйнштейн шутил, что ему милее «молчаливый порок, чем хвастливая добродетель», однако сам по части любовных дел скрытностью не отличался. Они либо происходили на глазах у всех, либо он оставлял такие явные следы своих похождений, что жена без труда о них догадывалась. Другой эпизод, рассказанный Марьяновым, наводит на мысль, что Эйнштейн даже хотел, чтобы она о них знала.
«Когда я был на вилле Капут, мы вместе отправились на прогулку на яхте. Он поднял паруса, привел их к ветру и встал у руля. Мы лениво рассуждали на разные темы, и наконец разговор коснулся инцидента, который тревожил Эльзу так сильно, что это сказывалось на ее здоровье. Дело это было щекотливое, всем участникам лучше было бы о нем забыть. Я сказал ему: «Никогда больше не обсуждайте этого с Эльзой, Альберт. Для нее это слишком болезненный вопрос». Эйнштейн энергично закивал головой в знак согласия. Но по возвращении домой, едва мы успели переступить через порог, он, захлебываясь словами, как ребенок, которому необходимо поделиться с матерью, выложил Эльзе все то, о чем минуту назад решил умолчать. Я онемел от изумления...».
По словам Марьянова, позднее во время прогулки он упрекнул Эйнштейна, сказав, что эта исповедь сильно ранила Эльзу. Он помолчал, прошел еще несколько шагов, потом ответил: «Люди очень часто не знают причин своих поступков».
К старости Эйнштейн стал достаточно неприязненно высказываться о женщинах. Так, по свидетельству Плеща, он считал, что некая дама изводит «великого художника», которого он знал по Берлину, отнимает у него душевный покой и чувство независимости. Обсуждая как-то очередную ее зловредную выходку, Эйнштейн сказал: «Вы знаете, эту тварь я бы спокойно убил своими руками. Накинул бы ей петлю на шею и затягивал бы, пока у нее язык не вывалится». Эти слова он сопровождал выразительными жестами.
Также Эйнштейн весьма неодобрительно высказывался о священном институте брака. Он говорил {275} Плещу, что брак придумал «какой-то боров, лишенный воображения», а Конраду Вахсману, что брак — это «цивилизованная форма рабства». Молодой архитектор терпеливо выслушивал рассуждения о том, что единобрачие противоречит человеческой природе, что 95 процентов всех мужчин и, может быть, не меньшее число женщин отнюдь не моногамны по натуре и предпочли бы не ограничиваться одним партнером. Эйнштейн считал, что брак побуждает человека смотреть на другого как на свою собственность, а не как на свободную личность.
К этой своей излюбленной теме он часто возвращался на закате жизни. «Брак — это неудачная попытка превратить короткий эпизод в нечто продолжительное», — говорил он одному своему другу. Однажды его спросили, допустимы ли для евреев смешанные браки, он ответил со смехом: «Они опасны, но тогда все браки опасны». На вопрос, зачем он курит трубку, уж не потому ли, что ему нравится постоянно выбивать ее и прочищать, он ответил: «Я курю для того, чтобы курить, но, к сожалению, в конце концов все покрывается пылью или превращается в пепел. Так что жизнь похожа на курение, особенно семейная жизнь».
Вахсман полагал, что отношения Эйнштейна с женщинами были «почти без исключений платоническими», но прекрасно понимал, как они действовали на Эльзу. «По-видимому, она скорее ощущала, нежели сознавала, что муж не принадлежит ей по праву и что в любой момент она может снова остаться без него. Мысль о том, что ее брак это жизнь в кредит, должно быть, висела над ней как дамоклов меч». Письма Эльзы заставляют думать, что она старалась просто вытеснить из своего сознания мысль о неверности мужа. Гений, подобный ее мужу, не может быть безупречным во всех отношениях, писала она в 1929 году. Если природа чем-то одаряет человека с безмерной щедростью, то чем-то она его ужасающе обделяет. И любая попытка проанализировать тот или иной аспект личности Эйнштейна обречена на провал. Этот притягательный, но крайне {276} нелегкий характер нужно воспринимать только в целом.
В 1928 году в жизнь Эйнштейна вошла Элен Дюкас, женщина, чья материнская опека со временем заменила ему заботы Эльзы. Причиной их знакомства стал сердечный приступ, который Эйнштейн перенес в Давосе, швейцарском горном курорте. Он всегда с веселым пренебрежением относился к своему здоровью, но на этот раз переоценил свои силы и взялся нести слишком тяжелый чемодан. Ему поставили диагноз «гипертрофия сердца», и по возвращении в Берлин он четыре месяца пролежал в постели. Эльза стала искать ему помощницу, чтобы он мог продолжать работать. Дюкас ей порекомендовала ее старшая сестра Роза, ответственный секретарь Еврейской сиротской организации, где Эльза состояла почетным президентом. Взаимопониманию Эльзы и Элен Дюкас способствовало то, что Эльза знала ее мать и бабушку по Гешингену, откуда все они были родом. Дюкас в это время лишилась работы. Прежде она была сотрудницей маленькой издательской фирмы, но фирма прекратила свою деятельность. 13 апреля, в пятницу, Дюкас не без опаски приступила к исполнению своих новых обязанностей, но стоило ей войти в комнату больного, как все страхи рассеялись. Эйнштейн был само обаяние и скромность. «Он поднял глаза, посмотрел на меня, потом протянул ко мне руки и воскликнул: «Покойник к вашим услугам».
Дюкас была высокая, стройная, строгого вида молодая женщина, за чьей застенчивостью скрывались твердость характера и язвительный ум. При всем своем высоком интеллекте она согласилась работать у Эйнштейна только тогда, когда ее заверили, что знание физики от нее не потребуется. Если ее просили объяснить суть теории относительности, она иногда повторяла шутливое объяснение, придуманное Эйнштейном специально для нее: если ты сидишь рядом с хорошенькой девушкой, то час кажется минутой, а если ты сидишь на раскаленной плите, то минута кажется часом. Дюкас признавалась, {277} что так никогда и не перестала стесняться Эйнштейна, хотя к ней все относились как к члену семьи. Эйнштейн, представляя ее Вахсману, сказал: «Это моя верная помощница мисс Дюкас». Со временем Дюкас прониклась фанатичной преданностью своему патрону, она называла «грязной книжонкой» любую биографию, проливавшую свет на его личную жизнь, и считала репортеров своими «кровными врагами». Когда Вахсман позвонил Эйнштейну по телефону, желая поздравить его с пятидесятилетием, то на собственном опыте убедился, как непреклонно защищает мисс Дюкас его интересы. Она сняла трубку и после ряда вопросов сообщила, что профессор уехал, дабы избежать повышенного внимания репортеров. Эйнштейн прятался от них в сельском доме Плеща, в Гатове, но Дюкас категорически отказывалась раскрыть его местонахождение. «Нам это неизвестно, — отчеканила она и резко добавила. — И в любом случае я не стала бы вам этого сообщать без специальных инструкций».
Но не всем вмешательствам извне было так легко противостоять. Биржевой крах на Уолл-стрит в октябре 1929 года привел к беспрецедентному промышленному спаду и вызвал массовую безработицу в Германии, чья экономика и без того была в плачевном состоянии. Безработица способствовала росту влияния нацистов. В 1930 году, во время выборов в рейхстаг, партия Гитлера получила пятую часть голосов. На улицах происходили драки нацистов с коммунистами, либеральная Веймарская республика, основанная в 1919 году, начала распадаться. Гитлер обещал, что вернет Германии величие, обвинял во всех ее бедах разложившихся демократов и еврейских кровососов-ростовщиков. Эйнштейн снова показался фанатикам подходящим мальчиком для битья. Филипп Ленард возобновил нападки па «еврейскую физику» и «се самого выдающегося представителя, чистокровною еврея Альберта Эйнштейна». Нацисты получили абсолютное большинство в рейхстаге в 1932 году, их поддерживали, исходя из своих финансовых интересов, мощные деловые круги. {278} Эйнштейн знал, что его дни в Германии сочтены, и стал обдумывать варианты бегства.
Америка была готова принять его с распростертыми объятиями. Эйнштейн и Эльза провели две зимы, 1930-1931 и 1931—1932 гг. в Пасадине; там находился Калифорнийский технологический институт, где Эйнштейн был «приглашенным профессором». В 1930 году его приезд в Америку был широко разрекламирован. Лайнер, на котором он прибыл в Нью-Йорк, атаковала толпа репортеров. Их было не меньше пятидесяти, и Эйнштейн нашел, что они кривляются и вертятся, как куклы на веревочке. Помимо того, что он парировал несколько дурацких вопросов («Не могли бы вы в двух словах определить четвертое измерение?»), Эйнштейн с презрением отозвался о Гитлере, который «живет за счет того, что Германия голодает». Консервативную часть своих поклонников он привел в ярость во время другого выступления, заявив, что если бы у двух процентов мужчин хватило смелости отказаться от службы в армии, то на земле не стало бы войн. Но в основном его всюду встречали восторженно, и он даже получил титул «Великого Родича» (вариант «Великого Вождя Относительности»), когда во время поездки в Большой Каньон побывал в индейской резервации, где позировал фотографу с самодовольной улыбкой на лице, убором из перьев на голове и трубкой мира в руке.
Во время следующего своего визита в Пасадину Эйнштейн общался с Авраамом Флекснером, известным просветителем, который после получения от еврейских филантропов пяти миллионов долларов, планировал создать новый научно-исследовательский центр. Институт высших исследований (Institute for Advanced Study) в Принстоне, по-видимому, мог стать для Эйнштейна самым подходящим местом работы. Флекснер воспринимал свое детище как тихую гавань, где великие ученые смогут работать, «не опасаясь того, что их затянет водоворот сиюминутных вопросов». Он повторно встретился с Эйнштейном весной 1932 года в Оксфорде и предложил ему место в новом институте. Обсуждение этого вопроса {279} они продолжили в Германии, на веранде виллы Капут, и Эйнштейн принял приглашение. Характерная деталь: вопрос о зарплате Эйнштейна Флекснер обсуждал с Эльзой после того, как ее муж запросил смехотворно маленькую на его взгляд сумму в три тысячи долларов в год. Эльза согласилась на более разумную цифру — пятнадцать тысяч при условии, что Эйнштейн приступит к работе через год.
В декабре 1932 года Эйнштейн с Эльзой снова отправились в Америку. В этот приезд они не предполагали там остаться, но вернуться в Германию им было уже не суждено. Эйнштейн это предчувствовал. Уезжая с виллы Капут, он сказал Эльзе: «Обернись, посмотри на нее хорошенько. Ты ее больше не увидишь». Нацисты пришли к власти в январе 1933 года, когда одряхлевший президент Гинденбург под давлением пронацистских кругов назначил Гитлера канцлером. В марте штурмовики в коричневых рубашках ворвались на виллу Капут и обшарили ее в поисках оружия, спрятанного коммунистами. Они не нашли ничего острее хлебного ножа, но намек властей, адресованный Эйнштейну, был более чем понятен. Вернувшись из Америки в Европу, он написал в Берлинскую академию наук, что выходит из состава ее членов, и начал готовиться к эмиграции.
Весной 1933 года Эйнштейн временно поселился на вилле Савояр, в бельгийской приморской деревне Ле Кок Сюр Мер. Он был убежден, что нацисты «правят бал» в Берлине и перевооружаются. «Если им дадут еще год или два, весь мир получит очередной хороший урок общения с немцами», — предупреждал он. До него доходили слухи, что нацисты назначили цену за его голову, и к нему приставили вооруженную охрану. Эльза заняла максимально жесткую оборонительную позицию и ответила корреспонденту агентства Рейтер: «Мы не имеем никакого отношения к политике. Ученого следует оставить в покое».
Но и в это трудное время с ее чувствами в семье не особенно считались. Миша Батсек, крестник Эйнштейна, вспоминает, что гостил в Ле Кок Сюр {280} Мер со своими родителями, Карлом и Розой, давними друзьями Эйнштейна. Шестилетнего Мишу кормила шоколадками Элен Дюкас, а его отец тем временем разыгрывал журналистов, выдавая себя за Эйнштейна, на которого внешне был немного похож. И еще Батсек прекрасно помнит, что он видел там красавицу из Вены, сорока с небольшим лет. Это была Маргарет Лебах, из-за которой Эльза так страдала в Берлине. «Это была дама очень приятной внешности, с Эйнштейном ее связывала многолетняя близкая дружба и, наверное, не просто дружба, как мне более или менее ясно дали понять через много лет мои родители». Лебах, дружившая с семейством Батсеков, умерла в Вене в 1938 году: события, связанные с аншлюсом Австрии, помешали ей оперироваться по поводу рака.
В октябре 1933 года Эйнштейн, Эльза и Элен Дюкас отправились начинать новую жизнь за океан. Рудольф Кайзер эмигрировал в Голландию, а Ильза поселилась с Марго и Марьяновым в Париже. Переезд дался нелегко. Эйнштейн еще десять лет назад говорил своему другу Бессо, что Америка — это страна, по контрасту с которой он ценит Европу: хотя у американцев меньше предрассудков, чем у европейцев, но они в массе своей — народ скучный и поверхностный. Поселившись в Принстоне, он описывал его как маленький, чистый и аккуратный университетский городок, где преподаватели думают, что они очень умные, а студенты все время играют в футбол и громко орут. Особенное же разлитие желчи вызывали у него американки, причем оно усилилось, когда группа под названием «Женская патриотическая корпорация» в 1932 году выразила протест против выдачи ему гостевой визы, поскольку он из-за своих левых взглядов являлся опасным подрывным элементом. Отвечая на этот протест, Эйнштейн в полной мере демонстрирует свое презрение к женщинам:
«Еще никогда при попытках к сближению я не получал от прекрасных дам столь яростного отпора, а если и получал, то не от стольких сразу. Но разве они не правы, эти бдительные гражданки? {281} Зачем впускать в дверь человека, который поедает капиталистов всмятку с таким же аппетитом и удовольствием, с каким критский Минотавр пожирал когда-то прекрасных девушек, тем более что человек этот настолько низок, что отвергает любую войну, кроме неизбежной войны с собственной женой. Поэтому прислушайтесь к голосам ваших умных и патриотически настроенных женщин и вспомните, что цитадель на римском Капитолии когда-то спасло гоготание гражданственных римских гусей».
Во время своей первой поездки в Америку Эйнштейн вызвал сильное возмущение тем, что он якобы назвал американских мужчин «комнатными собачками своих жен, которые неограниченно и безрассудно тратят деньги и напускают тумана своими сумасбродными претензиями». Как оказалось, он либо говорил что-то другое, либо его слова неверно перевели. Однако приведенное высказывание звучало настолько по-эйнштейновски, что принесло ему массу неприятностей.
Семейная жизнь Эйнштейна в Америке продолжалась всего три года. Уклад ее был таким же, как раньше, во всяком случае судя по эпизоду, имевшему место в 1933 году. Его записал Черчилль Эйзенхарт, в то время студент Принстонского университета; у его родителей Эйнштейн с Эльзой были на званом обеде. «Во время трапезы профессор Эйнштейн неоднократно возвращался к теме, какая у него заботливая жена. Наконец, моя мать его перебила: «Профессор Эйнштейн, по-моему, ваша жена делает для вас абсолютно все. А вы для нее что делаете?» В глазах у него вспыхнули насмешливые искорки, и он ответил, не задумываясь: «Я ее понимаю».
Биограф Эйнштейна Рональд Кларк пишет о дружбе супругов Эйнштейн с Леоном Уоттерсом, состоятельным евреем, биохимиком. Тот позднее вспоминал, что Эйнштейн «уделял мало времени и внимания тому, что считается обязанностями заботливого мужа». Эльза путешествовала вместе с Эйнштейном и грелась в лучах его славы, но ей не хватало «сочувствия и нежности, в которых она очень нуждалась, и потому она страдала от одиночества». Говоря {282} о своей жене, Эйнштейн пожаловался Уоттерсу, что женщины похожи на тонкие приборы для научных исследований, с которыми трудно работать. После того как Уоттерс женился, Эльза написала ему: «Я думаю, что вы самый заботливый и любящий муж. Я охотно послала бы Альберта у вас поучиться».
В мае 1934 года из Парижа пришло сообщение, что Ильза смертельно больна. Хотя Эйнштейн был очень привязан к своей падчерице, он, несмотря на все мольбы Эльзы, отказался сопровождать ее в Париж. Она отправилась туда одна и застала дочь в состоянии крайнего истощения, на грани между жизнью и смертью. У Ильзы был туберкулез, но Марьянов пишет, что она наотрез отказывалась от лечения и полагала, что причина ее болезни чисто психическая, и, несмотря на все уговоры матери, возлагала надежды исключительно на психоанализ. Марго преданно ухаживала за сестрой, выказывая при этом неожиданную выносливость, но не смогла предотвратить неизбежного.
По словам Марьянова, смерть дочери сломила Эльзу, она постарела почти до неузнаваемости. Ее подруга Антонина Валлантен писала: «Охваченная глубочайшей скорбью, она нашла в себе отвагу, чтобы жить дальше. Но она все время помнила о своей невосполнимой утрате, в душе у нее была незаживающая рана». Эльза вернулась в Америку вместе с Марго, урну с пеплом дочери она спрятала, чтобы не привлекать внимание таможенников, в подушку, лежавшую среди носильных вещей. Жить ей самой оставалось уже недолго.
Осенью 1935 года Эйнштейны переехали на улицу Мерсер, 112, в дом, которому суждено было стать их последним жилищем. Под Рождество Эльзу увезли в больницу с тяжелым заболеванием почек и сердца. По ее настоянию ее вернули домой, врачи рекомендовали ей лежать совершенно неподвижно. Один глаз у нее был закрыт, рука дрожала и не слушалась, но она из последних сил писала Валлентен о том, как гордится научными успехами Эйнштейна. «Он сам считает, что последняя работа это {283} лучшее из всего, что он сделал», — сообщала Эльза подруге. Писала, что муж очень переживает из-за ее болезни и ходит по дому как потерянный. «Я никогда не думала, что он меня так любит. А сейчас черпаю в этом утешение».
Польский физик Леопольд Инфельд, новый сотрудник Эйнштейна, утверждал, что тот окружил жену «величайшей заботой и сочувствием». Но тот же Инфельд вспоминал, что Эйнштейн «оставался спокойным и продолжал работать». Еще более впечатляющее свидетельство о том, как Эйнштейн умел отключаться от внешнего мира, принадлежит перу Питера Бергмана, другого его сотрудника. Они вместе сидели и работали, а за соседней дверью умирала Эльза. Бергман с трудом выдерживал ее исполненные муки вопли, но Эйнштейн был совершенно поглощен работой. Бергман считает, что в этом проявилось не столько умение Эйнштейна сосредотачиваться, сколько его желание уйти от реальности. «Иначе он бы этого не выдержал».
Эльза умерла 20 декабря 1936 года. Эйнштейн, по свидетельству Марьянова, не стал соблюдать положенный семидневный траур и просто распорядился: «Похороните ее». Через несколько дней он вернулся к своим обязанностям в Институте высших исследований. Инфельд отметил, что Эйнштейн побледнел и осунулся, но не мог заставить себя произнести обычные слова соболезнования. «Мы столкнулись с серьезной трудностью при решении задачи и обсуждали ее так, как будто бы ничего не случилось. Эйнштейн писал Максу Борну: «Я здесь прекрасно устроился, я зимую, как медведь в берлоге, и, судя по опыту моей пестрой жизни, такой уклад мне больше всего подходит. Моя нелюдимость еще усилилась со смертью моей жены, которая была привязана к человеческому сообществу сильнее, чем я».
Через две недели после смерти Эльзы он написал Гансу Альберту, что его утрата — последнее звено в цепи тех обстоятельств, которые как бы нарочно задуманы, чтобы усложнить ему жизнь. «Но пока я в состоянии работать, я не должен и не буду жаловаться, так как работа — это единственное, что наполняет жизнь смыслом».
| {284} |
Несмотря на развод, Эйнштейн с Милевой так и не смогли освободиться друг от друга. Их жизни оставались связанными множеством сложных узлов и в период второго брака Эйнштейна, и после смерти Эльзы. Эйнштейн говорил друзьям, что Милева после развода относится к нему почти как Медея к Ясону (Медея в греческой мифологии — ревнивая первая жена аргонавта Ясона, которая после того, как муж ее оставил, из мести убила двух своих сыновей от него, его вторую жену и его отца). Эйнштейн считал, что по вине Милевы черная тень безумия легла и на жизнь его сыновей, и на его собственную. По его словам, эта трагедия мучила его всю жизнь, и боль со временем не становилась слабее. «Более чем вероятно», что именно эти печальные обстоятельства заставили его с головой уйти в работу.
Но иную картину взаимоотношений рисует нам переписка Эйнштейна с Милевой, где часто встречаются проявления взаимного уважения и даже вновь возникшей симпатии. Сразу после регистрации брака с Эльзой Эйнштейн вернулся в Цюрих, чтобы обсудить с Милевой будущее сыновей. Большую часть лета 1919 года он провел вдали от новой жены. Он предпочел отправиться в поход с мальчиками на озеро Констанц, затем повез Эдуарда в Арозу для продолжения лечения. Вскоре после этого он написал Милеве, что просит ее покинуть Швейцарию и переехать в Германию «как можно скорее». Наведя справки во время отпуска, он порекомендовал своей {285} прежней семье поселиться в городке Констанц. Школы там отличные, и он с радостью поможет Милеве найти жилье, писал Эйнштейн. Различные варианты переезда семьи в Германию занимали его мысли на протяжении последующих двух лет. В декабре он предлагал Милеве поселиться в Дурлахе, возле Карлсруэ, где его дальний родственник («отличный человек») директорствовал в школе. Позднее он начал нахваливать ей Дармштадт, город, расположенный в долине Рейна к северу от Карлсруэ, ибо там был прекрасный технический колледж.
Главной причиной, по которой Эйнштейн хотел, чтобы Милева жила в одной с ним стране, была галопирующая инфляция в послевоенной Германии и — соответственно — непрерывное падение по отношению к иностранным валютам курса германской марки. В 1914 году доллар стоил четыре марки, в июле 1919 году — четырнадцать и поднимался в цене. К концу 1922 года доллар стоил уже 7000 марок, а в декабре 1923 году — 4.200.000 марок. В это время немецкие дети строили домики из пачек обесцененных банкнот, а магазины закрывались на обед с одними ценами, а открывались уже с другими. Достаточно скоро Эйнштейн понял, что в этих условиях ему будет трудно платить Милеве обещанное пособие, а ее переезд в Германию помог бы обойти сложности, возникавшие из-за «непреодолимой стены обменного курса», как называл это явление Эйнштейн. Когда, вдобавок, перед ним встала необходимость обеспечить уход за своей умирающей матерью, он написал Бессо, что переезд Милевы в Германию «очень облегчил бы положение». Он убеждал Милеву, что в Германии она сможет жить с бóльшим комфортом, чем в Цюрихе, а мальчики будут чаще видеть отца. Но постепенно он смирился с мыслью, что Милева не хочет никаких переездов. И уже уяснив себе этот вопрос, продолжал оказывать давление на свою первую семью, добиваясь, чтобы Ганс Альберт поехал завершать образование в Германию.
Милева жила теперь в квартире на Глориаштрассе, 59, по-прежнему на холме Цюрихберг. Эйнштейн {286} заверял своего друга Мориса Соловина, что со здоровьем у нее все в порядке, но, как выяснилось, ей по-прежнему приходилось часто ложиться в больницу. Все ее интересы были сосредоточены на детях. Неопределенность финансового положения вынуждала жить крайне экономно, она сама шила одежду для всей семьи. Она неутомимо заботилась о том, чтобы укрепить слабое здоровье Эдуарда, и даже съездила с ним на Северное море в специализированную больницу на острове Фьор. Может быть, именно об этом эпизоде она рассказывает своей белградской приятельнице в письме, которое цитирует, не приводя даты, один из ее сербских биографов.
В письме Милева выражает опасение, что Эдуард может потерять слух, и рассказывает о сопряженной с большими хлопотами поездке на море в Германию, которая ничем не помогла сыну. С питанием дела обстояли очень плохо, и они с сыном вернулись через три недели, чувствуя себя еще более разбитыми, чем до поездки. Милева также пишет о преследующих ее болезнях, в том числе и о слабом сердце: «Оно стало чуть лучше, но требует постоянного внимания. Обычно я, сколько хватает сил, изображаю из себя героиню, но наступает момент, когда я бываю вынуждена сдаться... тогда каждая болезнь, даже самая пустяковая, создает массу сложностей».
Желание Эйнштейна, чтобы дети приезжали к нему в Берлин, по-прежнему вызывало трения между супругами. Он говорил Милеве, что «просто смешно» не пускать к нему Ганса Альберта, так как шестнадцатилетний юноша — это практически взрослый мужчина. С самоуверенностью человека, который стал полновластным хозяином в своем новом доме, Эйнштейн утверждал, что во время визита Ганса Альберта Эльза готова держаться как можно незаметнее и что даже обедать он с сыном будет вдвоем. «Но какие же это все глупости, — пишет он своей бывшей жене. — К чему создавать себе столько сложностей, да еще исключительно из-за вас, из-за женщин?» {287}
Хотя разногласия и имели место, Милева предоставляла Эйнштейну немалую свободу в общении с мальчиками. В июле 1920 года он в письме к Бессо рассказывает, что намерен провести осенние каникулы с сыновьями в своей родной Швабии, возле Зигмарингена. Летом 1921 года он отправился с ними в Вустров, на побережье Балтийского моря, причем, разумеется, парусный спорт был гвоздем программы. После этой поездки Эйнштейн в письме благодарил Милеву за «чудесные дни», которые он провел с сыновьями. Особую признательность он повторно выразил ей за то, что она не настраивала детей против него. В конце года Эйнштейн поехал с Гансом Альбертом в Италию. Они останавливались во Флоренции (откуда Эйнштейн отправил Бессо открытку с видом палаццо Веккьо), и в Болонье (где Эйнштейн прочел лекцию на полузабытом им итальянском). Было решено, что Эдуард еще слишком мал для подобной экскурсии, но в утешение отец подарил ему серебряные часы, которые носил со студенческих лет. Мальчик с гордостью показывал их гостям, однако надевать их мать разрешала ему только по воскресеньям.
Приехав из Италии, Эйнштейн остановился у Милевы. Бессо он сказал, что писать ему можно будет «на адрес Миццы», и в ее квартире застали своего старого друга Гурвицы, когда пришли туда всей семьей 30 октября, чтобы провести вечер за разговором и музицированием. Эйнштейн был в превосходном настроении, он взахлеб рассказывал о своих американских впечатлениях, о том, что помешательство Америки на автомобилях все усиливается. Перед приездом Эйнштейн написал сыновьям, что Милева ни в коем случае не должна избегать встреч с ним, когда он окажется в Цюрихе, он бы этого не хотел. Его решение жить под общим с ней кровом носило несколько шокирующий характер, но он останавливался у Милевы и во время последующих посещений Швейцарии.
Рональд Кларк пишет, что на сионистском конгрессе, проходившем в 1929 году в Цюрихе, Эйнштейн {288} хвастливым тоном заявил английскому государственному деятелю лорду Саймону: «Я поселился у своей первой жены», — и был явно доволен тем, что смутил англичанина. Эльзе не нравилось, как ее муж устраивается с жильем в Цюрихе: она не ревновала к Милеве, но опасалась кривотолков. Конрад Вахсман, архитектор, построивший виллу Капут, говорит, что на эти ее возражения Эйнштейн не обращал внимания. Его принципом было: «Dem Reinen ist alles rein, dem Schwein ist alles schwein» — труднопереводимая в рифму поговорка, смысл которой сводится к тому, что свинья видит грязь там, где чистая душа — чистоту.
Впрочем, сплетни Эйнштейну особенно не угрожали. Вахсман пишет, что в Берлине о существовании Милевы знал только круг очень близких Эйнштейну людей, а остальные и не догадывались, что он женат на Эльзе вторым браком. Соответственно, почти никто не знал, что у него двое сыновей, а Ильза и Марго приходятся ему всего лишь падчерицами. Иногда эта неосведомленность создавала очень болезненные для Милевы ситуации. Особенно сильно она обиделась, когда в одном газетном заголовке Ильзу назвали дочерью Эйнштейна. Тот в это время проводил очередной отпуск с сыновьями на Балтийском море, в окрестностях Любека, старого ганзейского порта. Он достаточно сдержанно посочувствовав Милеве, сказал, что не может влиять на газетные публикации, и пошутил, что если бы он обращал внимание на злобные выпады со стороны людей и газет, то уже давным-давно лежал бы в могиле.
Точно так же мало кто знал, как распорядился Эйнштейн своей Нобелевской премией. Он узнал, что стал нобелевским лауреатом в ноябре 1922 года, когда на корабле плыл с Эльзой в Японию, где ему предстояло прочесть ряд лекций. В следующем году он переслал полученные от Нобелевского комитета деньги Милеве, но это осталось тайной даже для его ближайших друзей. Так, Лоренц с глубокой убежденностью писал ему, что «материальный аспект» премии «облегчит тяготы» его повседневного {289} существования. На самом деле эти деньги ушли на то, чтобы купить три дома в Цюрихе для Милевы: в одном из них она жила, два других были куплены для помещения капитала. Она поселилась на Хуттенштрассе, 62, все на том же холме Цюрихберг, и жила в этом доме до самой смерти.
Это здание, архитектура которого отличалась элегантностью и сдержанностью, находилось на спокойной зеленой улице в районе, где расположено множество учебных заведений. Приветливый вид здания подчеркивало латинское «Salve» над входом, витражи и металлический декор в стиле модерн украшали балконы и двери, на потолках были лепные гирлянды с включенными в орнамент розами. Роза — эмблема Цюриха, она фигурирует в декоре городских стен и часто встречается в архитектуре Цюрих-зее. Из окон ее квартиры на третьем этаже Милеве был виден сверху почти весь город, в том числе и крыши Политехникума, где она познакомилась с Эйнштейном.
Эйнштейн одобрил ее покупку после того, как осмотрел дома во время короткого визита, свидетелем которого стал Георг Буш, позднее — один из столпов швейцарской физики, а в то время 15-летний школьник, мечтающий стать электрохимиком. Его родители купили этот дом и въехали в него в 1909 году, но впоследствии из-за экономического спада, охватившего весь мир, были вынуждены его продать. «Я занимался какими-то экспериментами в ванной, — вспоминает 84-летний профессор Буш. — Внезапно дверь открылась, и в проеме на несколько секунд показалось известное всему миру лицо Эйнштейна. «Ба, да тут занимаются химией», — сказал он и закрыл дверь».
Семья Буша еще три года прожила в том же доме, снимая квартиру у Милевы. Профессор Буш вспоминает о ней как об очень приветливой и отзывчивой женщине; она говорила медленно, негромким глубоким голосом, в котором явственно слышался восточноевропейский акцент. Ему, в то время юноше, она показалась преждевременно состарившейся и {290} по-женски непривлекательной: хромала и была скверно одета. Но когда его послали передать ей квартирную плату, на него произвели сильное впечатление ее любезность и острота ума. В разговоре она не произносила ни одного лишнего слова. «Она говорила очень отчетливо и выражала свои мысли очень точно, — вспоминает профессор Буш. — Она никогда не занималась пустой болтовней».
Однажды Милева спросила Буша, что он думает делать, когда окончит школу. Он сказал, что хочет изучать физику, и ее ответ навсегда запал ему в душу. «Физику? — переспросила она. — Это прекрасное дело, но очень трудное. Нельзя знать заранее, окажешься ты Эйнштейном или нет». Она произнесла эти слова очень мягко, с улыбкой, и у профессора Буша не возникло ни малейшего сомнения, что они свидетельствовали о ее глубочайшем уважении к бывшему мужу. Оно же выразилось в том, что Милева решила сохранить его фамилию, теперь уже прославленную на весь мир. Сразу после развода она взяла свою девичью фамилию, но потом получила особое разрешение именоваться Милевой Эйнштейн; оно было дано властями кантона Цюрих 14 декабря 1924 года.
Судя по письмам Эйнштейна, в этот период отношения между бывшими супругами улучшились. Такое впечатление, что причиной этого были «нобелевские» деньги, которые ей отдал Эйнштейн. В 1935 году он привез ей в подарок из лекционного турне по Южной Америке кактусы и коллекцию бразильских бабочек для своих сыновей. Милева перестала возражать против поездок сыновей в Берлин и получила приглашение сопровождать туда Эдуарда и вместе с ним останавливаться на Хаберландштрассе. Эйнштейн писал ей о своем желании наладить дружеские отношения, упоминал о том, что есть немало разведенных супругов, которые прекрасно ладят между собой.
В последующие годы Милева несколько раз навещала его в Берлине, но не переступала определенной черты, в частности не останавливалась на квартире {291} у Эльзы. Она ограничивалась короткими посещениями, иногда ночевала у Фрица Габера, и была более чем сдержанна в общении с членами новой семьи Эйнштейна. Герте Валдоу она запомнилась как «некрасивая иностранка», которая приезжала одна, без детей, дружелюбно беседовала час или два с хозяевами дома и уезжала. Конрад Ваксман отзывается о ней как о замкнутой, суровой и неразговорчивой особе, которая сидела в обществе Эльзы и напряженно молчала, ожидая прихода своего бывшего мужа. «Но когда Эйнштейн входил в гостиную, глаза ее внезапно вспыхивали и атмосфера разряжалась».
Эйнштейна и Милеву объединяла забота о детях. В июне 1925 года он пишет «дорогой Милеве», что будет очень рад, если сможет обсудить с ней проблемы их сыновей. Он высказывает трогательное признание, что они — лучшая часть его душевной жизни и останутся ею до тех пор, пока часовой механизм у него в теле не перестанет тикать. Эйнштейн писал ей, что вполне разделяет ее тревогу за их будущее, так как «яблоко от яблони недалеко падает». Однако его встречи с сыновьями были и радостными, и горестными одновременно. Ганс Альберт писал, что ни ему, ни брату не бывало легко с отцом, хотя оба чувствовали, что он их очень любит. «Когда между нами возникало чувство близости, оно было очень сильным, — пишет Ганс Альберт. — Он сам нуждался в любви. Но стоило нам ощутить контакт с ним, как отец почти сразу отталкивал нас. Он все время держал себя в узде. Он останавливал поток своих эмоций, словно закручивал водопроводный кран».
Распад родительской семьи очень сильно подействовал на Ганса Альберта и на всю жизнь внушил ему страх перед разводом. «Он был подавлен и, по-моему, надломлен этим жестоким жизненным опытом», — вспоминает его дочь Эвелина.
«Я помню, как один раз шла дискуссия о детях и о детстве. Я говорила, что детство — это время для учебы и игр, для беспрепятственного формирования {292} личности. Он ответил: «Нет, детство — это не время для забав». Для меня эти слова были как пощечина. Смысл их сводился к следующему: «У меня было детство хуже некуда, и уж я-то позабочусь о том, чтобы каждый ребенок в доме понял, что это такое».
Гансу Альберту было двенадцать лет, когда его мать перенесла нервный срыв после того, как отец в 1916 году потребовал развода. Эвелина считает, что он так и не избавился от обиды за то, что взрослые заботы слишком рано легли ему на плечи. «От него ожидали, что он будет играть роль мужчины в доме, — говорит она. — Если нужно было подтянуть вентиль у водопроводного крана, сменить лампочку или починить перила, то делать это приходилось ему. Я думаю, он был этим недоволен». В 1917 году Эйнштейн похвалил сына за то, что тот ведет себя «как взрослый мужчина» и оказывает матери «подлинную поддержку». Подобно проповеднику, воспевающему достоинства чистилища, он внушал Гансу Альберту, что настоящему душевному развитию человека на самом деле способствуют не радости и душевный комфорт, но перенесенные им страдания и людская несправедливость. На его собственном пути, говорил Эйнштейн, было больше терниев, чем роз. И добавлял: «Попроси маму когда-нибудь рассказать тебе о нашей молодости».
Юноша, на которого обрушились все эти семейные неурядицы, очень походил на своего отца: такого же роста, такого же плотного сложения, и любая одежда выглядела на нем неглаженой. Даже почерк отца и сына почти невозможно различить, причем оба они подписывались «Альберт», что впоследствии вызывало множество недоразумений. Но антагонизм между отцом и сыном не исчезал. Когда они в 1922 году вместе отдыхали в Любеке, между ними произошло то, что Эйнштейн в письме к Милеве назвал «неприятной и травмирующей сценой». По его словам, в конце концов выяснилось, что Ганс Альберт не желал выступать в роли посредника между отцом и матерью; это и послужило причиной его {293} вспышки. В следующем году Эйнштейн сетует, что Ганс Альберт прислал ему письмо, в котором выразил «недоверие, отсутствие уважения и плохое отношение ко мне». Взывая к Эдуарду о сочувствии, Эйнштейн пишет, как ему тяжело, что старший сын его отвергает, но добавляет, что ни один отец не потерпит подобного к себе отношения. Он тоже такое переносить не намерен и, как это ему ни тяжело, готов разорвать отношения с Гансом Альбертом.
До полного разрыва дело не дошло, но трения возникали постоянно. Ганс Альберт первым из сыновей посетил Берлин, причем выказал открытую враждебность по отношению к Эльзе. Эйнштейн из-за этого оказался в очень неудобном положении и предупредил сына, что тот не сможет рассчитывать на его гостеприимство, если не будет вести себя вежливее. Эйнштейн был искренне благодарен, когда сын пересмотрел свое поведение. Он написал, что хотя Эльза действительно иногда может действовать на нервы и не отличается большим умом, все это искупается ее добротой и отзывчивостью.
Ганс Альберт бросил вызов отцу как своим выбором профессии, так и выбором невесты. Еще подростком он объявил, что станет инженером, то есть не теоретиком, а практиком. Эйнштейна, который, несмотря на свой интерес к технике, был теоретиком до мозга костей, решение сына очень огорчило, и чем больше он пытался скрыть свои чувства на этот счет, тем сильнее их выдавал. «Я доволен, что у Альберта есть четко выраженный интерес к предмету, — писал он Милеве в 1918 году. — Чем конкретно он интересуется, не так уж важно, даже если это, к сожалению, техника. Нельзя рассчитывать на то, что ребенок унаследует твой склад ума».
Примерно в то же время в письме к Генриху Цангеру Эйнштейн выражает такие же смешанные чувства по поводу будущей профессии сына. Он пишет, что Альберт уже находит удовольствие в работе мысли, хотя думает он, «странно сказать, над техническими вопросами». Но в общем, по словам {294} Эйнштейна, он приветствует любой род интеллектуальной деятельности, пусть даже с обывательским уклоном. В будущем, надо надеяться, Ганс Альберт поймет, что практических задач бесконечно много, и это дурная бесконечность. В конце концов, пишет Цангеру Эйнштейн, когда-то и ему было уготовано инженерное поприще, но ему претила мысль о том, чтобы использовать всю изобретательность своего ума для прагматических нужд промышленности, ломать голову только ради достижения конкретной цели или получения выгоды. «Цель мысли сама мысль, так же как цель музыки — музыка».
Он писал Цангеру, что если бы не был занят неотложной задачей, то заново проработал бы знакомые математические теоремы только потому, что красота доказательств доставляет ему удовольствие. За этими словами угадывается невысказанный вопрос, почему же все-таки в этом отношении сын на него не похож?
Ганс Альберт снова заявил о своих намерениях, когда Эйнштейн в 1919 году приехал в Цюрих. Их встречу и участие в ней Милевы ярко и живо изобразил Питер Микельмор в биографии Эйнштейна, написанной на основании интервью с Гансом Альбертом и одобренной им.
«Ганс Альберт встретил отца в штыки. Большой и высокий пятнадцатилетний мальчик, яростно отстаивавший свою независимость, он сказал отцу, что твердо решил стать инженером, хотя знал, что тот предпочел бы, чтобы карьера сына имела большее отношение к «чистой науке». «Мне эта идея очень не нравится», — сказал Эйнштейн. «И тем не менее я стану инженером», — стоял на своем Ганс Альберт. Эйнштейн вылетел из комнаты со словами, что больше не желает иметь с сыном ничего общего. Милева подождала и, когда он успокоился, постаралась их помирить. Она не уставала повторять мальчикам, что, как бы то ни было, Эйнштейн — их отец и ему нужны их любовь и уважение. Он человек странный, объясняла она, но добрый и хороший. Милева знала, что, несмотря на всю свою браваду, {295} Ганс Альберт был во многих отношениях уязвим, и глубоко уязвим».
Как писал Цангеру Эйнштейн, если поменять местами желания отца и сына, то нынешний конфликт с Гансом Альбертом в точности совпадает с конфликтом, в который он, Эйнштейн, в том же возрасте вступил со своим отцом. Ганс Альберт никогда не смог до конца преодолеть влияние своего отца, но был достаточно упрям, чтобы сделать то, что сказал. Он пошел по стопам обоих своих родителей, поступил в швейцарский Политехникум в 1922 году и получил диплом гражданского инженера в 1927-м. Следующие четыре года он провел в Рурской долине, где работал в Дортмундской сталелитейной компании. Примерно в 1930 году Ганс Альберт подумывал, не стать ли ему специалистом по патентам и не пойти ли тем самым еще дальше по стопам своего отца, но вместо этого вернулся в Политехникум, где стал ассистентом в гидротехнической лаборатории. Его работа была в основном связана с реками. «Реки не любят насильственных перемен в своем течении, — говорил он. — Реки умеют за себя постоять».
Когда первоначальное раздражение, вызванное выбором Ганса Альберта, прошло, Эйнштейн начал гордиться успехами сына. «Мой Альберт стал крепким, сильным парнем, — писал он Бессо в 1924 году. — Гроссман сообщил мне, что он сдал экзамены лучше всех. Он — таков, каким должен быть мужчина, первоклассный моряк, надежный и без претензий». Эйнштейн даже выражал радость, что сын не стал физиком и тем самым избежал такого обескураживающего опыта, как попытка создать единую теорию поля. «Наука — дело тяжелое. Иногда я радуюсь, что ты выбрал практическую деятельность и тебе не приходится искать клевер с четырьмя листочками», — писал он сыну в марте 1924 года. В письмах он рассуждает на эту тему постоянно, но не слишком убедительно. На самом деле Эйнштейн считал, что стоит заниматься только трудной работой: «Меня раздражают ученые, которые берут доску, {296} ищут в ней самую тонкую часть и сверлят десяток отверстий там, где сделать это проще всего».
На вопрос, почему он не стал физиком, Ганс Альберт отвечал так: «Когда на берегу бухты кто-то уже собрал все красивые раковины, лучше отправиться на берег другой бухты». Он публично заявлял, что Эйнштейн никогда «не стремился навязать свою волю» ни ему, ни брату. Если по отношению к карьере Ганса Альберта это и правда, то с выбором невесты дело обстояло совершенно иначе.
Ганс Альберт познакомился с Фридой Кнехт, когда жил с матерью на Глориаштрассе, в Цюрихе. Ее семья снимала квартиру в том же доме. Фриде Кнехт — а это было непросто — удалось преодолеть каменную стену его замкнутости и добиться душевного контакта. Она была девятью годами старше него, маленького роста (всего метр пятьдесят), некрасивая, с грубоватыми манерами, но с острым умом, ее находили похожей на Милеву. Ганс Альберт начал ухаживать за Фридой, когда учился в Политехникуме. В 1925 году он заявил о своем намерении жениться, ответом ему был оглушительный взрыв отцовской ярости. По этому поводу Эвелина замечает: «Когда Эйнштейн хотел жениться, ему пришлось столько вытерпеть от своих родителей, что, казалось бы, у него должно было хватить ума не вмешиваться в личную жизнь сыновей. Ничего подобного. Когда мой отец собрался жениться на моей матери, Эйнштейн был в ярости, и Гансу Альберту пришлось выдержать не одну бурю негодования со стороны своего отца».
Эйнштейн был против Фриды по тем же причинам, по каким его родители отвергали Милеву: она была намного старше сына и, соответственно, казалась хищницей, и у нее якобы была дурная наследственность. По его мнению, Фрида была почти что карлицей, и уже полными карликами могли оказаться ее дети и его внуки. Кроме того, он считал ее мать неуравновешенной и боялся, что эта черта тоже может передаться по наследству (на самом деле мать Фриды страдала от гиперфункции щитовидной железы). {297}
Понятно, что болезненность Эдуарда во многом питала эти страхи, но удивительно то, что их разделяла Милева. Она обсуждала опасения касательно Фриды со своим бывшим мужем, и он поначалу ее успокаивал, уверяя, что Ганс Альберт еще не чувствует себя связанным никакими обязательствами. Но когда Эйнштейну пришлось взглянуть правде в глаза, то неприятие этого брака объединило его с Милевой, и в их отношениях наметилась новая «разрядка». В нескольких письмах своей бывшей жене он сетует на упрямство сына и не слишком внятно ссылается на книгу Исход, где сказано, что Господь называет себя «наказывающим вину в детях и детях детей до третьего и четвертого рода». «Рожать таких детей было бы преступлением», — пишет он Милеве.
Эйнштейн полагал, что неприемлемая для них с Милевой ситуация сложилась отчасти потому, что Ганс Альберт боится женщин. Он даже предлагал послать сына к своей хорошенькой сорокалетней знакомой для некоего исцеляющего обучения. Более деликатно он пытался повлиять на него через своего цюрихского знакомого Германа Аншютц-Кампе. Он писал и непосредственно Гансу Альберту, и просил Милеву сделать все от нее зависящее, чтобы «предотвратить несчастье». В конце концов он вынужден был признать свое поражение, сетуя на то, что сын слишком молод и наивен и потому не понимает, до какой степени он у Фриды под башмаком.
Последующие письма Эйнштейна содержат массу обидных для Ганса Альберта условий. Так, он требует, чтобы сын согласился не иметь детей от Кнехт, и заявляет, что только безоговорочное согласие заставит его смириться с их решением соединить свои судьбы. Тем не менее в начале 1927 года он в очередном письме достаточно ясно дает понять, что будет горько сожалеть о его женитьбе, даже если чета останется бездетной. При этом, ничтоже сумняшеся, добавляет, что, разумеется, посторонние не вправе вмешиваться в подобные отношения, они могут только предложить плоды собственного опыта, если в таковых возникнет нужда. {298}
Ганс Альберт женился на Фриде в мае 1927 года в Дортмунде. Он никогда не говорил биографам, до какой степени отец был против этого брака, но достаточно прозрачные намеки на серьезный конфликт проскальзывали в его интервью, данных Питеру Микельмору. Микельмор рисует картину происшедшего, сглаживая острые углы, в его интерпретации получается, что Эйнштейну не нравился сам институт брака, а его тревоги по поводу дурной наследственности оставлены в стороне. Накануне свадьбы Эйнштейн советовал сыну ее отменить, дабы избежать лишних хлопот, так как они с женой все равно разведутся. По тем же причинам он советовал сыну не иметь детей, ибо они только усложнят процедуру развода. Когда в 1930 году ребенок все же родился, отец рассерженно писал Гансу Альберту: «Я этого не понимаю. Я не узнаю в тебе моего сына».
Ребенка, внушавшего Эйнштейну такой ужас, родители назвали Бернард Цезарь. «Мы решили, что на «А» в семье начинается достаточно имен, поэтому перешли к букве «Б», — так однажды объяснил Ганс Альберт выбор имени сына. Эйнштейн воспринял новость о беременности Фриды с мрачностью, достойной ослика Иа-Иа. «Теперь рок возьмет свое, как это ни трагично», — написал он Милеве. Но его страхи были совершенно напрасными. Бернард, «Хади» или «Харди», как его звали близкие, рос абсолютно здоровым ребенком и стал любимцем своего деда — он завещал ему скрипку.
В конце концов Эйнштейн признал, что брак оказался очень удачным и что Ганс Альберт после женитьбы стал более жизнерадостным и менее замкнутым. Майя Эйнштейн, которая впервые увидела Фриду в 1934 году, нашла, что «она куда лучше, чем я представляла ее себе по отзывам брата и его жены... достаточно некрасивая, маленькая, с простоватыми манерами, но умная, скромная и тактичная». Она добавляла, что ранние женитьбы на некрасивых, старше себя женщинах — это наследственная болезнь членов их семьи, «происходящая от отца, чья {299} неприязнь к невестке, возможно, имела глубинные психологические причины».
Разногласия с Гансом Альбертом привели к тому, что симпатии Эйнштейна на какое-то время склонились в сторону Эдуарда. Как он писал Милеве в 1926 году, ему кажется, что, хотя внешне они с Эдуардом имеют мало общего, по характеру из двух сыновей на него больше похож младший. Действительно, многие современники полагали, что искру Божью унаследовал от Эйнштейна именно Эдуард. Вот как вспоминает о нем Эвелина: «Он, несомненно, был гением. Рядом с Тете мой отец был просто заурядным тружеником». Но Эйнштейн никогда не воспринимал людей однозначно, а чувства его к Эдуарду отмечены небывалой даже для него двойственностью.
Когда Эдуард в 1923 году поступил в среднюю школу, он проявил себя как необычайно одаренный ученик, но занятия ему быстро надоедали. Вместо них или во время них он тратил энергию на сочинение афоризмов и стихов, в которых вышучивал своих учителей и соучеников, сочетая остроту ума с изяществом формы. Многие его литературные опыты появлялись в классном журнале, в нем также описан доклад по истории астрономии, прочитанный четырнадцатилетним Эйнштейном-младшим, — «очень четко и интеллигентно, на образцовом немецком». Докладчика вознаградили бурными аплодисментами, но в заметке есть небольшой упрек: «Огорчительно, — сказано в ней, — что среди таких великих людей, как Кеплер, Ньютон и пр., он не упомянул также Эйнштейна».
Все знали о том, какой у Эдуарда знаменитый отец, но, по воспоминаниям, слава Эйнштейна не подавляла его младшего сына. Это был странноватый, иногда задумчивый, с мягкими манерами мальчик, внешне вполне уравновешенный. Среди сверстников он выделялся своим необыкновенным интеллектом и умением быстро и остроумно парировать любые реплики. Он не особенно интересовался математикой и физикой, увлекался литературой и {300} искусством вообще. Одаренный музыкант, он рано полюбил Шопена и баварского композитора Макса Регера и исполнял их произведения с легкостью и изяществом. В школьные годы он стал менее непосредственно и бурно выражать свои чувства, чем в раннем детстве, и одноклассник, побывавший у него дома, был удивлен его игрой на рояле, необычайно эмоциональной и одухотворенной. Она выдавала пылкость натуры, обычно скрытую под маской насмешливого скептицизма. Сев за инструмент, Эдуард совершенно преображался.
Словно желая доказать, что он достоин быть сыном Эйнштейна, Эдуард изо всех сил старался произвести впечатление на отца своим интеллектом. Часто в письмах он с мальчишеской экзальтацией высказывал ему свои мысли и суждения о любимых композиторах и философах. Посылал он отцу и свои литературные опыты, надеясь снискать его одобрение. Эйнштейн хвалил сына за энтузиазм, который первое время в какой-то мере разделял, судя по ответным письмам, где затрагивался широкий круг тем — от музыки («Думаю, напрасно ты, шельмец, с презрением отзываешься о сонатах Гайдна») до философии («Мне нравится то, что ты пишешь о Шопенгауэре. Я тоже считаю его стиль великолепным и ценю куда выше, чем содержание его произведений»). Однако со временем непрерывное самоутверждение сына, по-видимому, утомило Эйнштейна. Эдуард стал жаловаться на сдержанность его ответов и не был удовлетворен уклончивыми заверениями отца, что тот, читая его письма, «радуется, словно младенец, которому дали соску», так как видит, что «Эдуард ломает голову над главными в жизни вопросами».
В то же время Эйнштейн неоднократно писал Милеве, что ему по-человечески очень нравится Эдуард, но при этом высказывал пожелания, что хорошо бы мальчику быть менее претенциозным. Гансу Альберту он писал, что его брат очень милый мальчик, но его письма «совершенно не несут на себе отпечатка его личности, а интересы у него — {301} поверхностные». «Сверлить дырки в толстых кусках дерева он определенно не стремится, но должны же существовать люди, которым просто доставляет радость мир, созданный Творцом, — возможно, в этом и состоял Его замысел. В конце концов, все задачи, которые мы перед собой ставим, — всего лишь мыльные пузыри».
Письма Эдуарда, якобы лишенные «отпечатка его личности», на самом деле отмечены глубоким чувством. Он пытался наладить с отцом контакт чисто интеллектуального свойства отчасти потому, что устойчивой душевной близости между ними никогда не было. Трагедия заключалась в том, что отец и сын говорили на разных языках, их объединяла только общая любовь к музыке. По мнению Эдуарда, безликими были именно письма к нему отца. Позднее он писал одному приятелю: «В школьные годы я часто посылал отцу достаточно экзальтированные письма, а получая ответы, несколько раз испытывал сильное разочарование, так как его тон был куда прохладнее моего. Только гораздо позже я узнал, как он дорожил нашей перепиской».
Своим отношением к младшему сыну Эйнштейн мог разве что загнать его в психологический тупик. Так, он сначала похвалил его афоризмы, а потом заявил, что Эдуард списал их у кого-то. Это убеждение, крайне тягостное для Эдуарда, укоренилось в семье. Ганс Альберт позднее утверждал, что его младший брат при всей своей фантастической начитанности и фотографической памяти был напрочь лишен творческого дара и был способен только воспроизводить придуманное другими. Совершенно иного мнения придерживались одноклассники Эдуарда, один из которых даже опубликовал его юношеские произведения, бесспорно оригинальные; многие из них трогательны и остроумны. Возможно, обаяние его афоризмов в переводе утрачивается, но самые грустные из них имеют непосредственное отношение к жизни их автора.
«Тот, кто слишком пылко протягивает к другому руки, будет отвергнут. Нет ничего хуже, чем {302} оказаться в близких отношениях с человеком, для кого и твое существование, и все твои усилия ценности не представляют. Худшая судьба — это не иметь судьбы вовсе, а также не стать судьбой ни для кого другого».
В целом произведения Эдуарда по уровню резко превосходят обычные для подростков сентиментальные пробы пера. Но Эйнштейну склонность сына к самоанализу не нравилась так же, как и абстрактность его писем. Он наигранно легким тоном советовал сыну не относиться к самому себе слишком серьезно и с язвительной мудростью возвещал, что все мы — двуногие животные, происходящие по прямой линии от обезьян, причем бремя унаследованных от них атавистических инстинктов и есть определяющее начало всей нашей жизни.
Эйнштейн пребывал в убеждении, что Милева слишком нянчилась и нянчится с Эдуардом. Он хотел, чтобы он уехал от матери и шел по жизни самостоятельно. Возможно, первым шагом к этому он считал поездку в Англию для изучения языка. По мнению Эйнштейна, это был единственный способ встряхнуть Эдуарда и вывести его из мира грез, и он настойчиво просил Милеву не считаться только с собственными чувствами, но подумать о сыне. Причиной его крайней настойчивости в данном вопросе, возможно, были воспоминания о Полине, чье влияние слишком долго отягощало ему жизнь. Бесспорно, зависимость Эдуарда от Милевы и Милевы от Эдуарда была чрезмерной, но неясно, была ли излишне заботливая опека матери причиной или следствием хрупкости, присущей его натуре.
Яркий портрет матери и сына, убедительно характеризующий их взаимоотношения, дается в воспоминаниях Майи Шукан и Гертруды Каппелер; обе они, будучи подростками, ходили к Милеве заниматься математикой. Фрау Каппелер Милева запомнилась как очень мягкая в обхождении, корректная, очень добросовестная, но требовательная преподавательница, меланхоличная и выглядевшая куда {303} старше своих пятидесяти с небольшим лет. Милева «одевалась как серая мышка», не любила яркого солнечного света и часто жаловалась на головные боли. Фрау Каппелер ее побаивалась, в отличие от фрау Шукан, которой нравились уроки, а Милева казалась приветливой и симпатичной дамой.
«Гостиная на Хуттенштрассе была уютная, с темной мебелью, высокими окнами и довольно темными портьерами. Посреди комнаты стоял стол, за которым я всегда сидела рядом с фрау Эйнштейн, она очень терпеливо и необычайно четко излагала мне основы алгебры и математики вообще и помогала делать домашнее задание. Она держалось со мной по-матерински, благодаря ее помощи все сложное становилось простым. Мои дела в школе сразу пошли куда лучше».
Обе ученицы Милевы знали о прославленном отце ее сыновей, и фрау Шукан даже обращалась к ней «фрау профессор Эйнштейн». В те редкие минуты, когда Милева вспоминала о своем прошлом, она говорила фрау Шукан, что «всегда работала вместе с мужем». Но ни у одной из девушек не сложилось впечатления, что Милева хоть в какой-то степени претендовала на авторство теории относительности. Она также не выказывала ни малейшей озлобленности по отношению к своему бывшему мужу.
Обе девушки отметили, что все в доме вертелось вокруг Эдуарда. Майя Шукан вспоминает, что после окончания занятий Милева сразу же приглашала в гостиную своего сына. Она всегда просила его сыграть на рояле, а потом он, улыбаясь, стоял и смотрел, как мать угощает девочек чаем с печеньем. Эдуард был на два года старше фрау Шукан, но от общих знакомых она знала об его дарованиях, в частности, о литературном таланте. Однажды она попросила его почитать свои стихи, и, к ее величайшему удовольствию, он тут же сочинил экспромт. Они часто встречались в гостях и на танцах, и вскоре она в него влюбилась. Эдуарда нельзя было назвать привлекательным. Его портили плохие зубы, а, танцуя, он всегда наступал на ноги партнерше, {304} но для Майи Шукан это значения не имело. «Он был не такой, как все, и это меня очаровало», — рассказывает она.
Эдуард очень тепло относился к своей поклоннице, но ее чувство осталось безответным. В 1929 году он начал изучать медицину в Цюрихском университете (как и его мать до поступления в Политехникум), предполагая специализироваться по психиатрии. Как и Милева в молодости, Эдуард интересовался психологией и в возрасте примерно пятнадцати лет начал проповедовать сверстникам теории Зигмунда Фрейда. Его одноклассник позднее писал: «Однажды во время похода Эдуард начал рассказывать нам о природе шизофрении. Подозревал ли он уже тогда, что ему угрожает именно эта опасность? Если так, то это ужасно».
На самом деле психиатрия в каком-то смысле была связующим звеном между его гуманитарными интересами и точными науками, которым посвятил себя его отец. Тем не менее Эйнштейн не одобрял его выбора. Он говорил Эдуарду, что читал работы Фрейда, но не обратился в его веру и считает его методы сомнительными и даже не вполне корректными. Эйнштейн познакомился с Фрейдом в Берлине и переписывался с ним по вопросам мира и разоружения. Кстати, в 1936 году Фрейд ему написал: «Я знаю, что вы высказывали мне свое восхищение «только из вежливости» и очень немногие из моих тезисов кажутся вам убедительными».
По мнению же Эдуарда, Фрейд был одним из «величайших гениев человечества» и умел в немногих словах выразить то, что требовало долгих часов умственной работы. Эдуард даже повесил у себя над кроватью его портрет.
К несчастью, Эдуард был обречен стать не психоаналитиком, но пациентом психиатров. Еще в период учебы в университете он перенес вызванную психологической травмой сильнейшую депрессию, от которой так и не смог оправиться. Он погрузился в глубокую апатию, чурался друзей, пропускал {305} занятия, проводил целые дни дома в своей заваленной книгами комнате.
Непосредственным поводом для нервного срыва послужила несчастная любовь: в соответствии с семейными традициями Эдуард увлекся особой, которая была старше него. По воспоминаниям его современника Эдуарда Рюбеля, это была зрелая женщина, студентка медицинского факультета, которая нянчилась с Эдуардом, относилась к нему по-матерински и совершенно вскружила ему голову. Некоторые источники утверждают, что она была замужем. Эйнштейн, по-видимому, был в курсе всей этой истории, он советовал Эдуарду отказаться от своей приятельницы, которая была для него чересчур искушенной и хитрой, и найти себе хорошенькую простушку. В другом письме он предупреждал сына: «Увлекаться противоположным полом приятно и полезно, но для мужчины это не должно быть одним из главных в жизни занятий, иначе он погиб».
Лучшим средством от меланхолии, которое мог предложить сыну Эйнштейн, была напряженная работа. «Как было бы полезно тебе заняться каким-то обязательным делом, — писал он Эдуарду. — Безработное состояние оказалось губительным даже для такого гения как Шопегауэр». Он втолковывал Эдуарду, что жизнь подобна велосипеду и мужчина не утрачивает равновесия только в том случае, если находится в движении. «У твоей болезни есть одна положительная сторона, — пытался он подбодрить сына. — Лучше всего человек знает то, что испытал на собственном опыте. Так что, если ты сумеешь справиться со своим состоянием, у тебя будет возможность стать хорошим врачевателем душ».
Но такого рода советы не помогали. Летом 1930 года письма Эдуарда к отцу становятся истерическими и негодующими. Антонина Валлентен, которая знала о письмах от Эльзы, говорит, что они были «патетическими, бессвязными, отмеченными душевным разладом», представляли собой полубредовые обвинительные излияния, в которых «попытки слабой личности утвердить себя путем высокопарных фраз перемежались с воплями отчаянья». По {306} словам Ганса Альберта, Эдуард писал отцу, что тот его предал и испортил ему жизнь. Он заявлял, что ненавидит его.
Эйнштейн приехал в Цюрих, чтобы переубедить и успокоить сына, но из этого ничего не вышло. По сведениям одного из сербских биографов Милевы, вскоре Эдуард окончательно перестал контролировать себя и грозил выброситься с третьего этажа, из окна своей спальни. Милева якобы сумела его оттащить и вызвала скорую помощь. Тот же биограф рассказывает, что она сразу после этого происшествия отправилась в Берлин, чтобы посоветоваться с бывшим мужем, и приехала туда в ноябре 1930 года в день свадьбы Марго и Марьянова. Последний вспоминает, что увидел Милеву, когда он, Марго и Эйнштейн вышли из регистрационного бюро в районе Шонеберг. «Я бы не обратил на нее внимания, но ее горящие глаза смотрели на, нас так пристально, что это запало мне в душу, — пишет Марьянов. — Марго сказала шепотом: «Это Милева». Мы так и не узнали ни тогда, ни позднее, почему она там оказалась».
Содержание тогдашнего разговора Эйнштейна с Милевой остается тайной. Однако из его писем явствует, что в декабре 1930 года, перед поездкой в Америку, он снова побывал в Цюрихе. Он уподобил себя кочевнику, который разбивает лагерь в своем бывшем доме, и написал Гансу Альберту, что лучшей частью его пребывания там было совместное музицирование с Тетелем и «темпераментной баронессой». Неясно, относится ли это ироничное прозвище к Милеве. Антонина Валлентен вспоминает, что однажды, слушая игру Эдуарда на рояле, она, как ей показалось, сумела проникнуть в суть его внутреннего разлада.
«Вид у него был сосредоточенный, во время игры он, как и отец, совершенно отрешался от всего, что его окружало. Но иногда лицо его становилось отсутствующим и безнадежно печальным. Основным в отношении мальчика к отцу было пылкое восхищение, {307} но оно перемежалось вспышками бунта, напоминавшими о тайной обиде».
Питер Микельмор также вынес из бесед с Гансом Альбертом мнение о том, что Эдуард «испытывал сильные и противоречивые чувства к отцу — любовь и даже обожание, причудливо переплетавшиеся с обидой и чувством собственной несостоятельности по сравнению с ним». По-видимому, когда они вместе музицировали в Цюрихе, отец играл на скрипке, а сын — на рояле, Эдуарду — пока звучала музыка — удавалось распутать эти противоречия и прийти в состояние гармонии с отцом.
Милева пыталась обеспечить должный уход за сыном в домашних условиях. И в начале лета 1932 года он был в достаточно хорошем состоянии, чтобы самостоятельно отправиться в Италию к Майе Эйнштейн. Он приехал к ней без предупреждения, с крошечным чемоданом, и провел у нее восемь дней, в основном сидя за фортепьяно, которое подарил ей брат, играя Моцарта «очень серьезно и с безупречной техникой». Однако вскоре после возвращения в Цюрих его состояние ухудшилось, и в конце года его в первый раз поместили в психиатрическую клинику Бюргольцли, где он прошел курс лечения от шизофрении.
Именно там начинал свою карьеру психиатр Карл Юнг, и он утверждал, что в те времена это было учреждение с мрачной и гнетущей атмосферой, в нем господствовала узость взглядов и пренебрежение к личности и человеческому достоинству больного. Суждение достаточно резкое, так как для своего времени это была относительно прогрессивная клиника. Сама концепция шизофрении была разработана в 1908 году ее тогдашним директором Эженом Блюлером, сын которого, Манфред, большую часть времени вел больного Эдуарда Эйнштейна. Однако Блюлер трактовал понятие шизофрении весьма широко. Сейчас Эдуарду, возможно, поставили бы другой диагноз и, несомненно, лечили бы его амбулаторно. Когда он в первый раз стал пациентом {308} Бюргольцли, на смену прежним методам лечения, то есть горячечным рубахам и насильственным купаниям в ледяной воде, приходили новые. Однако многие врачи считали их глубоко неверными, и их польза для Эдуарда оказалась весьма сомнительной.
Эдуарда подвергли инсулиновой терапии, как было принято в то время. Цель инсулиновых шоков состояла в том, чтобы вызвать кому, длящуюся около двух часов: предполагалось, что за это время мозг может отдохнуть и восстановить свои функции. Некоторые пациенты по выходе из бессознательного состояния становились спокойными и уравновешенными, на других лечение не действовало. Кое-кто не выходил из комы вообще или окончательно утрачивал рассудок. В ноябрьском письме 1940 года Эйнштейн утверждает, что в случае Эдуарда это лечение кончилось полным провалом.
Также имеются данные, что Эдуарда лечили электрошоком. Никто и никогда не умел убедительно объяснить, почему такое воздействие может иметь терапевтический эффект, хотя некоторые врачи до сих пор полагают, что в случае тяжелой депрессии электрошок — наилучшее лечение. По словам второй жены Ганса Альберта Элизабет, ее муж однажды сказал, что это лечение погубило его брата. В конце тридцатых годов, когда оно начало применяться в Бюргольцли и в других лечебных учреждениях, способы его проведения были самые примитивные. Пациенты переносили процедуру в полном сознании. Через их тело пропускали ток до тридцати миллиампер, не дав им предварительно никаких расслабляющих мускулатуру препаратов. В результате из-за сильнейших конвульсий у многих ломались или смещались кости, иные умирали от удушья. Сама мысль об этом лечении внушала больным ужас.
В наши дни Бюргольцли представляет собой комфортабельное, хорошо оборудованное лечебное учреждение, где пациентов и посетителей окружает атмосфера доброжелательности. Во времена Эдуарда это было весьма мрачное место, больные жили в скверных условиях, в переполненных палатах. {309} Свобода большинства пациентов резко ограничивалась, и даже во время революционных перемен в психиатрии, то есть в тридцатые годы, персонал называл их «заключенными». Самых тяжких унижений, выпадавших па долю душевнобольного. Эдуарду, по-видимому, удалось избежать, так как Эйнштейн оплатил его пребывание в отделении первого класса, где немногочисленным обеспеченным пациентам предоставлялись собственные комнаты, предназначенная только для них столовая и гостиная с обитой плюшем мебелью. Эти привилегированные больные не работали ни в саду клиники, ни в мастерских, у многих из них были собственные сиделки. В декабре 1932 года Эдуард, находясь в Бюргольцли. поблагодарил фрау Шукан за стихи, которые она ему прислала. В другом письме не чувствуется жалости к себе, он уверяет, что состояние у пего вполне сносное. Суть его короткою послания сводится в основном к тому, что он желает ей добра и прост прошения за ту боль, которую мог невольно ей причинить. Степень его психической деградации можно угадать только по почерку; прежде элегантный и стремительный, он превратился теперь в угловатые, неразборчивые каракули. В другом письме к ней он говорит: «Какой-то участок у меня в голове часами болит, как воспаленный зуб. Не следует думать, что я переношу все ли мучения с целью обрести мудрость. Нельзя стать мудрым насильственным путем, и глупо было бы этого желать. Я не хочу ничего, кроме минимального душевного спокойствия. Иногда я напоминаю себе героя прекрасной повести Германа Гессе «Ирис», который с головой погрузился в собственное прошлое и не смог оттуда выбраться».
Эйнштейн писал сыну, чтобы тог не расстраивался «из-за лечения, подобного заточению в монастырь». Он неуклюже пытался утешить Эдуарда рассказом о каком-то своем друге в Пасадинс, скорее всего вымышленном, который попал в аналогичное заведение из-за депрессии, но по доброй воле остался там навсегда, так как счел, что это — лучшее место для человека, занимающегося умственной {310} работой. Эйнштейн по-прежнему выражал глубокое недоверие к психоанализу, он уверял Эдуарда, что адепты этого учения становились впоследствии его рабами и не могли освободиться от этой зависимости. Он просил сына приехать к нему в Берлин: «Мне кажется, что в этих обстоятельствах только я смогу тебе помочь».
Эльза говорила своей подруге Валлентен, что Эйнштейн очень удручен состоянием сына. «Альберту крайне трудно сохранять самообладание, — пишет Эльза. — Его снедает горе, хотя он сам не хочет признавать, как ему тяжело. Он всегда стремился стать неуязвимым со стороны вещей, касающихся только его. Ему это удалось в большей мере, чем всем, кого я знаю. Но этот удар оказался для него очень тяжелым». В ответ на просьбу сына проанализировать себя с позиций Фрейда, Эйнштейн даже согласился, чтобы Эдуард по приезде просветил его в основах психоанализа. Однако эту попытку вникнуть в круг интересов Эдуарда Эйнштейн заранее обрекает на провал своим поразительным высокомерием: он обещает, что во время их совместных психоаналитических штудий постарается не хихикать.
Такая позиция Эйнштейна приводила в смятение его старинного друга и союзника Мишеля Бес-со, который подвергся психоанализу в середине двадцатых годов, когда утратил веру в свои профессиональные способности. Ему скоро должно было исполниться шестьдесят. Седая борода и шевелюра делали его похожим на ветхозаветного пророка. Его облик был таким же выразительным, как у Эйнштейна. Письма Бессо становились все более путаными, но способность сострадать чужому горю оставалась прежней.
В сентябре 1932 года он написал длинное, прочувствованное, трогательное послание, обращенное к своему «дорогому, доброму, старому другу», где настойчиво просил Эйнштейна, чтобы тот оказывал сыну более весомую моральную поддержку. С присущими ему деликатностью и тактом Бессо подчеркивал, что его любовь к своему сыну Веро оказалась силой, способной собрать воедино разнородные {311} элементы его жизни и примирить со сложностями в семейных отношениях. Он подчеркивал давность и прочность своих связей с Эйнштейном — со времен Берна, когда он с чувством «чистейшей радости» наблюдал за работой мысли своего гениального друга, и далее до переезда Милевы с детьми в Цюрих, когда, по мнению Бессо, его неудачные попытки примирить супругов только ускорили развод. Он пишет, как некий «незаинтересованный человек» из числа его знакомых, увидев фотографию Эйнштейна с падчерицей, заметил: «Я-то думал, у него сын; его сыновей почему-то ни на одной фотографии не увидишь». И у Эйнштейна действительно есть Эдуард, умный и отзывчивый, пускай ушедший в свой мир и отягощенный душевной болезнью, но так сильно нуждающийся в руководстве своего отца.
Бессо примерно представлял себе реакцию друга на эти увещевания и в том же письме, чтобы обезоружить адресата, вложил в его уста следующий предполагаемый ответ:
«Что я могу тут сделать? Каждый из нас вынужден прийти к какому-то компромиссу с самим собой. Я шел на это и пойду в дальнейшем. Что знаешь ты, о седовласый ребенок, о бремени исследователя и о бременах неудобоносимых, которые люди пытаются возложить на меня со всех сторон? Помоги, если можешь, если нет, то смирись, так же, как смиряются другие люди».
И все-таки, пишет Бессо, и все-таки... Он просит Эйнштейна, чтобы тот брал с собой Эдуарда в заграничные поездки, чтобы провел с ним полгода: это помогло бы ему преодолеть барьер, разделяющий его с сыном. Он сумел бы взглянуть на жизнь Эдуарда изнутри и увидеть то общее, что у них есть.
Эйнштейн ответил далеко не сразу, и Бессо подумал, не зашел ли он со своими советами слишком далеко. К следующему своему посланию он приложил письма, которыми обменивался с Эдуардом. Эта «доставившая радость» Бессо переписка должна была, по его предположению, тронуть сердце {312} Эйнштейна. Бессо отметил, что в письме к Эдуарду вычеркнул слова «твой великий отец», чтобы мальчик не почувствовал себя еще более несчастным. В одном из своих писем Бессо настойчиво советовал Эдуарду посетить Эйнштейна в Берлине, так как «нам, старикам, общество молодых нужнее, чем мы думаем».
В своем ответе от 17 октября 1932 года Эйнштейн уверяет друга, что ничуть не обиделся, но занимает оборонительную позицию. Он опять утверждает, что проблемы Эдуарда обусловлены нездоровой наследственностью и что внешние факторы играют второстепенную роль. Он сообщает, что пригласил Эдуарда пожить у его в Принстоне на будущий год. Были его благие намерения искренними или нет — сказать трудно, но через три месяца к власти пришли нацисты, и это спутало все планы. Теперь уже Эйнштейн нуждался в помощи, и предложение оказать ее пришло с неожиданной стороны. Узнав, что ее бывший муж не может вернуться в свой дом в Берлине, Милева предложила ему и Эльзе какое-то время пожить у нее в Цюрихе. Этот ее шаг удивил и обрадовал Эйнштейна, хотя ее любезностью он не воспользовался.
Эйнштейн временно поселился в Бельгии, оттуда в мае 1933 года совершил короткую поездку в Швейцарию, причем из-за этого ему пришлось отложить намеченный визит в Оксфорд: он состоял в должности приглашенного научного сотрудника в колледже Крайст Черч Оксфордского университета. Приглашавшему профессору Фридерику Линдеманну Эйнштейн написал, что его младший сын серьезно болен. «В Англии у меня не было и минуты покоя, — поясняет Эйнштейн. — У вас нет детей, но я не сомневаюсь, что вы поймете мои чувства». Мы ничего не знаем об этой предпринятой впопыхах поездке в Цюрих, во время которой отец встретился с сыном последний раз в жизни. От нее осталась только фотография: Эйнштейн, держа в руках скрипку и смычок, печально смотрит в сторону, Эдуард с напряженным, даже страдальческим лицом уставился в книгу. {313}
В июне 1933 года Эйнштейн в письме обещает Милеве постоянную финансовую и моральную поддержку. Он снова настаивает на том, что лучшее лечение для Эдуарда — работа, и даже предлагает сыну написать трактат о психоанализе, который убедил бы его скептика-отца в правоте Фрейда. Еще через четыре месяца он навсегда переезжает в Америку. Милеве и ее несчастному младшему сыну больше не суждено его усидеть.
Милева старалась забирать Эдуарда домой как можно чайте, она показывала его лучшим специалистам в Швейцарии и Вене. Эйнштейн оплачивал консультации. Ганс Альберт утверждал, что, среди прочих врачей, его брата консультировал сам Фрейд, но это не подтверждается другими источниками. Познания Эдуарда в психиатрии очень осложняли работу врачей, так как он был знаком со многими тестами, мог предугадать типичные вопросы и направление предстоящей беседы. Какое-то время казалось, что одному венскому доктору удалось исцелить Эдуарда, но позже Эйнштейн отозвался об этом лечении как об ужасающем шарлатанстве.
В 1934 году Эдуард снова приехал в Италию к Майе Эйнштейн, на этот раз в сопровождении санитара-охранника, который ни на минуту не оставлял его одного. Эдуард гостил у нее два года назад, и теперь она была подавлена тем, как сильно он изменился: располнел и обрюзг до неузнаваемости. «Тоска висит на нем свинцовым грузом, и мне особенно больно смотреть на него в те редкие мгновения, когда прежняя солнечная улыбка мелькнет у него на лице и сразу же исчезнет. Слава Богу, что его страж при нем. Одна бы я не справилась. Бедный мальчик, он невыразимо страдает».
Майя пишет, что остро ощущает кровную связь с Эдуардом и что во время его визита она подолгу плакала, так как в минуты просветления он выказывал живость ума и проблески былого интеллекта, и она испытывала танталовы муки or невозможности вернуть племянника в прежнее состояние. Бессо, побывавший у Милевы в 1937 году, отзывается об {314} Эдуарде почти так же, как Майя. Он застал Эдуарда за роялем, тот играл Генделя и Баха, вкладывая в исполнение и силу, и нежность. Бессо также упоминает об его избыточной полноте и о том, что он избегал встречаться с друзьями и уже год не выходил из дома. Эдуард развлекал гостя своими блистательными рассуждениями о психологии, но слова он ронял так медленно, что Бессо пришел на ум старый орган, на котором можно играть, только ударяя кулаками по клавишам.
Академические связи Бессо с Цюрихом прервались в 1938 году, и подобные визиты стали невозможными. В том же году Ганс Альберт оставил свое место в швейцарском Политехникуме и вместе с семьей эмигрировал в Америку. Еще в 1937 году, непосредственно после смерти Эльзы, Ганс Альберт по приглашению Эйнштейна долго гостил у него. Фоторепортеры запечатлели их встречу в доке Нью-Джерси: Ганс Альберт зажигает отцу трубку. От интервью Эйнштейн отказался: «В конце концов, частная жизнь есть частная жизнь». Он снабдил сына деньгами и высказался в пользу его переезда в Америку. Ганс Альберт нашел место научного работника-гидролога в Южной Каролине, в Департаменте сельского хозяйства, и работал в этой должности до 1947 года, затем перешел в Калифорнийский университет в Беркли. В год его эмиграции его шестилетний сын Клаус умер от дифтерита. Эйнштейн написал ему: «Тебя посетило величайшее горе, какое только может выпасть на долю любящих родителей».
Эйнштейн был очень рад тому, что они с сыном обосновались в одной стране, хотя встречались не слишком часто. Что до Милевы — отъезд Ганса Альберта усугубил ее одиночество. Ее отец умер от удара в феврале 1920 года. Мать скончалась 1 января 1935 года в возрасте восьмидесяти восьми лет. В год отъезда Ганса Альберта Милева узнала о смерти своей сестры. Зорку Марич лечили в Бюргольцли так же безуспешно, как Эдуарда, она вскоре покинула это {315} заведение и вернулась в Нови-Сад, к родителям. Она неприязненно относилась к большинству людей и выказывала симпатию только к животным. Когда ее отец продал усадьбу, он неосторожно спрятал вырученную сумму в плиту, которой не пользовались. Зорка тут же сожгла деньги. После смерти матери она начала пить, одиноко жила в родительском доме, компанию ей составляли кошки. Ее тело нашли в кухне на устланном соломой полу, кошки гуляли вокруг него как ни в чем не бывало.
Осталось рассказать только о судьбе брата Милевы Милоша. После того как он попал в плен во время первой мировой войны, о нем долгое время не было никаких сведений, и в 1935 году его официально признали умершим. На самом деле в русском плену ему дали возможность работать по профессии, то есть медиком. После всех катаклизмов, связанных с приходом коммунистов к власти, Милош сделал успешную карьеру и стал преподавателем гистологии. Он работал сперва в Днепропетровске, потом в Саратове, где и умер в 1944 году. Коллеги и студенты уважали его за ум и эрудицию в сочетании с умением кратко и четко объяснять любую сложную проблему. Он, как и Милева, был молчалив и застенчив. Но если жизнь его талантливой старшей сестры сложилась трагически, то его собственная оказалась завершенной и отмеченной заслуженным признанием.
| {316} |
На глазах у Милевы Эдуард все глубже погружался в безумие. Назревала вторая мировая война, а Эйнштейн прятался от событий в академически спокойном Принстоне. Он описывал это место как остров, как тихое прибежище, «куда почти не доносятся отзвуки людских раздоров». В этом маленьком американском университетском городке он, по его словам, наслаждался «одиночеством, какое возможно только среди людей, чье прошлое и взгляды на жизнь совершенно отличны от твоих».
Это высказывание можно принять только с очень большой поправкой. Дома Эйнштейна окружали преданные ему люди, чье прошлое и взгляды на жизнь имели много общего с его собственными. Пусть он не желал этого признавать, но именно присутствие близких делало его «одиночество» вполне терпимым. Однако эти высказывания очень типичны для Эйнштейна в американский период его жизни. Они взяты из писем, обращенных к бельгийской королеве Елизавете, с которой Эйнштейн очень подружился, когда жил в Европе. Их знакомство состоялось в 1929 году, когда она впервые пригласила его во дворец, где впоследствии он не раз бывал. Эйнштейн часто писал Елизавете длинные прочувствованные письма, начинавшиеся неофициальным обращением «Дорогая королева».
Она и ее муж, король Альберт, были самыми скромными и демократичными среди правящих семейств. Однажды Эйнштейн, не будучи приглашенным заранее, оказался у них за ленчем; ему очень {317} понравилась и простая пища — шпинат, яичница, картошка, — и то, что за столом никто не прислуживал. Но хотя в отношениях с великим человеком королевская чета пренебрегала формальностями, тем не менее существовал неустранимый барьер: Елизавета и Альберт были монархами. Именно поэтому дружба с ними доставляла Эйнштейну особенное удовольствие как по причине ее экстравагантности, так и в силу того, что она не могла стать чересчур тесной.
Эйнштейн писал Елизавете как близкому другу, его письма к ней считаются едва ли не самыми откровенными во всем его эпистолярном наследии. Одна из основных тем его писем — утверждение собственного безразличия к человеческим чувствам, страстям и слабостям. Характерный пассаж такого рода мы находим в письме, отправленном в марте 1936 года, то есть незадолго до смерти Эльзы. Общий знакомый попросил Эйнштейна найти для Елизаветы слова утешения, так как после смерти мужа и падчерицы она впала в глубокое отчаянье и никак не могла справиться со своим горем. Эйнштейн начинает письмо с признания о том, что первые весенние лучи пробудили его от «похожего на спячку транса, в который свойственно погружаться таким, как я, ушедшим в науку людям». Он уговаривает Елизавету (ныне — королеву-мать) черпать силы в весеннем обновлении жизни, которое намекает нам на существование «чего-то вечного, что превыше превратностей судьбы и всех человеческих страстей и заблуждений». Но главная мысль этого письма заключена в следующих строчках.
«Читали ли Вы «Максимы» Ларошфуко? Они достаточно резки и мрачны, но благодаря объективации «человеческого и слишком человеческого» приносят странное чувство освобождения. Ларошфуко являет собой пример человека, который сумел стать свободным, хотя ему было достаточно трудно избавиться от бремени страстей, которым наделила его Природа, отправляя в жизненный путь. Лучше всего читать Ларошфуко с людьми, чей утлый кораблик вынес немало штормов». {318}
Захватническая война Гитлера в Европе вызывала у Эйнштейна ужас и отвращение, но он отказывался признать, что такого рода вещи способны затронуть его внутренний мир. Летом 1939 года он написал Елизавете почти дословно то же, что Эренфесту в начале первой мировой войны. Он с гордостью утверждал, что «если бы не газеты и бесчисленные письма, я едва ли заметил бы, что живу в то время, когда человеческая жестокость и моральное уродство достигли таких ужасающих масштабов». Годом раньше в письме к Бессо Эйнштейн с крайним цинизмом высмеял его надежды на то, что Англия окажет активное сопротивление нацистам. Не без оснований Эйнштейн подозревал, что Чемберлен, тогдашний премьер-министр Англии, предпочтет принести в жертву Восточную Европу, чтобы обратить агрессию Гитлера на Россию, а не на Англию. Сам Эйнштейн написал, что в этой прискорбной ситуации он умывает руки. «Мне нет никакого дела до будущего Европы. ... Если бы не моя работа, мне бы не хотелось жить... В любом случае, хорошо, когда человек стар и ему не приходится рассчитывать на то, что его собственное будущее окажется, долгим».
Ясно, что это напускное равнодушие было защитной реакцией, на самом деле Эйнштейн жаждал поражения Гитлера. Он отбросил свой прежний пацифизм и всячески поддерживал вооруженную борьбу против нацистов. Организованную силу может победить только организованная сила, говорил он и добавлял «как это ни прискорбно».
Он стал гражданином США в октябре 1940 года, ровно через год после того, как Англия и Франция объявили о вступлении в войну. Эйнштейн призывал остановить «немецких кровавых псов» любой ценой, считал своих прежних соотечественников моральными уродами. Летом 1942 года он писал: «В силу злосчастных традиций понятия у немцев настолько извращены, что ситуацию будет весьма трудно исправить какими-либо разумными, я уже не говорю, гуманными, способами. Я надеюсь, что к концу войны немцы с Божьего соизволения в значительной {319} мере истребят друг друга». Эйнштейн предпринял практические шаги, чтобы ускорить поражение Германии. В последние годы войны он был консультантом в системе ВМС США, проводил теоретические исследования, связанные со взрывами, получая по 25 долларов в день. Он также поддержал намерение Ганса Альберта «работать на войну», и его сын стал вольнонаемным в инженерных войсках.
Впоследствии Эйнштейн отрицал, что сам когда-либо занимался разработками, связанными с вооружением. Говоря словами его биографа Рональда Кларка, «он был не чужд человеческих слабостей, а потому мог вытеснить из сознания те неприятные факты, которых не желал признавать». Забывчивость Эйнштейна связана с тем, что он чувствовал себя ответственным за создание атомного оружия в США — работы в этом направлении активизировались после его письма к президенту Рузвельту о применении ядерной энергии в военных целях.
Эйнштейн обращался к Рузвельту от лица многих американских ученых. Коллеги помогли ему составить черновой вариант письма, ибо представления о техническом аспекте проблемы, и о том, как может выглядеть атомная бомба, были у него самые смутные (в частности, он опасался, что ее не сумеет поднять самолет). Очевидно, что голоса других, менее прославленных людей, сыграли куда большую роль в создании атомной бомбы. Тем не менее в дальнейшем Эйнштейн высказывал сожаления о том, что хоть в какой-то мере оказался причастен к разрушению Хиросимы и Нагасаки.
Гансу Альберту пришлось свыкнуться с мыслью, что в сознании людей его фамилия навсегда связана с ужасами атомной войны. Через несколько лет после смерти Эйнштейна, когда Ганс Альберт читал лекцию в Лахоре, какой-то человек набросился на него, схватил за галстук и начал трясти. «Твой отец виноват в создании атомной бомбы, и ты за это ответишь», — бушевал благородный мститель, по всей видимости, желая осуществить справедливость немедленно. Группа преподавателей и студентов оттащила {320} его от Ганса Альберта, но ему пришлось пережить весьма неприятные минуты.
Первая реакция Эйнштейна на атомную бомбардировку Хиросимы была более чем сдержанной. Он узнал о случившемся, когда находился на озере Саранак, в горах Адирондак, штат Нью-Йорк. 6 августа 1945 года, когда Эйнштейн отдыхал после ленча, Элен Дюкас услышала по радио, чго на Японию сброшены бомбы нового типа. Когда во время чаепития Дюкас сообщила ему об этом, Эйнштейн ответил односложно: «Oh, Weh» — «Увы!»
Дюкас теперь постоянно находилась рядом со своим патроном, она делила с ним квартиру на Мерсер-стрит. будучи одновременно кухаркой, домоправительницей и главным доверенным лицом. Телефон в ее комнате трещал днем и ночью. Ее преданность Эйнштейну не знала пределов, о ее враждебном отношении к любопытствующим посетителям, даже из числа родственников, ходили легенды. Чтобы спасти Эйнштейна от толпы репортеров, Дюкас ничего не стоило выскочить из дома в грязном переднике, отчаянно выкрикивая: «Профессор Эйнштейн, это газетчики. Не разговаривайте с ними, не разговаривайте!». Когда репортеры в связи с семидесятипятилетием ученого обратились к его коллегам с просьбой организовать встречу Эйнштейна с прессой, Дюкас отдала ученым из Института высших исследований четкое распоряжение: «Скажите им, пускай провалятся». Последние же предложили более тактичную формулировку «Никаких заявлений не будет».
Когда Эйнштейн состарился, Дюкас, не желая его беспокоить, даже вскрывала обращенные к нему письма родственников. Эвелина вспоминает: «Иногда ей казалось, что Альберт слишком занят, чтобы прочесть мое письмо и на него ответить. Она это делала сама, а я в таких случаях очень обижалась». Марк Дарби, архивист в Институте высших исследований, просматривал фотографии Эйнштейна и его поразила настойчивость, с которой Дюкас демонстрировала свое присутствие в жизни ученого. «Я обратил внимание, что она ухитрилась попасть {321} буквально на все фотографии. ...И всюду смотрела прямо в объектив. Она, как видно, считала этого господина своей собственностью».
Жизнь Дюкас была так неразрывно связана с жизнью патрона, что один из его молодых посетителей принял ее за его жену. Поговаривали о том, что у нее с ним был роман. По словам Петера А. Буки, сына Густава Буки, врача и друга Эйнштейна, Ганс Альберт подозревал, что между его отцом и Дюкас что-то было, и несколько раз высказывал такое мнение в узком кругу. Однако сама Дюкас говорила, что обычно Эйнштейн проявлял к ней не больше нежных чувств, чем к столу или стулу. Одновременно Буки сделал предположение, что Дюкас могла оказаться исчезнувшей в младенчестве дочерью Эйнштейна Лизерль. которая в результате каких-то необъяснимых интриг и совпадений вернулась под отцовский кров.
Его сведения особого доверия не внушают. На деле все было, по-видимому, куда проще. Дюкас необходим был кумир, чтобы ему служить, а Эйнштейн нуждался в женской преданности и служении. О ее роли в жизни Эйнштейна красноречивее всего свидетельствует его завещание, написанное в 1950 году и засвидетельствованное, в числе прочих, Куртом Геделем, одним из величайших в истории науки логиков. Эйнштейн завещал Дюкас не только свои книги и личные вещи, но еще 20 000 долларов — на пять тысяч больше, чем Эдуарду, и вдвое больше, чем Гансу Альберту. Но что самое главное, он предоставил ей пожизненное право получать весь доход от публикаций его книг и сталей. «В своем завещании Эйнштейн отказал мисс Дюкас самое ценное из своего наследства», — писала по этому поводу «Нью-Йорк тайме».
То, что Эйнштейн предпочитал быть в обществе женщин, хорошо известно. На Мерсер-стрит, кроме Дюкас, с ним жили еще две дамы. Падчерица Марго (по завещанию она тоже получила 20 000 долларов) была Эйнштейну ближе его сыновей. Ее муж Марьянов сначала приехал к ней в Штаты, но в 1934 году {322} они расстались. Марго и Дюкас присягнули на верность Америке тогда же, когда Эйнштейн, в 1940 году. По словам одного наблюдательного комментатора, Марго «стала до такой степени похожа на Эйнштейна и манерами, и внешностью, что трудно было поверить в дальность их родства». Ее восхищение своим приемным отцом доходило до абсурда. Так, по мнению Марго, Эйнштейн не просто занимался парусным спортом, но «бороздил море, как Одиссей», и был настолько «мощным и естественным», что казался ей воплощением стихийной силы, «явлением природы». Сентиментальность Марго, по-видимому, импонировала Эйнштейну, однажды он сказал: «Слушаешь Марго, и в душе распускаются розы». В доме на Мерсер-стрит было множество скульптур ее работы, она часто ходила на прогулки вместе с отчимом.
Третьим членом дамского кружка была сестра Майя. Эйнштейн пригласил ее переехать к нему в Америку в 1939 году, когда Муссолини ввел антисемитские законы в Италии. Ее муж Пауль Винтелер, который, по-видимому, устал от сложностей семейной жизни, остался в Европе и поселился с мужем своей покойной сестры Мишелем Бессо в Женеве. Майя мечтала вернуться к человеку, которого она звала «Paulus Rex», или «Король Пауль», и очень тосковала по Флоренции. Но из-за войны и неполадок со здоровьем ей не суждено было снова попасть в Европу. Утешением ей служила любовь к брату, который относился к ней с такой безмерной заботой и нежностью, о каких Милева и Эльза могли только мечтать. В детстве и молодости отношения между братом и сестрой не были безоблачными. Эйнштейн дразнил Майю, в глубине души считал ее обывательницей. Однако после его второй женитьбы и смерти их матери от взаимных недовольств не осталось и следа. Они стали как никогда близки.
С годами Майя внешне стала похожа на Эйнштейна еще больше, чем Эльза. В семье ее звали «солнышко» из-за ослепительного нимба седых волос, однако сама Майя писала, что ее брат со своей безграничной добротой «имел больше прав на такое {323} «сияющее» прозвище, чем я». Уже в конце жизни она послала родственникам в Женеву фотографию, где изображена на крыльце своего американского дома. Только ее муж смог с уверенностью сказать, что перед ним портрет его жены, а не Эйнштейна, и Майю это очень развеселило. Даже в самих интонациях ее и в скептицизме, стоявшем за привычной простотой формулировок, чувствовалось влияние прославленного брата.
Сперва Майя опасалась, что американское окружение Эйнштейна воспринимает ее просто как обязательное приложение к его особе и дружелюбно обходится с ней только потому, что «хозяину льстит, когда гладят его собаку». Однако она гордилась тем, что была первой, с кем Эйнштейн делился своими мыслями, в том числе и о науке. Разумеется, у нее не было должной подготовки, чтобы рассуждать о современной физике, но брат ценил ее интеллект. Он любил думать вслух и по-прежнему нуждался в том, чтобы его с восхищением слушали. Один из его сотрудников, Эрнст Штраус, говорил: «Так как она была очень хорошей слушательницей, он любил излагать ей свои новые идеи. Он чувствовал, что действительно что-то понял, только тогда, когда мог объяснить свою концепцию себе и другим при помощи самых простых понятий». Насколько тепло Эйнштейн относился к сестре, видно и из того, как ласково он над ней подшучивал. Майя была вегетарианкой, но безумно любила булочки с сосисками. Эйнштейн предложил разрешить это противоречие так: для Майи, и только для Майи, булочки с сосисками считать за овощи.
Самым впечатляющим доказательством любви Эйнштейна к сестре послужило его поведение, когда в 1946 году Майя после инсульта оказалась прикованной к постели. Марго исполняла при ней обязанности сиделки. Эйнштейн ежевечерне читал сестре произведения их любимых авторов. «Этого часа каждый день с нетерпением жду не только я, но и он тоже, что для меня очень приятно, — слабеющей рукой писала Майя приятельнице. — Он бывает {324} очень огорчен, когда ему приходится отказываться от наших вечерних чтений из-за каких-нибудь важных гостей».
В принстонский период еще один человек, на сей раз мужчина, сыграл важную роль в жизни Эйнштейна. Когда Эйнштейн с Эльзой переселились в Америку, профессор Отто Натан оказался одним из первых, кто посетил их и предложил свою помощь в устройстве на новом месте. Он как и Эйнштейн, был уроженцем Германии и покинул ее из-за прихода нацистов к власти. Натан, выдающийся экономист, служил экономическим советником правительства Веймарской республики и был делегатом Всемирной экономической конференции, проходившей в Женеве в 1927 году. В Принстоне он преподавал в университете, а для Эйнштейна вскоре стал незаменимым советчиком и посредником в деловых отношениях. Обоих объединял политический радикализм. Во времена маккартизма Натана подозревали в симпатиях к коммунизму. Он стал мишенью для Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, из-за чего у него были неприятности, в частности, затруднения в получении заграничного паспорта. Натан был аскетичен, не пил и не курил, редко позволял себе пошутить. Свою неколебимую верность и преданность Эйнштейну он сохранил и после смерти ученого: на протяжении почти полувека он был ближайшим другом и надежнейшим союзником Элен Дюкас.
О стареющем Эйнштейне его соседи-американцы рассказывали множество забавных историй. Он жил в их городе, и они привыкли видеть, как он идет на работу или в парк, но существует легенда о заезжем автомобилисте, который увидел его, узнал и гак растерялся, что врезался в дерево. Рассказывают также, как перехватывало дух у участников семинаров по физике и какая благоговейная тишина воцарялась в аудитории, когда в ней появлялся Эйнштейн. Лучше всего он ладил с маленькими детьми и животными. Одна восьмилетняя девочка даже {325} предложила ему ириску за то, чтобы он сделал ей домашнее задание. Он вежливо отказался, но угостил ее печеньем, чтобы она не расстраивалась. Когда шел дождь, он утешал своего кота словами: «Кис, я знаю, в чем дело, но, ей-богу, не знаю, как эту штуку выключить». Эти его милые чудачества уживались с изрядным цинизмом. Однажды Марго обеспокоил понурый вид ее длиннохвостого попугая, и она спросила Эйнштейна, не думает ли он, что попугаю нужна подруга. «Все это иллюзии, — ответил он. — Когда ты думаешь, что у тебя есть подруга, это иллюзия».
Милеву такое высказывание ничуть не удивило бы. В последние годы жизни эта женщина, неизменно одетая во все темное, на глазах худела и слабела. Однако в ней угадывались сила и индивидуальность, ее присутствие непонятно почему было очень ощутимым для окружающих, во всяком случае по словам ее соотечественника, лауреата Нобелевской премии по химии Владимира Прелога, который в Цюрихе жил в доме почти напротив нее. По его мнению, Милева выделялась среди соседей: «С балкона мы часто видели старую даму, сразу приковывавшую к себе внимание. Чувствовалось, что перед тобой незаурядная личность. Позднее мы узнали, что это и есть Милева Марич-Эйнштейн. Я мог бы поговорить с ней на родном для нас обоих сербском языке, но не посмел завязать с ней знакомство. Я решил, что и без того слишком много людей докучает ей расспросами о бывшем муже».
Когда дочь Ганса Альберта Эвелину еще совсем маленькой девочкой привезли к бабушке, та показалась ей строгой и сердитой, внушающей страх. Милева говорила о пятилетней внучке так, как будто ее не было в комнате. «Для Милевы я была «этим иностранным ребенком», потому что родилась в Америке», — вспоминает Эвелина. Милева умела быть сухой и колючей, сродни тем кактусам, что во множестве росли в ее доме: среди них, возможно, были и привезенные Эйнштейном из Южной Америки. {326}
Внучке показалось, что теплые чувства ее бабушки распространялись только на эти экзотические растения, но другие люди отзывались о Милеве с большой симпатией. Мария Грендельмайер, которая вместе со своим мужем Иозефом переехала в дом на Хуттенштрассе в 1942 году, вспоминает, как искренне радовалась Милева, когда у них родился первый сын. У Милевы жил сиамский кот, она его обожала, а посаженные ею в саду кусты черной смородины до сих пор плодоносят.
Годы шли, и ей становилось все трудней обеспечивать уход за Эдуардом в домашних условиях. Соседи, в частности фрау Грендельмайер, прекрасно понимали, насколько он болен; последняя отзывалась о нем как об «очень приветливом, но непредсказуемом» молодом человеке, который испытывал к матери двойственные чувства — «любовь и ненависть одновременно». Когда у Грендельмайеров родился первенец, Эдуард сказал очень учтиво, авторитетным тоном: «Фрау Грендельмайер, если вам понадобятся какие-либо медицинские сведения о младенцах, я к вашим услугам».
Но его обаяние и напускная самоуверенность порой сменялись приступами дикого возбуждения, которые обыкновенно начинались, когда задувал фен — сухой, горячий, удушливый ветер с Альп. В большинстве случаев эти приступы были безопасны для окружающих, но производили тягостное впечатление. Эдуард либо оглушительно и беспорядочно барабанил по клавишам, либо начинал выбрасывать в окно картины, безделушки и все, что попадалось под руку. Он выскакивал из темноты и пугал соседей, поднимавшихся по лестнице, а также шокировал мать тем, что выходил встречать гостей не надев брюк.
Впрочем, иногда выходки Эдуарда носили угрожающий характер. Фрау Грендельмайер вспоминает случай, возможно и не единственный, когда он набросился на мать так, словно хотел ее задушить. Воспоминания об агрессивном поведении Эдуарда сохранились и в семье Ганса Альберта. Когда он становился опасен, Милеве приходилось звонить в {327} Бюргольцли и просить, чтобы сына снова приняли на лечение, другого выхода у нее не было. Фрау Грендельмайер помнит, как ни свет ни заря его увозили из дома на желтой машине.
Эдуард продолжал сочинять афоризмы, сочувствовавший ему врач посылал их Эйнштейну, причем не сразу назвал имя автора. Надо думать, Эйнштейн достаточно быстро все понял и написал Бессо, что они по ясности и точности мысли далеко превосходят все письма, которые он по-прежнему получает в огромном количестве. «Мучительно жалко, что у мальчика нет никаких надежд жить нормальной человеческой жизнью, — писал Эйнштейн. — Так как инсулиновая терапия закончилась полным провалом, на помощь медиков больше рассчитывать не приходится. Я вообще не слишком доверяю этой братии и думаю, что лучше предоставить все естественному ходу событий».
В письме к Эдуарду, по-видимому, отправленном примерно в то же время, Эйнштейн настоятельно просит сына, чтобы тот ни в коем случае не бросал писать. «В конце концов, самую большую радость и удовлетворение испытываешь от того, что сумел извлечь из собственной головы и заключить в наилучшую возможную для тебя форму. Я особенно остро чувствую это сейчас, когда большая часть моей жизни уже позади».
В конце сороковых годов состояние Милевы резко ухудшилась, по-видимому, у нее начались серьезные нарушения мозгового кровообращения. Во время холодов, ковыляя по обледеневшим улицам, чтобы навестить Эдуарда в клинике, она сломала ногу. Прохожие нашли ее, лежавшую без сознания на дороге. Откуда им было знать, кто была эта хрупкая, старая женщина... Ее доставили в больницу, но после этой травмы Милева до конца так и не оправилась. Она чувствовала, что жить ей осталось недолго, и мучилась мыслями о будущем Эдуарда. Она испытывала и телесные, и душевные страдания.
По свидетельству очевидца, относящемуся к началу 1947 года, Милева, лежа со сломанной ногой в {328} больничной палате, принимала белые стены за снежные вихри, сквозь которые она силится и не может пробиться к сыну, которого должна спасти.
В это время в ее отношениях с Эйнштейном снова стали доминировать враждебность и недоверие. Взаимное недовольство копилось с конца тридцатых годов, когда Милеву начали одолевать финансовые трудности, связанные с лечением Эдуарда. Из-за них она была вынуждена продать два дома из трех, купленных ею на денежный эквивалент Нобелевской премии. Дабы не потерять еще и дом на Хуттен-штрассе, Милева согласилась передать его в собственность Эйнштейну, который осуществлял бы свои права владельца при посредничестве специально для этого созданной в Нью-Йорке компании. По его словам, у Милевы осталось право распоряжаться этим домом по доверенности, она получала весь доход от сдачи квартир внаем за вычетом выплат по закладной.
Эйнштейн регулярно переводил в Швейцарию деньги на жизнь для нее и Эдуарда, на содержание и ремонт дома, на уплату налогов и прочие надобности. Когда стало ясно, что жизнь Милевы близится к концу, Эйнштейн пошел на радикальные меры. Он выставил на продажу дом на Хуттенштрассе, чтобы обеспечить будущее Эдуарда и оплатить услуги опекуна, которого намеревался ему найти. «Когда дом будет продан, у Тетеля будет надежный опекун и, когда Милевы не будет с нами, я смогу умереть спокойно», — писал он в июле 1947 года. Покупатель нашелся, и осенью состоялась сделка, которой Милева противилась, но не могла помешать. Ей не грозило выселение из квартиры, но был нанесен сильнейший психологический удар. Эйнштейн действовал так. словно она уже умерла, и было ясно, что Эдуард проведет остаток своих дней под чужим кровом. Милева пришла в смятение и выбрала самый доступный ей способ мести. Поскольку она имела определенные права на дом, выручка от продажи поступила к ней. Эйнштейн рассчитывал, что она немедленно переведет эти деньги в Америку, но {329} Милева оставила их себе. Она не обращала внимания на его письменные требования и даже не сообщила, какую получила сумму.
Эйнштейн обратился за помощью к брату своего старинного друга Эмиля Цюрхера, швейцарскому адвокату, доктору Карлу Цюрхеру, который занимался его бракоразводным процессом и дружил с Милевой. В декабре 1947 года он попросил юриста, чтобы тот убедил Милеву «исполнить свой долг», то есть переправить ему деньги. Он предупредил, что в противном случае исключит Эдуарда из завещания. Эйнштейн признавал, что это жесткие меры, но, по его словам, он рассчитывал что-то оставить и другим своим бенефициариям, а потому не мог действовать иначе.
В следующем месяце он снова попытался оказать на Милеву давление через Цюрхера, причем подробно отчитался в той финансовой помощи, которую оказывал Милеве со дня их развода. «Я знаю, фрау Милева многим давала понять, что я не выполняю своих обязательств по отношению к ней», — прокомментировал свой финансовый отчет Эйнштейн. Письмо к Гансу Альберту, отправленное летом 1948 года, выдержано в том же духе: ни размер суммы, ни то, где находятся деньги, по-прежнему неизвестно, и это выводит Эйнштейна из себя. «Возможно, она получила все деньги наличными и куда-нибудь спрятала, возможно, их просто украли... От нее, с ее скрытностью и подозрительностью, можно ожидать чего угодно».
Милева в это время совсем ослабела, в ней уже едва теплилась жизнь. Как оказалось, в конце мая она перенесла удар, в результате чего у нее отнялась вся левая часть тела. Непосредственной причиной, возможно, послужило то, что Эдуард перевернул всю квартиру в поисках какой-то несуществующей вещи.
Милеву положили в больницу поблизости от дома, и посещавшие ее друзья, в частности Лизбет Гурвиц, свидетельствуют, что она почти утратила разум. У Милевы отобрали колокольчик, потому что она беспрестанно в него звонила, требуя помощи. {330} Она лепетала, что хочет стать пациенткой Бюргольцли и лечиться вместе с Эдуардом, потом впала в полузабытье и лежала, повторяя «Нет, нет, нет». Она умерла 4 августа 1948 года в возрасте 73 лет. Фрау Грендельмайер, которая хотела навестить больную, но не получила разрешения, говорит: «Она умерла одна. Совсем одна».
Такая кончина вполне соответствовала жизни, отмеченной крушением больших надежд и горькими разочарованиями. Эдуарда смерть матери совершенно оглушила. Говорят, он больше ни разу не упоминал о Милеве.
Милеву похоронили на кладбище Нордхейм в Цюрихе. В некрологе, опубликованном в местных газетах, нет упоминания о ее бывшем муже. Под словами о «кончине нашей горячо любимой матери Милевы Эйнштейн-Марити» подписались Фрида Эйнштейн-Кнехт и Ганс Альберт, Калифорния, Беркли, и Эдуард Эйнштейн, адрес не указан. Фрида и Отто Натан приехали в Цюрих, чтобы разобрать вещи Милевы и помочь освободить квартиру.
По свидетельству Элен Дюкас, 85 000 швейцарских франков обнаружили у Милевы под матрасом. По-видимому, это и были деньги, полученные от продажи дома. Дюкас расценила эту находку как окончательное доказательство злобности и безумия Милевы: она не платила за лечение и перед смертью в больнице ей оказывали помощь в соответствии со швейцарскими законами о неимущих. Это бросало тень на Эйнштейна, и Дюкас была оскорблена за своего патрона. Даже по прошествии многих лет она крайне болезненно реагировала на доходившие до нее слухи о том, что Эйнштейн оставил свою первую жену умирать в нищете.
«Вот так и возникают легенды, это показывает, как легко очернить человека, потому что наветам люди верят охотнее всего», — писала она в декабре 1956 года, когда узнала, что именно рассказывал о кончине Милевы ее последний лечащий врач. Дюкас вернулась к той же теме в ноябре 1957 года, осуждая {331} подобную несправедливость по отношению к памяти Эйнштейна и сетуя на легковерие доктора. «Он безусловно должен был понять, что имеет дело с несчастной невменяемой женщиной», — писала она.
В год, когда умерла Милева, Эйнштейн узнал, что и сам он тяжело болен. Какое-то время он страдал от частых приступов, которые начинались с урчания в желудке, оно переходило в нестерпимые, отдававшие под лопатку боли в верхней части живота. Приступы заканчивались рвотой. Осенью 1948 года у Эйнштейна заподозрили опухоль желудка. В ходе операции, проведенной в декабре в нью-йоркском госпитале хирургом Рудольфом Ниссеном, оказалось, что он страдает аневризмой брюшного отдела аорты. Через полтора года выяснилось, что аневризма увеличивается из-за давления крови на утратившую эластичность стенку сосуда. По словам Дюкас, с этого времени дамоклов меч повис над Эйнштейном и всеми близкими ему людьми. Их тревога за него еще более усилилась, когда в июне 1951 года умерла его сестра Майя. Гансу Альберту Эйнштейн писал, что ее состояние в последние годы жизни было настолько тяжелым, что, может статься, было бы лучше, если бы в 1946 году она сразу умерла от удара.
Эдуард теперь полностью зависел от опекуна, доктора Генриха Майли, который в начале 1950 года поселил его у пастора в деревне Уитикон, живописно расположенной на склоне холма над Цюрихом. Этот пастор по имени Ганс Фреймюллер был сведущ в психоанализе и сочетал деятельность проповедника-евангелиста с терапевтической помощью психически нездоровым молодым людям. Он очень хорошо запомнил свою первую встречу с Эдуардом, нервным сорокалетним мужчиной с брюшком и прекрасными глазами: «Влажные и блестящие, они светились изнутри, это был свет доброты, которая нуждалась в защите».
Среди более чем скромных пожитков, которые Эдуард привез с собой, было два нотных альбома, сохранившихся со студенческих лет. Какое-то время {332} музицирование было единственной формой его контакта с внешним миром. По воспоминаниям Фреймюллера, «первые недели почти все интересы господина Эйнштейна сводились к игре на фортепьяно. Иногда становилось страшно за струны: они могли порваться от неистовых ударов по клавишам».
Постепенно Эдуард в какой-то мере преодолел свою скованность и начал общаться с тремя юношами — сыновьями пастора, которых развлекал шутками и чтением стихов. Дети, состоявшие в молодежной группе при церкви, приходили к пастору домой, Эдуард подружился с ними и давал для них концерты. Со временем он стал своим человеком в деревне. Жена пастора нашла ему работу — он писал адреса на конвертах для одной местной фирмы и был явно доволен тем, что обрел независимость и зарабатывает какие-то деньги.
В той же деревне жил один из лучших друзей Эдуарда по школе, Петер Герцог, теперь уже женатый человек, школьный учитель. Его вдова вспоминает, как сильно был потрясен ее муж жалким состоянием Эдуарда, чей интеллект прежде подавлял учителей и кому все окружающие прочили блестящую карьеру. Кроме своих страхов и неуверенности в будущем, он почти ни о чем не мог говорить. Возможно, Эдуард в какой-то мере избавился бы от бремени этих страхов, если бы его вверили заботам просвещенного пастора на более долгий срок. Однако всего через год его опекун переселил его на окраину Цюриха под названием Хенг, к вдове некоего юриста. Вдова относилась к нему тепло и с пониманием, однако на попытках пастора вернуть его к нормальной жизни был поставлен крест. Даже сейчас пастор вспоминает, что расставание с Эдуардом «было очень печальным» для обеих сторон.
В эти годы Эйнштейн едва ли поддерживал бы контакты с сыном, если бы не Карл Зелиг. Этот добросердечный человек придумал уникальную тактическую уловку, чтобы добиться расположения Эйнштейна: он регулярно посылал ему сухие супы. Они будили в душе ученого — как липовая настойка {333} и мадлены в душе у Пруста — ностальгические воспоминания о былых временах. Он выразил глубокую благодарность Зелигу за то, что тот «вернул меня и, главным образом, мой нос в чисто швейцарскую обстановку». Мадам Дюкас тоже была покорена. Она писала Зелигу, что супы — это «манна небесная», так как они помогают решить проблему диетической пищи, в которой Эйнштейн нуждается из-за своей болезни. Возникшие между Зелигом и кланом Эйнштейна близкие отношения оказались полезными обеим сторонам. Зелиг знал больше секретов великого ученого, чем любой другой биограф, однако он чувствовал себя до такой степени членом его семьи, что не считал возможным их разглашать.
Зелига очень интересовал душевнобольной сын Эйнштейна, и в начале 1952 года состоялась его первая встреча с Эдуардом. Эйнштейн благословил на нее Зелига, но предупредил, что, хотя его сын «в достаточно сносной форме», нет никаких надежд на то, что он когда-нибудь сможет нормально работать. «У него должны быть серьезные эмоциональные причины для такой заторможенности, — пишет Эйнштейн, — но механизм ее возникновения не понятен, во всяком случае непрофессионалам».
Зелиг пригласил Эдуарда на обед в цюрихский ресторан, расположенный неподалеку от Фраумюнстерской церкви на берегу реки Лиммат. Оказалось, что Эдуард очень охотно идет на разговор. В частности, он вспоминал о том, как посетил берлинскую квартиру отца и смотрел там с балкона в большой телескоп, причем не только на луну, но и с большим интересом — в окна соседних квартир. Вскоре, однако, Зелиг заметил, что у Эдуарда большие провалы в памяти. Его особенно удивило, что он не мог ничего сказать о своих бабушке и дедушке по отцовской линии. Эйнштейн позднее приписал это «непреодолимой» враждебности, которая разделяла его мать и Милеву (отец Эйнштейна умер за юл го до рождения Эдуарда), и объяснил, что между его родственниками и родней Милевы не было «никаких личных контактов». Однако у Зелига сложилось впечатление, что неосведомленность Эдуарда в этом {334} вопросе имела более глубокие причины. Эдуард сидел с напряженным выражением лица, непрерывно курил: он мучительно рылся у себя в памяти, пытаясь воскресить подробности детства. Вскоре Зелиг сказал ему, чтобы он не утомлял себя мыслями о событиях, которые произошли, когда он был слишком мал. Но тот отвечал с улыбкой, что это интересно ему самому. Благодаря Зелигу он впервые в жизни смог многое узнать о своей семье.
Беседуя с Эдуардом, Зелиг действовал в собственных интересах: эти разговоры помогали ему выуживать биографическую информацию об Эйнштейне. Однако он глубоко и искренне сочувствовал Эдуарду. «На лице вашего сына написаны душевные муки и мрачная задумчивость, но его безмятежная улыбка и доверчивость очень быстро вызывают расположение к нему», — писал Зелиг. Он продолжал видеться с Эдуардом, они вместе ходили в театр или подолгу разговаривали во время прогулок. Прошло несколько недель, и Зелиг предложил стать опекуном Эдуарда. Эйнштейн был, по-видимому, тронут его предложением, но ответил вежливым отказом, объяснив, что место уже занято. О его реакции можно только сожалеть, так как было очевидно, что Эдуард хотел выйти из-под опеки доктора Мейли, который не вызывал у него симпатии. Зелиг же превратился в его близкого друга, причем эта дружба продолжалась и после смерти Эйнштейна.
Зелиг регулярно информировал Эйнштейна о том, как чувствует себя Эдуард, но обязательным цензором этих писем была Элен Дюкас. В 1952 году она призналась, что испытывала сильнейший соблазн скрыть от своего патрона одну особенно неприятную сводку о состоянии его сына и передала ее только после того, как посоветовалась с Марго. Но при этом она не преминула по-своему прокомментировать ее содержание. На американский манер это называется «амортизация удара», объяснила она Зелигу.
Еще через два года Дюкас объявила, что они с Натаном приняли решение щадить чувства Эйнштейна во всем, что касается Эдуарда, и не передавать о нем {335} никаких плохих новостей. Похоже, они просто предвосхитили его собственное желание. В январе 1954 года Эйнштейн в письме объяснил Зелигу, почему он решил отказаться от любых контактов со своим младшим сыном. «Вы, наверное, уже задавались вопросом, почему я прекратил переписку с Тедди. Причиной тому некий внутренний запрет, природу которого я сам не могу проанализировать. Но он связан с моей уверенностью в том, что если я снова окажусь в поле его зрения, это пробудит мучительные чувства», — писал Эйнштейн.
В 1954 году Гансу Альберту исполнилось пятьдесят. Он так и не преодолел разногласий с отцом и виделся с ним редко. В одном из интервью Ганс Альберт пожаловался, что из-за фамилии у него возникают постоянные сложности с телефонными операторами, почтовыми служащими и полицейскими на дорогах. Люди смотрят на него широко открытыми глазами и говорят: «Не может такого быть. У Эйнштейна нет сына». Когда интервьюер попросил у Ганса Альберта разрешение сфотографировать его рядом с бюстом Эйнштейна, мимо которого тот постоянно проходил по дороге в университетскую библиотеку в своем родном Беркли, Ганс Альберт ответил: «Как вы думаете, каково это, когда ваш отец — статуя?» Упомянутое интервью Ганс Альберт согласился дать только с письменного разрешения Эйнштейна (причем, видимо, надеялся, что тот откажет) и подчеркнул в своих ответах, что гордится его достижениями. Но, по его признанию, ему очень неприятно, что незнакомые люди постоянно таращатся на него, как на какую-то диковину, а коллеги по работе исподтишка бросают оценивающие взгляды, втайне сравнивая его с отцом. По его словам, «из-за всего этого человек может совершенно утратить свое «я».
Ганс Альберт однажды обмолвился, что он всегда вел абсолютно тихую жизнь. «После университета я начал работать, и с тех пор не был без работы ни одного дня. Всю жизнь я делал только одно: работал». Именно об этом аскетизме и преданности своему делу с похвалой отзывается Эйнштейн, {336} поздравляя своего старшего сына с пятидесятилетием. В письме Эйнштейн вспоминает несколько эпизодов из детства Ганса Альберта, в частности то, как однажды он решил выстругать что-то из дерева отцовской бритвой, и в результате та стала зазубренной как пила. Также он вспоминает, как Ганс Альберт в детстве называл словом «Voio-Voio» (искаженное немецкое «Vorhang» — занавес, завеса) все протяженное в пространстве или во времени, но лишенное четкой формы или сути, будь то дым из трубы или пустая беседа. Эйнштейну, с его склонностью к цинизму, этот термин очень нравился, и в письме он пел дифирамбы сыну за то. что тот в противовес всему суетному и показному посвятил себя точной и высокой науке гидравлике.
«Я счастлив, что мой сын унаследовал основные черты моей личности: способность подняться над обыденным существованием и долгие годы самоотверженно работать во имя сверхличной цели. Это лучший и на самом деле единственный способ обрести независимость от других людей, а также от того, на что человек обречен судьбой».
Далее Эйнштейн продолжает в том же духе, утверждая, что их с сыном объединяет неутомимая любознательность в сочетании с нежеланием штудировать научную литературу. «Последнее — наш общий порок, — пишет Эйнштейн, но в единстве с первым он ведет к образу жизни, достойному героев». Письмо кончается словами: «Оставайся таким же, как был. Не утрачивай чувства юмора, будь добр к людям, но не обращай внимания на то, что они говорят и делают. Твой отец».
Когда вторая жена Ганса Альберта Элизабет по случаю смерти мужа писала некролог, она цитировала это письмо, но в сильно отредактированном варианте, исключив наиболее жесткие места. Также она опустила одну фразу, которая, однако, задела ее мужа так сильно, что он припомнил ее в беседе с корреспондентом Би-би-си. Ганс Альберт сказал, что Эйнштейн никак не мог запомнить дату его рождения. Он подтвердил, что действительно получил {337} «очень хорошее письмо» от отца на свое пятидесятилетие, «но начиналось оно так: «К сожалению, должен признаться, я не думал об этом юбилее, но твоя жена мне о нем написала».
Эйнштейн расточал похвалы фамильным чертам Ганса Альберта и научным достижениям сына, по его собственные труды все больше теряли точки соприкосновения с современными ему исследованиями. Его воззрения, в особенности его упорное неприятие квантовой теории, превратили его из творца, опередившего свое время, в одиночку-маргинала. Эйнштейн говорил Леопольду Инфельду, что коллеги воспринимают его скорее как реликт, чем как работающего физика. Инфельд позднее писал: «Было очень горько видеть, как Эйнштейн оказывается во все большей изоляции, в своих исследованиях все дальше уходя от основных тенденций современной ему физики. Несколько раз этот человек, возможно, величайший в мире физик, говорил мне: «Физики считают, что я старый дурак, но я убежден, что будущее нашей общей науки — не за тем направлением, в котором она развивается сейчас».
Эйнштейн с прежним упорством стремился создать единую теорию поля. Когда ему казалось, что он на правильном пути, он торжествующе объявлял: «Это так просто, что Господь Бог не мог этого не заметить». Однако, по мнению Фрэнка Вильчека, физика, который впоследствии поселился в его доме на Мерсер-стрит, Эйнштейн в работе исходил из ложных посылок. «Эйнштейн пытался решить проблемы, которые занимали его в молодости, но они давно устарели, — говорит Вильчек. — Он был на неправильном пути, и ни один человек, исходящий из последних экспериментальных данных, полученных наукой того времени, не стал бы действовать в рамках избранной Эйнштейном программы. В высшей степени неправдоподобной была идея о том, что все разнообразие структур, какое мы наблюдаем в окружающем мире, равно как и законы квантовой механики, можно вывести из уравнений, описывающих {338} одновременно и законы гравитации, и закон электромагнетизма».
Эйнштейн в общих чертах изложил свои воззрения на единую теорию гравитации и электромагнетизма в новом дополнении к третьему изданию книги «Сущность теории относительности», вышедшему в 1949 году. Средства массовой информации уделили этой книге много внимания в том числе и потому, что она увидела свет в год семидесятилетия Эйнштейна. «Нью-Йорк тайме» воспроизвела страницу из книги под заголовком «Новая теория Эйнштейна дает ключ к тайнам вселенной». В Великобритании «Дейли телеграф» напечатала четыре уравнения, которые «заключали в себе самую суть теории». Эйнштейн попросил Дюкас передать репортерам, чтобы те пришли через двадцать лет, а Гансу Альберту пожаловался на эту неуместную рекламу, считая ее проявлением безвкусицы. «Крайне глупо выставлять на публичное обозрение подобные вещи, не думая о том, что они не понятны подавляющему большинству читателей», — писал он сыну.
Но газетная шумиха была свидетельством того, что Эйнштейн по-прежнему занимал воображение публики. Менеджер Института высших проблем вспоминал, как ему приходилось предпринимать немало закулисных действий, «чтобы оградить Эйнштейна от фанатичных почитателей и маньяков, которые отличались такой же своеобразной хитростью и изобретательностью, как и девочки-подростки, преследующие какого-нибудь идола шоу-бизнеса». Для публики, сказал он, Эйнштейн был «не только величайшим из математиков, но и государственным деятелем, философом, оракулом и авторитетом в столь далеких друг от друга областях, как искусство, астрология и даже (был и один такой случай) палеонтология. Почитатели звонили ему днем и ночью, они заваливали его письмами. Они пытались с ним встретиться, они добирались до института на автобусе, на машине, поездом или самолетом. Если у них появлялась хоть малейшая возможность, они начинали {339} шнырять по институтским коридорам как ищейки в поисках его кабинета, который на самом деле находился на первом этаже, близко к углу здания, за тонкими дубовыми дверями, где не было никакой таблички».
Интерес публики к Эйнштейну не шел на убыль, этому способствовала его вовлеченность в политику, которой он активно занимался после второй мировой войны. Он написал открытое письмо в Организацию Объединенных Наций, содержащее призывы к созданию мирового правительства, которое сможет прекратить войны между нациями и будет иметь право вмешательства во внутренние дела стран с целью устранения дискриминации меньшинств. Он считал (и это его мнение часто цитируют), что только такое правительство сможет избавить человечество от опасности ядерной войны. Он не уставал критиковать холодную войну, и в статьях, и по радио выступая за улучшение отношений с Советским Союзом, хотя такие взгляды в то время мало кто разделял. В период маккартизма, когда ему пришлось выслушать немало обвинений в том, что он — враг Америки, Эйнштейн пропагандировал ненасильственную форму гражданского неповиновения, родоначальником которой был Ганди. Он поддерживал борцов за свободу совести и ученых, ратовавших за свободу мысли. Он также выступал в поддержку Израиля, хотя на предложение сменить Хаима Вейцмана на посту президента этой страны ответил вежливым отказом.
На фоне этих идей особенно поразительной представлялась его безмерная ненависть к Германии. Эйнштейн ясно дал понять общественности, что не желает иметь ничего общего со страной, где он родился. Он считал, что все ее обитатели без исключения несут ответственность за уничтожение евреев при Гитлере; что интеллектуалы вели себя так же недостойно, как чернь, за исключением горстки его ближайших друзей и коллег; что немцы — самый жестокий в мире народ, у них ментальность гангстеров, и он не видит у них никаких признаков раскаяния {340} в массовых убийствах. Эта неослабевающая ненависть тревожила и огорчала всех, кто его знал. Но в отношении немцев Эйнштейн был непоколебим. В последние годы жизни он окончательно отвернулся от страны, которая во многих отношениях сделала его тем, кем он стал.
Еще одна нить, связывавшая его с прошлым, порвалась со смертью Мишеля Бессо, которого не стало 15 марта 1955 года. Сотрудник Эйнштейна по патентному бюро в Берне и посредник в отношениях с Милевой умер за два месяца до своего восьмидесятидвухлетия. В первой главе мы упоминали о письме Эйнштейна к сыну и сестре своего покойного друга. В нем есть и такие строки: «Талант прожить гармоничную жизнь редко сочетается с таким могучим интеллектом».
Задолго до этого печального события сестра Бессо спросила Эйнштейна, почему ее брат не совершил никаких научных открытий, соотносимых с его, Эйнштейна, достижениями. Его весьма характерный ответ приводится в статье, написанной для «Нью-Йоркера»: «Это очень хороший знак, — ответил Эйнштейн со смехом. — Мишель гуманист, человек мира, круг его интересов настолько широк, что он не мог стать маньяком, одержимым одной мыслью. Только маньяки способны получить то, что мы считаем значимым результатом».
Позднее Эйнштейн подтвердил Бессо, что эти слова выражают его подлинные мысли, но они не должны его расстраивать. «Бабочка и крот существа совершенно разные, но ни одна бабочка не станет об этом жалеть».
Меньше чем через месяц после кончины друга, в четверг 12 апреля 1955 года, Эйнштейн последний раз вошел в свой кабинет в Институте высших исследований. Его ассистентка Брурия Кауфман спросила его, все ли там в порядке. Эйнштейн с улыбкой ответил: «Здесь все в порядке. Не в порядке я». Его мучили сильнейшие боли в паху, каких он прежде не испытывал, на следующий день он пожаловался {341} домашним, что устал и у него нет аппетита. Он лег спать очень рано, и в половине четвертого утра Дюкас услышала, как он пробежал в ванную; там он и потерял сознание. Дюкас попросила личного доктора Гая Дина немедленно приехать. Во время консультации, на которой помимо Гая Дина присутствовали еще два врача, она не отходила от Эйнштейна и даже помогла Дину снять электрокардиограмму. В эту ночь Эйнштейну ввели морфий, и Дюкас постелила себе у него в кабинете. По ее мнению, ее спальня была слишком далеко, а она хотела быть возле больного на случай, если ему станет хуже и понадобится помощь. Несмотря на его возражения, она настояла на том, что будет с ним рядом. Его организм был сильно обезвожен. Дюкас давала ему кубики льда и поила с ложечки минеральной водой.
На следующий день группа врачей, в числе которых был Густав Буки и специалист по сосудистой хирургии из Нью-Йорка, провела консилиум. Они предположили, что кровотечение, связанное с аневризмой, можно остановить хирургическим путем. Эйнштейн все это терпеливо выслушал, но заявил, что считает такую операцию дурным тоном. «Я хочу уйти тогда, когда захочу». Он спросил, будет ли его смерть мучительной. Доктор Дин, человек сострадательный, но не желавший скрывать правду, сказал, что вес может кончиться почти мгновенно, а может тянуться недели. Чувство юмора не покинуло Эйнштейна и здесь. Он сказал Дюкас: «Я могу умереть и без помощи врачей».
В воскресенье утром у него появились выраженная желтушность и сильнейшие боли из-за внутреннего кровотечения. Он уже не мог оторвать голову от подушки. Несмотря на эти тяжкие мучения, продолжавшиеся несколько суток, он часто отказывался от болеутоляющих инъекций и упрекал Дюкас за то, что та чересчур хлопочет над ним. Наконец он согласился лечь в больницу, так как ему сказали, что Дюкас больше не может ухаживать за ним дома. Вскоре после того, как его доставили в принстонский госпиталь, он позвонил Дюкас с просьбой принести ему очки. На следующий день он попросил {342} принести незаконченный текст своей речи и последние выкладки, касавшиеся единой теории поля. Смерть приближалась, но он стал бодрее и сказал Отто Натану, что его замыслы должны вот-вот увенчаться успехом. Когда-то Эйнштейн говорил: «Если бы я узнал, что через три часа должен умереть, это не произвело бы на меня сильного впечатления. Я подумал бы о том, как с наибольшим толком использовать оставшиеся три часа, а потом привел бы в порядок свои бумаги и спокойно лег».
Гансу Альберту сообщили о состоянии отца только через сорок восемь часов после того, как тот потерял сознание в ванной. Сыну Эйнштейна позвонила Марго. Он вылетел из Калифорнии первым же рейсом и в субботу утром был в Принстоне. Эйнштейн явно обрадовался Гансу Альберту, всю вторую половину дня в воскресенье они проговорили о науке. К вечеру к ним присоединился Отто Натан, и разговор перешел на политику, причем Эйнштейн пространно рассуждал об опасностях, угрожающих человечеству, если великие державы допустят, чтобы Германия снова вооружилась.
Ганс Альберт подумал, что, если бы ему представилось чуть больше возможностей, он уговорил бы отца лечиться в нью-йоркском госпитале, где ему могли бы оказать более специализированную медицинскую помощь. Но время Эйнштейна истекало. Ночью, в начале второго часа, сиделка мисс Розсел заметила, что он тяжело дышит. Она вызвала на помощь вторую сиделку, потом та вышла, и Розсел услышала, как Эйнштейн невнятно произнес что-то по-немецки. Она не поняла его последних слов. В пятнадцать минут второго Эйнштейн дважды глубоко вздохнул и умер.
О его кончине объявили в восемь часов утра. Реакцию человечества на его смерть хорошо передает рисунок, получивший в то время широкую известность: космос, планеты Солнечной системы на своих орбитах, среди них Земля и половину земного шара закрывает мемориальная доска с надписью {343} «Здесь жил Альберт Эйнштейн». Но еще до того, как в прессе появились первые отклики на кончину Эйнштейна, с его телом поступили согласно завещанию. В тот же день, в четырнадцать часов, тело перевезли в принстонский морг, откуда через полтора часа доставили в крематорий Юинг, находящийся в Трентоне. Там двенадцать наиболее близких Эйнштейну людей, Дюкас, Натан и Ганс Альберт в их числе, провели короткую погребальную церемонию. Натан прочел несколько строк из некролога Шиллеру, принадлежащих перу Гете, и тело ученого сожгли. Его пепел развеяли по земле, место, где это произошло, держат в тайне, чтобы его не посещали толпы паломников. Известно только, что оно находится у реки.
Но этим история, связанная с останками Эйнштейна, не исчерпывается. Ранним утром, в день смерти, доктор Томас Харви произвел вскрытие трупа, извлек из черепа мозг и законсервировал его для последующей экспертизы. Это достаточно мрачный сюжет, но его стоит рассказать. За несколько месяцев до смерти в письме к Зелигу Эйнштейн упомянул, что не возражает, если его тело станет объектом патологоанатомических исследований. Но добавил, что не оставляет никаких явных указаний на этот счет, чтобы его не заподозрили в склонности к театральным эффектам. Мозг доктор извлек исключительно по собственной инициативе. Он не справился о том, что думает по этому поводу семья Эйнштейна: «Я знал, что нам дано разрешение на вскрытие, и решил, что объектом нашего анализа будет мозг». Об извлечении мозга близкие Эйнштейна узнали только на следующий день после его смерти из статьи в «Нью-Йорк тайме», причем ее автору рассказал об этом самоуправстве сотрудник доктора Харви.
«Я думаю, близким Эйнштейна было очень тяжело, когда они узнали, что во время вскрытия доктор Харви извлек мозг, а их об этом даже не предупредил, — заявил врач, занимавшийся исследованием мозговой ткани Эйнштейна. — Решение исследовать мозг напрашивалось само собой и было {344} совершенно правильным. Но поразительно то, что доктор Харви не дал себе труда позвонить по телефону и сказать родным покойного: «Алло, у меня тут лежит тело вашего дедушки. Как вы считаете, наверное, нам стоит вынуть мозг?». Харви же в такой ответственной ситуации сначала делал, а потом думал, и это возмутительно». Даже Отто Натан, который присутствовал при вскрытии, не помял, что, собственно, происходило с мозгом, но позднее он связался с Харви и задним числом одобрил его действия. Доктор полагал, что Натан говорил от лица Ганса Альберта, но сам с сыном Эйнштейна контактов не имел.
До того, как извлечь мозг, доктор Харви с целью консервации ввел формалин в мозговые сосуды. Мозг расчленили, какие-то его части по-прежнему хранятся в формалине, но, в основном, из тканей мозга изготовили препараты для исследования под микроскопом. С этой целью кусочки тканей мозга заключили в целоидин, предохраняющее от внешних воздействий прозрачное вещество. Последующий анализ привел к поразительным результатам. Доктор Мариан Даймонд, профессор общей биологии в Беркли, в журнале «Экспериментальная неврология» («Experimental Neurology») опубликовала статью о том, что мозг Эйнштейна существенно отличался от нормы.
Ранее исследования на крысах показали, что если поместить их в стимулирующую развитие обстановку, то есть в достаточно многочисленное общество других особей и в помещение с большим количеством «спортивных снарядов» — лесенок, лазов и качелей, — то мозг у крыс существенно изменяется. В частности, у них становится больше глиальных клеток, которые окружают и снабжают питанием нейроны, то есть нервные клетки мозга, обрабатывающие и передающие информацию. Аналогичные исследования проводились на кошках и на обезьянах, и достаточно убедительной представляется гипотеза, что количество глиальных клеток — основной показатель развития мозга. Доктор Даймонд сообщила, что она сравнила мозг великого ученого с {345} мозгами одиннадцати обыкновенных мужчин, и оказалось, что у Эйнштейна на один нейрон приходилось гораздо больше глиальных клеток. Было ли это свойство врожденным или приобретенным в результате стимулирующего воздействия окружающей среды, сказать невозможно.
После смерти Эйнштейна молекулярная биология шагнула далеко вперед, это позволяет провести генетический анализ сохранившихся тканей его мозга, так как в теле человека каждая клетка содержит его полный генетический код. Так, доктор Чарлз Бойд, специалист по молекулярной биологии, сотрудник Университета медицины и зубоврачевания в Нью-Джерси, использовал ткани мозга Эйнштейна в качестве источника ДНК, чтобы выяснить, не связана ли его аневризма аорты с мутацией какого-либо гена, отвечающего за формирование сосудистой системы.
Будь Эйнштейн жив, он, вероятно, обрадовался бы тому, что его гены можно использовать для проверки положения, в котором он был убежден: признаки наследуются из поколения в поколение. Его гены вполне возможно клонировать и исследовать до бесконечности. Научные сотрудники соответствующих специальностей наверняка испытывают сильный соблазн воспользоваться тканями гения, чтобы исследовать влияние генетических факторов на интеллект. Одна калифорнийская компания высказала интерес к следующему коммерческому проекту. Методом генной амплификации увеличить количество молекул ДНК Эйнштейна и продавать его портреты вместе с мини-контейнерами, где содержится полученная вещество.
Именно этого нездорового интереса публики, граничащего с глумлением над останками Эйнштейна, так опасался Отто Натан. «Я убежден, что чем меньше подробностей о его болезни и обстоятельствах смерти станет достоянием журналистов, тем лучше, — говорил он Силигу. — Я не понимаю, с какой стати публика должна интересоваться этими {346} подробностями и почему мы должны удовлетворять ее любопытство, если оно возникнет». Но мнение Натана не остановило Януша Плеща, который был приятелем и врачом ученого в годы его жизни в Берлине и одним из последних посетил его в принстонском госпитале.
Едва услышав по радио о кончине Эйнштейна, он тут же сел за письмо к своему сыну Петеру. Оно датируется 18 апрелем 1955 года и в нем высказано поразительное предположение, что Эйнштейн умер от сифилиса. («Могло же не повезти здоровому и красивому мужчине в годы его бесшабашной молодости, мог же он подхватить люэс!») Плещ утверждал, что симптомы заболевания вполне соответствуют этому диагнозу, и похвалялся, что всегда приписывал аневризму брюшного отдела аорты именно сифилису и за годы всей своей медицинской практики ни разу не ошибся.
Возможно, такие мысли посещали и Зелига, потому что он долго и настойчиво расспрашивал Натана о происхождении аневризмы. Последний отвечал, что «врачи не пришли ни к какому определенному выводу», но советовал не докучать им расспросами, а в качестве возможной причины выдвигал артериосклероз или «несчастный случай, от которого Эйнштейн пострадал в молодости». Напрашивается вопрос, не допускал ли возможности сифилиса и Натан тоже.
Доктор Харви утверждал, что с медицинских позиций Плещ «имел основания думать в этом направлении». Однако Харви при вскрытии не обнаружил никаких других данных в пользу сифилиса, хотя соответствующего анализа крови не делали. «Известно, что третичный сифилис часто вызывает аневризмы, но обычно другой локализации, — говорил он. — У Эйнштейна была аневризма не сифилитического происхождения». Гипотеза Плеща интересна не своей правильностью или неправильностью, но тем, что он ее вообще выдвинул. Плещ был хвастун и сочинитель небылиц, Дюкас говорила, что все его слова нужно принимать «с большой долей скепсиса». Однако он хорошо знал Эйнштейна и с {347} психологической точки зрения его записи часто точны даже в тех случаях, когда с фактами он обращается произвольно. Поэтому его непристойное предположение всего лишь веское подтверждение того, что у великого физика была репутация ловеласа.
В соответствии с завещанием Дюкас и Натан превратились в хранителей его репутации, так как получили право распоряжаться всем, что он написал. В дальнейшем это право должно было перейти к Еврейскому университету в Иерусалиме, но до тех пор ни одна написанная им строчка не могла увидеть свет без благословения Дюкас и Натана. А людей, менее расположенных разглашать секреты Эйнштейна, трудно было найти. Оба заботились о том, чтобы его образ в глазах общественности остался незапятнанным, и не желали давать оружие в руки тем врагам, которых он нажил из-за своей вовлеченности в политику. Дюкас еще в 1953 году говорила Карлу Зелигу, что откровенность в чисто личных вопросах всегда была ей неприятна, и свою частную жизнь она не обсуждает даже с ближайшими друзьями. «Хорошо, что я не родилась католичкой, — говорила она, — и пожалуй, для психоаналитиков я тоже не подарок».
В силу собственной предвзятости Дюкас и Натан долгие годы создавали у публики превратное представление о жизни Эйнштейна. Оба познакомились с ним тогда, когда он был женат второй раз, и воспринимали Эльзу и ее дочерей как «настоящую» его семью. Милева и ее сыновья, мягко говоря, не пользовались их симпатией. По словам одного специалиста по жизни и трудам ученого, «Дюкас и Натан не просто защищали непогрешимость великого бога Эйнштейна; оба ненавидели все, что связано с его первой семьей. Они воспринимали себя как часть его второй семьи».
Скорбь объединила всех его близких. Когда доктор Дин позвонил на Мерсер-стрит, чтобы известить о кончине Эйнштейна, Ганс Альберт был там вместе с Элен Дюкас. Она едва не лишилась рассудка, {348} и он всю оставшуюся часть ночи сидел с ней рядом и разговаривал. Она писала, что, если бы не его моральная поддержка, у нее едва ли хватило бы сил пережить эту ночь. Ей казалось, что она слышит голос не Ганса Альберта, а его отца, писала Дюкас. В течение следующей недели она раздала членам семьи ряд личных вещей Эйнштейна, которыми распоряжалась в соответствии с завещанием. Трубки, часы, кожаный кисет, кожаный пояс, механический карандаш, еще какие-то письменные принадлежности — все было распределено очень тщательно и толково. Дюкас позаботилась даже о том, чтобы Эдуарду отправили вещи его покойного отца: свитера, белье и спортивные рубашки с короткими рукавами и мягким воротничком, которые Эйнштейн предпочитал обычным. Эдуард был «полноват», но Эйнштейн долгое время был «мужественно-массивным», и Дюкас надеялась, что одежда подойдет его младшему сыну.
Дюкас с удовлетворением отмечает, что притязания Ганса Альберта на личные вещи отца были более чем скромными, он попросил всего лишь несколько научных книг. Как кажется, ей и в голову не приходило, что он оказался в достаточно унизительном положении. Трудно представить себе сына, который спокойно отнесся бы к тому, что мелочи, которые он хочет взять на намять об отце, он должен просить у его секретарши. Тем более что этой секретарше по завещанию досталась львиная доля денег и право контролировать публикации всего, что вышло из-под пера Эйнштейна, будь то даже его письма к сыну. Унижение не становилось менее горьким оттого, что Отто Натан был также полноправным исполнителем завещания, в котором Гансу Альберту не нашлось места.
Ганс Альберт скрывал свою обиду, но его жена была в ярости. После очередной стычки с ней Дюкас заявила: «Трудно себе представить человека, в котором было бы столько злости и жадности одновременно. Это зрелище было бы смешным, если бы не было столь грустным и отталкивающим». За негодованием Дюкас угадывается нервозность — она знала, {349} что Фрида намеревается нанести ей весьма болезненный удар. Фрида нашла спрятанные письма Эйнштейна к Милеве, когда после ее смерти в 1948 году убирала квартиру на Хуттенштрассе. Письма остались у нее и натолкнули на мысль написать историю личной жизни своего свекра. Она надеялась, что это поможет ей с мужем оплачивать пребывание Эдуарда в клинике. «Мама решила, что хорошо бы показать, каким был Эйнштейн в повседневной жизни», — вспоминает ее дочь Эвелина.
Дюкас и Натан знали о существовании этих писем, но не знали ни их содержания, ни того, как Фрида намерена их использовать. Подозрения на этот счет вызывали у них тревогу, тем более что, по их сведениям, Фрида охотилась за биографическим очерком Майи, посвященным ее брату. Летом 1955 года, случайно оказавшись в одном поезде с Гансом Альбертом, Натан попытался вытянуть из него какую-либо информацию о намерениях жены, но не смог. У друзей и знакомых, в частности у Зелига, Дюкас и Натан тоже пытались получить какие-нибудь сведения, но только в начале 1957 года отважились предпринять непосредственные шаги. Натан попросил Ганса Альберта прислать ему копии писем, чтобы они вошли в состав архива Эйнштейна, формирование которого только начиналось. Дюкас утверждала, что просьба эта была сформулирована «очень дипломатично», но была отвергнута.
Фрида предложила свою законченную к тому времени рукопись цюрихскому издателю. Она представляла собой отрывки из писем Эйнштейна к Милеве, Гансу Альберту и Эдуарду, а в предисловии Фрида изложила свою трактовку событий. По ее мнению, Милева была единственной настоящей любовью Эйнштейна.
Дюкас и Натан были крайне возмущены. Они не сомневались, что Фрида стремилась заработать деньги ценой репутации Эйнштейна, и книга была написана только с этой целью. Дабы предотвратить ее публикацию, они в 1958 году обратились в швейцарский суд, причем Марго их поддержала. Дюкас {350} писала, что Эйнштейн был бы в ужасе, если бы узнал, что его частные письма к членам семьи «и особенно к Милеве» могут стать достоянием гласности. Гнев ее еще усилился, когда в ситуацию с рукописью вмешался опекун Эдуарда доктор Мейли, который заявил, что затронуты интересы его подопечного, и начал забрасывать Натана агрессивными письмами. Элен Дюкас жаловалась, что Мейли ведет себя крайне вызывающе, чтобы не сказать низко, по отношению к «бедному Отто», которого она характеризовала как «воплощение чести и бескорыстия». Элен искренне боялась того, что эти некрасивые препирательства могут получить огласку и запятнать имя Эйнштейна. «Оружием другой стороны служит то, что она, как это ни удивительно, подобной щепетильностью не отличается», — писала Дюкас Зелигу.
К вящему облегчению Дюкас и Натана, суд принял решение в их пользу. Адвокаты, представляющие интересы Фриды и Ганса Альберта, утверждали, что в рукописи содержится информация об их семье, об их собственной жизни, и они вправе сделать ее достоянием гласности, если пожелают. Но эти утверждения были признаны несостоятельными на том основании, что письма являются частью литературного наследия Эйнштейна. Поэтому право распоряжаться ими имеют не члены семьи, но душеприказчики. Без их согласия сын не может публиковать обращенные к нему письма отца.
Фрида Эйнштейн-Кнехт не успела оспорить решение суда. Во время концерта в Беркли она потеряла сознание и вскоре умерла. Это случилось в октябре 1958 года. Письма, которые она надеялась опубликовать, пролежали дома у Ганса Альберта до самой его смерти.
В душе у Ганса Альберта никогда не изгладилась боль, вызванная потерей жены, но жить один он не мог. В июне 1959 года он женился на Элизабет Робоц, венгерской еврейке, которая эмигрировала в {351} Америку в 1940 году. Она занималась биохимией нервных процессов, а с Гансом Альбертом и Фридой встретилась у общего знакомого, когда работала в Калифорнийском технологическом институте, в Пасадине. Элизабет, вспоминая о своем браке, писала, что, хотя они с Гансом Апьбертом были очень привязаны друг к другу, оба продолжали работать в науке с прежней самоотдачей и совершенно автономно. Она вспоминает, как во время беседы мужа с его коллегами-гидравликами пожаловалась, что не понимает, о чем идет речь. Ганс Альберт шутливым тоном напомнил ей, как Эйнштейн выражал удовольствие по поводу того, что Эльза не разбирается в физике. По собственному признанию Элизабет, ей больше не хотелось попадать в такое неловкое положение, и она не раз давала себе слово разобраться в основах гидравлики, но руки у нее до этого так и не дошли. «Мы никогда не говорили на эти темы и жили в мире и согласии».
Состояние Эдуарда все ухудшалось. Летом 1960 года ему исполнилось пятьдесят. Эту дату он отметил с Зелигом, праздник получился невеселый. Зелиг был потрясен тем, как скверно выглядел Эдуард.
«Он отказался от сладкого, чего с ним прежде никогда не случалось. Через каждые несколько метров он останавливался, чтобы перевести дыхание, а во время трапезы лоб у него покрывался испариной и ему становилось так нехорошо, что он несколько раз выходил из-за стола. При всем этом он курит одну сигарету за другой. Я думаю, у него сердечная недостаточность, обусловленная курением, полнотой, праздностью и неприкаянностью, голосами, которые он иногда слышит и пр. Он улыбался мне с такой теплотой и грустью, что у меня разрывалось сердце».
После этого совместного обеда Зелиг доставил Эдуарда в Бюргольцли. Эдуард теперь постоянно жил в этой лечебнице, и его контакты с внешним миром шли на убыль. Эвелину, дочь Ганса Альберта, послали в пансион в Швейцарию, и она была в числе {352} немногих, кто навещал ее дядю. «Я чувствовала себя одинокой и всеми покинутой, запертой, как в изоляторе, в этой швейцарской школе, — пишет Эвелина. — И я подумала: его все бросили, меня все бросили, может, мы с ним найдем общий язык». В обтрепанной одежде, с пожелтевшими от табака пальцами Эдуард показался Эвелине законченным старожилом клиники. Он был покорным и беспомощным, «с брюшком, двигался тяжело».
Во время их бесед он ни разу не упомянул своих родителей. «Он забрасывал меня вопросами об автомобилях, о том, применяются ли в них двигатели внутреннего сгорания или был сделан шаг вперед, к электрическим двигателям. Он перескакивал с предмета на предмет, его ум... напоминал губку, которая жадно впитывала сведения из внешнего мира, и он пытался выжать из меня возможно больше информации. Мне позволили взять его в город. Он смотрел на все круглыми от удивления глазами и вел себя как ребенок. Казалось, он видит все вокруг впервые в жизни, и от этого мне снова стало не по себе».
Еще одним посетителем Эдуарда был его старый знакомый пастор Ганс Фреймюллер. Он застал Эдуарда в питомнике клиники, тот стоял возле груды цветочных горшков и по одному отмывал их в проточной воде от налипшей грязи. «Это теперь моя работа», — сказал он извиняющимся тоном. Пастор немного поговорил с ним, но он отвечал рассеянно и выглядел совершенно ушедшим в себя человеком. Ганс Фреймюллер помнил, какое целительное воздействие оказывала на Эдуарда музыка, когда он жил в его доме, и спросил кого-то из персонала, играет ли по-прежнему тот на рояле. «При таком количестве пациентов это невозможно, — последовал ответ. — Иначе все другие тоже захотят играть».
В такой же грустной тональности выдержана статья под заглавием «В Цюрихе, всеми забытый», напечатанная в местной газете. Анонимный автор пишет о том, как в 1963 году посетил Эдуарда. Он работал на территории клиники, одетый в синий {353} комбинезон, обутый в деревянные башмаки. Усы придавали ему особенное сходство с отцом, которое еще усиливалось из-за «больших, бархатных, сияющих детских глаз». Эдуард говорил, как его угнетает то, что ему не позволяют играть на рояле (это мешает другим пациентам), а также сетовал, что теперь у него нет своей спальни. Но, похоже, он смирился со своей участью и «пытался найти оправдания тем, кто его предал и бросил». Он говорил бессвязно, не мог правильно выстроить предложения, запутывался в длинных периодах, но его словарный запас по-прежнему свидетельствовал об интеллекте и образованности. По мнению автора статьи, Эдуарда погубила собственная доброта, он был человеком, «который, увы, любил своих ближних больше, чем себя, и сломался под бременем этой любви». Эдуард перенес удар в 1964 году, после чего его посетил Ганс Альберт со своей второй женой. Они беседовали с ним, толкая его каталку по дорожкам больничного сада. Когда супруги садились в машину, Ганс Альберт проговорил голосом, в котором слышались одновременно злость и сострадание: «Несчастный Эдуард, какая же у него была жалкая жизнь!» Эдуард умер ночью 25 октября 1965 года. В местной газете было напечатано объявление о смерти «сына покойного профессора Альберта Эйнштейна». Милеву не упомянули.
Ганс Альберт пережил своего брата почти на восемь лет. В 1971 году он вышел на пенсию, но и после этого продолжал разъезжать по миру с лекциями. Он получил несколько наград за свои труды по гидравлике и управлению речным стоком. В качестве эксперта он во многом определил правила управления для таких рек, как Миссисипи, Миссури, Рио-Гранде, а также для рек Таиланда и Индии. Он не писал монографий, объясняя это тем, что его идеи не фундаментальны, то есть слишком связаны с непосредственными запросами современности. Но благодаря статьям он принадлежит к числу наиболее часто цитируемых авторов в своей области. За {354} долгие годы работы он добился престижных должностей, уважения собратьев-ученых и даже, в какой-то мере, умиротворенности.
А по воскресным вечерам, закончив работу, Ганс Альберт садился в старенький «Олдсмобиль» с приемником, неизменно настроенным на станцию, передававшую классическую музыку, и ехал на побережье, чтобы спустить на воду свою деревянную двадцатитрехфутовую яхту. Любовь к прогулкам на яхте, унаследованная им от отца и начавшаяся во время их совместных плаваний по Цюрихскому озеру, не покидала его всю жизнь. Яхта, говорил он, это «лучший способ общения с природой».
Очередную вечернюю прогулку на яхте к острову Мартас-Винъярд Ганс Альберт совершить не смог: у него заболело сердце. Приступ оказался смертельным. Он умер летом 1973 года в городе Вудз Хоул, штат Массачусетс.
Его похоронили в Винъярд Саунд, на маленьком кладбище над океаном. На мраморной могильной плите вырезаны слова: «Жизнь, посвященная студентам, исследованиям, природе и музыке».
Его вдова написала авторам этой книги фразу, проникнутую чувством, которое одобрил бы ее великий свекор: «Когда я потеряла мужа, у меня был единственный способ хоть как-то совладать со скорбью и горем: я с головой ушла в работу».
| {355} |
Прошло более четверти века после смерти Эйнштейна, а дух его по-прежнему обитал на Мерсер-стрит. Одна из его последних инструкций, данная уже на смертном одре, гласила: «Не допускайте, чтобы дом превратили в музей». Элен Дюкас и Марго, бережно храня все, что связано с ушедшим, дожили в квартире на Мерсер-стрит до глубокой старости, к ним регулярно ходил в гости столь же преклонных лет Отто Натан. Спартанские комнаты Эйнштейна на втором этаже почти не изменились после его смерти. На стенах висели фотографии его матери и сестры, на старых местах остались книги и коллекция пластинок. Все усилия Дюкас и Натана были направлены на то, чтобы Эйнштейн оставался человеком-тайной, а его репутация — безупречной.
Биографы и исследователи творчества Альберта Эйнштейна, желавшие получить дополнительную информацию о его жизни или воспользоваться тем, что он написал, неизменно обнаруживали, что их попытки наталкиваются на неожиданные препятствия. Основные источники информации либо скрывали, либо подвергали цензуре. Примером могут служить письма Эйнштейна к Мишелю Бессо, обнаруженные профессором Пьером Специали, швейцарским историком науки. Его знакомство с Бессо состоялось после второй мировой войны, когда он заведовал математической библиотекой Женевского университета. Каждый день, в любую погоду, в библиотеку неуверенной поступью входил маленький седой человечек и подолгу сидел, зарывшись в книги. {356} Специале и Бессо познакомились, и Специали узнал о долгой и прочной дружбе, связывавшей Бессо с Эйнштейном. После смерти Бессо Специали вступил в контакт с его сыном, и в 1962 году они обнаружили в подвале объеденную крысами пачку писем. Последовали новые поиски, и в 1963 году в руках у Специали оказалось более 200 писем, составлявших переписку Бессо с Эйнштейном.
Письма проливали свет на многое в жизни великого ученого, но опубликовать их удалось только в 1972 году, когда Специали получил от душеприказчиков Эйнштейна разрешение на публикацию. Натан настоял, чтобы из писем, относящихся к периоду развода, были исключены наиболее резкие высказывания в адрес Милевы: он не хотел, чтобы стало известно, до какой степени Эйнштейн был на нее озлоблен. Натан также позаботился о том, чтобы письма не вышли на английском (он отметал как неадекватные все имевшиеся переводы). Переписка была издана только на немецком и французском языках, благодаря чему мало повлияла на представление об Эйнштейне в Америке — стране, где он провел последние десятилетия жизни.
Однако Натан сожалел, что разрешил публикацию писем даже на упомянутых, достаточно стеснительных условиях. Особенно его огорчила публикация письма, в котором Эйнштейн признавался, что в попытках построить гармоничные супружеские отношения «его дважды постигла позорная неудача». В 1982 году Натан заявил, что, давая разрешение, сам еще до конца не понимал, до какой степени Эйнштейну была бы неприятна мысль о разглашении подробностей его личной жизни. Всю степень этого неприятия он якобы осознал только тогда, когда наткнулся на письмо, в котором Эйнштейн ответил отказом одному из своих первых биографов, Филиппу Франку, желавшему ознакомиться с его дневниками. Поверить в это означало бы допустить, что Натан был слеп и глух на протяжении почти двух десятилетий, проведенных бок о бок с Эйнштейном. Сомнительно также, чтобы в такое объяснение могли поверить Ганс Альберт и Фрида после своей попытки {357} опубликовать письма к Милеве в 1958 году. Похоже, правда заключается в другом. Натан был в ужасе от того, что не понял, какие выводы можно сделать из допущенных им к публикации писем, но не мог заставить себя признаться в своих ошибках.
Насколько болезненно реагировал он на разглашение подробностей личной жизни Эйнштейна, свидетельствует история, связанная с выходом в свет в 1971 году биографии Эйнштейна, написанной Рональдом Кларком. Кларк лишь вскользь упомянул в ней о переписке Эйнштейна с Бессо, но Натан понял, что он видел письма, причем в не прошедшем цензуру варианте, и быстро догадался, что Кларк получил доступ к фотокопиям, сделанным доктором Джагдишем Мехрой, сотрудником Техасского университета в городе Остин. На Мехра посыпались негодующие письма, Натан замучил его телефонными звонками, требуя, чтобы фотокопии были отосланы ему. «Он был страшно зол на меня за то, что я показал письма Кларку, — вспоминает Мехра. — Но я послан его к черту. Он просто пытался замолчать всю историю отношений Эйнштейна с Милевой. Он не хотел, чтобы выплыли хоть какие-то подробности о разводе или о том, что отношения с обеими женами складывались у Эйнштейна не лучшим образом». Мехра до сих пор не изжил обиду на Натана за то, как он отнесся к нему и ко всем тем, кто оказался вовлеченным в сложную проблему публикации писем Эйнштейна, в частности, к Максу Борну.
Ганс Альберт предупреждал Кларка, что Дюкас и Натан могут устроить ему массу неприятностей, и не ошибся. Дюкас предостерегла Кларка от использования работы Питера Микельмора — лучшей с точки зрения Ганса Альберта биографии — и четко предупредила его, что не хочет разглашения каких-либо подробностей о разводе. В противном случае Кларку и его информаторам угрожает судебное преследование. Разрешения на публикацию книги в Великобритании он не получил. Прежде чем она увидела свет в Лондоне в 1973 году, автор был вынужден — под сильнейшим нажимом Натана — частично {358} переписать ее. Он пришел к убеждению, что Дюкас и Натан не хотели, чтобы книга вышла, так как в ней содержались намеки на то, что, говоря словами самого Кларка, «у Эйнштейна было по ахиллесовой пяте на обеих ногах». В частной беседе он назвал Дюкас и Натана «рыцарями св. Эйнштейна».
В случае с Кларком Дюкас и Натан одержали пусть не полную, но победу, однако правда состояла в том, что они вели войну, которую не могли выиграть. Первые шаги к раскрытию секретов Эйнштейна были сделаны с их собственной помощью вскоре после его смерти. Это случилось, когда Филипп Франк решил организовать симпозиум в память своего покойного друга и попросил помочь ему в этом своего коллегу, сотрудника Гарвардского университета Джералда Холтона. Когда Холтон занялся подготовкой материалов для симпозиума, он обнаружил огромную лакуну в истории науки начала века — о влиянии трудов Эйнштейна на ее развитие почти ничего не было написано. «В истории физики начала двадцатого века образовалась область вакуума», — вспоминает Холтон, который решил, что он эту пустоту заполнит.
Холтон испытывал страстный интерес к архивам и принял предложение Франка посетить Элен Дюкас. Он знал, что у нее имеются какие-то письма Эйнштейна, но был совершенно не готов к тому, что ему предстояло увидеть в Институте высших исследований. Оказавшись в Фулд-Холле — внушительном здании из красного кирпича, — он спустился в подвал, куда свет проникал сквозь крошечные оконца, расположенные под самым потолком, по которому шли провода и трубы. По безлюдным коридорам Холтон прошел в западное крыло и попал в помещение без окон, напоминавшее огромный сейф. В нем стояло не менее двадцати шкафов с документами, и здесь-то Холтон и увидел Дюкас, с головой погруженную в работу.
«Я помню, как впервые увидел мисс Дюкас. Она сидела, подобно Джульетте в склепе, и в лучах лампы (других источников света в комнате не было) {359} отвечала на письма, все еще приходившие к ее патрону; они касались прав на публикации и пр.». Она стала открывать мне дверцы шкафов, и я увидел множество писем, вещей, документов. Архивные материалы охватывали все периоды жизни Эйнштейна, в их числе был даже старенький учебник геометрии, который Дюкас ошибочно считала «священной» книгой, воспламенившей когда-то воображение мальчика Эйнштейна. Многие из этих документов с трудом удалось спасти от нацистов, их доставили в Америку благодаря помощи французского посольства. Холтону показалось, что он попал в сокровищницу.
Вскоре Холтон и несколько аспирантов приступили к созданию настоящего архива из этого бессистемного собрания. Но уже на первом этапе работы он понял, что Дюкас приносила в Институт высших исследований далеко не все. Многие письма она считала чересчур личными и не смешивала их с научной корреспонденцией, оставляя у себя дома, на Мерсер-стрит. «Моей задачей было просветить мисс Дюкас в вопросе, что именно интересует историков науки, — говорит Холтон. — И в конце концов она стала постепенно переносить папки с Мерсер-стрит в институт». Он полагает, что она с пиететом относилась к любому клочку бумаги, связанному с жизнью Эйнштейна, но другие биографы подозревают, что она спрятала или даже уничтожила ряд документов. Марк Дарби, библиотекарь и архивист Института высших исследований, говорит: «Ходят слухи, не знаю, правдивые или нет, что многие бумаги Эйнштейна просто выкинули на помойку. Причина в том, что Дюкас и Натан совершенно отчетливо не желали, чтобы всплыли хоть какие-то свидетельства того, что Эйнштейн не был полным совершенством во всех отношениях». К числу бумаг, от которых Дюкас и Натан, по-видимому, избавились, относятся оригиналы первых его шести писем к Эльзе.
В 1971 году был подписан контракт, в соответствии с которым издательство Принстонского университета с согласия душеприказчиков Эйнштейна обязалось том за томом публиковать его письменное {360} наследие. Дюкас и Натан дали согласие на этот проект, очевидно в надежде, что он поддержит незатухающую славу Эйнштейна, а публикацию материалов наиболее личного характера удастся предотвратить. Предполагаемый объем наследия составлял сорок томов, для осуществления столь масштабного проекта нужно было найти курирующего его специалиста по истории науки. Требования душеприказчиков к кандидату на эту должность было нелегко удовлетворить, и его поиски затянулись. В числе кандидатов был Мартин Клейн, который приступил к работе, но почти сразу от нее отказался, сохранив за собой роль консультанта; впоследствии он стал главным редактором. Свой отказ он мотивировал личными причинами, однако, по его словам, он «нутром чуял», что ему придется вступить в конфликт с Дюкас и Наганом. «Я не хотел работать под постоянным присмотром», — говорит Клейн.
Директор университетского издательства Херб Бейли не сдавался и настойчиво продолжал поиски. Прошло пять лет, и в поле его зрения оказалась кандидатура Джона Стейчела, специалиста по теории относительности, который читал в Бостонском университете курс «Жизнь Эйнштейна и его время». Стейчел был исполнен энтузиазма. Для него Эйнштейн был не только героем от науки, но и идеалом борца за политические свободы. «В пятидесятые годы, в период маккартизма, Эйнштейн был для нас путеводной звездой: он воплощал собой право человека противостоять инквизиторам», — пишет Стейчел. По тем же причинам он восхищался Натаном.
В январе 1977 года Стейчел переехал в Принстон и приступил к работе. Он быстро обнаружил, что общение с Дюкас и Натаном требует незаурядных дипломатических способностей. «Дюкас была кладезем знаний об архиве, с ней необходимо было работать, — вспоминает Стейчел. — Она умела быть очень приятной в общении, мы с ней ладили, но она безусловно стремилась провести свою линию: Эйнштейн был героической фигурой и так его следовало подавать». По словам Стейчела, Дюкас часто говорила о «списке своих врагов», а «допуск к архиву {361} определялся чисто личными факторами — все зависело от того, удастся ли наладить с ней отношения». Стейчел вполне разделял ее стремление к честной игре, но его положение было нелегким: «Вполне понятно, что с научных позиций я как редактор должен был обладать полной независимостью, а это и вызывало трения».
Через шесть месяцев после переезда Стейчела в Принстон Натан решил, что ему нужно три редактора, а не один. Херб Бейли и Стейчел сочли, что работать в таких условиях будет невозможно, но Натан стоял на своем; он стремился снова обрести контроль над публикациями, и его беспокоила мысль о том, что Национальный научный фонд может сделать редакторскую свободу условием финансирования. «На этом этапе, — вспоминает Стейчел, — Натан решил, что я ему больше не подхожу в качестве главного редактора на тех условиях, о которых мы договаривались. Мы, то есть издательство и я, подписали контракт, но Натан его подписывать отказался». Дело было передано в арбитражный суд, Натан проиграл, но обратился в суд штата Нью-Джерси. «Процессы тянулись несколько лет, — рассказывает Стейчел. — Я был как в чистилище, не мог продолжать работу. ... Это был крайне неприятный период». Апелляции не прекращались до 1980 года, решение последней инстанции развязало публикаторам руки. Но добрые отношения между Стейчелом и душеприказчиками пошли прахом.
Стейчел совершил крайне предусмотрительный поступок — он сделал фотокопии каждого клочка бумаги, находившегося в архиве Института высших исследований. Далее редактора пользовались этими копиями и работали уже в помещении издательства Принстонского университета. Впоследствии работа над проектом осуществлялась уже в Бостоне, где Стейчел преподавал физику по контракту.
Интересы Стейчела и его коллег никоим образом не ограничивались документами, хранившимися в принстонском подвале. Напротив, выражаясь словами дочери Ганса Альберта, Эвелины, они «совали нос во все, во что могли и не могли». До Стейчела {362} дошел слух о письмах Эйнштейна к его первой семье, хранившихся после смерти Ганса Альберта у его вдовы Элизабет. Он также знал о существовании книги, написанной на их основе, о том, что душеприказчики воспрепятствовали выходу ее в свет, и о том, что между ними и семьей Ганса Альберта сложились из-за этого весьма напряженные отношения.
Чтобы завязать отношения с Элизабет, он выбрал благоприятную дату: в 1979 году отмечалось сто лет со дня рождения Альберта Эйнштейна. На книжный рынок было выброшено множество его биографий и воспоминаний о нем, планировались различные торжества, в том числе и в Институте высших исследований. Человек, ведавший списком приглашенных, спросил Стейчела, следует ли пригласить Элизабет. Стейчел ответил: «Непременно, нам предоставляется хороший случай для того, чтобы попытаться навести мосты». Затем он сообщил об этом приглашении Дюкас. «Впервые в жизни я увидел, как она вышла из себя. Она была весьма любезная дама и, даже когда была недовольна или сердилась, умела облечь свои чувства в вежливую форму. Но тут она была на грани истерики. Теперь, задним числом, я, как мне кажется, понимаю почему — она знала содержание этих писем и опасалась скандала».
Элизабет пришла на торжество, посвященное столетию Эйнштейна. Ее попытка поговорить с Дюкас (отнюдь не первая) получила очередной отпор. Стейчел, у которого отношения с Дюкас несколько ухудшились, попытался независимо ни от кого воздействовать на Элизабет и во время упомянутых церемоний, и во время последовавших за ними торжеств в Иерусалимском университете. Будучи еврейкой, Элизабет готова была склониться к его предложению предоставить письма Эйнштейна Иерусалимскому университету, где впоследствии должен был разместиться весь архив. Но, возможно, она подпала под давление родственников и друзей мужа, которые убедили ее, что письма должны остаться в семье. В конце концов право распоряжаться ими как доверительной собственностью получил внук Ганса Альберта Томас Эйнштейн. Стейчел не знал содержания писем и очень хотел выяснить, к какому {363} времени относятся самые ранние из них. Элизабет уверила его, что писем до 1914 года в ее распоряжении нет.
Десятого февраля 1982 года в возрасте восьмидесяти пяти лет Элен Дюкас умерла. «С ее смертью Эйнштейн умер второй раз, — сказал Натан репортерам. — Дюкас совершенно отождествила себя с Эйнштейном». Перед самой ее смертью она и Натан в соответствии с завещанием патрона передали все свои права на его наследие Иерусалимскому университету. Оригиналы документов, относящихся к архиву Эйнштейна, были впоследствии перенесены в Еврейскую национальную библиотеку и в Университетскую библиотеку в Иерусалиме.
Натан умер в 1987 году в возрасте девяноста трех лет и до самой своей смерти продолжал портить нервы исследователям жизни и творчества Эйнштейна. Биограф Эйнштейна Джейми Сейен, занимавшийся американским периодом его жизни, близко знал обоих — и Дюкас, и Натана. «Воздерживаясь от суждений по поводу публикации писем Эйнштейна к Милеве, могу сказать с уверенностью, что Элен и Отто были бы этим очень огорчены. Я рад, что они умерли до того, как это случилось», — говорит он. Эйнштейноведы в большинстве своем не оплакивали их кончину. По словам Джагдиша Мехры, когда умер Натан, «все обрадовались».
Упоминания о сохранившихся письмах к Милеве привлекли внимание Роберта Шульмана, преподававшего в Пенсильванском университете историю Германии. Он включился в работу по публикации наследия Эйнштейна в 1981 году, то есть за три года до того, как работы в рамках соответствующей программы переместились из Принстона в Бостон. В ноябре 1985 года он был приглашен на обед к швейцарскому физику профессору Ресу Йосту, чей дом находился в пригороде Цюриха. Фрау Йост сообщила Шульману, что знает о существовании писем Эйнштейна к Милеве со слов жены его внука Томаса, Ауде Эйнштейн, которая называла эти письма «прекрасными». На том же обеде Джина, дочь Генриха Цангера, предложила Шульману посетить {364} Эвелину Эйнштейн. Уже само это предложение было чем-то из ряда вон выходящим, так как после смерти Ганса Альберта всякие отношения между Эвелиной и семьей ее отца были разорваны. О причинах этого мы можем судить только с ее слов, так как ее мачеха Элизабет оставила без ответа наши вопросы на эту тему. Нам же представляется весьма показа тельным то, что Элизабет ни разу не упомянула Эвелину во время переговоров со Стейчелом.
Роберт Шульман встретился с Эвелиной в Беркли, штат Калифорния, в 1986 году. У нее хранился рукописный вариант предисловия ее матери к запрещенной душеприказчиками книге, в него были включены выдержки из писем Эйнштейна. Просматривая рукопись, Шульман понял, что она основана на обширной переписке между Эйнштейном и Гансом Альбертом, продолжавшейся с 1914 по 1955 гол. Но что самое замечательное, Шульман удостоверился, что Фрида несомненно использует в предисловии перефразированные отрывки из писем Эйнштейна к Милеве. Для Шульмана это было все равно что увидеть землю обетованную. Фрида говорила о своем материале, что он «сразу же увлекает и завораживает читателя. Даже тому, кто имеет представления о личности Альберта Эйнштейна, открывается совершенно новый мир».
Однако для Шульмана самый главный сюрприз был впереди. Эвелина пообещала ему сделать фотокопию предисловия. Когда Шульман ушел, она вынула рукопись из пластиковой папки и заметила, что оттуда торчат еще какие-то исписанные листы. «Я вытащила их, — говорит Эвелина. — Это оказались письма Эйнштейна к Милеве, не оригиналы, но копии, возможно и неполные, однако было ясно, что сняты они с тех самых любовных писем». Она позвонила Шульману, который еще не успел уехать из Беркли в Бостон, и сказала: «Алло, у меня тут есть какие-то любовные письма». Заполучив этот материал, эйнштейноведы уже знали, каковы ставки в игре, и могли, по выражению Эвелины Эйнштейн, «закидывать удочки».
Еврейский университет и публикаторы наследия Эйнштейна в рамках бостонской программы, с {365} одной стороны, и представитель интересов семьи Ганса Альберта, с другой стороны, в результате переговоров заключили контракт, по которому семья получала, наконец-то, право опубликовать книгу Фриды при условии, что предоставит другой стороне копии всех имеющихся у нее писем. Издатели наследия Эйнштейна также предложили его внуку Томасу деньги, и немалые, но для него все происходившее было исключительно делом принципа. «Он никогда не просил ни цента», — пишет Стейчел. Сделка состоялась, и вечером 18 апреля 1986 года в руки к эйнштейноведам наконец-то попали вожделенные письма.
Незадолго до этого события Фергюсон уговорил вдову Ганса Альберта передать письма на хранение в Банк Америки. Документ о передаче был подписан Стейчелом, Фергюсоном, Рувеном Йароном как представителем Еврейского университета и Томасом Эйнштейном.
Итак, 18 апреля коробку с письмами, доставленную из банковского хранилища, торжественно открыли, и с каждого клочка бумаги, находившегося в ней, было сделано по две копии: одна для Стейчела, вторая для Еврейского университета. Копии делал непосредственно на месте сам Фергюсон. Стейчелу запомнилось настроение, царившее в тот день: «Мы испытывали чувство огромного облегчения, хотя переговоры, тянувшиеся весь день, довели нас до полного изнеможения, — пишет Стейчел. — Мы скопировали каждый клочок бумаги. Все были довольны, что после стольких лет вражды между семьей Эйнштейна и его душеприказчиками нам удалось прийти к полюбовному соглашению».
В результате рукопись Фриды так и осталась неопубликованной. Фрида включила в свою книгу далеко не все, что содержалось в письмах, а ее попытки выстроить их в хронологическом порядке оказались куда менее эффективными, чем совместные усилия специалистов. Так, Шульман, чтобы точно датировать некое событие, выяснял даже, в какое время суток открывались библиотеки на рубеже веков. «Если в письме упоминался концерт, — пишет Стейчел, — {366} Роберт ехал в Швейцарию и там поднимал старые газеты, чтобы выяснить, о каком концерте предположительно могла идти речь».
Из-за трений с Дюкас и Натаном выход в свет первого тома «Статей и материалов» отодвинулся на много лет, работа над письмами еще больше отсрочила его публикацию, пишет Ренн, но «с другой стороны, благодаря этим письмам первый том перестал быть сухим, в нем появилась изюминка».
Когда в 1987 году, через несколько месяцев после смерти Натана, первый том, наконец, вышел, он произвел революцию в наших представлениях о молодости Эйнштейна. Подлинным откровением для исследователей оказалась широта научных тем, которыми он занимался в молодости; о многих из его попыток ничего не было известно. «Лишь немногие из них увенчались успехом, — пишет Ренн. — Это также приближает Эйнштейна к нам, превращает его из небожителя в человека».
За этим последовал еще один прорыв. Исследователи получили доступ к его ранним письмам к Эльзе. Они входили в число тех примерно пятисот писем, к которым относилось требование Марго, умершей в 1986 году, не публиковать их ранее, чем через двадцать лет после ее смерти. Первым биографом, увидевшим их оригиналы, был Джон Стейчел. Он обратил на них внимание еще тогда, когда в Институте высших исследований дублировал архив, предвидя конфликты с Натаном. Стейчел отметил, что некую пачку писем Дюкас держит отдельно от всей остальной корреспонденции. Бегло ознакомившись с содержанием писем в этой пачке, Стейчел сразу понял, насколько они важны, и, разумеется, все скопировал. С тех пор как минимум шесть оригиналов исчезло: в архиве Еврейского университета они отсутствуют. Первые три письма Эйнштейна к Эльзе, отправленные в 1922 году, а также еще три, датируемые декабрем следующего года, существуют теперь только в виде копий.
Самое правдоподобное объяснение этого факта — намеренное уничтожение оригиналов. В 1992 году представители Еврейского университета дали издательству Принстонского университета разрешение на {367} публикацию писем Эйнштейна к Эльзе. Оно означает отмену цензуры, учрежденной Дюкас и Натаном, и, соответственно, открывает для исследователей новую эру, давая им возможность систематично публиковать материалы.
Эйнштейн в своих человеческих проявлениях видится нам уже более ясно. Поразительно, как могли уживаться в одном человеке такая мудрость и такая слепота, такая сила и такая слабость: вероятно, это может показаться изощренной шуткой над человечеством. Но для самого Эйнштейна и его близких шутка оказалась достаточно жестокой. Об этом свидетельствует, в частности, один из отрывков в книге, написанной, как следует из предисловия, с целью «создать портрет Эйнштейна в жизни» путем публикации фрагментов его писем. Книга посвящена Отто Натану, одним из ее составителей и редакторов была Дюкас.
Дюкас и ее соредактор Бенеш Хоффман включили в книгу письмо, которое он уже в старости написал одному молодому еврею, аспиранту-психологу. Возможно, письмо это так и не было отправлено, обнаружен только его черновик. Молодой человек обратился к Эйнштейну за советом: он хотел жениться на девушке-христианке, его родители были против такого брака. Вот черновик написанного Эйнштейном ответа:
«Должен сказать вам откровенно, что я не одобряю вмешательства родителей в жизнь детей, в особенности если это вмешательство может повлиять на определяющие всю их жизнь решения. Ключевые проблемы каждый человек должен решать для себя сам.
Однако прежде чем принять решение, которое заведомо не одобрят ваши родители, вы должны задать себе следующий вопрос: достаточно ли я в глубине души независим от них для того, чтобы подобный шаг не нарушил моего душевного равновесия. Если вы сомневаетесь в этом, то его не стоит предпринимать, хотя бы заботясь об интересах самой девушки. Только от ответа на упомянутый вопрос и должно зависеть ваше решение».
Добился ли Эйнштейн душевного равновесия? Очевидно, нет. Этой задачи он решить не смог.
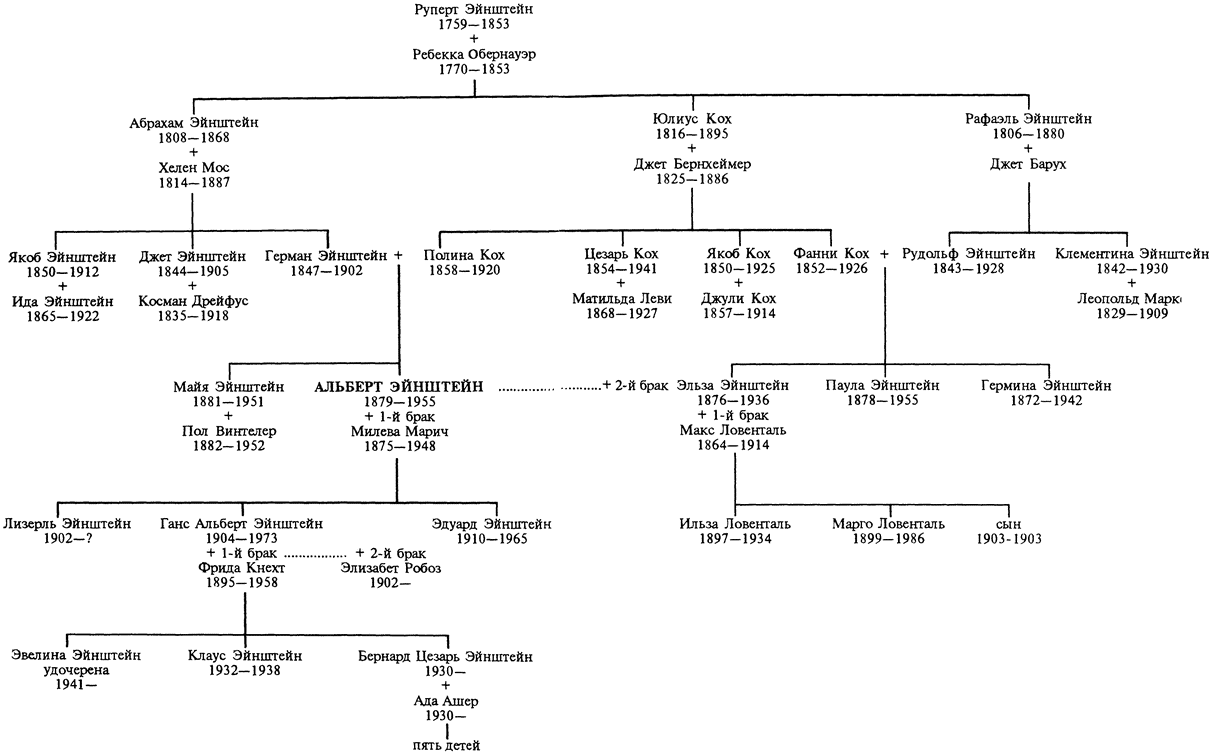
| {368} |
От издателя........................................................................ | 5 | |
Глава 1. | 7 | |
Глава 2. | 15 | |
Глава 3. | 48 | |
Глава 4. | 79 | |
Глава 5. | 116 | |
Глава 6. | 156 | |
Глава 7. | 191 | |
Глава 8. | 222 | |
Глава 9. | 247 | |
Глава 10. | 284 | |
Глава 11. | 116 | |
Глава 12. | Душеприказчики против исследователей: | 355 |
|
Пол Картер ЭЙНШТЕЙН. Директор И.Е.Богат Редактор Н.Н.Федюшова Художественный редактор О.Г.Дмитриева Корректор Л.О.Кройтман Верстка К.А.Лачугин Цветоделение А.А.Косарев |
Издатель ЗАХАРОВ Тел. редакции: 973-19-30, 973-90-98. Адрес: 103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16. Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 года. Подписано в печать 01.10.98. Формат 84×1081/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Объем 23 п. л. Тираж 11 000 экз. Изд. № 9. Заказ № 3666. Отпечатано с готовых диапозиивов в ПФ «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16. |