

| {1} |
Яков Борисович
ЗЕЛЬДОВИЧ
воспоминания, письма, документы
Ответственные редакторы:
академик РАН С.С. Герштейн,
академик РАН Р.А. Сюняев
МОСКВА
ФИЗМАТЛИТ
2008
| {2} |
|
УДК 041 (091) |
Издание осуществлено при поддержке |
Яков Борисович Зельдович (воспоминания, письма, документы) / Под ред. С.С. Герштейна и Р.А. Сюняева. — изд. 2-е, доп. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 416 с. — ISBN 978–5–9221–1009–9.
Я. Б. Зельдович — выдающийся ученый XX столетия — внес огромный вклад во многие области науки и техники. Он был уникальным по широте своих интересов — от физики горения и взрыва, через ядерное оружие, до самых глубин астрофизики и космологии. Знаменитый английский физик С. Хокинг до знакомства с Зельдовичем полагал, что фамилия Зельдович — псевдоним группы ученых (как Бурбаки), так велико было количество полученных им результатов. Ландау говорил, что ему не известен ни один физик, исключая Ферми, который обладал бы таким богатством идей, как Зельдович.
В книге представлены воспоминания друзей, коллег и учеников, в частности, многих известных ученых, а также некоторые архивные документы и письма.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей развития науки, историей советского атомного проекта.
© ФИЗМАТЛИТ, 2008 ISBN 978–5–9221–1009–9 © Коллектив авторов, 2008
| {3} |
Прошло пятнадцать лет после выхода книги воспоминаний об академике Якове Борисовиче Зельдовиче. Пять лет назад вышла книга на английском языке, в которую были включены десять новых статей российских и зарубежных астрофизиков и космологов, а также много новых фотографий из архива семьи Я. Б. Зельдовича и присланных его зарубежными коллегами. За редактирование этих статей и их подбор основную ответственность нес и несет Р. А. Сюняев.
Новое издание на русском языке значительно расширено по сравнению с первым российским изданием книги и включило в себя все дополнения, внесенные при подготовке издания на английском. Основную работу по дальнейшему расширению книги за счет статей отечественных авторов взял на себя С. С. Герштейн.
За последние годы появилось много открытых статей и обзоров, в которых подробно освещаются ранее засекреченные материалы, относящиеся как к созданию советского ядерного оружия, так и непосредственно к роли Я. Б. Зельдовича в его создании. В книгу включен ряд материалов, опубликованных в журнале «АТОМ» к 90-летию ЯБ, а также рассекреченное письмо заведующего сектором отдела Науки ЦК КПСС, показывающее (наряду с другими материалами, содержащимися в книге), что жизнь ЯБ была далеко не безоблачной.
Вводным материалом к новым статьям о героическом этапе создания ядерного оружия в СССР служит новое предисловие, написанное С. С. Герштейном по материалам Международного симпозиума «Наука и Общество: История советского атомного проекта» (ИСАП–96, — Москва: ИздАТ, 1997 г.).
Мы решили пометить каждую статью, включенную при подготовке английского издания книги, звездочкой. Соответственно статьи, написанные специально для этого издания или впервые включенные в состав книги на этом этапе, помечены двумя звездочками.
Данное издание книги выходит при поддержке РФФИ и по решению Бюро Отделения Физических Наук РАН. Мы благодарны редакции журнала «АТОМ» за разрешение на перепечатку статей из номера, посвященного Я. Б. Зельдовичу. При подготовке этого издания к печати неоценимую помощь оказали М. Б. Козинцова и Л. К. Попкова. Переводы статей иностранных авторов из английского издания были выполнены А. А. Лиходедом и С. Ю. Сазоновым.
Громадный вклад Я. Б. Зельдовича в развитие фундаментальной науки получил широчайшее международное признание. Его имя звучит на международных конференциях по астрофизике и космологии, экологии, физике горения и физике ударных волн. Историков по-прежнему интересует ход работ и формирование идей по созданию ядерного оружия. Хотелось бы сохранить {4} для будущих поколений яркий облик одного из выдающихся физиков XX века — Якова Борисовича Зельдовича.
Мы надеемся, что эта книга найдет своего читателя.
академик РАН С. С. Герштейн
академик РАН Р. А, Сюняев
Москва, 2008 г.
| {5} |
Время, прошедшее с выхода первой книги воспоминаний друзей, коллег и учеников о Якове Борисовиче Зельдовиче под названием «Знакомый незнакомый Зельдович» (Москва, «Наука», 1993 г.), стало временем торжества многих идей и работ ЯБ, временем успешного развития заложенных им научных направлений и осуществления предложенных им экспериментальных программ. Это стимулировало издание настоящей книги, существенно дополненной по сравнению с первой. Основные дополнения касаются двух областей деятельности ЯБ. Во-первых, это атомный проект, а во-вторых, космология.
За последние годы были рассекречены многие материалы по истории атомного проекта в СССР, и его участникам стало возможно полнее рассказать о той выдающейся роли, которую сыграл ЯБ в создании атомного и термоядерного оружия СССР. В книгу вошли новые воспоминаний коллег ЯБ, как по Арзамасу–16 (Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ), так и по Челябинску–70 (РФЯЦ — ВНИТФ). Из этих воспоминаний становится ясным, почему многие участники атомного проекта СССР стали называть ЯБ «Главным теоретиком атомной бомбы (по аналогии с возникшими в СМИ названиями: «Главный теоретик космонавтики» для М. В. Келдыша и «Главный конструктор» для С. П. Королева).
О той части вклада ЯБ в создание ядерного и термоядерного оружия, которая к настоящему времени рассекречена, можно судить по трудам международного симпозиума «Наука и общество: история советского атомного проекта (40-е–50-е годы)» (ИСАП–96, — Москва: ИздАТ, 1997 г.). В настоящем предисловии представлен ряд фактов, взятых из трудов этого симпозиума и из книги Л. П. Феоктистова «Оружие, которое себя исчерпало» («Российский комитет ВМПЯВ, Москва, 1999). Подробнее об этих фактах написано в статьях академика Р. И. Илькаева и проф. Г. А. Гончарова в настоящем издании.
Игорь Васильевич Курчатов с самого начала (в конце 1942 г.) предлагал привлечь ЯБ к атомному проекта наряду с А. И. Алихановым, Ю. Б. Харитоном, И. К. Кикоиным, А. П. Александровым и А. И. Шальниковым. Вместе с небольшой группой ученых ЯБ принял участие в составлении плана первоочередных работ. Его талант и знания во многих областях физики, гидродинамики, ударных волнах, детонации и пр., а также умение находить и привлекать к работе способных людей были поистине находкой для проекта и сыграли важнейшую роль для его осуществления.
Исходя из государственных интересов, ученые были вынуждены вначале повторить конструкцию американской атомной бомбы, (что потребовало создание специальных производств и новых технологий). Однако участники проекта Л. В. Альтшулер, Е. И. Забабахин, Я. Б. Зельдович и К. К. Крупников {6} на основе анализа, проделанного Я.Б., уже в 1948—1949 гг. предложили и обосновали новую оригинальную схему обжатия плутониевого заряда. Созданная с использованием этой схемы атомная бомба оказалась меньше по размерам и в два раза легче, но в то же время, как показали полномасштабные испытания в 1951 г., в два раза превышающей по мощности американскую атомную бомбу, которую им пришлось копировать (ИСАП, т. 1, с. 186–187).
Понимая, что реакция цепного ядерного деления будет происходить наиболее полно, когда инициирующий ее нейтронный импульс подается в момент максимального сжатия плутониевого заряда, ЯБ (совместно с В. А. Цукерманом) предложил использовать импульсный высоковольтный ускоритель, расположенный вне заряда. Для осуществления этого, казавшегося первоначально некоторым фантастическим, метода («надо разместить на бомбе целую электростанцию»), группа физиков под руководством А. А. Бриша создала специальную автоматику. Два типа «изделий» с разработанной автоматикой подрыва были испытаны в октябре и ноябре 1954 г. Идея внешнего нейтронного инициирования была подтверждена с триумфальным успехом: при том же ядерном заряде мощность взрыва возросла более чем в 3 раза. В дальнейшем идеи ЯБ о синхронизации момента максимального сжатия плутониевого заряда с инициирующим нейтронным импульсом получили новое развитие (ИСАП–96, т. 1, с. 193; т. 2, с. 176).
Я. Б. Зельдович и Л. В. Альтшулер предложили метод экспериментального определения сжимаемости и уравнения состояния делящихся материалов в области давлений в десятки и сотни мегабар. Сущность метода заключалась в измерении выхода нейтронов при сжатии материала взрывом обычных взрывчатых веществ без макроскопического выделения ядерной энергии. Этот метод, получивший название метода невзрывных цепных реакций (НЦР), позволил получить важные сведения для конструирования ядерного оружия. Но вместе с тем он заложил основы нового чрезвычайно интересного направления: изучения вещества в экстремальных состояниях, интенсивно развиваемого в нашей стране и за границей (см. статьи В.Е. Фортова и Р. Н. Киилера в представляемой книге).
Опубликованные к настоящему времени материалы позволяют судить о выдающейся роли Я. Б. Зельдовича и в создании термоядерного оружия. Начало работ по созданию водородной бомбы в СССР было, по-видимому, инициировано в конце 1945 г. И. В. Курчатовым, получившим сведения об аналогичных работах в США и устройстве Э. Теллера под названием «Супер». Я. Б. Зельдович и его коллеги в Арзамасе, Институте химической физики, Институте физических проблем и Теплотехнической лаборатории (ныне ИТЭФ) проделали большую работу по выяснению условий возбуждения термоядерной реакции в устройстве, названном «трубой» (которое, по-существу, копировало «Супер»). Как отмечал А. Д. Сахаров, включившийся в 1948 г. в составе группы И. Е. Тамма в указанные исследования, знакомство с работами группы Зельдовича помогло ему придумать «слойку» для обжатия термоядерного заряда. ЯБ сразу оценил эту идею. Согласно постановлению Совета Министров СССР в конце 1951 г. к работам по РДС–6с («слойке») было привлечено несколько ученых, в том числе ЯБ, продолжавший одновременно {7} заниматься «трубой» (РДС–6т). Итоговый отчет по РДС–6с был в июле 1953 г. подписан тремя авторами: И. Е. Таммом, А. Д. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем (см. статьи Р. И. Илькаева и Г. А. Гончарова в этой книге). Испытание РДС–6с в бомбовом исполнении, проведенное в августе 1953 г., явилось важнейшим этапом развития ядерно-оружейной программы СССР. Впервые в СССР была осуществлена термоядерная реакция. В конце 1953 г. ЯБ, убедившись в неработоспособности «трубы», настоял на прекращении работ по ней.
Одновременно А. Д. Сахаров убедился в бесперспективности проекта усиленной «слойки», который он, по его словам, «неосторожно авансировал» по предложению правительства. Для всех участников работ настало время «мозгового штурма», в ходе которого было найдено решение проблемы. Важную роль сыграла при этом идея обжатия термоядерного заряда с помощью использования энергии атомного взрыва, которую настойчиво пропагандировал В. А. Давиденко. О такой возможности еще ранее задумывался А. Д. Сахаров, а разработка ее входила в научный план сектора Я. Б. Зельдовича. Так возникла основополагающая идея двухступенчатого устройства. Вначале предполагалось, что обжатие будет осуществляться продуктами атомного взрыва с использованием массивного кожуха, окружающего всю систему. Но затем ЯБ и АД нашли другой осуществимый вариант.
Важнейшее предложение о конкретном механизме использования излучения для эффективного обжатия термоядерного заряда было сделано академиком Ю. А. Трутневым. В разработку проблемы включился большой коллектив высочайшего класса физиков, математиков, инженеров. Практически за год упорной работы была создана новая двухступенчатая конструкция, испытание которой 22 ноября 1955 г. в виде бомбы, сброшенной с самолета, явилось триумфом советской термоядерной программы. Это открыло пути к разработке целого ряда изделий с разнообразными высокими характеристиками.
Дальнейшее усовершенствование термоядерного оружия было сделано учениками и коллегами Зельдовича, Сахарова и Тамма. В Челябинске–70 (ВНИИТФ) была уже в 1957 г. испытана и передана на вооружение серийная водородная бомба, основными разработчиками которой были Е. И. Забабахин, Ю. А. Романов и Л. П. Феоктистов. Ю.Н. Бабаев и Ю.А. Трутнев внесли существенное усовершенствование в конструкцию водородного заряда, которое было успешно отработано в 1958 г. и предопределило современный облик отечественного термоядерного оружия (ИСАП–96, т. 1, с. 212).
Получили дальнейшее развитие и другие идеи ЯБ. Он был, по-видимому, последним универсалом прошедшего ХХ-го века. Его работы в области химической физики, горения и детонации лежат в основе современных представлений. Прошедшая в 2004 г. Международная конференция по горению и детонации, посвященная 90-летию Якова Борисовича, явилась блестящим подтверждением слов академика А. Г. Мержанова о том, что «в теории горения невозможно выполнить исследование, которое так или иначе не было бы связано с именем Зельдовича». В частности, открытые им явления при горении пороха послужили для создания им внутренней баллистики известных реактивных снарядов «Катюша» и стали основой для создания современых ракет на твердом топливе (см. статью О.И. Лейпунского). {8}
Занимаясь жизненно важными для нашей страны проблемами, ЯБ неукоснительно соблюдал режимные требования и требовал этого от своих сотрудников. И в годы перестройки нашлись люди, казавшиеся при жизни ЯБ близкими к нему» которые, как говорится, с «безопасной храбростью» начали упрекать ЯБ в излишней «осторожности». Но он проявлял истинное мужество и порядочность, невзирая на грозящие ему опасности, когда речь шла о помощи людям, попавшим в беду. Об этом свидетельствуют, например, воспоминания М.Я. Овчинниковой, Н. А. Константиновой, Г. И. Баренблатта, защита О. И. Лейпунского и многих других людей, категорический отказ от подписи писем, осуждающих А. Д. Сахарова (хотя сам ЯБ по многим вопросам был с ним и не согласен). Абсолютную бесстрашность проявлял ЯБ в научных вопросах и когда речь шла о пользе дела. Он первый в 60-е годы, например, начал пропагандировать работу Г. А. Гамова о горячей Вселенной, хотя даже самого имени Гамова тогда не принято было у нас произносить (см. письмо Гамова Зельдовичу).
Мы надеемся, что издаваемая книга поможет сохранить облик одного из выдающихся ученых XX века.
академик РАН С. С. Герштейн
Москва, 2008 г.
| {9} |
Прошло уже пятнадцать лет, как Якова Борисовича Зельдовича нет с нами. Он сказал мне однажды, что все неправильные идеи и методы умирают вместе с предложившими их людьми. А его идеи и его имя по-прежнему звучат на многих астрофизических и космологических конференциях. Теперь можно сказать, что у него было много блестящих идей, которые пережили его. Я. Б. Зельдович успешно работал во многих областях науки, от химии до теории элементарных частиц. Он затронул в своих работах широчайший круг вопросов, причем делал это с превеликим интересом и восхищением тем, что Мать Природа скрывает в этих задачах. Космология была его последней любовью. И насколько я помню, после 1970 года он практически потерял интерес (или мне так казалось) ко всем другим областям науки (ядерной физике, элементарным частицам, физической химии, прикладной математике, теории ударных волн и горения, релятивистской астрофизике и т.д.), которыми он очень интересовался до этого и в которых он получил замечательные результаты, пока не достиг 55-летнего возраста. Он продолжал писать книги, посвященные различным областям науки, вместе со своими коллегами, и активно участвовал в различных конференциях, но мы все знали, что последние двадцать лет своей жизни он посвятил космологии. И он был счастлив в этой своей любви. Он работал каждый день до последного дня своей жизни.
За много лет до этого он говорил мне, как приятно и интересно входить в новую для себя область науки. Нужно приложить заметные усилия, чтобы овладеть примерно десятью процентами общей информации о предмете. Это позволяет начать настоящую работу. Работая в полную силу, можно достаточно быстро достигнуть уровня, когда Вы станете свободно ориентироваться в девяноста процентах всего поля исследований. Но это и есть момент, когда пора начинать искать новое занятие, потому что для решения последних десяти процентов нужно затратить колоссальное количество времени и усилий. И он поступал так много раз со всеми областями, интересовавшими его ранее. Но он даже представить себе не мог, что сможет бросить космологию.
За последние десять лет астрономы пришли к стадии подобной той, в которой человечество находилось во времена Магеллана. Для большинства людей Земля была бесконечной и полной тайн, и только после экспедиции Магеллана каждый, для кого это было важно, осознал, что Земля конечна, и ее геометрия чрезвычайно проста. В географии осталось немало интересных задач и после Магеллана, но эти задачи не имели глобальных последствий для понимания нашего положения во Вселенной. Сейчас мы встретились с очень похожей ситуацией, но относительно всей Вселенной. Детальное исследование реликтового излучения (космического микроволнового фонового излучения), далеких сверхновых звезд, скоплений галактик, облаков газа, {10} фиксируемых по поглощению в линии Ly-α, и т. д., приносит информацию о главных параметрах и постоянных, определяющих свойства нашей Вселенной.
За последние годы мы получили неопровержимые доказательства того, что горячая модель Вселенной полностью верна. В течение нескольких следующих лет, скорее всего, мы сможем доказать, что наша Вселенная представляет собой очень простой физический объект, или, может быть, мы найдем новые неизвестные до сих пор причины, влияющие на нее и определяющие ее поведение. И «темная энергия» — это только первая ласточка.
Последние двадцать лет жизни Я. Б. Зельдовича были необычайно успешны. Он предложил спектр первичных возмущений плотности, который сегодня подтвержден всеми существующими наблюдениями и который хорошо известен как спектр Харрисона-Зельдовича. ЯБ предсказал существование акустических пиков в угловом распределении реликтового излучения. Эти пики были открыты три года назад в наземных экспериментах и экспериментах БУМЕРАНГ и МАКСИМА на высотных баллонах и были подтверждены (с гораздо более высокой точностью) спутником WMAP. Он предсказал тепловой и кинетический эффекты, делающие радионаблюдения скопления галактик мощным инструментом наблюдательной космологии. ЯБ ввел красивейшее приближение Зельдовича, продемонстрировавшее, что рост крупномасштабной структуры Вселенной должен приводить к образованию «блинов» и филаментов из-за пересечения траекторий частиц. И мы наблюдаем их сегодня не только в реальной Вселенной, но также и при численном моделировании поведения «Холодного Темного Вещества». Сегодня суперкомпьютеры превратили такое моделирование в могучую отрасль «индустрии» современной космологии. Он живо интересовался физикой Лямбда-члена в уравнениях Эйнштейна и его значением для эволюции Вселенной. И я часто задумывался о том, насколько восхищен был бы он, услышав о недавнем точном определении вклада «темного вещества» в среднюю плотность вещества во Вселенной. Помню, как происходил важнейший переворот во взглядах человека, который говорил мне в течение десяти лет, что масса нейтрино должна быть равна нулю, потому что это красиво и естественно, а как же иначе! Но однажды он сказал мне, что возможно все, что не запрещено. Что бы он сказал сегодня, когда мы знаем, что вклад всех известных типов нейтрино в среднюю плотность вещества Вселенной превышает вклад всех видимых звезд.
Громадные изменения произошли не только в науке, но и в стране, в которой он вырос, и в которой прошла вся его жизнь. Советский Союз больше не существует, и его три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда превратились теперь в золотые звезды несуществующей страны, хотя они продолжают свидетельствовать, насколько был важен и признан его вклад в «АТОМНЫЙ ПРОЕКТ» Советского Союза. Он потратил больше двадцати лет жизни, работая над проблемами оружия. Он участвовал в создании простых русских ракет «Катюша», которые стали весьма эффективным оружием во второй мировой войне. Он работал над созданием атомной и водородной бомб и полагал, что атомное оружие гарантировало самый длительный мирный период в истории человечества. В течение многих лет он не имел права поехать на Запад и наивно полагал, что если бы такая {11} возможность была ему предоставлена, он бы очень многое узнал о своей науке и многому научился.
Теперь больше нет тех ограничений на путешествие за границу из России, но наука, которой он служил, находится в России в страшном положении. Дети многих его друзей и многие из его учеников покинули Россию. За эти годы в России произошли изменения, которые невозможно было предсказать и даже представить себе. Изменился и весь мир, произошли громадные изменения и в его любимой науке — космологии. Очень жаль, что он не смог увидеть все эти замечательные или печальные изменения. Трудно представить себе его поведение в России сегодняшнего дня, где произошли громадные изменения (во многом положительные), но я не представляю себе, чтобы он мог примириться с чудовищным уменьшением финансирования и поддержки фундаментальной науки. Он служил науке всю свою жизнь, и конечно же, ему было бы очень трудно видеть настолько уменьшившийся интерес к фундаментальной науке в России. Но я вспоминаю, как он говорил мне, что Александр Фридман нашел свое решение, описывающее расширение Вселенной, в голодном и замерзающем Петербурге 1921 года, когда условия для жизни были несравненно хуже, чем те, что мы имеем в России наших дней.
В следующем году мы будем отмечать 90-летие со дня рождения Якова Зельдовича и будет приятно, если читающие эту книгу еще раз ощутят, насколько трудной и в то же время замечательной была жизнь этого необычайно талантливого человека, великого ученого, ярчайшей личности и великого Учителя.
академик РАН Р. А. Сюняев
Москва-Гархинг-Пасадена
2000–2003 г.
| {12} |
Эта книга содержит воспоминания учеников, друзей и коллег об академике Якове Борисовиче Зельдовиче. За последние годы подобного рода воспоминания опубликованы о ряде выдающихся ученых. В чем их ценность? На наш взгляд» это не просто дань памяти людям, проложившим новые пути в науке. Написанные совершенно разными людьми, они позволяют воссоздать объективный облик ученого и его характерные человеческие черты, заглянуть в его творческую лабораторию, познакомиться с методами работы и подходами к решению научных и жизненных проблем. Такое знакомство весьма полезно для тех, кто интересуется наукой, и в особенности для тех, кто в нее вступает или собирается вступить. Затрагивая обстоятельства и этапы решения важнейших научных и технических задач, воспоминания представляют несомненный интерес для истории науки. Вместе с тем, касаясь условий работы ученого, его образа мыслей и настроений окружающего общества, они воссоздают эпоху, в которой он работал. В этом отношении они (как и любые воспоминания) представляют интерес для последующих поколений.
Особое значение этот аспект приобретает в воспоминаниях о Якове Борисовиче, если учесть, над какими проблемами он работал в 40-е –50-е годы.
Мы старались не «причесать» отдельные материалы, а лишь по возможности сократить неизбежные в таких случаях повторы одних и тех же эпизодов в статьях разных авторов. В книгу включены также некоторые документы, касающиеся Якова Борисовича: официальные отзывы, письма и т.д. Помещена и статья самого Зельдовича «Памяти друга», поскольку она, как нам кажется, хорошо отражает его стиль и темперамент.
Расположение материала, в основном, носит хронологический характер и отражает те «главные» области в науке, с которыми в первую очередь связано имя Я. Б. Зельдовича.
член-корреспондент РАН С. С. Герштейн
академик РАН Р.А. Сюняев
| {13} |
Родился 8 марта 1914 г. в Минске. Умер 2 декабря 1987 г. в Москве.
Отец — Зельдович Борис Наумович, юрист, член Коллегии адвокатов; мать — Зельдович (Кивелиович) Анна Петровна, переводчица, член Союза писателей.
С середины 1914 г. по август 1941 г. жил в Петрограде (затем Ленинград), до лета 1943 г. — в Казани, с 1943 г. — в Москве.
В 1924 г. поступил в десятилетнюю среднюю школу в 3-й класс, которую окончил в 1930 г. С осени 1930 г. по май 1931 г. учился на курсах и работал лаборантом Института механической обработки полезных ископаемых. В мае 1931 г. зачислен лаборантом в Институт химической физики АН СССР (ИХФ), с которым был связан до последних дней.
Начав работу в ИХФ без высшего образования, занимался самообразованием при помощи и под руководством теоретиков института. С 1932 по 1934 г. учился на заочном отделении физико-математического факультета Ленинградского университета, который не окончил; позже посещал лекции физико-механического факультета Политехнического института.
В 1934 г. был принят в аспирантуру ИХФ, в 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1939 г. — диссертацию на степень доктора физико-математических наук.
С 1938 г. заведовал лабораторией в ИХФ. В конце августа 1941 г. вместе с институтом был эвакуирован в Казань. В 1943 г. вместе с лабораторией переведен в Москву. С 1946 по 1948 г. заведовал теоретическим отделом ИХФ. Одновременно, по 1948 г., — профессор Московского инженерно-физического института.
С февраля 1948 г. по октябрь 1965 г. занимался оборонной тематикой по атомной проблеме, в связи с чем удостоен Ленинской премии и трижды — звания Героя Социалистического Труда; занимал должности начальника отдела и заместителя руководителя предприятия.
С 1965 г. по январь 1983 г. заведовал отделом Института прикладной математики АН СССР. С 1965 г. — профессор физического факультета Московского государственного университета, заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга.
С 1983 г. — заведующий отделом Института физических проблем АН СССР, консультант дирекции Института космических исследований АН СССР. С 1977 г. — руководитель Научного совета по горению АН СССР. {14}
В 1946 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1958 г. — академиком.
Основные направления научной работы:
— гетерогенный катализ и адсорбция (экспериментальные и теоретические работы — 1932–1936 гг.); вопросы адсорбции послужили также темой кандидатской диссертации;
— окисление азота при горении и взрывах — экспериментальные работы на лабораторных и укрупненных установках и теоретические работы — 1935–1940 гг.; окисление азота явилось темой докторской диссертации;
— теория горения, воспламенения и распространения пламени — 1937–1941 гг., затем после войны, 1945–1948 гг.;
— ударные и детонационные волны, газодинамика взрыва — с 1938 г.;
— теория деления урана — теоретические работы, опубликованные в 1939–1940 гг. совместно с Ю. Б. Харитоиом; выяснение условий стационарного деления в энергетических установках и взрывного деления;
— внутренняя баллистика нового оружия и теория горения порохов — 1941–1948 гг.; теоретическая и экспериментальная работа по порохам, кроме ИХФ, проводилась на кафедре Московского механического института (1945–1948 гг.);
— участие в разработке и создании атомного, затем водородного оружия — 1943–1963 гг.;
— исследования в области ядерной физики и теории элементарных частиц: работы по μ-катализу, предсказание новых изотопов, в частности 8Не, новых типов распада частиц (π+ → π0 + e+ν), свойств векторного тока, пионерская работа по теории тяжелых мезонов — с 1952 г.;
— работы в области релятивистской астрофизики и космологии: исследования по теории образования «черных дыр» и нейтронных звезд при эволюции обычных звезд, выделение энергии и излучение рентгеновских лучей при падении вещества на черные дыры; разработка теории эволюции «горячей» Вселенной, свойств реликтового излучения, теории образования галактик и крупномасштабной структуры Вселенной, инфляционная теория ранней Вселенной — 1965–1987 гг.
В 1943 г. был удостоен Государственной премии за работы по горению и детонации. В 1949, 1951 и 1953 гг. был удостоен Государственных премий I степени за специальные работы. В 1957 г. был удостоен Ленинской премии за специальные работы.
В 1945 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1949 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.
В 1953 и 1957 гг. награжден медалью Серп и Молот и удостоен звания трижды Героя Социалистического Труда.
В последующие годы награжден орденами Трудового Красного Знамени (1964), двумя орденами Ленина (1962, 1974), Октябрьской Революции (1984).
Избран иностранным членом Лондонского королевского общества, Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (ГДР), Американской академии наук и искусств, Национальной академии наук США, {15} Венгерской академии наук, почетным членом ряда физических обществ и университетов.
Награжден почетными медалями: Н. Мансона (1977) и им. Б. Льюиса (1984) за работы по газодинамике взрывов и ударным волнам; медалью им. И. В. Курчатова за открытия в ядерной физике (1977), Катарины Брюс за достижения в области астрономии (1983), медалью Международного центра теоретической физики им. П. Дирака (1985).
| {1} |
Март 1931 года, Ленинград, Институт химической физики, незадолго до того возникший при «распочковании» Физико-технического института. Лаборатория Симона Залмановича Рогинского. Я здесь работаю уже более полугода, закончив физико-механический факультет Политехнического института.
Вначале я работал «на подхвате», а в конце 1930 г. Симон Залманович дал мне самостоятельную, пожалуй, курьезную тему, лежащую вне круга вопросов, которыми занималась лаборатория. Известно, что многие органические вещества легко переохлаждаются ниже точки плавления. К числу таких веществ относится нитроглицерин. Переохлажденный нитроглицерин превращается в вязкую массу, которую довольно трудно заставить кристаллизоваться. При «насильственной» кристаллизации можно получить две его модификации, отличающиеся точкой плавления, — лабильную и стабильную. При этом было обнаружено интересное явление: предварительно закристаллизованный нитроглицерин после плавления и некоторой последующей выдержки при повторном охлаждении сам легко кристаллизуется, причем в той модификации, в которой он ранее был закристаллизован. Нитроглицерин как {17} бы обладает «памятью». Разгадать загадку «памяти» и предложил мне Симон Залманович.
К марту 1931 г. я уже полностью привык работать с нитроглицерином, научился его кристаллизовать в любой модификации и провел многократные опыты с повторной кристаллизацией, убедившись в наличии «памяти». Наблюдал влияние температуры и длительности перегрева на сохранение «памяти», но к разгадке еще не подошел.
Здесь нужно сделать небольшое отступление. В те годы были очень распространены экскурсии на разные предприятия, в том числе в исследовательские институты. Система пропусков была крайне примитивной, а в институтах практически отсутствовала. Так как в лаборатории редко проходила неделя, чтобы не было одной-двух экскурсий, установили «экскурсоводческую повинность». По очереди каждый сотрудник должен был выполнять обязанность экскурсовода, если в этот день проходила экскурсия.
В тот памятный мартовский день наступила моя очередь. Пришла экскурсия из «Механобра» (Института механической обработки полезных ископаемых). Среди экскурсантов был юноша, почти мальчик (как потом выяснилось, ему незадолго до того исполнилось семнадцать лет). Как каждый экскурсовод, я начал со своей темы. Экскурсанты вежливо слушали, а юноша вдруг стал задавать вопросы, которые показали, что он владеет термодинамикой, молекулярной физикой и химией на уровне не ниже третьего курса университета. Улучив минутку, подхожу к Симону Залмановичу и говорю: «Симон! Мне очень нравится этот мальчишка. Хорошо бы его к нам». Симон Залманович в ответ: «Мне тоже; я краем уха слышал ваш разговор, я поведу дальше экскурсию сам, а ты поговори с ним, не хочет ли он перейти к нам? Тогда сможешь его взять к себе». Я отвел юношу в сторонку и спрашиваю: «Вам у нас нравится?» — «Очень!» — «А Вы хотели бы у нас работать?» — «Отчасти из-за этого я и на экскурсию пошел».
Вскоре Яша Зельдович, как звали юношу, перешел к нам и стал работать со мной, поскольку я его «открыл».
Так до сих пор и не знаю, кто, но подозреваю, что наш лаборант Сеня, мастер на всякие выдумки, пустил слух, будто Зельдовича выменяли на фор-вакуумный насос. Самому Зельдовичу эта легенда очень нравилась. Много лет спустя он, вспоминая нашу научную юность, сказал: «Значит, я даже тогда чего-то стоил».
Итак, Яша начал работать со мной. И хотя, когда мне исполнилось 70 лет, он поздравил меня телеграммой: «Моему первому учителю», надо сказать, что с первых же дней мы работали на равных. Несмотря на разницу в возрасте (я был на шесть лет старше) и на то, что я закончил институт, а он только среднюю школу, в работе мы были на равном уровне. Журнальные статьи для просмотра делили пополам. Большинство из них было на немецком языке. Если же изредка попадалась английская, статью брал Яша (в то время английский язык я знал неважно), который свободно владел обоими языками. Кажется, он знал также французский.
Наше равноправие было не только научным. Уже через несколько дней между нами возникла дружба, мы перешли на «ты» вместе ходили на реферативные собрания и советы в Физико-технический институт, в кино {18} в Яшумовом переулке (ныне улица Курчатова). Были установлены и некоторые рабочие «принципы». Согласно одному из них, разрешалось ошибаться, но запрещалось повторять ошибку. Провинившийся награждался «орденом большого тетерева»; на листе бумаги рисовалась некая птица, долженствующая изображать тетерева, и вешалась на место, которое условно представляло провинившегося.
Начало каждого рабочего дня устанавливалось накануне по соглашению, а окончание... Окончание зависело от хода работы, самочувствия, настроения, наличия интересной статьи, которую следовало прочитать до обсуждения, нового кинофильма и т.п. Длительность рабочего дня колебалась от восьми-десяти часов до четырех, когда в лаборатории, по нашему мнению, «заводился черт». В этом случае мы уходили в библиотеку Физтеха или в парк Политехнического института, где работа продолжалась.
В то время само понятие начала и конца рабочего дня, его длительности было расплывчатым. Можно сказать, что институты (Физико-технический, Химической физики и Электрофизический) работали 24 часа в сутки. Проходя поздно вечером мимо института, можно было видеть освещенные окна.
Работа шла успешно; довольно скоро мы опровергли предположение о наличии «памяти» в объеме, убедительно доказав, что она «сидит» на стенках. Полученные в ряде опытов результаты регулярно докладывали Симону Зал-мановичу и детально с ним обсуждали. Когда были неоднократно воспроизведены все опыты, доказывавшие правильность нашей точки зрения, решили писать статью. Вариант для обсуждения «в первом чтении» поручили писать мне. Я уселся и написал целую «диссертацию» (тогда их, впрочем, не было). Симон Залманович и Яша редактировали, беспощадно критикуя, а я цеплялся за каждую фразу. Яша, помню, как-то сказал: «Ты бы еще написал, какая погода была во время опытов». После долгих споров «сторговались». Жена Симона Залмановича — Анна Борисовна Шехтер — перевела статью на немецкий язык, поскольку было решено отправить ее в новый, недавно начавший выходить советский журнал на немецком языке «Physikalische Zeitschrift der Sovjetunion». И вот, в пятом выпуске первого тома появилась наша статья «Beitrag zum Mechanismus der Erscheinung des Gedachtnisses der wiederholten Kristaliisation». Для меня и Яши это была первая научная публикация.
Помню, завершение работы было отмечено уничтожением всего запаса нитроглицерина, накопившегося во время опытов. В котловане, за институтом, на камнях мы соорудили очаг, на него положили железный лист, а сверху — нитроглицерин. Аутодафе получилось красочным и торжественным!
После завершения работы стало ясно, что Зельдович может работать совершенно самостоятельно, и наши научные пути разошлись. Я, после некоторых перипетий, стал работать у Дмитрия Аполлинариевича Рожанского, у которого и определился мой дальнейший научный путь.
Яша, ставший вскоре Яковом Борисовичем, начал круто подниматься по научной лестнице. Его дальнейшая биография довольно хорошо известна: для получения права защищать кандидатскую диссертацию он стал экстерном сдавать экзамены в университете, но пришло разрешение защищать диссертацию без диплома о высшем образовании. Таких, без институтского диплома, {19} «академиков-самоучек» у нас было несколько (например, Борис Павлович Константинов, впоследствии ставший вице-президентом Академии).
Как-то на лекции, говоря о Якове Борисовиче, я не забыл упомянуть, что он не закончил университет. При этом я назвал и других наших «академиков-недоучек», но предупредил, что отсутствие высшего образования не является обязательным условием для того, чтобы стать академиком.
Дружба с Яковом Борисовичем продолжалась и после того, как наши научные пути разошлись, вплоть до войны и его переезда в Москву. Здесь наши встречи стали значительно реже. Яков Борисович очень редко бывал в Ленинграде. Хотя я бывал в Москве гораздо чаще, многие мои командировки бывали «от поезда до поезда», и лишь считаное число раз удавалось забежать к Зельдовичу хоть на несколько минут. Последняя встреча состоялась в конце декабря 1982 г. Хотя этот день совпал с моим 75-летием, мне пришлось быть в Москве, поскольку была назначена зашита диссертации одного из моих львовских учеников. Защита состоялась в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова на совете под председательством Б. Б. Кадомцева. Затем я поехал к Якову Борисовичу. Мы провели очень теплый и веселый вечер, в котором принял участие &. В. Гапонов-Грехов.
В конце 1987 г., когда мне исполнилось 80 лет, в Горном институте, где я работал, решили устроить юбилей. Я пытался «отбиться», но пришлось смириться, «сторговавшись», что в основе празднования будет научный семинар. Договорились с докладчиками (Б. М. Смирнов, В. Е. Голант, Г. Н. Фурсей) и перенесли «торжество» на начало 1988 г. Я позвонил Якову Борисовичу. «На сей раз постараюсь приехать», — сказал он. Но вот 2 декабря раздался телефонный звонок. Я услышал голос Голанта: «Вчера скоропостижно скончался Яков Борисович».
Мне (учитывая мой возраст) уже неоднократно приходилось прощаться с близкими друзьями; из них некоторые, как и Яков Борисович, были моложе меня. Каждая потеря тяжела. Но, конечно, потеря Яши Зельдовича, с которым нас связывала научная юность и дружба, длившаяся без единого облачка почти пятьдесят семь лет, была одной из самых тяжелых.
В 1931 г. в лабораторию катализа ЛИХФа, которой заведовал мой муж Симон Залманович Рогинский, пришла экскурсия из учреждения, именуемого «Механобр». Среди взрослых и пожилых участников экскурсии, далеких по интересам и явно не улавливающих смысла излагаемых исследований по теории катализа, выделялся 17-летний паренек, задававший вопросы, бьющие в самые ключевые точки работ. {20}
К счастью, руководитель экскурсии, научный сотрудник лаборатории катализа Л. А. Сена обратил внимание на юношу и немедленно повел его к С. 3. Рогинскому.
Оказалось, молодой человек недавно окончил среднюю шкоду и был распределен в «Механобр», где и работал лаборантом. Звали его Яша Зельдович.
После недолгого разговора с Яшей Симон Залманович, сразу распознавший его исключительные способности, в тот же день обратился к А. Ф. Иоффе, директору Комбината, в который входил ЛИХФ, с просьбой посодействовать через Наркомпрос переводу Зельдовича на работу в наш институт.
Как известно, А. Ф. Иоффе, как никто другой, любил и умел «выуживать» таланты. И в этом случае он без всякой волокиты добился, чтобы 17-летний Зельдович стал сотрудником лаборатории катализа. Яша очень быстро вошел в курс тематики лаборатории и фактически стал соавтором ряда работ по теории гетерогенного катализа.
Шло много споров о том, поступать ли Яше в ВУЗ. Многие (С.З. Рогинский, Я. И. Френкель и др.) были против, считая, что Яша сам сможет приобрести нужные ему знания, а ВУЗ только засушит его яркое дарование. Будущее показало, что они были правы. Старт, данный Яше в лаборатории катализа, был явно удачный.
Не помню точно, в каком году (но довольно скоро) Яша защитил кандидатскую диссертацию. Добиться разрешения на защиту было нелегко из-за отсутствия у соискателя высшего образования.
В 1939 г. Зельдович защитил докторскую диссертацию. Было ему тогда 25 лет. По этому поводу у него в квартире, где он жил с матерью и сестрой, состоялся небольшой банкет, где было мало людей (Н. Н. Семенов, два оппонента — Я. К. Сыркин и А. Н. Фрумкин, и мы с Симоном Залмановичем), но много вина, и царило непринужденное, веселое настроение. Фрумкин произнес шутливый тост и, обращаясь к Семенову, сказал: «У тебя, Колька, все всегда бывает необыкновенно. Ну, скажи, кто в твоем институте в этом году защитил докторскую диссертацию?» И сам же ответил, указывая на Яшу и меня: «один ребенок и одна женщина!» (моя докторская защита была в том же 1939 г.).
Вспоминается еще один забавный эпизод. Месяца через три-четыре после начала работы Яши в лаборатории катализа его мать позвонила Симону Залмановичу домой и спросила, как у Яши идут дела. С.З. его похвалил. И тогда она задала вопрос о том, что ее, по-видимому, сильно волновало: «Скажите, а мой Яшенька Вам не грубит?». Надо сказать, ничего похожего никогда не было, и Яша всю жизнь относился к своему первому учителю с большим пиететом, и тогда, когда работал в лаборатории катализа, и когда, заинтересовавшись теорией горения, перешел в лабораторию Семенова.
Могу еще добавить, что со своей будущей женой, Варварой Павловной Константиновой, Яша познакомился в лаборатории катализа, сотрудницей которой она была. Таким образом, в лаборатории катализа Зельдович получил путевку не только в науку, но и в семейную жизнь.
| {21} |
10 ноября 1987 г. я приехал на один день из Ленинграда в Москву для выступления в качестве оппонента в Институте проблем механики АН СССР и зашел с утра домой к Якову Борисовичу, с которым нас связывала многолетняя дружба. Яша был бодр, весел, как всегда энергичен, поделился некоторыми новыми соображениями по принципиальным проблемам интересовавшей его последнее время космологии и семейными новостями, а также обсудил со мной диссертацию, которую я приехал оппонировать. Она была посвящена проблемам сорбции — области, в которой Яковом Борисовичем была в 1939 г. выполнена основополагающая работа, хотя и не опубликованная в печати, но хорошо знакомая всем «сорбционщикам». Увы, не прошло и месяца, как по телефону из Москвы мне сообщили о кончине Якова Борисовича от обширного инфаркта.
Между нами разница в возрасте составляла три года, и эти три года я затратил на обучение в ВУЗе — окончил Физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. Яша же «сэкономил» эти три года, осваивая (сначала с нашей помощью) все необходимые знания в процессе основной работы, начиная с лаборанта и кончая академиком. Талант, помноженный на энергию, бил в нем ключом, и директор Института химической физики (ИХФ) Н. Н. Семенов добился зачисления Якова Борисовича в аспирантуру без формального документа об окончании ВУЗа. Перешагнув этот бумажный барьер, Яков Борисович быстро пошел по всем последующим ступеням и, кроме упомянутой выше работы по теории динамики сорбции, стал зачинателем решения многих новых и важных научных проблем.
Способствовала этому развитию и атмосфера, созданная в те годы в ИХФ, средний возраст научных работников которого составлял около 25 лет. Не было и в помине чинопочитания: и лаборант Зельдович, и старший научный сотрудник Тодес вместе обсуждали насущные научные проблемы, вместе отдыхали и развлекались. Работая в направлениях, начатых создателем и директором института (цепные реакции, горение и взрыв), дружная молодежь вносила свою лепту, без каких-либо приоритетных трений и споров, как бы перенимая эстафету. Так, будучи теоретиком при лаборатории газовых взрывов А. В. Загулина, я занялся учетом химической кинетики в процессе возникновения теплового взрыва (понятие, которое Семенов ввел ранее) и разработал теорию нестационарного теплового взрыва. В развитие этой схемы Яша проанализировал закономерности изменения периода индукции по мере приближения к пределу самовоспламенения. Параллельно Яша совместно с Давидом Франк-Каменецким разработал с учетом кинетики тонкую теорию скорости распространения пламени в газовых смесях. На этой схеме базировался впоследствии Шура Беляев, сведя механизм распространения пламени в твердых телах к газификации последних за счет тепла, передаваемого к поверхности фронтом пламени. В руках Яши этот механизм горения порохов оказался важным для прикладных задач, разрабатывавшихся во время Отечественной войны. {22}
В лаборатории Ю. Б. Харитона изучались явления детонации. Первые схемы совместного распространения фронта пламени и ударной волны были созданы много ранее работами Г. Римана, Б. Жуге и П. Гюгонио, но оставалась неизвестной структура самого фронта. Первой в развитии этих схем в ИХФ была работа Сережи Измайлова по отражению ударной волны от преграды и предельному увеличению интенсивности отраженной волны. В теоретических исследованиях перечисленных выше гидродинамиков совмещение ударной волны с фронтом пламени графически определялось проведением из точки, соответствующей состоянию газа перед фронтом, касательной к ударной адиабате Гюгонио» соответствующей полному выделению химической энергии. По наклону касательной определялась скорость детонационной волны, и до настоящего времени так рассчитывают скорость детонационной волны в зависимости от ее амплитуды. Единственным же серьезным обоснованием выбора точки касания было то, что она соответствует максимуму энтропии за фронтом. Учитывая постепенность процесса химического превращения и энерговыделения, я предложил считать структуру фронта описываемой промежуточными точками этой касательной, являющимися точками пересечения ее с адиабатами Гюгонио, соответствующими постепенному выделению химической энергии реакции, режимам, распространяющимся гидродинамически со скоростью ударного фронта (по «изовеле»).
Обсудив и проанализировав эту идею, Яша показал, что эти промежуточные точки соответствуют слишком низким температурам, при которых химическая реакция не сможет успеть за ударной волной, и, продолжив эту изовелу до пересечения с адиабатой Гюгонио, соответствующей еще не начавшейся химической реакции, установил, что фронт чисто ударной волны расположен впереди и поддерживается реагирующим газом сзади по изовеле, которую он в первых публикациях назвал «кривой Тодеса».
Летом то ли 1932, то ли 1933 г. мы получили через Физико-технический институт путевки и отправились компанией из четырех человек — Сережа Измайлов, Варя Константинова (тоже моя бывшая сокурсница), Яша Зельдович и я — в санаторий КУБУЧа (Комиссия по улучшению быта ученых) в Судаке. Держась отдельно от населявшей санаторий студенческой молодежи, мы устраивали по вечерам научные семинары на открытом воздухе. Выполнив небольшой теоретический расчет, мы с Сережей написали и послали в редакцию статью с указанием даты и места выполнения (Судак, санаторий для нервнобольных); редакция эту приписку опустила. А вот одну экспериментальную работу мы выполнили совместно — вчетвером.
Речь шла о проверке так называемой теории «девятого вала», который будто бы всегда наиболее интенсивен. Перпендикулярно берегу моря мы положили отметки из одного, двух, трех и более камней и в течение пары вечерних часов последовательно отмечали, до какой отметки дошла волна. Из этих наблюдений были сделаны выборки через каждые девять волн и определены средние дальности для каждой девятки. Если теория «девятого вала» была бы правильной, то одна из этих выборок должна была оказаться существенно больше всех остальных. Наш опыт, однако, дал практическое совпадение средних по каждой из сделанных выборок, и мы сочли теорию «девятого вала» полностью опровергнутой, но не подобрали {23} научного журнала, в котором можно было бы опубликовать результат нашего эксперимента.
Не ведая еще, что сбудется в дальнейшем, Яша и я затеяли в Судаке рискованную игру — женить друг на друге старших из нашей четверки, Варю и Сергея. Для этого при совместных прогулках Яша специально высказывал какую-нибудь ересь, которую Сережа, не выдержав, опровергал, а я подталкивал Варю со словами: «Смотри, какой Сережа умный». На краю санатория стоял небольшой киоск, в котором молодая татарка по имени Фадме продавала крем-соду и другие безалкогольные напитки. Однажды вечером мы, по инициативе Яши, взяли штурмом этот киоск, закрыли его раньше времени и утащили Фадме с собой в кино. Во время сеанса я сидел в середине, справа от меня Яша и Фадме, а слева Сережа и Варя. Яша демонстративно активно ухаживал за Фадме, а я подталкивал Сережу и говорил: «Смотри, что делается справа, и повторяй на левом фланге». Несмотря на все перечисленные ухищрения из нашего сватовства ничего не вышло, а спустя пару лет на Варе женился сам Яша!
В санатории, конечно, поддерживался «сухой закон», но на пляже, на границе с соседним санаторием Московского военного округа, располагался маленький аптекарский Киоск, в котором, когда приходила знакомая компания, закрывались наружные двери и из-под прилавка вынимались бутылки с вином. Однако за хорошими массандровскими винами надо было ходить в Судак. Во время одного из таких посещений мы наткнулись на продававшееся на вынос, но без тары, очень хорошее вино и, учитывая близость отъезда, захотели его приобрести. Совсем рядом с магазином обнаружилась аптека, на витрине которой стояли большие черные литровые бутылки с «Ессентуками №13». Мы купили такую бутыль и стали ее опорожнять, с отвращением поглощая исключительно соленую и противную минеральную воду, пока Яшу не осенило — ведь рядом канавка (арык), в которую можно ее вылить, что мы и сделали с огромным удовольствием. Заполнив освободившуюся бутыль разливным портвейном, мы, гордые своей сообразительностью, возвращались в санаторий, и, повстречав врача санатория, продемонстрировали ей черную бутыль с наклейкой «Ессентуки». Поскольку врач была моей одноклассницей, перед отъездом я признался ей о содержимом черной бутыли, и она очень огорчалась, что не сообразила нас проверить.
Как-то на пляже Яша захотел продемонстрировать трюк типа упражнений ГТО — плавание с гранатой в руке. За неимением гранаты он схватил первую попавшуюся под руку вещь — мою туфлю и, проплыв с ней в поднятой рук», бросил туфлю на берег. Но дело в том, что когда мы раздевались, я, сняв наручные часы, положил их как раз в эту туфлю, и при Яшином броске часы выпали в море. Мы их потом долго искали и все же выловили со дна морского, где они продолжали ходить, а последствия от купания часов я почувствовал примерно через год, когда они остановились. Осмотревший их часовщик с изумлением поведал мне, что весь механизм почему-то заржавлен.
События этого санаторного лета были отражены в коллективно составленной на мотив светловской «Гренады» стихотворной поэме, начинавшейся {24} строчками:
Мы ехали поездом, мчались в горах,
Язык свой нахальный держали в руках...
и вместо «Гренада, Гренада» следовал припев:
Крем-сода,
Крым, Сокол,
Генуя моя.
(Слева от санатория высилась гора Сокол, а справа, на обрыве, стояла старинная Генуэзская крепость.)
Много лет спустя мы встретились в одном санатории в Ливадии. Я мог констатировать, что у Яши с Варей не иссяк стиль активного отдыха с большими физическими и интеллектуальными нагрузками.
Из городских развлечений вспоминаю, как мы с Яшей ходили в гости к знакомым девушкам и связанную с этим небольшую проделку. Собираясь в театр, каждый из нас пригласил и привел по одной девушке. Когда же спектакль окончился, то мы, провозгласив «принцип взаимозаменяемости девушек», отправились провожать каждый ту из них, которую привел другой. Девушки не протестовали, очевидно, установив аналогичный принцип взаимозаменяемости и для нас.
После перехода ИХФ из ведения Наркомтяжпрома в систему Академии наук СССР Николай Николаевич Семенов возложил на меня обязанности ученого секретаря института, ведавшего организацией аспирантуры, обучением аспирантов и приемом кандидатских экзаменов, а также подготовкой к утверждению научных годовых планов. По специальным дисциплинам преподавание и прием экзаменов я вел совместно с Левой Гуревичем. Вместо стандартной процедуры приема (по типу студенческих экзаменов) мы предпочитали подобрать из литературы новую и интересовавшую нас статью и обязывали абитуриентов детально ее разобрать и доложить, защищаясь от задаваемых вопросов. Этот экспериментальный путь прошел и Яша Зельдович. Правда, один раз он немного поленился, за что получил оценку «считать девушкой», о которой он с удовольствием вспоминал и рассказывал даже в последние годы.
Параллельно с выполнением кандидатского минимума рос и его научный потенциал, а когда он приходил домой, то его мама, Анна Петровна, задавала ему неизменный вопрос: «Ну как — ты еще не Тодес, или уже Тодес?», поскольку единственным эталоном, наблюдавшимся в их доме, был я. Достаточно четкий ответ на этот вопрос она смогла получить в апреле 1944 г., когда на защите моей докторской диссертации оппонентами выступали Б. В. Деря-гин, Я. И. Френкель (мой бывший учитель) и Я. Б. Зельдович (мой бывший ученик).
Я очень любил бывать в Ленинграде в семье молодого Якова Борисовича и беседовать с его отцом — талантливым юристом, и матерью — известной переводчицей и членом Союза писателей. Младшая сестренка Якова Борисовича, Ира, впоследствии стала врачом. Тот же интеллигентный и рабочий стиль носило и более многодетное семейство самого Якова Борисовича, когда он стал самостоятельным и растил вместе с Варей двух девочек {25} и младшего сына. Борис унаследовал талант отца и в 1987 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР, о чем Яша так и не успел узнать.
Во время войны, находясь в эвакуации в Казани, вместе с лабораторией катализа ИХФ, которой заведовал С. 3. Рогинский, я перешел из Института химической физики в Институт физической химии (тогда именовавшийся КЭИНом1), а в конце войны возвратился в Ленинград, возглавив ВТУЗов-скую кафедру физики и выйдя из системы Академии наук. При этом я увлекся проблемами макроскопической физики дисперсных систем, гидравлические и тепловые процессы в которых играют важнейшую роль в практике химической технологии. Лишь в 70-х годах я вновь, через эти работы по дисперсным системам, вернулся к физике горения, разрабатывая радиационную модель распространения пламени в аэровзвеси горючих пылинок.
Яша после войны вместе с ИХФ возвратился не в Ленинград, а в Москву. Начиная еще со знаменитых статей 1939–1940 гг. (написанных вместе с Ю. Б. Харитоном) по теории цепного деления урана, центр тяжести его научных интересов перемещался в ядерную физику, а затем, после завершения ее основных практических применений, — в космологию. Расстояние в 700 км между нами препятствовало систематическому общению и сделало наши встречи редкими и случайными. Однако в 1981 г. Яков Борисович отчасти вернулся к основной тематике нашей юности, организовав и возглавив Научный совет по горению АН СССР, к участию в котором привлек и меня.
В эту последнюю научно-организационную работу он вложил такую же неисчерпаемую энергию, как и в остальные направления своей деятельности. Свои научные достижения в области горения и космологии он обобщил в ряде монографий и книг. Для тех, кто еще только начинал соприкасаться с наукой, им были написаны специальные руководства типа «Математика для пешехода»» некоторое пренебрежение в которых строгими выводами (типа, например, теорем о существовании) облегчало восприятие и понимание весьма абстрактных понятий, но вызывало неистовую ругань со стороны «чистых» математиков. Высший же контингент своих непосредственных сотрудников Яков Борисович воспитывал на совместном решении сложных проблем, особенно в области космологии.
Ученый, педагог и популяризатор — к каждой из этих ипостасей он подходил с одинаковым интересом, энергией и напористостью. Умел при этом принципиально и убедительно защищать выстраданные точки зрения. Приведу лишь один пример его принципиальности, на которую не легко было решиться. Во время эвакуации ИХФ в Казань Николай Николаевич Семенов, отозвав из армии одного из своих талантливых учеников, решил помочь ему перескочить через один этап и за представленную кандидатскую диссертацию присудить сразу докторскую степень. При этом Николай Николаевич поделился с ним своей новой и оригинальной идеей, в разработке которой ученик принял участие, и эта идея была опубликована в их совместной статье, а затем включена в кандидатскую диссертацию ученика. Несмотря на большой пиетет и благодарность к учителю, при обсуждении диссертации {26} на Ученом совете Яков Борисович активно выступил против предложения Семенова и убедил совет присудить лишь кандидатскую степень. Результат послужил диссертанту на пользу, и он, благодаря самостоятельным идеям, скоро стал не только доктором, но и академиком!
За истекшие полвека наше» некогда молодое, поколение учеников Николая Николаевича достигло уже 80-летнего возраста, но многие ушли из жизни значительно раньше. Ушел от нас и самый молодой из этого поколения — Яша Зельдович. Приняв эстафету от учителей, мы, и особенно Яков Борисович, оставляли существенные результаты и достижения, а также взращенную нами талантливую молодежь. Небольшой и молодой в 1933 г. ИХФ превратился сейчас в многотысячный коллектив и создал ряд крупных филиалов — в Ереване, Черноголовке... Мы вполне можем сказать об уже ушедших от нас, что «они не зря жили». Особенно это относится к Якову Борисовичу.
Часто воспоминания предваряются стандартным извинением. Суть его в том, что авторы не могут обойтись без, пусть краткого, рассказа о себе во взаимоотношениях с человеком, о котором пишут. В моем случае подобные извинения должны, наверное, звучать иначе: поскольку мое знакомство с физиками, о которых приходилось писать, всегда было так или иначе связано с моим отцом, Яковом Ильичом Френкелем, — их товарищем, коллегой или учителем — то я неизбежно должен говорить и о нем. Так будет и сейчас, когда я пишу о Якове Борисовиче Зельдовиче.
Я знал его в лицо еще в довоенном Ленинграде, встречал в Лесном — тогдашней городской окраине, где был сосредоточен куст институтов: Физико-технический, Химической физики, Котлотурбинный, Электрофизический, Музыкальной акустики, Агрофизический, не говоря уж об учебном — Политехническом. Но наиболее отчетливо помню встречу с Зельдовичем уже в Казани, году в 43-м, в коридоре университета. Практически все эвакуированные из Москвы и Ленинграда академические институты были сосредоточены тогда в сравнительно небольшом трехэтажном здании, занимавшем квартал живописной улицы Чернышевского (позднее переименованной в улицу Ленина). Кого только не встретишь, бывало, там. Вот в замшевой куртке с молнией идет с неизменной тогда трубкой в зубах П. Л. Капица; вот поднимается по лестнице в комнаты, отведенные Радиевому институту, его директор, высокий и прямой В. Г. Хлопин. Л. А. Орбели с необыкновенно мягким и добрым лицом, контрастирующим с официальным генеральским мундиром. Легендарный О. Ю. Шмидт — директор Института теоретической геофизики. СИ. Вавилов — директор Физического института АН СССР, с флажком депутата Верховного Совета на лацкане ладно сидевшего костюма. Физики — Л. Д. Ландау, Г. С. Ландсберг, Д. В. Скобельцын, И, Е. Тамм; химики — Н.Н. Семенов и А. Н. Фрумкин, математик С. Л. Соболев, гуманитарии — Н.С. Державин, И. И. Толстой. Будущие академики — молодой {27} сотрудник Института русской литературы (Пушкинского дома) Д. С. Лихачев, совсем юный В. И. Гольда некий, ученик четвертого класса Л. Д. Фаддеев. Можно долго перечислять эти имена!
И вот мы с братом, С. Я. Френкелем, здороваемся с худеньким, невысокого роста человеком — Яшей Зельдовичем, как называют его у нас дома. Он в поношенном демисезонном пальто, мягкой шляпе. Запомнились его очки в тонкой металлической оправе. Густой, низкий голос совершенно не соответствует хрупкой — тогда — фигуре. Он останавливает брата, в то время работавшего в Коллоидно-электрохимическом институте, и говорит: «Сережа, Вы бы повлияли на Якова Ильича, зачем он возится с теорией жидкостей, сейчас надо заниматься газовым разрядом и вакуумной электроникой». Я это хорошо запомнил, наверное, потому, что брат, в соответствии с просьбой Якова Борисовича, передал содержание разговора отцу в тот же вечер, за ужином. Помню, отец рассмеялся и махнул рукой. Я же, по молодости, несколько обиделся на Зельдовича, полагая, что отец и сам разберется, чем ему заниматься.
Вскоре Яков Борисович уехал в Москву, а в Казани, по-моему, еще оставалась его матушка, которая мне по многим соображениям была очень симпатична. Во-первых, внешне она напоминала мою бабушку, мать отца; во-вторых, трогала та гордость, с которой она, встречаясь на улицах Казани с моими родителями, рассказывала им об успехах сына. И, наконец, я уже в те годы очень любил Диккенса, а также с напряженным вниманием читал Честертона. И когда узнал, что Анна Петровна перевела биографию Диккенса, написанную Честертоном, зауважал ее необыкновенно. Много позднее, когда я упомянул об этом Якову Борисовичу, он не без гордости сообщил, что его мать окончила Сорбонну.
Среди спектра привлекательных черт характера Якова Борисовича я хотел бы отметить его удивительную преданность своим учителям и старшим товарищам — тем, кого он превзошел (таких было большинство), и с кем оказался в одной «весовой категории». Как физик-теоретик он начал работать в теоретическом отделе Института химической физики (которым тогда заведовал мой отец), и я неоднократно убеждался на юбилеях сотрудников этого отдела — Л.Э. Гуревича, С.В. Измайлова, О.М. Тодеса, Л.А. Сены — каким чувством благодарности к ним светились его письменные и устные приветствия. Из числа коллег, высоко им ценимых, я бы выделил Бориса Павловича Константинова, и мне кажется, что доминирующую роль в их научных и человеческих контактах играли дружеские чувства, а не родство.
В последний период деятельности Бориса Павловича, совпавший со вступлением его в должность директора ЛФТИ, он увлекся астрофизикой и, в частности, возможным существованием антивещества в Солнечной системе и Вселенной. Для подтверждения этой гипотезы в ЛФТИ в короткие сроки была развернута большая исследовательская программа. Гипотеза Бориса Павловича, впоследствии не подтвердившаяся, изначально была встречена скептически рядом ученых. Яков Борисович, несмотря на характерный для него скептический, или, лучше сказать, острокритический ум, отнесся к ней терпимо. Помню его рассуждения о том, что надо идти на риск, даже если {28} вероятность успеха в том или ином поиске очень мала, но» если она обратится в достоверность, эффект чрезвычайно велик1. Тем более, что, как любил говорить сам Борис Павлович, любой вопрос или эффект имеют право на существование, если они не противоречат второму началу термодинамики! Этот полушутливый довод был приправой к более существенному: Борис Павлович и Яков Борисович были уверены, что развернутые в ЛФТИ работы по астрофизике обязательно приведут к успеху, хотя, может быть, и не в первоначально намечавшейся области. Так и получилось, и Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе сделался одним из крупных центров астрофизических исследований в стране.
Пиетет к старшим товарищам, преданность в дружбе и терпимость, иногда, к сожалению, сочетались с бескомпромиссностью Якова Борисовича в человеческих отношениях. Известны случаи, когда он порывал отношения со своими сотрудниками, от чего, я уверен, страдало и дело, и обе «разошедшиеся» стороны. Но, видимо, в этом случае «эмоцио» побеждало «рацио».
Однако со мной (и мне в этом плане повезло) Яков Борисович на протяжении примерно 20-летних наших контактов был ровен. Припоминаю только один случай, когда он проявил несдержанное раздражение. Начну с этого случая, хотя хронологически эпизод относится к сравнительно позднему периоду наших деловых встреч. Кажется, в 1982 г. редакция Большой Советской Энциклопедии, готовившая издание тома «Великая Отечественная война», попросила меня написать микробиографические справки о нескольких советских физиках, внесших своими работами вклад в оборону. Среди них, естественно, был и Яков Борисович. При ближайшей встрече мы согласовали с ним «содержательную» часть справки: что сделано в те годы, о чем можно написать. Однако потом выяснилось, что, в соответствии со структурой заметок, в них надо было в одной-двух строчках очертить область научных интересов каждого из физиков. Конечно, я знал, чем занимался и занимается Зельдович, но не представлял, как это можно уместить в одну-две строчки, точнее, понимал, что не уместить! (Ведь только библиография его трудов содержит 11 разделов). Следовательно, что-то придется опустить, и мне показалось естественным позвонить ему и попросить в этом помочь. К моему удивлению, Яков Борисович «с ходу» и очень резко отказал, раздраженно заметив, что я могу обратиться к любому справочнику или энциклопедии. Попытки (затрудненные тем, что это был междугородний телефонный разговор) пояснить, в чем заключается трудность, ни к чему хорошему не привели. Но, здраво рассудив, я решил, что мог позвонить в неудачное время, а возможно, сам вопрос показался Якову Борисовичу недостаточно этичным. Словом, я увидел, что разговоры о его резкости имеют некоторые основания.
Хронологически же первая содержательная встреча с Яковом Борисовичем произошла в Ленинграде, в Физико-техническом институте. В первой половине 60-х годов он выступил здесь с докладом о физике звезд на семинаре теоретического отдела института, где к тому времени уже имелась {29} небольшая группа астрофизиков. Впрочем, актовый зал был заполнен не только теоретиками.
Среди вопросов, которые обсуждал Яков Борисович, была теория белых карликов. Он воспроизвел важный вывод о величине массы звезды, определяющей ее «карликовую» судьбу в процессе эволюции, а в конце сказал, что ему особенно приятно этот доклад делать в стенах ЛФТИ, где в 30-е годы была выполнена работа Л. Д. Ландау по теории белых карликов. Но у мена были свежи в памяти работы по подготовке к изданию тома Собрания избранных трудов отца, включавшего статью «Применение теории электронного газа Паули-Ферми к вопросу о силах сцепления»; последний (4-й) параграф этого тома «Сверхплотные звезды» содержал как раз те соображения и оценки (роль вырожденного электронного газа), которые только что привел Яков Борисович. Поэтому, когда доклад закончился, я подошел к доске, около которой он стоял, окруженный плотным кольцом теоретиков. Когда пришла моя очередь, я осторожно сказал Якову Борисовичу, что, по-моему, от его внимания ускользнула работа Я. И. Френкеля (1928 г.). Договорились, что пришлю ему ее ксерокопию. Прочтя работу отца, он согласился, что, действительно, в ней сделано то, о чем он докладывал в ФТИ. Но для верности ему хотелось иметь и статью Фаулера на эту же тему. Я послал ему копию этой статьи, и он какое-то время спустя сообщил, что теперь ему, действительно, все стало ясно, что как раз в ближайшее время выходит его статья в «УФН» и он укажет в ней на приоритет Якова Ильича.
Прошло какое-то время, я оказался в Москве и по делам зашел в редакцию «Успехов». Мне нужно было некоторое время подождать прихода одного из сотрудников, и Л. И. Копейкина, секретарь редакции, чтобы я не скучал, предложила мне посмотреть корректуру очередного номера журнала. В нем («УФН», 1965, т. 86, вып. 3) как раз и оказалась статья Якова Борисовича «Релятивистская астрофизика», написанная совместно с И. Д. Новиковым. Я быстро добрался до белых карликов и, к своему удивлению и огорчению, ссылки на работу отца не нашел. В тот же день я позвонил Якову Борисовичу и сказал ему об этом. Его реакция была такова: «Этого не может быть!» Я, в тон ему, ответил: «Потому что этого не может быть никогда! Но это так!» В итоге я получил заверения, что соответствующая правка в корректуру будет обязательно внесена, что и было, к большой моей радости, сделано. Позднее, уже в 1975 г., в статье «Рассказывают звезды», опубликованной в «Правде» 9 марта (совместно с И. Д. Новиковым и Р. А. Сюняевым), говоря о белых карликах, авторы (не в обиду соавторам скажу — Я. Б. Зельдович) отмечают: «В их теорию внесли большой вклад советские ученые Я. Френкель и Л. Ландау».
Вскоре после описываемого эпизода Зельдович снова приехал в ЛФТИ и на общеинститутском семинаре рассказывал об успехах астрофизики и космологии, определяющем влиянии на этот прогресс основополагающих работ А. А. Фридмана. Опираясь на работы В. Мак-Кри и Э. Милна, он получил основные результаты Фридмана на «ньютоновом» языке. Помню, закончив вычисления, он отошел от доски, посмотрел на цепочку формул и, обращаясь к внимательно слушавшей аудитории, сказал примерно так: «Какие возможности заключены в механике Ньютона! Знаете, я за свою жизнь занимался {30} многими вопросами, но, пожалуй, больше всего люблю классическую механику!».
В конце 70-х годов я начал интересоваться научной биографией Г. А. Га-мова. Коллега из США прислал мне страничку из автобиографической книги Гамова «My World Line», где были помещены два шаржа на А.Ф. Иоффе и Я. И. Френкеля. Это, конечно, обострило мой интерес к книге. Но в библиотеках Ленинграда она отсутствовала. Кто-то сказал, что она имеется у Зельдовича. Так оно и оказалось, и он любезно согласился мне ее показать.
— Позвоните завтра утром, — сказал он по телефону, — и мы договоримся о времени встречи.
— Утром — это часов в 10? — спросил я.
Последовала маленькая пауза, которую я, постфактум, назвал бы иронической. После чего Яков Борисович пояснил, что встает около шести утра, но чтобы я позвонил ему в половине восьмого. Так я и сделал, и мы договорились о встрече вечером того же дня. Квартира Якова Борисовича располагалась в хорошо мне знакомом доме 2-б по Воробьевскому шоссе, в котором жили многие из сотрудников Института химической физики. Я тогда впервые переступил порог квартиры №48 и, раздевшись в передней, оказался в столовой. В центре комнаты стоял большой стол, на котором в беспорядке были разбросаны книги, журналы, рукописи. На одной из стен висела грифельная доска, а в углу я разглядел гантели. Яков Борисович достал книгу Гамова и предложил ее посмотреть. Я нашел страничку с шаржами, обнаружил там несколько слов об А. Ф. Иоффе, но, к моему сожалению, ничего об отце. Тем не менее уже беглый просмотр книги показал, что она необычайно интересна, и я попросил разрешения взять ее с собой, пообещав вернуть в точно установленный срок. Тут я заметил, что Яков Борисович несколько заколебался. Он протянул мне предварительно вынутый, как я сразу понял, листок из книги. На бланке было написано, что книга, в соответствии с заказом на нее, пересылается академику Я. Б. Зельдовичу, но его просят не предоставлять ее кому-либо для знакомства.
— Ладно, берите, но, пожалуйста, уж больше никому не показывайте. Вернете мне ее в свой ближайший приезд.
Книгу я тогда же с большим интересом прочел. Сейчас ряд отрывков из нее опубликован и готовится ее полное издание. В те же времена это трудно было даже представить!
На меня тогда произвела впечатление некая «законопослушность» Якова Борисовича. Хотя он и нарушил инструкцию, но сделал это не без некоторого труда, явно совершив над собой усилие. Мне рассказывали, что такого рода осторожность в мелочах была для него в какой-то мере характерна. Например, другая инструкция не рекомендовала пересылать «с оказией» письма с «объекта» на «Большую Землю», и он следовал ей неукоснительно, отказывая в невинных просьбах бросить письма в почтовый ящик в Москве, чтобы они быстрее дошли до адресатов. Впрочем, быть может, здесь проявлялась не осторожность, а дисциплина, в рамках которой он долгие годы работал и к которой не мог не привыкнуть. Или другой пример, свидетелем которого я оказался уже в начале 80-х годов. Редактор одной из его статей настаивал {31} на некоем изъятии по цензурным соображениям. На мой взгляд, соглашаться с этим не следовало, да и Яков Борисович был более чем социально защищен. Но он решил этого не делать; «Не стоит связываться!» И тут можно дать этому объяснение — вопрос не был принципиальным, и изъятие нескольких строчек ни в коей мере не меняло сути статьи.
Году в 1974 я начал собирать воспоминания об отце. В числе тех, к кому я обратился, был, естественно, и Яков Борисович. Конечно, я не забыл казанский эпизод 1943 г., но хорошо помнил и другие события. Так, в 1947 г., откликаясь на получение отцом Государственной премии (Сталинской премии 1-й степени) за работы по кинетической теории жидкостей, Яков Борисович и Давид Альбертович Франк-Каменецкий прислали поздравление — фототелеграмму такого содержания1):
Несет телеграф Вам наш радостный клич.
Привет! Двести тысяч Вам, Яков Ильич!
И Френкельше слава, почет Френкелятам, —
Членам семейства лауреата.
Ваш в «Правде» портрет. Сим портретом де-юре
Навеки присвоена Вам шевелюра.
Маститый ученый, по справке из жакта
Вы и скрипач, и художник — де-факто.
Не ведая сна, не жалея костей,
Познали законы Вы всех жидкостей.
Кто жидкостей всех постигает природу,
На пир созовет тот немало народа.
Хотели б и мы быть средь Ваших гостей —
Боимся: не хватит на всех жидкостей!
Франк-Зельдовецкий
Два пояснения: к диплому и медали лауреата премии первой степени по положению прилагался чек на получение 200000 руб.; постановление о присуждении премий публиковалось во всех центральных газетах вместе с фотографией лауреата. Очевидно, из почтения к Якову Ильичу на фотографии в «Правде» ему заретушировали лысину. Потом эта фотография пошла кочевать по другим изданиям.
А вскоре из Москвы пришел конверт с фотографией, сделанной Яковом Борисовичем, по-моему, в доме 2-б на Воробьевском, но в квартире А. С. Компанейца. На ней Яков Ильич был запечатлен с Компанейцем и Франк-Каменецким, а на оборотной стороне написано: «Дорогому Якову Ильичу от члена-фотокорреспондента» — это, конечно, подпись Зельдовича, который в 1946 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР.
Как я и предполагал, Яков Борисович с охотой откликнулся на мою просьбу — в числе многих других. Все это были уже немолодые и очень занятые люди. При полной и сердечной готовности принять участие в сборнике, они, как правило, не укладывались в ими же намеченные сроки, приходилось {32} напоминать, словом, «приставать» — довольно неприятная миссия. Но с Яковом Борисовичем все было иначе. Он в точно обещанное время прислал статью, написанную и сердечно, и темпераментно, и с литературным блеском (не говоря о ее историко-научной составляющей). Надо сказать, пером Яков Борисович владел великолепно — это видно и по другим его статьям мемуарного жанра (их набралось немало), и по книгам и обзорам — в том числе, научно-популярным.
Наши контакты и встречи участились. В октябре 1980 г. Академия наук СССР решила провести в Ленинграде заседание Президиума АН, посвященное 100-летию со дня рождения основателя ФТИ — А.Ф. Иоффе. Среди различных мероприятий были два, к которым привлекли меня. Президиум АН постановил ежегодно проводить «Чтения памяти академика Иоффе» и издавать заслушанные на них доклады. Организация «Чтений» и их издание были поручены мне. В рамках первых было четыре доклада — Ж. И. Алферова, Б. П. Захарчени, Я. Б. Зельдовича и Г. Н. Флерова. Доклад Якова Борисовича назывался «Астрофизика наших дней». Я уже говорил, что докладчиком он был блестящим. Вскоре на базе стенограммы доклада А. Д. Чернин подготовил машинописный вариант, и согласование деталей оказалось делом несложным.
Параллельно шла работа по собиранию материалов для другого издания — «Проблемы современной физики», также приуроченного к 100-летнему юбилею Иоффе. Это был толстый том работ, разделенных на девять разделов. Раздел «Ядерная физика» представляла статья Якова Борисовича Зельдовича и Юлия Борисовича Харитона: «Роль А. Ф. Иоффе в развитии советской ядерной физики и техники». Ббльшая ее часть писалась совместно, ведь «ядерная» деятельность Иоффе развивалась на их глазах. Но последние страницы, по собственным впечатлениям, писал каждый из соавторов. Яков Борисович вспомнил о той роли, которую сыграл в его жизни А. Ф. Иоффе, написавший письмо в Механобр с просьбой перевести 17-летнего Зельдовича, работавшего там лаборантом, в Физико-технический институт.
В 1984 г. подступили сразу два юбилея: знаменитые наши ядерщики, Харитон и Зельдович, отмечали дни рождения с разницей, правда, в 10 лет (Ю.Б. Харитон родился 27 февраля 1904 г., а Я. Б. Зельдович — 8 марта 1914 г.). К событиям готовились загодя. По инициативе А. П. Александрова, Я. Б. Зельдовича и других коллег Харитона по его оборонной работе, решено было выпустить к его 80-летию специальный сборник. Создали редколлегию, в которую в качестве редактора-составителя включили меня. Все вопросы о структуре сборника и потенциальных авторах решал Яков Борисович. Это определялось не только тем, что он работал в тех же областях физики, что и Харитон (молекулярная физика, физика взрыва, химическая кинетика, ядерная физика и техника), но и тем, что Юлия Борисовича — по моим представлениям и ощущениям, сложившимся в процессе наших разговоров, — Зельдович считал первым среди своих учителей и старших по возрасту физиков, оказавших на него влияние. В их ряду он также прежде всего отмечал Л. Д. Ландау. И снова Зельдович одним из первых представил для сборника необычайно яркую статью «Юлий Борисович Харитон и наука о взрыве». {33}
В книгу решено было включить и работы самого Юлия Борисовича — старые, 20-х–30-х годов, и новые. Каждый цикл работ Харитона (химическая кинетика, взрыв, ядро) мне поручили прокомментировать.
Наши встречи с Яковом Борисовичем проходили сравнительно рано утром, на его квартире. К этому времени, после безвременной смерти Варвары Павловны, Яков Борисович женился на Анжелике Яковлевне Васильевой. Всегда несколько возбужденная, она была очень гостеприимна. Разговор начинался за столом — меня угощали завтраком, а Яков Борисович неизменно удивлял своей аскетической умеренностью в пище — не поддавался соблазнам отведать вкусных блюд. Из уютной кухни-столовой мы переходили в его кабинет и там работали над рукописями. С какой же одновременно доброжелательностью и требовательностью, с какой тщательностью Яков Борисович просматривал представленные материалы, рекомендовал что-то уточнить, расширить, делал добавления. Одно из них было особенно существенно. Речь шла о пионерской работе Харитона по перспективам использования центрифуг для разделения изотопов. Она была выполнена в 1937 г., т.е. задолго до того, когда стала столь очевидно важной задача разделения изотопов азота и кислорода. Вопрос имеет интересную историю, кульминацией которой были 40-е годы. Сейчас проблема использования центрифуг для промышленного разделения изотопов урана (отвергнутая, хотя и рассматривавшаяся, и в нашем, и в англо-американском урановом проектах) обрела новую жизнь. Обо всем этом я, более или менее, знал. Но о значимости выводов, сделанных Харитоном из его работы, сказал мне Яков Борисович, более того, сам вписал соответствующие строчки в комментарий: «По существу, им были развиты методы, которые позднее оформились в отдельную область термодинамики слабонеравновесных процессов. В своей небольшой заметке он установил строгое неравенство на предельную возможную производительность аппарата. По своей общности результат Харитона ... можно сравнить со вторым началом термодинамики»1.
Столь сильное утверждение могло получить подлинное звучание только в устах Зельдовича, а не в моих. Поэтому я попросил у Якова Борисовича разрешения поставить его фамилию под комментарием. Он категорически отказался. После повторных уговоров, лукаво улыбнувшись, сказал: «Не тревожьтесь, в этих строчках меня узнают и так — Ex ungue leonem (льва — по когтям)». Все же мы пришли к некоему компромиссу: на месте многоточия в приведенной цитате в книге написано «как заметил Я. Б. Зельдович».
Столь же внимательными были замечания Якова Борисовича и к комментарию к циклу их совместных с Харитоном работ по цепному распаду урана. Уже после того, как мы все обговорили, я обнаружил несколько не очень существенных опечаток в первоначальном (журнальном) тексте одной из статей. Исправил их, но хотел все же себя проверить. Как раз ехал в Москву, Яков Борисович в это время находился в длительной командировке, и я связался с Юлием Борисовичем. Мы с ним во всем разобрались, а пишу об этом потому, что по возвращении, узнав о нашей встрече с Харитоном, {34} Яков Борисович посетовал: «Ну как Вам не стыдно было беспокоить Юлия Борисовича!» Штришок, свидетельствующий о том, как бережно относился он к своему учителю и старшему товарищу.
В связи с публикацией харитоновского сборника мне запомнился еще такой эпизод. По совету Якова Борисовича я послал официальное приглашение участвовать в сборнике академику Е. И. Забабахину. Он в срок прислал статью «Некоторые случаи движения вязкой жидкости». Своей кристальной ясностью и физичностью статья произвела на меня сильное впечатление — быть может, еще и потому, что как раз в это время я внимательно занимался близкими по тематике статьями Эйнштейна. Я поделился своим впечатлением с Яковом Борисовичем. Хорошо запомнил его реакцию. На его подвижном лице, еще до того, как он заговорил, появилось выражение высочайшего удовлетворения. И он сказал: «Забабахин! Что тут удивительного — это физик высочайшего класса, физик с большой буквы!»
Поскольку я работал со сборником, посвященным 80-летию Ю.Б. Харитона, то не очень удивился, что меня попросили подготовить юбилейную статью о нем для «УФН». Конечно, и ее я больше всего обсуждал с Зельдовичем. А когда практически одновременно его сотрудники попросили меня составить неастрофизическую часть его собственной научной биографии для аналогичной статьи в «УФН», я был и польщен, и удивлен (астрофизическую часть готовил Р. А. Сюняев).
По завершении работы встал вопрос о лицах, подписи которых хотелось бы увидеть под статьей. Думаю, что не выдам «страшного секрета», если скажу, что мы с Сюняевым советовались по этому поводу с Яковом Борисовичем, и у меня даже сохранился список, составленный им на листке настольного календаря. Он практически совпал с тем, который мы заранее наметили. С одним исключением, о котором стоит сказать несколько слов. Яков Борисович хотел видеть в этом списке фамилию Л. Д. Фаддеева. И, думаю, не только потому, что высоко ценил его работы. Дело в том, что некоторые математики в резкой форме, с неадекватным вопросу накалом страстей, выступали против книг Зельдовича по математике, адресованных школьникам и студенческой молодежи. Я с большой охотой взялся за выполнение этой несложной миссии, тем более, что сам восхищался и «Высшей математикой для начинающих и ее приложениями к физике» и, особенно, «Элементами прикладной математики», написанной совместно с А. Д. Мышкисом (в ней особенно замечательными — для меня — были страницы с мастерским изложением основ фридмановской теории расширяющейся Вселенной, написанные, несомненно, Зельдовичем). Как и следовало ожидать, Л. Д. Фаддеев охотно подписал статью.
Что касается юбилея, то торжественная его часть прошла в конце февраля в рамках заседания Ученого совета Института химической физики. Юбилей был двойным — Харитона и Зельдовича. Учителя и Ученика, двух соавторов классических работ по теории деления урана, двух трижды Героев Социалистического Труда, двух человек, глубоко уважающих и любящих друг друга. Первым — по старшинству — получил слово Юлий Борисович, потом были выступления в его адрес, а затем наступила вторая часть праздника, посвященная Якову Борисовичу. К своему докладу он тщательно подготовился и, чувствовалось, волновался. Заседание легко, сердечно и остроумно вел Н. М. Эмануэль. {36}
Все завершилось небольшим приемом а-ля-фуршет, состоявшимся в комнате, примыкавшей к актовому залу. Тут можно было выпить за здоровье юбиляров, обменяться с ними несколькими фразами и увидеть весь цвет советской физики, в первую очередь, ядерной, химической и астрофизики.
Торжества были продолжены недели через две, уже в Институте физических проблем, где Яков Борисович заведовал теоретическим отделом. Сначала было небольшое «шоу» в зале заседания совета. На него, в частности, пригласили супругов Никитиных, поклонником творчества которых, как оказалось, был Яков Борисович. Они исполнили несколько песен из своего репертуара, дополненного попурри из популярных в 30-е годы, годы молодости юбиляра, танцев. Тут Яков Борисович, сидевший с Анжеликой Яковлевной в первом ряду, не удержался и в паре с нею прошелся по узкой полоске между сценой и первым рядом в «круге танго». А потом зрители и актеры перешли в фойе, где сам юбиляр и его гости за праздничным столом могли отдать должное остроумию выступавших с заздравными тостами.
Последний, пожалуй, интенсивный этап нашего взаимодействия с Яковом Борисовичем был связан с подготовкой к изданию сборника воспоминаний о Константинове. Сколько труда, энергии и любви в эту работу вложил Яков Борисович! Он написал яркий очерк «Памяти друга». Многим авторам он не только сам предложил участвовать в сборнике, но взял на себя роль и труд «понукателя», а затем и неофициального редактора.
Мне хотелось бы отметить то восхищение, которое вызывала у Зельдовича вся талантливая семья Константиновых; это по его предложению один из разделов «Воспоминаний» так и назывался «Семья Константиновых». В него была включена статья о старшем брате Бориса Павловича — Александре Павловиче, видном физике и радиоинженере, заведовавшем в ЛФТИ лабораторией. Но, пожалуй, главным предметом забот было включение статьи Варвары Павловны Константиновой («Мой брат Борис»). Подготовке к печати рукописи жены Яков Борисович посвятил много времени и сил, занимался этим с любовью, тщанием, особенно бережно.
Когда книга «Воспоминаний» уже вышла, мы обсуждали с Яковом Борисовичем круг лиц, которым ее надо будет разослать, а потом он загорелся мыслью, чтобы отклик на нее появился в одном из толстых журналов. И предполагаемого автора выбрал наиболее удачно — писателя Д. А. Гранина. По поручению Зельдовича я передал Гранину письмо-просьбу, и интересная рецензия на книгу вскоре появилась на страницах к большому удовлетворению Якова Борисовича.
Я писал, в основном, о деловых контактах с Яковом Борисовичем. Случалось мне видеть его и в неделовой обстановке. Так, я навсегда запомню необычайно веселый вечер, проведенный в одном из московских домов, куда я был приглашен Ю. Н. Семеновым и его женой, Т. Ю. Харитон. Было это году в 1957, весной. Собрались в основном физики, в их числе Яков Борисович и его друзья — А. С. Компанеец, В. И. Гольданский с женой, Людмилой Николаевной, Н.М. Эмануэль. Все — очень остроумные люди. Был там и сын замечательного советского актера театра и кино Б. В. Щукина (к сожалению, {36} не запомнил его имени). Он блистательно осуществлял режиссуру веселых шарад, в которых самое живое участие в качестве артиста принимал Яков Борисович.
Еще одно воспоминание более поздних лет. В 1980 г., когда в ЛФТИ состоялось празднование 100-летия А. Ф. Иоффе, наиболее почетных гостей нужно было встретить на Московском вокзале. На мою «долю» выпал Ю. Б. Харитон. Не успели мы устроиться в номере гостиницы «Европейская», как раздался стук в дверь и вошел Яков Борисович. «Юлий Борисович, как, будем одевать звезды?» Решили одевать. И вскоре обитатели фешенебельной гостиницы могли наблюдать впечатляющее зрелище: двое немолодых, одинаково невысоких людей, каждый позвякивая тремя золотыми медалями, спускались по лестнице в кафе. На директора кафе, много повидавшую даму, поначалу напал настоящий столбняк!
В конце 1980 г. я представил к защите докторскую диссертацию, послал Якову Борисовичу ее автореферат и попросил, если возможно, откликнуться на нее отзывом. Он любезно согласился, и вот хмурым ноябрьским утром я поджидал его у входа в одну из аудиторий физического факультета МГУ, где он читал лекцию по астрофизике студентам. Прозвенел звонок, и из аудитории начали выходить слушатели. Я увидел, что Яков Борисович беседует с несколькими людьми, причем это были не только студенты, но также люди «кандидатского» и даже «докторского» возрастов. Освободившись, он подошел ко мне и признался, что не успел написать отзыв. «Ну, ничего, — сказал он, — сейчас мы с Вами поедем в Астрономический институт и там я все сделаю». Мы оделись, вышли на улицу. Снег не шел — валил! Ветровое стекло «Волги» Зельдовича было покрыто толстым слоем. Яков Борисович открыл дверь, достал щетку и, указав на стекло, сказал: «А теперь отрабатывайте отзыв!». Он прогрел мотор и через несколько минут мы припарковались ко входу в институт им. Штернберга и прошли внутрь, в один из кабинетов.
Зельдович устроился за столом, и без единой помарки, с ходу, минут за пять, написал на двух страничках отзыв на мою работу. «Пойдемте, надо перепечатать». По коридорам мы прошли в какую-то комнату, и Яков Борисович попросил молодую женщину, отстукивавшую что-то на машинке, напечатать отзыв. За эту работу, воспользовавшись второй — свободной — машинкой, взялся я сам, а заодно и прочел необычайно доброжелательный отзыв. Потом Яков Борисович его подписал, мы совершили еще одно путешествие по коридорам, на этот раз в канцелярию, где подпись Зельдовича была заверена. А когда вернулись в кабинет, там оказалась бригада украинского (кажется, киевского) телевидения: Яков Борисович обещал дать десятиминутное интервью. Я попросил разрешения посмотреть эту своеобразную «прямую, в реальном времени» передачу, точнее — прием. Режиссер, миловидная женщина, спросила: «Яков Борисович, может, мы немного порепетируем?» — «Зачем? Вопросы у Вас готовы?» — «Готовы.» — «Ну, и задавайте их!» И без всякой подготовки, спокойно, Яков Борисович ответил на вопросы, касавшиеся современного состояния астрофизики и космологии. Помню, по окончании записи режиссер заметила, что никогда не видела человека, который бы так естественно и раскованно держал себя перед камерой. {37}
В 1985 г. под редакцией Ю. Б. Харитона вышли два тома избранных работ Я. Б. Зельдовича. Оказавшись вскоре после этого в Москве, в Институте физических проблем, я зашел в тамошний теоротдел и, проходя мимо кабинета Якова Борисовича, дверь в который была открыта, увидел его. Он сидел за столом в глубоком кресле с высочайшей спинкой. Случайно взглянул в мою сторону, а увидев, пригласил к себе. «Вы получили мою книгу?» — спросил он. — «Нет, Яков Борисович». — «Странно, я хорошо помню, что посылал Вам. Ну, ладно». Он поднялся с кресла, прошел в угол кабинета, где рядом с доской лежала стопка нарядно изданных книг «Я. Б. Зельдович. Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная», достал верхнюю и своим размашистым почерком написал: «Дорогому Вите Френкелю с любовью. Я.З.» Я был глубоко тронут. А когда вернулся в Ленинград, там поджидала меня бандероль от Якова Борисовича. На этот раз надпись на книге была более официальная, но необычайно польстившая моему самолюбию.
Во время одной из следующих встреч, уже ознакомившись с обоими томами (и довольно хорошо зная научно-популярные статьи Якова Борисовича, не вошедшие в них), я сказал, что, по моему убеждению, ему необходимо собрать эти обращенные к широкому кругу читателей работы и мемориальные статьи и издать их в академической серии «Наука, мировоззрение, жизнь». «Нет, надо подождать», — ответил Яков Борисович.
Выяснилось, что издание двухтомника его работ прошло не без некоторых трудностей, преодоленных коллегами Зельдовича по академии. Сопротивление исходило из тех же кругов, которые совершенно необоснованно критиковали популярные книги Якова Борисовича по математике.
В статье в «УФН», опубликованной к 70-летию Зельдовича, я написал: «Годы не имеют власти над Я. Б. Зельдовичем. Он продолжает работать с юношеским энтузиазмом и вызывающей удивление и восхищение трудоспособностью. Откуда он находит время, чтобы быть в курсе литературной, театральной, шире — культурной жизни? Груз работ, бремя широкой известности и популярности нисколько не изменили его демократичного характера. Острота ума теоретика сочетается в нем с неиссякаемым человеческим остроумием, делающим его интереснейшим и веселым собеседником».
В самом деле, Яков Борисович нисколько не менялся с годами, никогда я не слышал от него жалоб на усталость или плохое самочувствие. Только после его кончины узнал, что, оказывается, у него был диабет. А так казалось, что ему «сносу не будет». Подвижный, худощавый и мускулистый, с мгновенной реакцией, быстрый в движениях и мыслях, он выглядел много моложе своих, вообще-то говоря, в 1987 г. не таких уж и малых лет.
Хорошо помню день 3 декабря 1987 г. Утром, как обычно, я пришел на работу в институт. В то время с А. Д. Черниным и Э.А. Тропом мы работали над книгой об А. А. Фридмане: в 1988 г. исполнялось 100 лет со дня его рождения. Его высочайшим образом ценил Яков Борисович, предполагал участвовать в юбилейных сессиях, следил за нашей работой. В тот день я хотел с ним договориться о встрече во время ближайшего своего визита в Москву и как раз поднимался по парадной лестнице главного корпуса в сторону кабины с телефоном прямой связи с Москвой, чтобы набрать знакомый номер кабинета Зельдовича в «Капичнике». На лестнице увидел Д. А. Варшаловича {38} (это Яков Борисович настоял в 1966 г., чтобы за диссертацию, представленную Дмитрием Александровичем в качестве кандидатской, он получил сразу докторскую степень). Что-то в лице Варшаловича показалось мне необычным.
— Вы слышали ужасную новость? Умер Яков Борисович!
В это было трудно поверить!
Он, как живой, стоит перед мысленным взором и таким «живым, живым и только, живым и только — до конца» — сохранится в нашей памяти.
Для меня — высокая честь написать несколько слов о Якове Борисовиче Зельдовиче, судьба которого многие годы была связана с судьбой братьев и сестер моего отца; одной из сестер была Варвара Павловна Константинова — жена Якова Борисовича и мать Ольги, Марины и Бориса Зельдовичей.
Яков Борисович был многосторонним человеком. Каждый, пишущий воспоминания, видит его по-своему. Строки, написанные мною, выражают впечатления от некаждодневного, но многолетнего общения с Яковом Борисовичем, его домом и семьей, и я стремилась отразить в них добрые чувства и любовь, которую испытывали к нему все мои родственники, жившие и живущие в Ленинграде, отношения которых к нему мне хорошо известны и которые я всегда разделяла.
Варвара Павловна познакомилась с Яковом Борисовичем (тогда 18-летним юношей) в 1932 г. Он вскоре стал появляться в громадной квартире Константиновых на Малой Подъяческой. Семья в ту пору представляла некую коммуну, в которой проживали пять братьев и две сестры (только один из братьев был женат и имел детей). Семья была удивительно дружной и сплоченной. Ядром ее, конечно же, были две сестры — Варвара и Мария. Рано потеряв отца, а потом и мать, они накопили в себе столько добра, что, излучая его, долгие годы приносили счастье своим детям, племянникам, всем, с кем встречались в повседневной жизни.
Лето Константиновы всегда проводили на фамильной даче в Тярлеве (между Павловском и Детским Селом); там часто жили летом и родители Якова Борисовича. Он все чаще появлялся на волейбольной площадке около дачи, где всегда бывали жаркие баталии между командами «верха» (там жили Константиновы) и «низа» (где жили другие люди). Были и велосипедные поездки из Ленинграда, мимо Пулкова в Тярлево на старых, вечно ломающихся велосипедах. Классный велосипедист — таким и запечатлелся в детской памяти впервые увиденный мною «тети Варин жених».
В дальнейшем, многие годы спустя, Яков Борисович любил вспоминать, что ему очень нравилась семья Варвары Павловны, образ ее жизни, молодость, веселье, не очень устроенный быт, аскетизм. Все это приятно контрастировало со связывающей его благоустроенностью отчего дома. Ему импонировала мысль оказаться членом этой большой молодой «коммуны». Яков Борисович часто рассказывал о своей предвоенной жизни в Ленинграде, {39} когда у него уже были две маленькие дочери, об общении с братьями Константиновыми (один из рассказов, как они ездили к Ладожскому озеру на заготовку дров), и было в его рассказах много озорного веселья.
Особенно близким и плодотворным было общение Якова Борисовича с Борисом Павловичем Константиновым. Долгие годы их объединяли профессиональные интересы и родственные узы (общая любовь к науке, страсть к поиску, большая — на всю жизнь — человеческая дружба). Борис Павлович был частым и самым желанным гостем в доме Якова Борисовича. Но об этом, я думаю, Яков Борисович рассказал лучше в своей статье «Памяти друга»1.
Меня всегда волновало и восторгало то обстоятельство, что Яков Борисович соединил свою судьбу с судьбой Варвары Павловны и вошел в ее семью в самую страшную для нее пору — осенью 1937 г. Незадолго перед этим сталинскими палачами был арестован (расстрелян в 1938 г.) старший брат Варвары Павловны, мой отец А. П. Константинов, ученый-радиофизик, и никто не мог предвидеть, как сложится судьба остальных родственников. В те далекие времена, когда донос и клевета на ближнего практиковались широко, а отказ от родителей, братьев, сестер, друзей воспринимался как норма, «поступок» Якова Борисовича можно воспринимать как акт мужества. В высшей степени благородно вел он себя по отношению к нам с сестрой, когда мы остались без родителей.
Недавно я спросила свою сестру Е. А. Константинову: «Что ты можешь вспомнить о Якове Борисовиче?». И вот первое, что ей пришло в голову: «В 1940 г. в школе ввели плату за обучение, и это было большим для меня огорчением. А на другой день приехал Яша и привез необходимые деньги». Такие поступки были типичны для Якова Борисовича: и в дальнейшем. Он сделал много добра практически каждому из наших родных. Мария Павловна вспоминала: «Только настойчивость Якова Борисовича убедила меня в необходимости эвакуироваться и тем самым избежать участи многих ленинградцев, погибших в блокаду».
Думая о Якове Борисовиче, я не могу не вспомнить атмосферу его родительского дома на улице Марата в Ленинграде, потом писательского дома на Петроградской стороне, где мать Якова Борисовича жила с дочерью в послевоенные годы.
Много доброго я слышала о Борисе Наумовиче, его спокойном умеренном характере, но лично его не знала, а с Анной Петровной была связана многолетней дружбой. Она была широко образованным человеком, получила образование в Сорбонне, затем стала переводчицей, членом Союза писателей. Помню то время, когда она еще активно и с азартом занималась переводами Бальзака и Золя. Маленькая, живая, энергичная и эмоциональная, она была очень добрым и участливым человеком. Последние 15 лет из-за слабого здоровья Анна Петровна, по ее словам, «провела в халате», т.е. основное время находилась дома, но надо было видеть, какую бешеную деятельность развивала она там, стараясь (и это ей обычно удавалось) помочь родным, близким и просто знакомым в решении их проблем. {40}
Когда в Ленинград приезжал Яков Борисович, Анна Петровна всегда устраивала в честь него небольшой прием, в котором участвовал узкий круг ленинградской родни. Я имела честь быть среди них.
Анна Петровна очень любила своих детей: были они разными, в чем-то диаметрально противоположными, и сказывались здесь не только педагогическое воздействие, но и некие природные данные. Анна Петровна очень гордилась сыном, его успехами в науке. Яков Борисович имел с ней много общего. Небезразличие к людям» стремление быть для них полезным — это явно от нее. Не скрою, Анна Петровна любила похвастаться сыном, невесткой и, конечно, внуками. Но надо признать, что у нее на то были полнейшие основания. Что касается внуков, то в них наиболее «сбалансированным образом» отразились лучшие черты родителей: серьезность, трудолюбие, ответственность и совестливость. Я уж не говорю о способностях.
Я всегда очень любила Москву. Но многие из моих знакомых считали, что я люблю не столько Москву, сколько своих дорогих родственников на Воробьевке. Возможно, они были во многом правы и меня влекла не только родина моих материнских предков — Замоскворечье. Все мне было мило в доме с менявшимся номером и не раз менявшимся названием улицы. Не менялись в нем только творческий дух, творческая атмосфера, в которой жили родители» а теперь живут дети и внуки. Дом Варвары Павловны и Якова Борисовича был самым гостеприимным из тех, где мне приходилось бывать. Здесь было все: книги, радость общения, споры, переходящие в яркие дискуссии. Я вспоминаю 57-Й–58-Й годы — время, когда были запущены первые спутники, и массовый энтузиазм в связи с этим событием. Это было время торжества науки. Мы все помним нашумевшую статью Якова Борисовича в «Известиях», в которой говорилось о необходимости повышения в стране уровня физико-математического образования, о создании специализированных школ.
Вспоминаю жаркую дискуссию на кухне в квартире на Воробьевке, когда я находилась в абсолютном меньшинстве, взяв на себя смелость утверждать о возможности и средствами гуманитарного образования (вместо физико-математического) достигать очень высокого уровня развития человеческого интеллекта.
В студенческие годы мы с сестрой часто бывали в Москве — в гостях или проездом. Особенно хорошо помнится лето 1949 г., когда семейство Якова Борисовича проводило лето в деревне Дунино, на берегу Москвы-реки. Это была еще «безавтомобильная эра», и добраться до весьма отдаленной, по тем временам, деревни было непросто: надо было поездом доехать до Звенигорода, а потом километров шесть идти пешком с рюкзачком за спиной, как это часто делала Варвара Павловна. В редких случаях удавалось доехать до города на одной из двух легковых машин, счастливые обладатели которых проводили лето в Дунине.
Наши родственники снимали большую комнату с бревенчатыми стенами, разделенную переборкой. Сбоку к избе была приделана весьма дачного вида веранда. Гостеприимный Яков Борисович часто спал там на раскладушке. Деревня Дунино расположена на высоком берегу Москвы-реки, окружена полями и лесом, в котором лет 30–35 назад в изобилии росли маслята и белые {41} грибы. Незадолго перед тем в Дунине поселился писатель М. М. Пришвин. Гуляя с детьми по лесу» мы часто встречали его с очень красивой собакой. Это был последний летний сезон перед переездом на новую дачу в Жуковке.
В Жуковке дома стояли прямо в лесу, но этот академический поселок знаменит все-таки не своими пейзажами, а именами людей, поселившихся в нем. С жизнью на этой даче связано много значительных событий и встреч. Здесь было «выращено» не одно поколение Зельдовичей. Вспоминаю, как каждую весну я получала открытку, часто подкрепляемую телефонными звонками, в которой было приглашение погостить на даче. Я не каждый раз пользовалась этим приглашением, но как приятно и ничем не заменимо было оно. Мне этого долго потом не хватало.
Много ушло времени со дня смерти Варвары Павловны. Выросли внуки. Весной 1987 г. мой двоюродный брат В. Б. Константинов в один из своих приездов в Москву встречался с Яковом Борисовичем. Во время разговора речь зашла о проекте написания книги об А. П. и Б. П. Константиновых. Яков Борисович горячо поддержал эту идею и произнес слова, которые мне в ту пору показались несколько странными. Он сказал: «Не забудьте написать обо мне». Они удивили меня, так как незадолго перед тем, в марте 1984 г., общественность широко отмечала 80-летие Ю. Б. Харитона и 70-летие Я. Б. Зельдовича. Было много статей в центральных газетах и журналах. И все-таки что-то побудило Якова Борисовича сказать эти слова в год, который стал последним в его жизни...
Думая о Якове Борисовиче, я постоянно испытываю благодарность за все то доброе, что он сделал для всех моих близких и для меня. Он был для всех нас родным в самом высоком смысле этого слова.
Когда я слушал доклады Якова Борисовича Зельдовича по астрофизике или посвященные гравитационным явлениям, мне — специалисту по физике твердого тела — было ясно, что физику он чувствовал, как Айзик Штерн свою скрипку. Не понимая деталей, я слушал его с восхищением и даже с трепетом, какой испытываешь от ликующего, праздничного «бельканто». Уверенность и творческая мощь передается слушателю. Помню, как мой «tutor» по оптике кристаллов, Евгений Федорович Гросс, открывший еще в долазерную эпоху манделыытам-бриллюэновское рассеяние света в кварце, а затем и знаменитый спектр квазичастицы экситона в полупроводниках, слушая Якова Борисовича, говорил мне:
— Борис, Вы представляете себе, как тяжело выступать после такого «туза»!
Гросс должен был выступать с докладом на той же научной сессии в нашем Физико-техническом институте. Кажется, она была посвящена памяти основателя нашего института Абрама Федоровича Иоффе. В ФТИ прошла научная молодость Якова Борисовича, и он любил к нам приезжать. {42}
Начав вспоминать Зельдовича, я взял сразу высокую ноту. Но нельзя же жить одним мажором! Приглушая его, замечу, что были и ляпсусы в его выступлениях. Никогда не забуду, как в начале шестидесятых годов, оппонируя докторскую диссертацию Дмитрия Варшаловича (также у нас в ФТИ) и комментируя догадки диссертанта о перераспределении населенности атомных уровней вследствие анизотропии излучения во Вселенной, что неизбежно приводило к мазерному эффекту, Зельдович сказал, что хорошо бы подобную ситуацию осуществить в земных условиях. Он не знал, что с помощью метода оптической накачки француз Кастлер уже осуществил такую динамическую перенаселенность уровней еще в середине 50-х годов, а позже эта работа получила даже «Нобеля». Это вскоре объяснили Якову Борисовичу, но я думаю, что он совсем не смутился. Этот человек относился к тем, кто следует немецкой пословице: «Wer zuviel liest der wird nie gelesen werden»1. Никогда Зельдович не стеснялся задавать докладчику вопросы, которые могли бы показать плохое знание им литературы. Не эрудиция, а творчество было его природой. Когда идея посещает такого человека, он может работать в любых условиях. По этому поводу я могу кое-что вспомнить.
В 60-х годах состоялась необычная выездная сессия «Общей физики и астрономии» в Среднюю Азию. Я еще не был действительным членом Академии Наук СССР, но оказался участником этого интересного мероприятия. Сначала мы прилетели в Ташкент, где состоялась первая часть сессии с научными докладами. Затем в двух специальных спальных вагонах, прицепленных к обычному пассажирскому поезду, мы отправились через Бухару и Самарканд в Ашхабад. В первых двух древних городах были туристические развлечения, а в Ашхабаде — снова возврат к науке. Была среднеазиатская весна. Жарко. За окнами вагона проплывали еще не испепеленные солнцем зеленые поля с россыпью алых маков и тюльпанов. По этому сказочному ковру пробегали стада верблюдов. Фантастическая картина. В нашем купе ехали Зельдович и его сотрудник и ученик Игорь Новиков, теперь делящий науку и жизнь между Россией и Данией. Вагон наш был наполнен знаменитостями. Тогда были еще живы Владимир Александрович Фок, родоначальник парамагнитного резонанса Евгений Завойский, Лев Арцимович. Совсем молодым парнем казался создатель гиротрона Андрей Гапонов-Грехов, в ту пору еще член-корреспондент Академии Наук. Был он в спортивном костюме и в кроссовках. На остановках занимался пробежками. Ужасно были организованы стоянки поезда в Бухаре и Самарканде. Поезд приходил очень рано, вагоны наши отцепляли от основного состава и загоняли в тупик, где они ждали нашего возвращения с экскурсий и банкетов. Конечно, проводники немедленно закрывали двери туалетов. Помню, как пожилой Фок в отчаянии дергал ручку запертой двери. Яков Борисович и я отправлялись куда-нибудь под ближайший дувал (глинобитный глухой забор), заросший травой и кустами. А что делать? Однажды, с охотничьим ружьем наперевес на нас вышел пожилой узбек — хозяин черешневого сада за дувалом. Объяснились мы с ним мирно... В Бухаре (или в Самарканде?) {43} я не увидел на экскурсии Зельдовича; он появился поздно, в ресторане, где мы поглощали узбекские яства. Сказал, что провел весь день в нашем купе, в раскаленном южным солнцем вагоне. Занимался наукой. Говорил мне:
— Борис Петрович, Вы не можете себе представить, как я счастлив: мне удалось поработать и даже решить задачу, которая так долго не давалась!
Действительно, это трудно представить! Он мог часами работать, сидя голым в раскаленной железной коробке!
Яков Борисович был весел. Он любил жизнь, как, пожалуй, каждый человек, нашедший себя в ней. В том же «восточном экспрессе» он и жена Гапонова-Грехова нарядились в узбекские одежды и отправились танцевать узбекские танцы (в основном это было размахивание поднятыми руками и притоптывание) по вагонам поезда, где ехали простые местные люди. Это было какое-то пари, с кем — не помню. Зельдович нарядился в халат — чапай, а дама — в узбекское шелковое платье с национальным орнаментом. На головах у них были тюбетейки. У Якова Борисовича — традиционная темная с вышитыми белыми цветами хлопка. Она была как еврейская кипа, и очень шла к его лицу, такому подвижному и любопытному. Пари было выиграно. Зельдович принес полную тюбетейку денег — а она гораздо вместительнее кипы! У меня на языке, конечно, вертелась фраза Остапа Бендера из любимого в СССР сатирического романа Ильфа и Петрова: «Склонность к попрошайничеству в Вас заложена с детства». Однако я сдержался.
Академик Зельдович, не постеснявшийся танцевать в поезде, часто стеснялся носить свою редкую и почетнейшую коллекцию наград, куда входили три звезды Героя Социалистического Труда, полученные за создание бомбы. Помню, как идя в президиум какого-то высокого собрания, на котором оказался и я, он попросил: «Борис Петрович, помогите приколоть мои звезды». Пришлось нам скрыться в туалете, где, стоя в «писсуарном зале», я не без труда прикалывал к костюму Зельдовича колодки со звездами Героя, которые он достал из кармана брюк. Игла-заколка была весьма неудобна, да и Яков Борисович был гораздо ниже меня, 190-сантиметрового верзилы. Какой-то человек вошел в туалет и тут же, испуганный, вышел. Подумал, верно, что грабитель снимает золото с растерявшегося профессора.
У Якова Борисовича было множество учеников. Многие из них перенимали не только его идеи и направления научного поиска, но и существо его творческого темперамента.
Сравнительно рано став действительным членом Академии наук СССР, я участвовал в выборах новых членов, и от моего голоса что-то зависело. До сих пор храню письмо Зельдовича с просьбой поддержать Рашида Сюняева, написанное от руки, решительным и твердым почерком. Яков Борисович очень убедительно писал о незаурядных способностях одного из своих любимых учеников, ставшего вскоре академиком, а потом и лауреатом нескольких высоких международных премий. Жаль, не дожил Яков Борисович до славы и широкого признания заслуг Рашида. Интересные письма, написанные от руки, я храню, полученные по электронной почте — выбрасываю: в них нет живой человеческой души, и их не жалко. И кто только придумал эту почту?
Яков Борисович приглашал меня на свой «семейный семинар», который устраивался в его доме на Воробьевском шоссе. Не помню почему, но я так {44} и не сделал доклад на этом семинаре. А приглашал он меня потому, что ему понравился мой рассказ об оптической ориентации электронных и ядерных спинов в полупроводниках и особенно та его часть, где я рассказывал об эффекте глубокого охлаждения светом ядерной спиновой системы в полупроводниках. Эффект не так уж прост, но физическая картина его ясна. Спины электронов, ориентированные циркулярно-поляризованным светом, ориентируют спины ядер атомов, составляющих решетку кристалла. Происходит это благодаря так называемому сверхтонкому взаимодействию, сильно проявляющемуся в полупроводниках. Электрон, поляризованный по спину, выполнив эту работу, выбывает из игры, так как аннигилирует с дыркой; на смену ему приходит другой и т. д. Электрон, ориентированный по спину в полупроводнике, играет роль «демона Максвелла». В знаменитом «gedanken experiment», придуманном Максвеллом с тем, чтобы показать, что второе начало термодинамики в принципе может быть нарушено, а энтропия уменьшена, «демоном» был атом, способный различать холодные и горячие молекулы и отделять одни от других, уменьшая энтропию. Но демон перегревался и переставал различать молекулы. До такого решения парадокса Максвелла додумался Лео Сциллард, о чем мало кто знает. В полупроводнике «спиновый демон» перегреться не может, так как, рекомбинируя (аннигилируя), он выбывает из игры. Владимир Флейшер и Рослан Джиоев из моей лаборатории показали, что достигнутая таким образом спиновая температура ядер (их спиновая релаксация на порядки медленнее, чем у электронов) достигает 10–5–10–6К. Яков Борисович пришел на мой доклад в Большом актовом зале Ленинградского научного центра с большим опозданием, но мгновенно все понял и высоко оценил. Задал несколько вопросов, среди которых был и вопрос, не касающийся физики. Дело в том, что я, оживляя изложение, прочел стихи:
...И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов.
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл
Уничтожает энтропию...
Зельдович спросил меня, чьи это стихи, и добавил, что Ландау любил их цитировать, но не знал, кому они принадлежат. Я объяснил, что это отрывок из поэмы Андрея Белого «Первое свидание». Известный поэт и писатель в этой поэме вспоминает юношеские годы, когда он был студентом Московского университета и учился на физика. Ландау умер в 1968 г. Тогда трудно было достать Белого. В СССР его почти не издавали. Ландау же предпочитал советских поэтов. Симонова, например.
Не знаю, как относился к искусству Зельдович, но литературу он любил. Мама его, Анна Петровна, была, можно сказать, талантливым писателем-переводчиком. Ей принадлежат многие блистательные переводы с французского. У меня был случай с ней познакомиться. Жила она в Ленинграде. Случился с ней инфаркт, и после реанимационного отделения она оказалась в одной палате с моей мамой, Ниной Петровной. Я их навещал, приносил всякую снедь, фрукты, как было принято у нас в бесплатных, но бедных советских {45} больницах. Анна Петровна многое мне рассказывала о детстве и юности Якова Борисовича. Немного странно было слушать ее воспоминания об эвакуации из Ленинграда перед началом блокады. Она все время вспоминала какой-то сундук с семейным гардеробом, украденный одним из жуликоватых организаторов эвакуации сотрудников Физико-технического института. Упоминаю об этом эпизоде, ибо он показывает, как бедно жили ученые в России. Молодой Зельдович уже тогда был звездой в науке, в 1939 г. в Ленинградском Физтехе он, вместе с Ю. Б. Харитоном, опубликовал знаменитую работу о цепной реакции деления урана. Чтобы мать такого человека вспоминала о том, что для американца просто «гарбич»! Наверно, никогда не поймут, что бриллианты, вроде Яши Зельдовича, стоят дороже миллионов баррелей нефти...
Звонит мне как-то по телефону Анна Петровна;
— Борис Петрович?
— Слушаю Вас, Анна Петровна.
— О, Вы уже узнаете мой противный голос! Хочу спросить, Вы читали в журнале «Успехи физических наук» статью, посвященную 60-летию Яши? Там его сравнивают с Энрико Ферми. Что Вы об этом думаете?
— Конечно, Анна Петровна. А чем, собственно, Яков Борисович хуже Ферми?
— Поверьте, Борис Петрович, мне так приятно это слышать. Но я Вам хочу сказать, что Яша просто дурак по сравнению со своим папой, Борисом Наумовичем. Какой это был умный человек! Куда до него Яше!
Отец Якова Зельдовича был юристом, членом коллеги адвокатов.
Таких разговоров с Анной Петровной было много, всего не написать, тем более не передать нарочито провинциального еврейского акцента, который она, наверняка, в шутку подчеркивала, подражая, по-моему, известнейшей советской актрисе Раневской. Играла такую роль. Она долго жила во Франции, работала в Сорбонне. В СССР ее переводы публиковались в любимом интеллигенцией журнале «Иностранная литература». Была она знакома со многими известнейшими писателями и у нас, и за границей. Была, если можно так сказать, «raffinee», но любила играть роль. Умерла она в Москве, куда перевез ее Яков Борисович. Старики плохо переносят переезды.
Думаю, что ее великий сын, генератор множества идей в ядерной физике, физике горения и взрыва, гравитационной физике, релятивистской астрофизике, в какой-то мере тоже был подвержен «греху лицедейства». Вспомните историю с восточными танцами в поезде. Любил он некоторую показную браваду. Если его вызывали на сцену для доклада или вручения награды, он всегда, минуя ступеньки, лихо вспрыгивал на подиум прямо из зала. Тоже актерская выходка. Но, хотя внутренне это в нем жило, ему было не до актерства. Он был пленен наукой. Она была альфой и омегой его жизни. Догадка, экспериментальный факт и его теоретическое объяснение интересовали его больше всего на свете, причем не только из области физики. Помню, с каким восторгом он говорил о работах Александра Михайловича Уголева — гениального физиолога. Работы его были далеки от звездных миров. Он был творцом новых идей в области пищеварения, одной из {46} важнейших функций организма. Академик Александр Уголев даже называл себя «кишкистом». Его рассказы об эволюционном процессе, об удивительной структуре тонкой кишки, о генерации наркотических веществ — опиатов — в самом организме были удивительно интересны. Кстати, со своей физиологией пищеварения он «дотянулся» и до космоса, разрабатывая программы питания космонавтов. Зельдович упрекал меня и Жореса Алферова, приятелей Уголева, что мы ни разу не пригласили этого ярчайшего человека прочесть лекцию в Физтехе.
Быстрота и живость реакции, подвижность мыслительная и телесная определяли и внешний облик Зельдовича. Я никогда не видел у него унылого потухшего взгляда, скучной пожилой походки. Любознательные, чуть выпуклые, как у Пиноккио, глаза, так и бегающие от природного любопытства, всегда вызывали у меня в памяти изречение кого-то из хасидских мудрецов. Этот философ сказал: «человек — это глаз Вселенной».
| {47} |
Принимаюсь писать о нем 8 марта 1989 г., в день его 75-летия. Только что увидел и услышал его впервые после смерти — по телевизору передавали фильм «Научные ипостаси академика Зельдовича», и вновь эта смерть показалась совершенно дикой и неправдоподобной.
Сорок пять лет миновало с тех пор, когда я впервые увидел ЯБ в Казани, до вечеров 29 и 30 ноября 1987 г. — накануне последнего вечера его жизни — когда он с обычной юношеской легкостью вбежал к нам по-соседски по крутой лестнице, чтобы посмотреть новые американские журналы со статьями о его работах 30-х и 80-х годов и посудачить о надвигающихся выборах в Академию. Мысленно окидывая это короткое долгое время, целиком вместившее всю мою самостоятельную жизнь, перебирая сохранившиеся записки ЯБ, шуточные его стихи, разные черновики, особенно остро чувствую, какую пустоту оставила его неожиданная смерть.
Впервые я услышал о ЯБ от одного из его ближайших друзей и сотрудников Овсея Ильича Лейпунского вскоре после того, как приехал в Казань из блокадного Ленинграда и в апреле 1942 г. начал работать лаборантом в лаборатории С. З. Рогинского. Многое хотелось бы рассказать о жизни ИХФ в эвакуации («Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые...»). Но об этом — не сейчас, когда-нибудь.
Лейпунский рассказывал о Зельдовиче с нескрываемым восхищением, в превосходной степени, и трудно было совместить возникавший в этих {48} рассказах образ с быстроногим молоденьким очкариком, которого я встречал на лестнице, в библиотеке, в очереди у нашего хлебного ларька и к которому все запросто обращались по имени. В ноябре я впервые услышал ЯБ на заседании Ученого совета ИХФ — это была первая увиденная мною защита диссертаций.
Тридцатичетырехлетний А. Б. Налбандян защитил докторскую, а двадцатисемилетний Н. М. Эмануэль — кандидатскую диссертацию. Однако все оппоненты (их было трое, как принято на докторских защитах) высказались за присуждение Эмануэлю докторской степени. Работа его, показавшая решающую роль промежуточного продукта — моноокиси серы — в кинетике окисления сероводорода, была несомненно выдающейся, и Н. Н. Семенов очень настойчиво проводил ее как докторскую. Думаю, именно такая настойчивость вызвала оппозицию членов совета, и ЯБ стал одним из двух лидеров оппозиции. Он несколько раз брал слово и возражал против перескока диссертанта через кандидатскую степень, приводя в качестве аргументов имена ведущих химфизиков, еще не ставших тогда докторами. Мои симпатии и сочувствие были на стороне Эмануэля, и после того как совет закончился провозглашением его кандидатом наук, а Семенов, придя в опустевший институтский коридор, позвонил П. Л. Капице и горько сетовал на результаты голосования (в ту ночь я дежурил в институте и невольно слышал это), я тоже ему сочувствовал.
Чтобы поставить точку на этом эпизоде (и в назидание нынешней научной молодежи) добавлю, что впоследствии двух моих друзей и соседей по дому, Зельдовича и Эмануэля, многие десятилетия связывали близкие и теплые взаимоотношения, оборвавшиеся лишь со смертью Эмануэля в декабре 1984 г.
Наступил 1943 год. Зельдович, как и Семенов, Харитон и другие руководители ИХФ, все чаще бывал в Москве. Начиналась атомная проблема, возник вопрос о переезде всего института в столицу. Много смеха вызвала в ИХФ шуточно сердитая телеграмма ЯБ, посланная в Казань и торопившая с представлением срочных материалов: «Неприсылка отчетов беспокоит вашу мать. Представьте. Зельдович». ЯБ обладал прекрасным чувством юмора, в чем читатель этих воспоминаний еще не раз сумеет убедиться.
Весной 1943 г. ЯБ был удостоен Сталинской премии за свои работы по теории горения и детонации. Столь высокая награда совсем молодому человеку (29 лет!), и не в коллективе, а индивидуально, была и тогда случаем исключительным.
Летом того же года по вызову моего шефа, С.З. Рогинского, я тоже оказался в Москве, где вскоре состоялось наше формальное знакомство с ЯБ. Большая часть сотрудников Академии наук находилась еще в эвакуации, в Москве их было довольно мало, и все обедали по талонам в одной из двух академических столовых, а потому знали друг друга хотя бы в лицо.
С осени в Москве появилась вся семья Семенова, более года они жили в гостинице «Москва» в № 1211 и, заходя к сыну Николая Николаевича — своему другу Юре, я время от времени встречал ЯБ.
В феврале 1944 г. нам всем удалось попасть в Дом ученых на концерт Александра Вертинского — сенсация того времени. Я научился сносно {49} имитировать его пение, и ЯБ частенько заказывал исполнение полюбившихся ему песен.
Как-то летом того года, случайно встретившись в Узком у Семенова, мы потом часа полтора вместе возвращались в институт — трамваем и пешком. Долгий разговор о Ленинграде, войне, книгах, об общих знакомых впервые внес элемент тепла в наши отношения. В конце 1944 г. я поселился в строящемся здании института уже в качестве аспиранта Семенова, ночевал сперва в бухгалтерии, потом в лаборатории, где на ночь раскладушка располагалась рядом с рабочим столом, а день начинался с включения электроплитки (утренний чай) и вакуумного насоса. ЯБ довольно часто заходил ко мне, и в наших тогдашних разговорах примерно равное место занимали наука и прекрасный пол. В качестве первого теста в науке он дал мне задание — найти и исправить все ошибки или опечатки в его статье с Ю. А. Зысиным о теплоотдаче при протекании экзотермической реакции в струе. Что же касается женской темы, то уже многие годы спустя В. Л. Гинзбург дразнил меня рассказом о том, как он впервые услышал мое имя. Он прогуливался с ЯБ по коридору единственного в ту пору действовавшего крыла ИХФ, и какая-то молоденькая сотрудница спросила ЯБ, в какой комнате работает Гольданский. «Вот в этой, — указал на дверь ЯБ, — но имейте в виду, что вошедшая в эту дверь девушка может считаться вышедшей замуж». (Не могу не вспомнить строки любимого мной стихотворения Юнны Мориц: «Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли...»)
Миновали незабываемые майские дни 1945 г., а в июне Академия наук СССР отпраздновала свое 220-летие. В наш институт приехали супруги Жолио-Кюри, Лэнгмюр, Хиншельвуд, Сведберг, Оже и многие другие именитые гости, ЯБ (получивший, кстати, в эти дни свой первый орден — Трудового Красного Знамени) был для гостей одним из главных центров притяжения. Входя в его лабораторию, двое из гостей в дверях принялись уступать Друг другу дорогу, и все шествие притормозилось. ЯБ с детства прилично владел немецким, но говорить на этом языке в то время было не принято, да и не хотелось. На ломаном английском он со смехом напомнил гостям о знаменитом диалоге Чичикова и Манилова в аналогичной ситуации. Оба гостя, не дослушав, бросились вперед, и их, конечно, заклинило в дверях, ЯБ же торжественно завершил свой комментарий словами: «У Гоголя это закончилось точно так же».
Семья Зельдовичей, в которой в 1944 г. появился, наконец, после двух дочерей долгожданный наследник — Борис (ЯБ шутил по этому поводу: «раз» два, три — и готово»), поселилась на первом этаже жилого дома во дворе ИХФ, в квартире 11. ЯБ частенько приводил меня к себе на подкормку и пояснял с любопытством глазевшим на эту процедуру дочуркам — Оле и Марине: «Вы что думаете, он взаправду ест? Глупые, да это же он понарошку». Это выражение (например, давайте-ка выпьем чаю понарошку) закрепилось в нашем с ЯБ обиходе на долгие времена.
В то время я мучился над написанием своей первой статьи — «Индикация цепных реакций окисью азота» (она появилась в январе 1946 г. в «Успехах химии») и никак не мог придумать, как начать ее. Узнав об этом, ЯБ сказал: «Да ничего нет проще. Надо начать словами «бурное развитие». О чем будет {50} статья? Ага, ну, вот так и начинайте: «Бурное развитие методов индикации цепных реакций...»
В конце 1945 или начале 1946 г. ЯБ обратился ко мне с неожиданным предложением — совместно написать шуточную пьесу к предстоящему в апреле 1946 г. празднованию 50-летия Семенова с тем, чтобы разыграть ее на юбилее. Мы с жаром принялись за дело, над некоторыми сценками трудились вместе, другие писали врозь и потом приносили друг другу на суд, причем ЯБ призывал внести в пьесу как можно больше «сексуально-фрейдистских тонов». Пьеса изображала (в юмористическом плане) события, начиная с 1924 г. (женитьба Семенова) и 1926 г. (открытие нижнего предела воспламенения фосфора Харитоном и Вальтой) до 1986 г. (заключительная щенка «Сорок лет спустя»). Одна из нескольких интермедий между двумя основными действиями нашей пьесы была посвящена первому появлению мальчика Яши Зельдовича в ИХФ. Привожу эту интермедию с маленьким пояснением: фигурирующий в ней «Неизвестный» появлялся с просьбой «призвать к порядку стеклодувов» во всех действиях, на протяжении нескольких десятков лет.
Интермедия 1. 1931 г.
(Семенов сидит в кабинете. Входит мальчик в очках.)
Мальчик. |
Дяденька, ты директор! |
Семенов. |
Да. А что тебе нужно} |
Мальчик. |
Хочу в профессоры поступить. |
Семенов. |
Да ну? А сколько будет дважды два? |
Мальчик. |
Ну что ты, дяденька, смеешься? Дай лучше интегральчик решить! Вот смотри: у тебя индексы неправильно написаны! |
Семенов. |
Действительно, неправильно. Интересно. Как тебя зовут, мальчик? |
Мальчик. |
Яша Зельдович. |
Семенов. |
А ну-ка, пойдем со мной на ученый совет). (Идет к двери. Навстречу Неизвестный.) |
Неизвестный. |
Николай Николаевич! Призовите к порядку стеклодувов! |
Семенов. |
Потом, потом! Идемте сейчас на ученый совет). |
Неизвестный. |
Совета не будет. У меня что-то с равновесиями ничего не получилось. |
Семенов. |
Безобразие! До сих пор не научились рассчитывать равновесия! |
Мальчик. |
Такой большой, а равновесий считать не может, |
(Неизвестный дает мальчику подзатыльник. Уходит. Мальчик опять подходит к Семенову.) |
|
Мальчик. |
Так возьмешь меня в профессоры? |
Семенов. |
Ладно, потом поговорим. |
Мальчик. (Плачет.) |
Нет, возьми меня в профессоры. |
Семенов. |
В самом деле, надо выдвигать молодежь. Ладно, возьмем тебя в институт. |
Мальчик. |
Так я завтра приду. И приведу Доду Франка. Он тоже хороший. Мы с ним будем в чехарду играть. (Убегает. Громко кричит: «Я в профессоры поступаю! Пойду мальчишкам расскажу!») |
| {51} |
 |
Сотрудники Института химической физики. Слева направо: Н. Н. Семенов, О. И. Лейпунский, П. П. Шатер, Н.Н. Симонов, Б. В. Айвазов, Е. Н. Леонтьева, З. И. Когарко, М. А. Ривин, Я. Б. Зельдович. Москва, 1946 г. |
Управившись с обязанностями драматургов, мы с ЯБ стали режиссерами, набрали труппу и провели несколько репетиций. Семенова с успехом исполнил будущий академик В. В. Воеводский, Наталью Николаевну (жену Семенова) сыграла их дочь Мила, Яшу Зельдовича — сын одного из старейших сотрудников института, ныне доктор наук Б. С. Когарко. Не уклонились и мы от актерских дел: так, ЯБ выступил в сцене «Утро аспиранта», в диалоге аспиранта (под которым весьма прозрачно подразумевался автор этих воспоминаний) с Семеновым. Сценку почти целиком написал сам ЯБ, причем в полном соответствии со своим указанием о сексуально-фрейдистских тонах. Наша пьеса была с успехом представлена 21 апреля 1946 г. в зале Института физических проблем, причем световые и шумовые эффекты обеспечивал А. И. Шальников.
Последними строками завершающей сценки пьесы я закончил доклад о жизни и творчестве Семенова, прочитанный именно сорок лет спустя, на его 90-летии в присутствии ЯБ. Увы, в том же году не стало Семенова, а в следующем — Зельдовича, и теперь бодрые куплеты навевают только грусть по безвозвратно ушедшим временам и людям.
Осенью 1946 г. я сдал «на машинку» свою кандидатскую диссертацию, и Семенов тут же решил перебросить меня с катализа на ядерную тематику и временно наполовину передал в теоротдел под начало ЯБ. Помню день выборов в Академию в конце ноября, когда баллотировавшийся {52} в члены-корреспонденты АН СССР ЯБ, нервничая, уходил то и дело куда-то из комнаты, пропадал час-полтора и вновь возвращался. Я всякий раз спрашивал его: «Ну, как дела?», пока он не ответил в сердцах: «Какайте под себя». Выборы кончились победно, и через несколько дней на третьем этаже института, в помещении, где вскоре разместился теоротдел, был устроен банкет. Позволю себе привести несколько строф из зачитанного мной на этом банкете шуточного стихотворения:
Какой торжественный момент!
Зельдович — член-корреспондент,
И Харитон стал членом-корром.
Споем же похвалу им хором.
............................
Подразделив задачу нашу,
Возьмемся мы теперь за Яшу.
Он остроумен и... прекрасен.
Он толст приятной полнотой,
И женщинам весьма опасен,
Хоть больше весом (словом), чем красой.
Оставив соску, интегралы
С двух лет решал сей чудный малый.
Он в двадцать два был кандидат,
(Сам черт теперь ему не брат).
Член-корром стал он в тридцать три.
Но все же, Яша, ты смотри,
Не задирай высоко нос,
Ведь обогнал тебя Христос.
Он был как раз тебе ровесник,
Когда был на небо вознесен.
(Чтоб завершить под рифму строфу,
Вспомянем здесь еще Голгофу!)
Нет, не догнать тебе Христа,
Хоть гвозди есть, но нет креста.
Да и не нужно возноситься, —
Есть на земле к чему стремиться.
В стаканы институтский спирт!
Оставьте посторонний флирт!
Наш тост за гордость нашу,
Наш тост — за Яшу!
У нашего Якова хватит про всякого:
Ученый и волейболист,
И драматург, и теннисист,
В Казани — ПВО-боец,
Короче, Яша — молодец.
| {53} |
 |
В год избрания членом-корреспондентом АН СССР, Москва, 1947 г. |
Несколько месяцев 1947 г. я провел в теоротделе ИХФ, где под началом ЯБ трудились такие яркие — каждый по-своему — люди, как Д. А. Франк-Каменецкий и А. С. Компанеец, совсем еще молодые блестящие таланты — Сережа Дьяков (трагически погибший три года спустя) и Коля Дмитриев, а также Э. А. Блюмберг, помогавшая в вычислительной работе.
В отделе выходила так называемая «двер-газета» (чуть ли не дословный перевод ставшего нам позднее печально известным китайского слова «Дацзыбао»); каждый что-нибудь сочинял, в стихах или прозе, и мог прикнопить к дверям на всеобщее обозрение и обсуждение.
Мне удалось стяжать лавры Михалкова местного значения, сочинив следующий гимн теоротдела:
Наш отдел — это пуп института,
Вожделенье для прочих людей.
Наш великий член-корр за минуту
Облегчается сотней идей.
Свет ученья несем мы плебеям,
Что над опытом вечно трубят,
Пред Семеновым мы не робеем,
Нет отважнее наших ребят.
Сам Ландау нас крестом осеняет,
Мы могучи, здоровы, сильны,
Только ж... у нас и страдает,
Спецотчеты печем, как блины.
Слава физикам, слава поэтам,
Окружающим Якова трон,
Хорошо нам в тиши кабинета,
Нашим я... не страшен нейтрон.
В ходу были всякие розыгрыши, иногда не вполне безобидные. Как-то в институт на имя ЯБ пришли из-за границы оттиски из иностранного журнала, от неизвестного нам автора с русской фамилией. Мы с Компанейцем надписали их: «Любезнейшему другу Якову Борисовичу от штабсъ-капитана имярек» и положили на стол ЯБ. Надо знать, чем грозила в те времена связь с заграницей (да еще сверхзасекреченному человеку), чтобы понять, как разволновался ЯБ и сколь раскаивались мы потом в этой шутке.
Вся наша жизнь была сосредоточена на институтском пятачке — здесь, во дворе, были жилые дома, здесь же мы играли в волейбол, занимались с ЯБ, Франк-Каменецким и Воеводским утренними пробежками, перекидывались медицинболом. {54}
Спортом, как и наукой, ЯБ занимался с жаром, доводя себя подчас до изнеможения. Полюбил он — не без моего влияния — танцевальные вечера, и мы довольно часто (а то и просто каждую субботу) ходили «прошвырнуться» в ИХФ или по соседству, в ИФП. ЯБ получал от танцев нескрываемое удовольствие, причем, вопреки моим уговорам, не старался овладеть этим искусством, а просто носился и скакал под музыку, нарочито пренебрегая всякими «уставными» па. Танцы были для него вроде игры в горелки, да еще с приятными партнершами — что может быть лучше!
В октябре 1947 г. в один из трудных для меня жизненных моментов ЯБ поспешил на помощь. Нам с Милой Семеновой предстояло постфактум объявить ее родителям о нашем браке, к перспективе которого они (особенно моя будущая теща) относились отнюдь не благосклонно. ЯБ взял эту задачу на себя — он увел Семенова в свой кабинет, долго беседовал там с ним наедине и, наконец, вышел ко мне, довольный и улыбающийся, так что у меня сразу отлегло от сердца. И действительно, последующий очень серьезный разговор с Николаем Николаевичем оказался очень теплым.
Все чаще ЯБ отлучался из Москвы на объект «в Энск», и постепенно стало правильнее говорить: «все реже ЯБ приезжает в Москву». Не скажу, был ли январь 1948 г. для него еще окончанием московского или уже началом энского периода жизни, но этот месяц запомнился мне смертью Михоэлса. ЯБ зашел ко мне в комнату без обычной улыбки, строгий и озабоченный, и предложил поехать в Еврейский театр, где шло прощание с усопшим артистом (как мы вскоре узнали,— убитым). Выйдя у Никитских ворот из трамвая, мы увидели огромную толпу, запрудившую улицы перед театром, и растерялись. ЯБ мрачно пошутил: «Пройти без очереди здесь не удастся — все евреи» и полез в карман за книжкой лауреата Сталинской премии. Эта книжка проложила нам дорогу — и не только в театр, но и в почетный караул,— и мы не могли не заметить огромного кровоподтека у виска покойного. Возвращались молча, погруженные в печальные думы. Забегая вперед, скажу, что проблема неуклонно нараставшего в стране антисемитизма, явно поощрявшегося свыше, очень волновала ЯБ и доставила ему много огорчений.
Антисемитские настроения явно проглядывались как подоплека нападок на книгу ЯБ «Высшая математика для начинающих». За два дня до смерти он рассказал мне о мерзком анонимном письме, в котором, помимо обычного набора юдофобской брани, его называли сатаной. Чувствуя, что в высшем эшелоне власти в годы застоя были заботливые садовники, любовно выращивавшие будущих неонацистов, ЯБ и А.Н. Фрумкин писали по этому поводу Андропову, встречались с Трапезниковым, просились на прием к Суслову и Зимянину — но тщетно.
Вернусь к хронологической канве. Начиная с осени 1947 г. небольшой приданной мне группе было поручено исследовать прохождение нейтронов через оболочку взрывчатого вещества (ВВ), которая должна была окружать ядерный заряд будущего «изделия». Мы имитировали состав ВВ (тротил с гексо-геном) и более года вели опыт — сперва с нейтронным (Ка-Ве)-источником, затем на реакторе и циклотроне Лаборатории №2 (будущего Института атомной энергии им. И. В. Курчатова). Как-то ЯБ привел смотреть на эти опыты группу генералов, и вполне серьезно, без намека на улыбку объяснил {55} им: «А сюда кладутся листочки, сделанные из индия и называемые поэтому индикаторами», — й задорно нам подмигнул.
Память выделяет обычно более светлые, радостные, веселые воспоминания. Фактически же время становилось все труднее и подлее. Одно за другим пошли постановления ЦК ВКП(б) по литературе и искусству, в науке провели суд чести над Клюевой и Роскиным, отправили в тюрьму Ларина, Баландина, Тарнаса. Суды чести решили превратить в повсеместное зрелище (так сказать, «товарищеский суд Линча»), и в качестве наиболее подходящих подсудимых в ИХФ избрали ЯБ и Лейпунского. Им надлежало каяться в том, что они пытались протащить как открытую публикацию какую-то свою работу по порохам, спешно загрифованную, а М.А. Садовскому (так сказать, менее виновному виновнику) — в том, что он как заместитель директора подписал на эту работу направление в печать. Но ЯБ твердо стоял на своем и признать вину отказался. Этот постыдный «суд чести» ускорил то, что ЯБ покинул ИХФ и перешел работать в Энск, к Харитону. Когда через год (а то и меньше), после первого советского атомного взрыва (29 августа 1949 г.), на ученых-ядерщиков пролился «золотой дождь» наград и грудь ЯБ увенчала первая из трех звезд Героя Социалистического Труда, он специально пригласил к себе домой на торжество не только всех друзей, но и наиболее ярых гонителей. Не буду их называть — и не по принципу «aut bene, aut nihil» (об ушедших из жизни...), — а ради ныне живущих и ничем себя не запятнавших детей и внуков верных слуг сталинщины в нашем институте. Когда зашла речь о том, что перед ЯБ готовы извиниться и зовут обратно в ИХФ, он привел мне любимое свое двустишье из озорного рифмованного алфавита «Аллаверды» — «Гусар красивей всех солдат, г... не пропихнешь назад».
К периоду перехода ЯБ в Энск относится и попытка приставить к нему так называемых «секретарей» (неотступно, круглосуточно дежурящих возле ведущих ученых-ядерщиков — поочередно — трех сотрудников КГБ). Среди них были, кстати, и люди, искренне привязавшиеся к своим «подопечным» и постепенно становившиеся их незаменимыми помощниками. Но ЯБ (как и Ландау) категорически отверг заботу КГБ. Несколько ночей на нашей лестнице (а мы с 1949 г. четырнадцать лет жили на одной площадке, дверь в дверь) ночевали, взбираясь на подоконник или стоя, какие-то непонятные люди (мы с женой вначале не поняли, кто они) — к себе в квартиру ЯБ их не пускал. В конце концов «секретари» не выдержали таких условий работы, и ЯБ одержал победу.
В 50-е годы судьба развела нас — ЯБ оказался в Энске, я же в 1950–51 гг. занимался в Дубне опытами по поглощению и размножению нейтронов высокой (тогда 120 и 380 МэВ были «высокой») энергии, а в начале 1952 г. в порядке борьбы с семейственностью был переведен из ИХФ в ФИАН (Физический институт им. П. Н. Лебедева АН СССР), где я проработал девять лет. Не могу не сказать здесь «спасибо» ФИАНу, благодаря которому я пополнил круг своих знаний и интересов и сумел в дальнейшем найти новые научные контакты с ЯБ. Но это — несколько лет спустя. А пока наши встречи, хоть и стали мы близкими соседями, были редкими. Сидя на объекте, ЯБ ясно чувствовал нарастающую суровость режима последних сталинских лет. Он {56} очень переживал перипетии начавшейся корейской войны, хотя и не любил говорить в то время об этом. Лишь многие годы спустя он рассказал мне о своих мучительных переживаниях — если бы в 1949 г. не была бы создана при активнейшем участии ЯБ наша первая атомная бомба, то корейской войны в 1950 г., наверно, не было бы. И остро ощущая опасность слежки, он строго выговаривал мне и А. С. Компанейцу за нашу любовь к «трепу». В один из его приездов (накануне которого у нас во дворе был небольшой пожар) я откликнулся на эти выговоры виршами, из которых буквально выпирают наша глупая беззаботность и неумение понять всю серьезность опасений ЯБ:
Москва Зельдовича недаром
Намедни встретила пожаром,
Честь Яше и хвала,
Хватает звезды золотые.
Да говорят — еще какие!
И песни стали петь в России
Про нашего орла.
Еще не болен геморроем,
Но стал заслуженным героем
Всем скептикам в укор.
Для молодого поколенья
Ты гений правил поведенья,
Твои запомним поученья»
Наш дорогой член-корр.
Стихов мы впредь писать не будем
И шуток не расскажем людям,
Солидный примем вид.
Тебе, искоренитель трепа,
Дивятся Русь и вся Европа.
Свежа глава, упорна ж...
Как лихо он творит!
В течение пяти-шести лет, начиная, кажется, с 1952 г. у нас существовал обычай — встречать Новый год в дружеской химфизическо-физпроблемско-фиановской компании, а на следующий вечер, 1 января, вновь собираться на «черствый праздник». Так мы обошли за несколько лет квартиры Зельдовичей, Рябининых, Ландау, Гинзбургов, Эмануэлей, нашу, семеновскую и многие другие. Готовились к празднованию капитально, с выдумкой — подарки, лотереи, шарады (в которых ЯБ был особенно активен); один раз мы с Компанейцем даже написали и разыграли (у Ландау) пьесу «День ученого мужа». Для ЯБ эти новогодние празднества, как и день рождения Компанейца и Лейпунского — 4 января, и «день весенних станкжалий» — 3 марта (день рождения К. П. Станюковича), стали днями традиционных наездов в Москву, для нас — помимо общего веселья — днями радостных встреч с ЯБ, которого всем нам очень не хватало.
После 1956 г. — уже трехзвездным героем — ЯБ вновь перенес свою основную резиденцию в Москву, хотя в ИХФ не вернулся, а поступил {57} к М. В. Келдышу, в Институт прикладной математики Академии наук. Я вновь обрел соседа, и мы стали обмениваться шутливыми рифмованными посланиями, бросая их друг другу в почтовые ящики. Будучи озабочен чрезмерным ростом своего веса, я то и дело по утрам в трусах являлся к Зельдовичам и взвешивался на больших весах. Однажды утром я обнаружил в почтовом ящике такой документ:
Управление Московской конторы
по взвешиванию живого товара
Уважаемые клиенты Людмила Николаевна и Виталий Иосифович! Произведенные в ночь с 5 на 6 марта определения долготы, широты, фазы Луны и ускорения силы тяжести выявили систематическую ошибку во взвешивании –0,85 + 0,07 кг. Клейма с обозначением живого веса на животе, поставленные до 6 марта, недействительны и подлежат замене.
Главный астроном УМКПВЖТ Я. Зельдович
А вот еще более раннее послание ЯБ — после того, как он купил мне в «Академкниге» стихи Симонова и, к моему огорчению, основательно испачкал эту давно алкаемую книгу маслом:
Счет
Его превосходительству господину Финансову-Голь-Цонскому
0. |
Доставка в собственно-персональном авто |
20.00 |
1. |
Симонов |
3 |
Масло на обложке (сливочное) |
1.40 |
|
2. |
Аванс подотчет на Гастроном |
56 |
3. |
Шороха не видели |
100 |
4. |
Селедочки не брали |
200 |
5. |
Принцесса долларов: |
|
билеты |
46 |
|
водка 2×100 |
15 |
|
бутерброды |
10 |
|
моральный ущерб |
100 |
|
Всего приходится с Вас |
551.40 |
|
Можно было бы привести целую пачку стихов и прозаических посланий, которые мы бросали друг другу в почтовые ящики. Жанр их был довольно разнообразен — от весьма вольного (прежде всего бросалось в глаза: «Мила! Не читайте, за приличие содержания не отвечаю») до сугубо серьезного: «Витя! В связи с работой К. рассмотрели бы образование N0 в треках осколков деления конкретно. Кинетика там известна. Есть интересная техническая задача — получение N0 термическое в реакторе. Этим занимается, в частности, П., но плохо занимается. Не хотите ли встрять на пару?» А после одного из юбилейных вечеров в Химфизике мелкое огорчение по поводу своего выступления: «Какую хохму я упустил! Энгельс: труд создал из обезьяны человека... Я стал человеком, трудясь в ИХФ».
Каждый клочок бумаги с размашистыми строчками ЯБ храню как дорогую память — но, конечно, ни к чему делать общим достоянием все наши серьезные и шутливые записочки и наброски. Ограничусь еще одним, пожалуй, особенно смешным эпизодом. {58}
В канун 50-х годов в ходе реконструкции нашей Воробьевки принялись срочно разрушать деревянные одноэтажные халупы, соседние с нашим домом (позднее на месте этих халуп появилась резиденция А.Н. Косыгина). Разрушение халуп явилось подлинным бедствием для проживавших там в изобилии клопов, и они незамедлительно перекочевали в наш дом (жаль, что не довелось увидеть собственными глазами шествие их сомкнутых рядов).
В одну далеко не прекрасную ночь мы никак не могли уснуть от зуда, а когда зажгли свет, пришли в ужас от полчища клопов на стене. Нижние этажи наших диванов на утро пришлось выкинуть, но без верхних было не обойтись — не спать же на полу. Густо промазав эти верхние этажи керосином, мы выставили их проветриваться на площадку лестницы. Через 2–3 дня на диванах появились исполненные ЯБ плакатики. Стрелки, на которых он изобразил зловредных насекомых, были направлены на наши двери, с тыльной стороны на них были нарисованы «кирпичики», что означало: в квартиру ЯБ въезд воспрещен, а сверху рисунки венчали надписи: «Клопы, go home».
Примерно в это же время начались наши почти ежедневные встречи с ЯБ «по науке» — мы заинтересовались свойствами ядер, далеких от области β-стабильности. Началось с того, что ЯБ стал искать закономерности в энергии заполнения оболочек в легких ядрах и пришел к предсказанию существования сверхтяжелого гелия — 8Не; мной же были уточнены ожидаемые свойства этого ядра, вытекающие из несуществования сверхтяжелого водорода 5Н. Как известно, предсказание ЯБ, вызвавшее вначале довольно скептическое к себе отношение, вскоре блестяще подтвердилось.
Сравнивая разные возможные варианты оценок свойств легких ядер, я наткнулся на работу А. И. Базя, открывавшую широкие возможности разных предсказаний на основе изотопической инвариантности ядерных сил. Мы с ЯБ связались с Базем и продолжили работу уже втроем, каждый — в своем направлении. При этом ЯБ предсказывает существование и свойства десятков новых нейтроноизбыточных изотопов, анализирует возможности существования нейтронной жидкости, Базь подробно рассматривает проблему динейтрона, на мою же долю выпадает предсказание свойств многих новых нейтронодефицитных изотопов, существования и свойств двупротонной радиоактивности. Объединив все эти результаты, мы втроем напечатали в октябре 1960 г. в «Успехах физических наук» обзор «Неоткрытые изотопы легких ядер», а 12 лет спустя совместно еще и с В.З. Гольдбергом — монографию.
Прошло 30 лет, живо вспоминая радость и поучительность повседневного научного и человеческого общения с ЯБ в те годы, я сам себе завидую, периоды такой увлеченности делом, такого нетерпения по вечерам — скорее бы пришло новое утро, а с ним мысли и новые обсуждения — довольно редки, их можно пересчитать по пальцам, и я счастлив, что один из таких периодов, выпавших на мою долю, был тесно связан с ЯБ. С тех пор запомнились мне и его любимые цитаты: «Я алгеброй гармонию поверил» и (адресуемая тем, кто лез в детали личной жизни) «Я — поэт, тем и интересен» (а все другое к делу не относится). {59}
Но наука — наукой, а спорт, особенно лыжи, и всяческие шутки неизменно занимали в жизни ЯБ видное место. Помню, как мы жили в соседних комнатах в Узком, и он с Варей (его женой, Варварой Павловной Константиновой — женщиной редкой души) убегали вперед, катались с горки, а я плелся где-то позади. На одной из лыжных прогулок зимой 1957 г., когда к компании присоединилась и моя жена — Мила (ожидавшая появления на свет второго нашего сына), наблюдая за моим осторожным спуском с горки, ЯБ сказал: «Когда на вас двоих смотришь, кажется, что это Витя беременный». Вечерами нам ставили на тумбочки у кроватей разные лекарства; однажды, выпив залпом мензурку с обычной надписью (валериановый чай — Гольданский), я от неожиданности поперхнулся — это ЯБ угостил меня не отличимым по цвету коньяком.
Многолюдная группа участников Киевской конференции 1959 г. по физике высоких энергий запомнила соревнования по плаванию на Днепре, которые ЯБ устроил мне со своей старшей дочерью Олей. Плаваю я вполне прилично, и потому никак не мог понять, как это не могу оторваться от Оли хотя бы на несколько шагов и почему кругом смеются. Совсем выбившись из сил, я, наконец, уразумел, что ЯБ попросту надел Оле на ноги ласты.
В 1963 г. мы переехали на другую квартиру в том же доме, и встречи перестали быть ежедневными. Но зато появилась новая важная тема для разговоров — дела академические, поскольку в 1962 г. я стал член-корром. Время от времени мы устраивали семейные культпоходы в кино, несколько раз встречались, хотя и за разными столиками, на новогодних вечерах в Центральном доме литераторов. Предметом особой моей гордости была реакция ЯБ на доклад «Исследования в области гамма-резонансной спектроскопии», прочитанный мной в феврале 1966 г. на годичном Общем собрании АН СССР. Доклад этот прошел весьма успешно, очень понравился ЯБ, и в тот же день он предложил мне перейти на «ты». Не скрою, что возможность обращаться на «ты» к человеку, которого я чтил как живую легенду — особенно в присутствии третьих лиц, например, моих сотрудников — довольно долго льстила моему самолюбию, пока не стала привычной.
Появление ЯБ на трибуне Общего собрания АН в декабре 1974 г. с резким выступлением по адресу руководства Академии, которое на только что прошедших выборах не дало вакансии, хотя я вторично (первый раз — в 1968 г.) получил в Отделении избирательное число голосов, стало хоть каким-то бальзамом на мою рану.
Бег времени все чаще стал приносить тяжелые потери. Летом 1969 г. скоропостижно скончался близкий друг и шурин ЯБ — академик Борис Павлович Константинов (о котором он оставил воспоминания); в 1970 г. не стало уже давно и тяжело болевшего Д. А. Франк-Каменецкого, в 1974 г. нас буквально ошарашила внезапная смерть Компанейца, а в августе 1976 г. на отдыхе в Крыму умерла от сердечного приступа Варвара Павловна. Помню, как ночью мы встречали во Внукове самолет с ее гробом, как ЯБ выступил в морге с единственным прощальным словом. Ни на кого, кроме Вари, не глядя, куда-то уйдя от всех, он как бы сам себе рассказывал историю их встреч, любви. Наступали «сумерки богов». Однако впереди было еще множество высоких {60} знаков международного признания, зарубежные поездки — сперва только в соцстраны, а потом и в Грецию, Италию, наконец — в США, в апреле 1987 г. С огромным успехом прошел доклад ЯБ по космологии на Общем собрании «Леопольдины» в Галле (ГДР) в апреле 1980 г. Он говорил на причудливой смеси немецкого и английского, а поясняя слова «big band», раздул щеки и громко изобразил подобие взрыва возгласом — «пуф-ф-ф!» Приехав в апреле 1987 г. в Вашингтон и войдя в здание Национальной академии наук, я чуть ли не первого увидел там ЯБ за столом с напитками и сэндвичами — начался coffee break. Встреча была для обоих неожиданной и тем более радостной. Из встреч последнего для ЯБ года запомнились видеовечера у нас дома — в частности, совместный просмотр «Моста через реку Квай», и уже недели за две до кончины ЯБ наш культпоход в «Октябрь» (ЯБ с женой — Инной Юрьевной Черняховской и мы с Милой) на «Завтра была война».
Конечно, я многое здесь пропускаю — одно празднование 70-летия ЯБ в Институте физических проблем в марте 1984 г. достойно описания. Но, думаю, в этом сборнике воспоминаний о ЯБ найдется много желающих рассказать и об этом юбилее, и о последних годах научного творчества ЯБ, связанных с Институтом космических исследований, Институтом физических проблем АН. Меня же тянет к более давним сюжетам, и из последнего периода жизни ЯБ я обращусь теперь непосредственно к преддверию конца.
Случилось так, что мы виделись и говорили с ЯБ два вечера накануне его кончины — 29 и 30 ноября 1987 г. Среди последних полученных мною иностранных научных журналов сразу в нескольких оказались материалы о ЯБ и его работах: «Science News» от 30 мая 1987 г., где описывался шуточный диалог Зельдовича и Гелл-Манна на рабочей группе по квантовой космологии в Батавии во время первой (и единственной) поездки ЯБ в США в апреле-мае 1987 г., «Nature» от 29 октября 1987 г. — специальный выпуск о советской науке, где ЯБ была посвящена статья «Great Men and Barons», и, наконец, «Chemical and Engineering News» от 31 августа 1987 г., с прекрасным обзором Дж. Фиска и Дж. Миллера по химии горения. Узнав об этом, ЯБ тут же забежал пролистать эти издания, а на следующий день — взять их почитать. Особый интерес вызвал у него обзор по химии горения, доставивший ему глубокое удовлетворение, как очевидное доказательство того, что и 40 лет спустя классические работы ЯБ по образованию азота при горении, по механизму самого процесса горения и распространения пламени, по химическим реакциям в пламенах, по детонации остались «вечнозелеными».
1 декабря мы не виделись, лишь потом я узнал от сына, что ЯБ попросил подвезти его до ИФП — а это означало, что чувствовал он себя неважно. В полночь на 2 декабря мы услышали во дворе сигналы машин, какой-то шум на соседней лестнице, Мила побежала узнать, в чем дело, и сообщила, что ЯБ срочно увозят в больницу, после чего я принялся звонить ныне покойному И. К. Шхвацабая с просьбой принять немедленное шефство над ЯБ. Заснули мы встревоженные, но еще далекие от ощущения вплотную нависшего трагического исхода. До него оставалось 14 часов... {61}
Через несколько дней после смерти ЯБ я узнал, что Рудольф Мессбауэр хотел выдвинуть его на Нобелевскую премию и колебался лишь в выборе науки — по химии или по физике.
О том, что ЯБ считался в высшей мере достойным кандидатом на Нобелевскую премию, я и до того многократно слышал от ряда первоклассных ученых Западной Европы и США. Думаю, именно удивительная его многогранность затруднила решение — физика или химия? Фактически же и по новизне и блеску своих идей, и по значимости полученных результатов ЯБ был бесспорным представителем ученых нобелевского масштаба и в физике, и в химии.
Чем дальше мы уходим от дня расставания с ним, тем сильнее чувство огромной потери, понесенной в его лице наукой. Что же касается нас, его друзей, то он останется с нами до конца наших собственных дней — мы просто не успеем привыкнуть к мысли, что его нет, и смириться с этой мыслью.
Он работал в ИХФ 16 лет — с 1931 до 1947 г. — и занимался адсорбцией, катализом, фазовыми переходами, гидродинамикой, ударными волнами, теорией горения и детонации, горением пороха. На основе этих работ уже многие десятилетия работает отдел горения ИХФ.
В газетном некрологе напечатано: «Неоценим вклад Я. Б. Зельдовича в обеспечение обороноспособности нашей Родины». В этот вклад входит, в частности, создание теории горения пороха и, на ее основе, — внутренней баллистики ракет на твердом топливе. Эти ракеты, «Катюши», разработанные в 30-х годах, применялись во время войны и имели вес заряда в двигателе до 10 кг. Дальнейшее развитие мощности двигателя было невозможно, так как вес заряда подбирался методом проб, ибо двигатели были не рассчитываемыми. При вариациях параметров двигателя происходили непонятные явления: внезапное затухание порохового заряда или чрезвычайный рост давления, способный разорвать двигатель. И если еще можно было подобрать устойчиво горящий заряд весом до 10 кг, то весом в 100 кг — эмпирически почти невозможно.
В конце 1941 г. Яков Борисович начал разрабатывать теорию горения пороха, сделал ее за несколько месяцев, так что в «ЖЭТФ» за 1942 г. уже появилась его публикация. «На кончике пера» он открыл новый вид горения пороха — с нестационарной скоростью. Вместе с другим новым явлением, обнаруженным в лаборатории Зельдовича, это было отправным пунктом созданных им физических основ современной внутренней баллистики ракет на твердом топливе, позволяющей предсказать горение заряда любой массы {62} и сделавшей возможным появление современных ракет, с весом заряда не 10 кг, а многие тонны. Будучи свидетелем создания Зельдовичем теории горения пороха, я получил эстетическое наслаждение от искусства непростой простоты и той скорости, с которой он делал эту работу. Она представляется мне одной из красивейших среди многих сотен его работ.
После ухода из ИХФ Яков Борисович в течение 16 лет занимался работами по обоснованию и созданию разных видов новой техники, теорией элементарных частиц, ядерной физикой, а затем 22 года — астрофизикой, космологией, происхождением Вселенной и ее структуры и т. п. Его деятельность во всех этих областях была не прикосновением к разным интересным физическим явлениям, а созданием фундаментальных, основополагающих работ, подобных циклу по горению.
В мировой науке нет физика с таким широким охватом исследования физических явлений при глубине и фундаментальности получаемых результатов. Зельдович — явление уникальное в науке. Его пример поучителен и интересен для изучающих свойства и возможности человеческого интеллекта.
При заполнении анкет в графе «социальное положение» Яков Борисович писал «служащий». В печати часто употребляется термин «интеллигенция». Яков Борисович был интеллигентом в самом глубоком понимании этого слова. В русском языке есть два значения этого слова. В одном, приводимом в словарях, доминантой интеллигента являются знания и их профессиональное употребление. Другое значение вытекает из русской классической литературы, подметившей и описавшей наличие множества людей, доминанта которых — совесть и действия по совести. Естественно, имеет место и слияние этих двух оттенков слова в одном человеке — интеллигенте. Яков Борисович — один из примеров такого слияния. Не только знания, но и активная совесть были его доминантой: совесть научная (выступления против неверных научных взглядов, безукоризненная щепетильность в вопросах авторства и др.), совесть гражданская (когда нужно — прикладные направления работы), совесть человеческая (активная помощь людям, несправедливо ущемленным обстоятельствами, и др.).
Яков Борисович очень любил свою работу и работал с раннего утра до позднего вечера, она входила в его ощущение жизни. Он был приветливым, доброжелательным, без тени важности, хорошим, обязательным товарищем. В нем была вся сумма качеств, которая входит в непростое понятие «простой хороший человек».
Тютчев показал фундаментальную и мрачную картину отношений человек-природа:
Мужайтесь, боритесь, о храбрые друга,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба,
Над всеми безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Яков Борисович, по существу, и был Человек, находящийся в жестокой борьбе с Природой. Но он существенно поправил мрачный настрой Тютчева: борьба над «немыми, глухими гробами» может стать радостью жизни и наполнить ее счастьем. Для Якова Борисовича «звездные круги» не были {63} «безмолвными», он их понимал и отвечал им. Бой для него не был «жестоким», ибо он относился к людям, для которых «есть упоение в бою и дикой бездны на краю». Именно к нему, на мой взгляд, относятся слова Тютчева:
Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец,
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их бессмертья венед.
30-е годы — период бурного развития молодого нового Института химической физики АН СССР под руководством инициатора его создания Н.Н. Семенова. В это время Семенов принимает активные меры по подбору и воспитанию молодых кадров. Он рассылает письма-обращения в провинциальные вузы с просьбой направить в институт окончивших студентов, имеющих склонность к исследовательской работе. Так в 1931 г. в Институте химической физики появляются Н.И. Чирков и Ф.И. Дубовицкий из Воронежского государственного университета, А. Б. Налбандян из Еревана, А. Я. Апин и др. из Казани, О. И. Лейпунский, А. Ф. Беляев из Ленинградского политехнического института.
Но самое знаменательное событие — появление в институте Я. Б. Зельдовича. Не окончив ВУЗа, он сразу включился в активную научно-исследовательскую деятельность наравне с ведущими учеными института. Сейчас трудно представить себе, каким талантом, силой и широтой интуиции обладал молодой семнадцатилетний лаборант Яша Зельдович. Овладевая механизмами явлений и методами изучения химических процессов, ЯБ активно участвовал в институтских семинарах не только в узкой области катализа, чем он начал заниматься в лаборатории С.З. Рогинского, но и в разборе сложных научных вопросов в других областях. Выступал он как-то легко, свободно, задорно и уверенно. Опаздывая иногда на семинар, при появлении в зале на ходу задавал вопросы докладчику, сделавшему почти половину сообщения. Яша Зельдович обладал высшей степенью одаренности, ума, таланта. Конечно, разница в возрасте с товарищами имела значение (ведь он был моложе других на 7–10 лет), но в науке он был не по годам взрослым. Научные сотрудники всех подразделений институтов на площадке в Лесном, в том числе сильного теоретического отдела, которым руководил Я. И. Френкель, обращались с ним, как с равным.
ЯБ быстро рос и мужал. Он понимал необходимость приложения результатов своих научных исследований в практике народного хозяйства. В 1937 г. под его руководством был создан отдел высокотемпературной кинетики реакций при взрывных процессах, а перед войной — лаборатория физики горения. Его творческая деятельность протекала в исключительно дружном совместном труде с основоположниками науки о горении и взрыве (каким являлся и сам Зельдович) — Н.Н. Семеновым, Ю.Б. Харитоном, Д. А. Франк-Каменецким, К. И. Щёлкиным, А.Ф. Беляевым и др. {64}
В 1942 г. я вместе с ним жил в гостинице «Москва» на 12-м этаже, в двухкомнатном люксе. С нами жил И. В. Курчатов. Я был свидетелем самоотверженного труда ЯБ. До поздней ночи Яша занимался, лежа в кровати с тетрадью в руках. Он старался не мешать сну других сотрудников (Г. А. Варшавскому и И. Макарову), размещавшихся в одной с ним комнате. Курчатов и я расположились в смежной комнате.
У меня сохранилось письмо ЯБ к Семенову, которое было послано им из Казани 1 марта 1943 г. В нем шла речь о лаборатории в Москве и положении дел в казанской части Института. Привожу письмо в подлиннике:
Дорогой Н.Н.!
С нетерпением жду от Вас известий или Вашего приезда, чтобы узнать ход дела с лабораторией. У всех вполне боевое настроение духа. Овсей [Лейпунский], выполняя план I квартала, нащупал очень интересное влияние воспламенителя; Барский недавно вышел, но успел уже подтвердить основной наш результат в двух новых случаях. Мне очень хочется сразу развернуть работу и по практической помощи, и по основным теоретическим линиям для ниспровержения врагов и восстановления истины.
Сейчас можно было бы много делать — экспериментировать и подготавливать проект на аппаратуру к московской работе; кроме обычного невыполнения заказа в мастерских, на этот раз кроме извинительной причины — отсутствия тока, мешает: 1) забрали Грабовецкую, пока Барский болел, а сейчас без Вашего разрешения не отдают; 2) отсутствие штатных мест (лаборантов, техников, младших, старишх), можно было бы расширить фронт и увеличить темп работ, актуальных вопросов и подготовительной работы много, а людей у нас никого и 3) печальное состояние Лейпунского. Федор [Дубовицкий], вероятно, передал Вам, что у него миокардит; в письме Федору я просил похлопотать о санатории. Положение усугубляется тем, что Лейпунский в очень тяжелом материальном положении — 800 рублей в месяц. Сергей Петрович рекомендует путь, изложенный в прилагаемой бумажке, текст которой им составлен. Совестно отнимать у Вас время, но Вам легче всего получить на бумажке резолюцию Бруевича, а для «объекта» — Овсея — и для работы, и для справедливости это очень важно.
Если нам дадут работать, через 1–2 года вопрос внутренней баллистики будет разработан экспериментально, физико-химически и математически, как конфетка, лучше, чем другой в этой области, лучше, чем предмет моей докторской, жаль, что мы не занимались [этим] до войны.
1 марта 1943 г. |
Ваш Я. Зельдович |
P. S. Все спрашивают меня о переезде, когда, что. Что отвечать? Институт стал ужасно малолюдным, сейчас самые активные буйные головы в отъезде; не пора ли добавить молодежи в собственном смысле (наше поколение со стажем 10 лет только условно молодежь; много болеют и сутулятся); Куюмджи и Щелкан действуют неплохо; впрочем, ряд вещей (научный просмотр плана) откладывают до Вашего возвращения.
Годы войны меня особенно сблизили с Яковом Борисовичем. Это был настоящий, безамбициозный, простой, верный человек, большой труженик, патриот. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Я. Б. Зельдовичем, я благодарен ему за все совместно прожитое с юношеских лет и до последних дней его жизни.
| {65} |
Мне посчастливилось познакомиться с Яковом Борисовичем Зельдовичем (ЯБ — как его любили называть ученики) в самом начале своей научной деятельности, в 1956 г. Выполнив первую научную работу по квазистационарной теории теплового взрыва» я, по рекомендации Н.Н. Семенова, показал ее Якову Борисовичу. Никогда не забуду впечатления, произведенного ЯБ на меня — молодого, начинающего исследователя. Не успел я открыть рот и сформулировать постановку задачи, как ЯБ меня перебил и начал сам рассказывать о моей научной работе, притом именно так, как она и была сделана. Порой создавалось ложное впечатление, будто он изучил работу заранее, готовясь к беседе. Я слушал в недоумении — ведь до этого я со многими пытался обсуждать результаты и не всегда встречал понимание. Закончив, ЯБ поинтересовался, какие у меня есть вопросы, и сказал: «Советую Вам просчитать уравнения численно. Я бы, конечно, это сделал за 2–3 часа, но у Вас уйдет на это несколько дней. Не ленитесь — сделать это надо». Я был так потрясен силой таланта ЯБ, быстротой и четкостью его мышления, что сразу же после встречи стал внимательно изучать все его работы.
Так Яков Борисович ворвался в мою научную жизнь, а его идеи легли в основу наших дальнейших исследований в области горения и макроскопической кинетики. Теория распространения пламени с концентрацией узких зон, анализ пределов горения, стационарная теория зажигания, установление неединственности стационарных режимов проточного реактора — без этих и многих других работ ЯБ трудно было бы представить и наши результаты по тепловой теории процессов горения и взрыва в конденсированных средах и макрокинетике химико-технологических процессов.
Метод узких зон реакции стал рабочим аппаратом каждого теоретика, занимающегося изучением автоволн. Изящная теория распространения пламени, развитая ЯБ совместно с Д. А. Франк-Каменецким, сразу же была отнесена в разряд классических. На заседании Научного совета АН СССР по горению, посвященном 70-летию Зельдовича, мне довелось сделать доклад о развитии этой теории. Готовясь к нему, я отчетливо понял, что все шесть положений теории ЗФК (так ее часто называют по первым буквам фамилий создателей) получили в дальнейших многочисленных исследованиях различных ученых детальные уточнения применительно к разнообразным условиям. И все было сделано на основе идеологии и научного аппарата теории ЗФК. Большое счастье для ученого быть автором такой работы, и Яков Борисович это чувствовал.
В теории горения невозможно выполнить исследование, которое так или иначе не было бы связано с именем Зельдовича. Например, наши работы по безгазовому и фильтрационному горению, автоволновым процессам с широкими зонами реакции, элементарным моделям горения II рода, спиновым волнам и автоколебаниям, взаимодействию стадий в волнах горения и другие, которые, на первый взгляд, непосредственно не связаны с разработками ЯБ, а иногда и противоречат его концепциям (широкие зоны!), на самом деле насквозь пронизаны идеями Зельдовича.
| {66} |
 |
Медаль им. Я. Б. Зельдовича, учрежденная Американским институтом по |
В теории горения Яков Борисович — ГЕГЕМОН, но несмотря на это он понимал, что развитие науки происходит в результате взаимного влияния прямых и обратных связей. И он умел учиться у своих учеников и коллег. Приятно отметить, что такие известные работы ЯБ последнего времени, как нестационарная теория зажигания, ускоренное распространение пламени при высоких начальных температурах, оригинальная модель спинового горения, сделаны под влиянием наших результатов.
Коллектив сотрудников отдела макрокинетики ИХФ АН СССР (ныне — Института структурной макрокинетики РАН) бережно относится к творческому наследию ЯБ, продолжает развивать его идеи и концепции. Многие наши сотрудники были лично знакомы с ЯБ — и это большое счастье для нас. Тот, кто знает о Зельдовиче лишь по литературе, кто не был подвержен обаянию его яркой и сильной личности, тот по-настоящему не прошел школы ЯБ.
В этой заметке то, о чем вспомнилось сразу, когда пришло известие о внезапной смерти Якова Борисовича Зельдовича.
1968 г. Первая встреча с ЯБ у него дома. Приехали втроем с В. Б. Либровичем и Г. Сивашинским. Третий этаж известного многим теоретикам и экспериментаторам дома на Воробьевском шоссе. Дверь открывает ЯБ и быстро проводит в свой домашний кабинет. Скромная деловая обстановка. В середине круглый стол, на нем телефон, много журналов, оттисков, в основном, по астрофизике. На другом маленьком столике проигрыватель и пластинки. В углу на диване лежат гантели. На стене небольшая доска с формулами и несколькими фамилиями.
Чувствую, что Вадим Брониславович волнуется. Мы с Гришей как в тумане. Суем приготовленные графики. Это первые результаты, подтверждающие {67} идею ЯБ о возможности возникновения детонации в неподвижном неравномерно прогретом газе. ЯБ рад, смеется, говорит об «адских машинах» — соседних объемчиках, которые «выстреливают» независимо друг от друга. Мы чувствуем себя все увереннее, начинаем задавать вопросы. ЯБ отвечает быстро, просто, остроумно. Каждый ответ заканчивает своим вопросом: подумайте, как происходит это, почему так... «Озадачивает» нас: может ли неоднородность температуры быть причиной «стука» в двигателях внутреннего сгорания. Просит написать статью и подумать о других технических приложениях. Интересно, что эта идея ЯБ по-настоящему «заработала» совсем недавно — температурно-концентрационные неоднородности все чаще рассматривают как причину случайных взрывов.
Меня, тогда еще студента Физтеха, поразила полная демократичность ЯБ, отсутствие «академизма» и всякой позы, всепоглощающая жажда новой информации, мгновенная реакция.
Работая над книгой «Математическая теория горения и взрыва», ЯБ много раз перепечатывает отдельные куски и все подряд, от начала до конца. Во время каждой встречи передает две-три полностью исписанные школьные тетрадки, подробно комментируя каждую запись. Количество замечаний не уменьшается, скорее, возрастает, причем они каждый раз новые. Последнюю порцию замечаний получаю накануне сдачи рукописи в печать. Говорю ЯБ, что их учесть уже невозможно. «Если учтете хотя бы 20%, будет хорошо. Остальное когда-нибудь».
У ЯБ было какое-то особенное картинно-геометрическое восприятие решения уравнений и их свойств. Казалось, он воспринимал решения как живые осязаемые образы или движущиеся дышащие траектории. Самые сложные теоремы он просто и наглядно интерпретировал. Поэтому многие математики стремились рассказать ему о своих работах.
Теория горения, безусловно, была любимым его детищем. В работе 1979 г., посвященной вопросам гидродинамической устойчивости пламени, он написал: «Языки пламени, характерные для костра, нерегулярные случайные черты процесса свободного горения в атмосфере, полные неизъяснимой прелести, невольно привлекают внимание, надолго приковывают взгляд и мысли. Вспоминаю тяжело больного Шостаковича, с трудом, упрямо идущего к костру около последнего его дома недалеко от Москвы. «Люблю огонь», — говорил он автору...»
Эти слова можно отнести и к самому ЯБ.
Во время одной из встреч ЯБ спросил: «Вы когда-нибудь делали эксперимент? Обязательно сделайте, это крайне полезно для теоретика».
Алма-Ата. 1984 г. Симпозиум по микрокинетике. После удачного доклада одного из своих учеников: «Приятно слушать человека, который действительно понимает то, о чем говорит».
Ташкент. 1986 г. Симпозиум по горению и взрыву. В зале примерно 800 человек — специалистов по химической физике, горению, взрыву. Доклад ЯБ «Теория горения — вчера, сегодня, завтра». В конце доклада пронзительно звучат его слова: «Если кто-нибудь хочет обсудить со мной новые результаты, звоните в Физпроблемы». Это не была красивая фраза. Всегда поражало, что ЯБ находил время встретиться и выслушать каждого, кто этого хотел. {68}
Я и мои коллеги часто пользовались такой возможностью. Достаточно было позвонить и сказать, что ты хочешь рассказать о новой работе, как следовал незамедлительный ответ — встреча назначалась на следующий день или через день. Когда ЯБ не стало, невольно подумалось, кому же звонить завтра? Кому рассказать новое?
ЯБ никогда не делал что-либо формально. Просто так не подписывал ни отзывов, ни рецензий. Статьи, рекомендуемые им в «ДАН», читал тщательно, часто просил что-то исправить, вносил предложения. Не сразу согласился возглавить Совет по горению АН СССР; говорил, что может не хватить времени заниматься этим всерьез. Чтение книг и статей было для него слишком долгим путем к ознакомлению с какой-то областью. Он предпочитал сразу поговорить с кем-то из специалистов по данному вопросу, ценил живое общение. В его кабинете непрерывной чередой сменяли друг друга химфизики и ядерщики, «горелыцики» и астрофизики, механики и математики. Если кто-то приезжал, а он не успевал еще обсудить все необходимое, то, вручая груду журналов, научных и научно-популярных, провожал в соседнюю комнату: «Посидите пока во внукохранилище».
ЯБ жил наукой. Вставал очень рано и, пока не начинались звонки, работал, решал задачи. Часто звонил в шесть-семь утра: «Скажите, решал ли кто-нибудь такую задачу... Дайте ссылки. Отзвоните, я жду» или «Прочел такую-то статью. А что будет, если...».
Его огромная работоспособность поражала. Но это не было какой-то жертвой с его стороны. Он делал то, что любил и без чего не мог жить. Полученный им или кем-либо другим новый результат доставлял ему эстетическое удовольствие. Статьи писал сразу после получения результата, быстро и почти без помарок. С такой же скоростью писал по-английски.
ЯБ любил современную литературу. Часто от него можно было услышать неожиданную реплику. Какой-то научный текст вызывал у него такую ассоциацию: «У нас про Сартра всегда пишут «небезызвестный». Как видите, двойное отрицание может полностью исказить начальный смысл».
Одно из любимых высказываний: «Продавщице газированной воды вы никогда не скажете, без какого сиропа налить вам стакан воды, — без вишневого или без малинового. Никогда не начинайте статью с того, чего вы не делали. Сначала напишите, что сделано, потом обсуждайте все остальное».
Как-то в перерыве заседания в Химфизике кто-то из ленинградцев стал рассказывать ему, что один известный ленинградский ученый, несмотря на уже преклонный возраст, сохраняет удивительную память и свежесть мысли. ЯБ согласился и, улыбаясь, сказал: «Меня поражает не только его свежая голова, но и свежее покрытие его головы». И добавил, помолчав: «То, чего мы все боимся, часто наступает сразу».
«Где в литературе это сделано, кем? Если неопубликовано — все равно сказать, чье». «Хорошо бы не схему: введение-расчет-выводы, а схему: введение-результаты, потом расчет как математическое приложение».
ЯБ мыслил как-то очень по-своему. Это чувствовалось, когда он в разговоре вдруг задумывался, а потом быстро-быстро начинал объяснять. В эти минуты понимать его было трудно. Он, чувствуя, что теряет контакт со слушателем, останавливался и после паузы начинал говорить медленнее, {69} плавно, без перескоков. Кто-то пошутил: «Вспомнил, что не включил транслятор».
Он не любил и не хотел тратить время на все околонаучное. Когда нашу книгу перевели за рубежом, мне позвонили из ВААПа с просьбой организовать встречу ЯБ для торжественного вручения ему руководством этой почтенной организации первого полученного экземпляра. Звоню ЯБ — он, не раздумывая ни секунды, решительно отказывается: «Никаких торжеств! Заберите у них этот экземпляр сами!»
Некоторые замечания ЯБ на полях черновиков и рукописей:
«Стиль анти-мой!»
«Задача книги — показать, что строго существует».
«В книге с моей подписью такого формализма не будет!»
«Экспериментальный материал носит «извиняющийся» характер, приводится в подтверждение теоретических расчетов?!... Теоретические расчеты, как жена Цезаря...»
«Как это учено!»
«Это — отдельным рисунком! Долой грошовую экономию, от которой в мозгах у читателя туманно».
В этой заметке только фрагменты. Может быть, кому-то они напомнят об очень близком и дорогом, кто-то в отдельных эпизодах разглядит общее.
Каждому из тех, кому посчастливилось работать с ЯБ, его уникальный талант открывался с какой-то своей стороны. У каждого свои воспоминания. Но всех нас объединяет светлая память о выдающемся ученом и человеке.
В жизни нашего поколения Яков Борисович занимает особенное место. Мы пришли в институт, когда и теория горения, и теория детонации Зельдовича были уже не только сформулированы, но и получили блестящее экспериментальное подтверждение, когда ЯБ уже формально не имел к ИХФ прямого отношения. Поначалу для нас ЯБ был легендой из славного времени становления химической физики 30-х и 40-х годов. Нас поражали и увлекали единство взглядов на сложный мир явлений, кажущаяся простота и очевидность представлений и подходов к пониманию и описанию разнообразных процессов.
Одним из главных достоинств теории горения Зельдовича было то, что наряду с объяснением громадного числа явлений и закономерностей она открыла широчайшие возможности дальнейшего познания горения и процессов, сопутствующих ему, так как в ней был сформулирован методологический подход и создан соответствующий аппарат. И в этом русле в последующие десятилетия развивались основные работы по теории и механизму горения как в ИХФ в Москве, так и после создания филиала ИХФ, в Черноголовке.
Весьма плодотворны были работы, посвященные развитию теплофизики и устойчивости горения, нестационарным процессам. Мы же сосредоточили свое внимание на изучении химии горения, физико-химических процессов, протекающих при горении, в первую очередь — в конденсированных системах. На базе многочисленных экспериментов, в сочетании с использованием {70} аппарата тепловой теории горения Зельдовича, удалось понять и количественно описать скорость и закономерности горения индивидуальных веществ и систем на их основе. Количественное исследование особенностей реальной кинетики химического превращения, роли неравновесных процессов, а также плавления, диспергирования и сублимации и т.п. позволило органически включить новые представления в рамки существующей теории, что привело к ее дальнейшему развитию, с одной стороны, и созданию методов регулирования закономерностей горения, обнаружению и теоретическому обоснованию фронтальной полимеризации, новой прикладной области — катализа горения конденсированных систем и т.д., с другой.
Несмотря на то, что ЯБ не работал в ИХФ АН СССР с 40-х годов, наше общение с ним было зачастую больше, чем со многими сотрудниками института из соседних отделов или лабораторий. Встречались, спорили, обсуждали, консультировались и просто учились у него на конференциях и семинарах, в гостиничных номерах и дома у ЯБ около знаменитой доски в столовой. Так родилась теория гомогенно-гетерогенных реакций, протекающих с образованием твердых продуктов (теория сажеобразования), которая базировалась на известной работе ЯБ по теории конденсации. В результате таких бесед появились совершенно новые аспекты теории поступательной релаксации и особенностей реакции на ударном фронте. Большое влияние ЯБ оказал на развитие наших работ по «сверхадиабатическим процессам», чем он живо интересовался в последнее время. Он указал на ряд путей возможного использования таких эффектов, особенно в энергетике, что, как мне кажется, найдет свою практическую реализацию в ближайшем будущем.
Громадно влияние на многие из нас личности ЯБ, его взглядов, поведения, юмора, но это отдельная тема.
Во время моего доклада по теории и механизму горения конденсированных веществ на Менделеевском съезде в Баку председательствующий на этом заседании Яков Борисович в самом начале выступления остановил меня и попросил «выбросить из дальнейшего повествования Зельдовича и его теорию». Единственно правильным ответом, как мне кажется и сегодня, было: «Если отбросить теорию Зельдовича, то от наших работ по горению мало что останется».
В последние годы создателя теории горения и детонации преследовало беспокойство о состоянии столь ценимой им отрасли знания. Особенно часто в связи с этим Яков Борисович сравнивал себя с популярным персонажем из фильма «Замороженный». Как известно, в нем человек, пребывающий долгое время в анабиозном замороженном состоянии, после разморозки начинал рьяно ухаживать за своей собственной внучкой. Якову Борисовичу очень хотелось видеть новые идеи и молодые силы, способные продвинуть дальше когда-то высказанные им идеи и гипотезы. До самого последнего времени он не хотел соглашаться с тем, что якобы он все сделал и потому другим исследователям мало что осталось. Особенно удивляло его иногда догматическое толкование развитых им еще много лет назад гипотез и взглядов. Для {71}
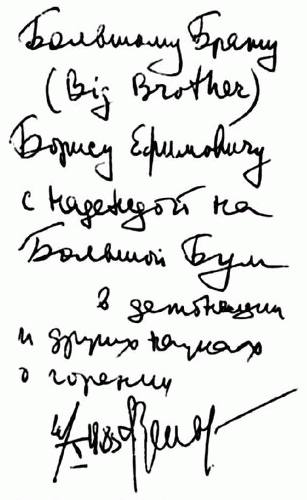 |
Надпись Я. Б. Зельдовича на |
В последнее время в своих выступлениях и обсуждениях Зельдович неоднократно призывал к поиску условий существования режимов и механизмов горения со скоростями, лежащими в промежутке между скоростью детонации (свыше 1,5–2 км/с) и скоростью дефлаграции (менее 10 м/с). Он никогда не считал, что между детонацией и дефлаграцией лежит непреодолимый раздел и никакие другие режимы невозможны. Им указан ряд систем, где возможны быстрые режимы взрывного превращения, ведомые не теплопередачей и не ударными волнами, а другими сочетаниями химических и газодинамических процессов. Некоторые из высказанных в этом плане суждений имеют принципиальное значение для понимания ряда необъяснимых, порой катастрофических взрывных явлений.
Как человек, хорошо знающий газодинамику, Зельдович в последние годы непрерывно призывал к анализу воздействия на движение реагирующей среды не только простого тепловыделения в химической реакции. По его мнению, всесторонний анализ газодинамики реагирующих систем с учетом многих мыслимых воздействий (через трение, теплообмен, массоподвод и массоот-вод), ставший возможным благодаря развитию ЭВМ, мог существенно дополнить, а иногда и изменить ранее полученные интуитивные представления. Однако при этом Зельдович твердо стоял на позициях здравого смысла и призывал многократно перепроверять и сопоставлять с опытом результаты численного счета, чтобы работа на ЭВМ не становилась замкнутой на себя бесплодной деятельностью, когда в результате предпринятых усилий получается заранее ясный вывод.
Весьма поучительным было умение Якова Борисовича отказаться от представлений, оказавшихся не совсем точными. При этом он настаивал» чтобы признание заблуждений было публичным, т. е. удобным способом доведено до научной общественности (печатно, устно и т.д.).
В заключение приведу случай, который мне рассказал И. С. Заслонко. Во время своей командировки в ФРГ он должен был встретиться с ученым, с которым никогда не был знаком. Не зная, как им найти друг друга, И. С. стал держать на виду книгу Зельдовича (последнее академическое {72} издание). К нему тут же подошел встречающий и сказал, что книга ЯБ послужила паролем для встречи. Этот символический случай говорит о многом.
В Академию наук СССР
Я. Б. Зельдович несомненно является одним из талантливейших физиков-теоретиков СССР. Особенно следует отметить большой цикл его работ в области теоретического исследования процессов горения. Эти работы являются лучшими и важнейшими в этой области не только в СССР, но и во всей мировой литературе.
Характерно для работ Зельдовича — широкое использование им, наряду с методами чобычнойь теоретической физики, также и гидродинамики. Такое параллельное владение обеими областями — крайне редкое среди физиков-теоретиков — является характерной и очень ценной особенностью Зельдовича, делающей для него доступными вопросы, недоступные ни для гидродинамиков, ни для физиков-теоретиков «обычного» типа.
Следует отметить, что научная деятельность Зельдовича еще далеко не достигла своей высшей точки. Наоборот, его работы показывают непрекращающееся научное развитие.
6/VI 46 г. |
Л.Д.Ландау |
Одной характерной особенностью научного творчества Я. Б. Зельдовича является чрезвычайно широкий диапазон вопросов, над которыми он работал и работает. Он является автором значительного числа как экспериментальных, так и теоретических работ, посвященных явлениям адсорбции, химической кинетики, теории горения и детонации, газодинамики и ядерной физики.
Второй особенностью является умение находить сравнительно простые приближенные методы для решения сложных задач.
Третьей особенностью является высокий теоретический уровень, на котором проведено решение разнообразных вопросов, ранее вообще не поддававшихся количественной трактовке.
Наконец, четвертой, важной особенностью творчества Я. Б. Зельдовича является исключительное умение направлять силу своего строгого и точного теоретического анализа на решение вопросов, имеющих важнейшее практическое значение.
...Я.Б. Зельдович является ученым именно такого типа, в которых нуждается Академия наук. Его избрание в число действительных членов Академии по физико-математическому отделению несомненно будет {73} способствовать дальнейшему улучшению и оживлению работы отделения и направлению работы отделения на наиболее актуальные и важные для нашей Родины темы.
1953 г. |
И. В. Курчатов |
Считаю необходимым доложить ЦК КПСС о недостатках в подготовке к выборам в Академию наук СССР.
...В Отделении физико-математических наук АН СССР сложилась неправильная обстановка, когда ряд беспартийных ученых, в первую очередь академики Арцимович Л. А., Алиханов А. И., Ландау Л, Д., Леонтович М. А. и Тамм И. Е., игнорируют мнение партийных организаций и пытаются противопоставить партийному влиянию свой высокий научный авторитет, в особенности при решении кадровых вопросов, которые всегда были и являются неотъемлемым делом партии. Эти ученые и примыкающие к ним лица создают в Отделении обстановку групповщины и необъективности и влияют на решение кадровых вопросов, исходя из своих групповых и личных интересов.
Наиболее активна группа, возглавляемая академиком Ландау, который является откровенным националистом (т. Ландау по национальности еврей) и, по данным КГБ, проявляет антисоветские настроения.
Примечание. Автор записки шел на сознательную ложь, когда писал фразы типа: «...Ландау... является откровенным националистом...», ибо он превосходно был осведомлен о подлинной позиции в этом вопросе самого Ландау. В секретной справке КГБ, составленной годом раньше по запросу все того же отдела науки, записана прямая, не подцензурная речь ученого: «Я интернационалист, но меня называют космополитом» (см. Исторический архив. 1993. №3. С. 156).
Предложения по перечню открываемых вакансий и списки рекомендуемых кандидатов для избрания в АН СССР президиум АН СССР составлял без привлечения партийных организаций институтов АН СССР и без консультаций с ними даже по отдельным спорным предложениям, а исключительно на основе зачастую субъективных пожеланий академиков. Перечень вакансий по Отделению физико-математических наук был составлен так, что избрание в АН СССР ряда достойных кандидатов из числа крупных ученых-коммунистов оказалось весьма затруднено.
В самое последнее время академик И. В. Курчатов вопреки мнению Отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС добился открытия дополнительной вакансии для избрания в академики по физике члена-корреспондента АН СССР Я. Зельдовича. Несмотря на мое огромное уважение к И. В. Курчатову, как крупнейшему советскому ученому и организатору научных исследований, я считаю его предложение неправильным. Я. Б. Зельдович, {74} беспартийный, еврей, специалист по теоретической физике, имеет выдающиеся достижения в области оборонной техники, за которые он уже достойно награжден трижды званием Героя Социалистического Труда. В открытых областях физики каких-либо выдающихся открытий и результатов не имеет. По своей общественной деятельности близок к группировке академика Ландау, известен своим национализмом, нигилистическим отношением к методологическим проблемам и необъективным отношением ко многим советским ученым.
Избрание т. Зельдовича в академики окажется большим усилением группы академика Ландау, противопоставляющей себя партийному влиянию, и резко ухудшит и без того тяжелую обстановку в Отделении физико-математических наук АН СССР. Характерно, что группа академика Ландау, ведущая упорную борьбу за кадры в АН СССР, готовится оказать максимальную поддержку т. Зельдовичу. Ученик академика Ландау член-корреспондент АН СССР Померанчук уже снял свою кандидатуру в академики в целях облегчить баллотирование т. Зельдовича.
Особую активность в подготовке к выборам в АН СССР проявляла теплотехническая лаборатория АН СССР (директор академик Алиханов А. И.), в которой, как известно, во время борьбы партии за преодоление последствий культа личности имели место антипартийные и антисоветские выступления, не получившие отпора со стороны коллектива. Теплотехническая лаборатория выдвинула для избрания академиками и членами-корреспондентами АН СССР по Отделению физико-математических наук значительно большее число кандидатов, чем количество открытых вакансий, в том числе беспартийных ученых т.т. Зельдовича, Померанчука, Алиханьяна, Шальникова, Берестецкого, Ахиезера. Лифшица, Кронрода, Адельсона-Вельского и других, примыкающих к группам академиков Ландау и Алиханова.
Я считаю, что в обстановке борьбы за кадры, ведущейся в Отделении физико-математических наук АН СССР при пассивной позиции президиума АН СССР, необходимо решительное вмешательство ЦК КПСС в ход подготовки к выборам в АН СССР. Считаю, что не следует поддерживать избрание в академики по физике т.т. Зельдовича и Обреимова. Для обеспечения избрания в АН СССР ученых-коммунистов было бы желательно провести у секретарей ЦК КПСС совещание коммунистов — членов Отделения физико-математических наук АН СССР с участием т.т. Несмеянова, Топчиева и Лаврентьева.
Инструктор Отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС |
(подпись) |
30/V 58 г.
Примечания редакторов:
1. ЯБ не получил поддержку экспертной комиссии, но он и И. В. Обреимов были избраны академиками на Общем собрании АН СССР, проходившем 18–20 июня 1958 г.
2. Автор записки (Инструктор Отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС) был избран в 1972 г. членом корреспондентом АН СССР, а в 2000 г. стал академиком РАН.
| {75} |
Я не сразу смогла решиться писать о моем отце, Якове Борисовиче Зельдовиче, поверить, что имею на это право и это может быть интересно кому-то. И здесь мне очень важна была поддержка моих братьев, сестер и вдовы Якова Борисовича Иннессы Юрьевны Черняховской. В особенности благодарна моей сестре О. Я. Зельдович: отдельные куски просто написаны ее рукой.
Отца ЯБ, моего деда Бориса Наумовича Зельдовича, адвоката по профессии, почти не помню. Он рано умер (1943 г.). Знаю только, что ЯБ очень уважал его. Зато мать ЯБ — Анна Петровна Кивелиович, переводчица с французского, маленькая и энергичная, острая и остроумнейшая, беспокойная наша бабушка всегда присутствовала в жизни нашей семьи, хотя с 1944 по 1975 гг. жила в Ленинграде, а мы в Москве. Ее крылатые фразы до сих пор служат стандартными шутками в семье. Например, о нашем доме: «Зачем нам ходить в театр, когда у нас дома цирк», или об отце: «Когда дурак идет по рынку, базар радуется» и т.д. Ее приезды в Москву, переворачивавшие весь дом, вносили свой особый колорит. Ее частые посылки к нам с самым невероятным и непредсказуемым содержимым стоили больших хлопот весьма занятым коллегам и друзьям ЯБ, едущим из Ленинграда в Москву. Особенно доставалось любимому всеми нами маминому брату Борису Павловичу Константинову.
О довоенной жизни папы и мамы в Ленинграде у нас сохранились лишь легенды: о том, как ЯБ вошел в большую дружную семью братьев-сестер Константиновых, о велосипедных прогулках, гимнастике, теннисе и волейболе в Тярлеве под Ленинградом; о том, как однажды папа и мама оба случайно оказались на работе одновременно с забинтованными руками (отец после ожога жидким азотом, мама — кислотой).
Потом рождение дочки, моей сестры Оли, через год — мое, появление в семье няни «тети Шуры» (А. Н. Лавриновой, прошедшей с нами всю жизнь). Хлопоты, забота, но и диктат Анны Петровны, от которого отец сбегал, захватив жену, маленьких дочерей и няню в шумную квартиру Константиновых. Потом следовали гостинцы от Анны Петровны, и возвращение на улицу Марата. И такая кочевая жизнь с колясками и горшками постоянно. А было отцу тогда 26 лет, он был доктором наук и уже многое успел сделать в науке, и мама тоже была кандидатом наук. Потом война, эвакуация в Казань вместе с Институтом химфизики, трудное для большой семьи время (тогда уже тяжело больной отец, мать, сестра, жена, двое маленьких детей и тетя Шура) и напряженнейшая работа. Представление о жизни в Казани может дать фотография отца тех времен. В 1944 г. — переезд в Москву на Воробьевы горы, в институтский «химфизический» дом, в котором ЯБ прожил с 1944 по 1987 г. и с которым у отца и всех нас связано так много счастливых лет. Здесь же в 1944 г. родился мой брат Бориска, который всегда был объектом особой нежности, гордости, заботы и тревоги отца я всех нас. {76}
В детстве и всю последующую жизнь нашим добрым гением, так же как, я уверена, и добрым гением отца, была наша мама Варвара Павловна Константинова. Она была человеком удивительной тактичности, мягкости и уважения ко всем, с кем соприкасалась, включая нас (и в детстве, и во взрослом возрасте), зятьев, внуков. Вокруг себя она создавала атмосферу добра, тепла и высокого духа, лишенного мелочности и меркантильности. Так было всюду: и дома, и на ее работе в Институте кристаллографии. При всем том она была очень сильным и мужественным человеком, и жизнь ее (в частности, жизнь с отцом) никак нельзя назвать легкой. Одна из стандартных шуток отца: «Варя бросает на меня тень порядочности» или уже серьезная его фраза: «Варя — человек без недостатков».
Вероятно, благодаря маме в доме был культ отца, и именно мама охраняла и сохранила нашу любовь к нему. «Папа занимается» — магические слова, которые прекращали любую возню и шум. Но в повседневной жизни главной была мама, она определяла все и при этом очень интенсивно работала. Атмосфера в доме была очень дружной, теплой для всех нас и даже для многих друзей и приятелей. В нашей большой семье отцом часто повторялась шутка: «Вот вы станете большими и будете возить родителей в колясочке». И сейчас очень горько, что нам не пришлось «повозить колясочку», высказать любовь и преданность родителям, все получив и мало успев отдать.
В дошкольные и младшие школьные годы помню затеваемые отцом подвижные и очень азартные (для нас — детей) игры, всегда с элементами юмора, спорта, соревнования: «кенгуру идет обедать» или «цоп» с теннисным мячом, упражнения «бублики-баранки» для осанки, скакалки, плаванье наперегонки, лыжи со скатыванием с горок через ворота из лыжных палок и много, много других. Позже бывали соревнования, кто быстрее и внимательнее «проглатывает» большие книги, вроде книг «Два капитана», «Таинственный остров», «Война и мир», «Сага о Форсайтах» или позже Мопассана, Булгакова. Выспрашивались мельчайшие подробности про самых что ни на есть второстепенных героев. И тут, конечно, побеждали «чтецы» Оля и Боря, я всегда была самой «отсталой». Сам отец читал очень много, быстро и внимательно (не зря же он мог нас экзаменовать). Читал в оригинале книги и на немецком, французском, позже — на английском языках. Родители, особенно мама, знали наизусть много стихов (мама хорошо знала и любила Пушкина, Жуковского, отец — Пастернака), не в пример нам с нашим кургузым гуманитарным образованием. Любой достаточно краткий отдых отца всегда был активным. Это были походы в горы или на байдарке, или жизнь на море с далекими заплывами, когда они там отдыхали с мамой.
Позже (с 1947 по 1963 гг.) отец много жил на «объекте» (в «Энске»), работая над атомной проблемой, а мы с мамой оставались в Москве. Маму не взяли туда работать. Возможно, это было связано с тем, что ее старший брат радиофизик А. П. Константинов был арестован и расстрелян в 1938 г., или с тем, что в 1927 г. сестра Катя уехала с мужем за границу и с тех пор жила в Америке.
В свои краткие наезды в Москву отец пытался учить нас или проверять наши с сестрой успехи по математике, не имея ни малейшего терпения, ни {77} снисхождения к нам. На доске задавалась задача. Потом он кричал «Махай!», и мгновенно должен был выдаваться ответ. После задержки тут же следовало «Дуры!», и из нас немедленно начинали капать слезы, которые в семье именовались «жемчужные». Обучение на том и кончалось. Следует сказать, что с Бориской у отца уже было больше терпения и педагогического такта. По первоначальным намерениям именно для Бори он написал свою «Высшую математику для начинающих».
Много лет спустя при общении с внуками (а оно было всегда содержательным, всегда касалось или простой школьной задачи, или возможного опыта, или объяснения сложной научной проблемы) отец проявлял себя уже как очень терпеливый и деликатный педагог, порой защищавший наших детей от родительских нападок. Он всегда говорил: «Дети должны знать, что их любят», и внуки расковывались с дедом и бабушкой, расцветали в атмосфере любви.
Но тогда, в нашем детстве, мы побаивались и стеснялись отца, его неординарности, непредсказуемости, раскованности его и его коллег и, наконец, полной ортогональности к тому, что было в школе. В частности, кошмаром была одна мысль о возможности (чисто теоретической, правда) его появления на родительском собрании в школе (к счастью, все это брала на себя мама). Иногда казалось, что ему не хватало на нас времени при непосредственном контакте. Зато письма отца из «Энска», которые каждый из нас хранил, читал и перечитывал, давали очень много счастья, тепла, уверенности в его к нам любви. Последнее письмо от папы, как свет от погасшей звезды, Оля получила через неделю после его смерти; в нем ксерокс статьи по двойному β-распаду, которым она занимается. Это очень типично для папы.
Послевоенные годы, когда отец работал на объекте, были отнюдь не простыми. Позже отец рассказывал, что многих физиков (например, очень любимого им Д. А. Франк-Каменецкого) работа над атомным проектом спасла от преследования. Но при всем том, до первого испытания атомной бомбы за каждым из ученых стоял двойник, намеченный для «замены» в случае неудачи. А потом ко многим, в том числе и к отцу, были приставлены неотлучно следующие за ними вооруженные охранники, так называемые «секретари». В свете этого меня очень удивило прозвучавшее в одной из заметок про ЯБ осуждение отца за отказы в просьбах в обход инструкций перевозить письма с «объекта» в Москву. Думаю, опасаться надо было как раз людей, которые брались за подобную миссию, или большей части самих просителей — таково было время. И отца это время касалось достаточно близко.
Младшая дочь отца, Аннушка, родилась на Колыме (1951 г.). С ее матерью O.K. Ширяевой отец познакомился в Арзамасе–16, где она после освобождения из заключения продолжала работать на стройках города (по образованию она была архитектором, по ее проектам построены многие здания города). Когда она ответила отказом на предложение КГБ «сотрудничать» с ними, ее тут же выслали на Колыму, где они с дочерью чудом уцелели.
Конечно, не я, а только участники событий имеют право говорить о проблемах того периода. Тем не менее хочу затронуть вопрос, который часто {78} задают не жившие в то время люди, — о моральной ответственности ученых за создание советского атомного оружия. Для всех, живших в то послевоенное время — время противостояния нашей страны и США, уже применившей атомное оружие в Хиросиме и Нагасаки, — существовала лишь единственная моральная ответственность — как можно скорее восстановить равновесие сил в мире. Об этом, как и обо всей обстановке на объекте достаточно хорошо рассказано в мемуарах А. Д. Сахарова («Знамя». 1990, № 10–12; 1991, №1–5), повести В. А. Цукермана и 3. М. Азарх («Звезда». 1990, №9–11), статье Л. Б. Альтшулера («Литературная газета», 06.06.1990). Переоценка и раздумья, видимо, начались позже. Во всяком случае, отец, сокрушаясь, говорил, что если бы Сталин не имел ядерной бомбы, он не развязал бы войны в Корее. Возможно, это было одной из причин того, что отец раньше всех из ведущих участников атомного проекта покинул систему Минсредмаша (на 6 лет раньше, чем А. Д. Сахарова «ушли» из этой системы за его трактат) и полностью переключился на науку, которую никогда не бросал.
Хотя время тогда не было ни легким, ни смешным, нас — детей — родители оберегали и не посвящали в тревоги и напряженность тех лет. Может быть, поэтому, а возможно, из-за неиссякаемого, заразительного оптимизма и бодрости отца и золотого маминого характера сейчас в памяти остались лишь веселые эпизоды тех лет, например, связанные с «секретарями». Много случалось смешных историй из-за служебного рвения «секретарей» быть всегда с отцом, в частности, во время его отпусков. Бывало, он уплывал от них слишком далеко в море. Был случай, когда воры умудрились украсть на пляже часы как у охранника, так и у охраняемого. Или случай, когда один из «секретатрей» забыл свой пистолет в гостинице и тайно от ведомства отпрашивался у отца «слетать» за пистолетом. Однажды отец со мной и Бориской на одной байдарке и двоюродный брат отца, очень любимый нами Александр Григорьевич Зельдович, с детьми на другой байдарке попали в нешуточный шторм на Плещеевом озере, оставив ничего не подозревающего «секретаря» сторожить наш палаточный лагерь на берегу. Но в какой-то момент несвобода настолько допекла отца, что он пошел к психиатру, чтобы доказать, что больше не может выдержать этой фактической слежки. Тот не знал, как быть: и отказать отцу неудобно, а с другой стороны — ведомство-то какое! В конце концов написал отцу диагноз: «контактен и многоречив». Не знаю, что помогло, обращение к врачу или просьбы хлопотавшего за отца Юлия Борисовича Харитона (друга, соратника, учителя, бесконечно уважаемого отцом человека), но «секретарей» сняли.
С 1963 г. отец снова постоянно живет в Москве и работает в Институте прикладной математики. Я помню, что вставая в 7 утра, как и все в доме, заставала его уже давно сидящим с тетрадью на диване в столовой: работал он обычно с 5 часов (днем были люди, семинары, доклады, лекции...). И свидетельства его титанического труда — тетради, обычные школьные общие или тонкие, исписанные его аккуратным почерком — все эти тетради сохранились. Каждая надписана на обложке: число, год, проблема или вопрос. По ним можно восстановить, как он учился по книгам и журнальным статьям {79} (а учился он, входил в новые для себя области науки, всю свою жизнь), как ставил проблемы и делал выкладки, как писал окончательные варианты научных и популярных статей, монографий, как готовился к лекциям.
При просмотре тетрадей поражает высочайшая организованность его ума. То, что у других потребовало бы не одного и не двух черновиков, он писал с ходу и практически без последующих исправлений. И хотя ЯБ прекрасно делал доклады и очень часто читал лекции, он всегда тщательно к ним готовился. Подтверждением служат бесчисленные тетрадки — его лекционные заготовки. Сохранилась и папина разметка оглавлений научных журналов (он всегда выписывал тьму журналов). Читая новые номера, ставил против названий статей имена сотрудников, учеников или своих детей (кому эта статья могла быть интересна) и обязательно приносил показать ее.
Почти все из шестерых детей ЯБ и теперь уже многочисленных внуков пошли в физику — так велико было его влияние. Он всегда был в курсе тех областей физики, которыми каждый из нас занимался. Его интерес и понимание почти всех областей физики, химии были уникальными. Часто он с жаром агитировал нас «переметнуться» на задачи, которые казались ему самыми интересными в данный момент, не осознавая, что лишь ему (отнюдь не всем, тем более в эксперименте) доступны одновременно все области физики и каждому нужен пусть малый, но свой интерес в работе. Сам не признавая ни выходных, ни праздников, ни отпусков, папа с нетерпением относился к тому, что в детях казалось ему топтанием на месте. Олиному сыну было всего полгода, когда ЯБ начал теребить ее, только что окончившую МГУ: «Ольга, теряешь квалификацию»; и Оля вышла на работу с ночными сменами на ускорителе при маленьком ребенке. До сих пор не понимаю, как у нее тогда хватило сил. Про мой машинный счет, глядя на фортрановские программы, папа, полушутя, говорил: «Гуга, не будь такой серьезной. Кончай писать свои шизофренические крючочки, займись тем-то и тем-то».
Много можно рассказывать об отце, но, наверное, лучше меня расскажут другие. Мне же хочется сейчас защитить отца, хотя я понимаю, что это чисто субъективное чувство и в действительности он не нуждается ни в чьей защите. Просто мне было обидно узнать, что один из коллег моего отца, во все времена партийный и «выездной», теперь снисходительно говорит о нем: «Ну, ЯБ был слишком осторожным». А ведь всегда беспартийный и всегда «невыездной» отец так и не дожил до перестройки. Жесткая самодисциплина, выработанная ЯБ за годы секретной работы, — это не признак несмелости или излишней законопослушности. Отец не боялся помогать другим, когда он реально мог помочь. Приведу два примера. Первый: когда в 1938 г. в Ленинграде, сразу после ареста брата, О. И. Лейпунский был уволен из ИХФ, тогда именно ЯБ зачислил Лейпунского к себе в докторантуру. Второй пример: в 1957 году, узнав об аресте отца Баренблата, ЯБ, надев звезды, пошел в суд. На том этапе его присутствие помогло — суд был отложен. Потом по просьбе ЯБ этим делом занялся А. Д. Сахаров, у которого тогда было больше шансов достучаться до Н. С. Хрущева.
Отец, конечно, был реалистом относительно Системы и своих возможностей в ней. Разумеется, в 60-е годы и позже через наш дом прошел весь {80} самиздат того времени (в основном» благодаря Олиной подруге). В этом не было никакой доблести» был только жгучий интерес, т.к. репрессированных хватало и в семье, и вокруг в жизни. Но отец ориентировал нас, позже внуков, на получение профессии и не одобрял публичного трепа о политик, который мог дорого стоить. Что касается неучастия в диссидентстве, то это был его сознательный выбор. Это была не только верность науке, несовместимой с другой деятельностью, но и продуманное убеждение, что нельзя корежить судьбы тех, с кем связан, в особенности, молодежи, которой предстояло жить, работать, растить детей. Его позиция не мешала ему с типичным для него юмором шутить по поводу обязательных тогда общественных дисциплин в наших ВУЗ-ax. Сам не сдав ни единого экзамена по этим предметам, он, смеясь, говорил: «А вы скажите, что вы за Советскую Власть, и вам поставят пятерку». Совет его, однако, не срабатывал. Помню, ЯБ пришлось помочь одному из своих внуков через знакомого философа преодолеть аспирантский экзамен по философии. Тогда же ЯБ сформулировал свой принцип оценки успеваемости — по разности отметок по естественным и общественным наукам.
Если же говорить серьезно, то отец оставался непреклонным всегда, когда речь шла об истине, о принципиальных научных вещах. Так, он вышел из редколлегии «УФН», когда было принято решение о публикации ошибочной статьи. Один из немногих академиков, он не подписал ни одного письма с осуждением А. Д. Сахарова, несмотря на жесткий нажим сверху. С Андреем Дмитриевичем его связывала долгая дружба в годы работы в Арзамасе–16, и он очень высоко оценивал выдающийся научный потенциал АД. В 1980 г., когда упоминание имени Сахарова было запрещено, при издании перевода книги С. Вайнберга «Первые три минуты» ЯБ отстоял ссылку на работу Сахарова в своем дополнении к книге. В ответ на давление цензоров он занял четкую позицию: без этой ссылки он снимает полностью свое дополнение и титул редактора перевода.
ЯБ действительно не много позволял себе публичных шуток в адрес Системы, зная, что подвел бы не только себя, но и людей, с ним работающих. Демонстрации против режима ЯБ считал менее осмысленными (в годы его жизни так оно и было), чем реальную помощь и поддержку людей, живущих в этом режиме, в частности, помощь способным людям в приобщении их к большой науке. Очень часто к ЯБ обращались за помощью, и он делал все, что было в его силах. Он помогал решить проблемы с работой или вузом несправедливо обиженным, способным (часто еврейским) мальчикам. Хлопотал о медицинской помощи родным и близким многих коллег и знакомых (благодаря его усилиям впервые в стране был разрешен вывоз ребенка за границу для операции на сердце, и ребенок был спасен). Он помогал сотрудникам с получением квартир. Помогал «пропихивать» заграничные командировки многих коллег (при том, что сам был выпущен на Запад лишь два раза в последний год своей жизни при сыпавшихся на него сотнями приглашений).
Уверена, многие сохранили в сердце благодарность отцу за помощь в жизни, и еще большее число людей признательны ему за поддержку в науке. {81} Но некоторые, к счастью, очень редкие из людей, принимавших его дружбу, находили повод осуждать отца. Я не знаю причин: была ли это зависть к его положению и наградам, или невозможность допустить, что кто-то может быть значительней по результату в науке. Их снобизм и недоброжелательность больно ранили отца. Они не ведали и даже не желали ведать, чем платит ЯБ за результаты. Они не могли представить себе масштабов взваленной им на себя нагрузки, выдержать которую мог только он с данными от Бога здоровьем, энергией и с выработанной им самим жесткой внутренней самодисциплиной. Именно она не позволяла ему болеть более одного дня даже при температуре 39,5 или давлении 200 на 100.
Я не говорю сейчас об открытых врагах ЯБ, вроде тех, кто в ИХФ в 1947 г. заставлял его и его большого друга О. И. Лейпунского каяться в космополитизме, или тех, кто позднее устраивал публичный погром его «Высшей математики для начинающих». Речь о тех, повторяю, редких «почти единомышленниках», к которым вполне подходил бытовавший тогда термин «диссиденты под себя». Приведу лишь один случай, стоивший отцу много здоровья — прочтение мемуаров И. С. Шкловского. Коснусь лишь одного приведенного там эпизода о, как там сказано, «неблаговидном поступке» отца, где ЯБ приписывается осознанное принуждение к работе в субботу верующего еврея профессора М. М. Агреста. Трудно придумать более нелепый (но отнюдь не безобидный!) вымысел об отце, который сам не зная в работе выходных, не мог представить возможность каких-то ограничений у других. Из сохранившейся у нас копии письма отца к М. М. Агресту (текст его приводится) по поводу этой истории видно, насколько больно ранили его эти, как и другие, обвинения Шкловского. Также больно было ему и за многих достойных людей, к которым Шкловский был столь же несправедлив.
Были и случаи разрыва отца с некоторыми сотрудниками. Вряд ли это шло на пользу делу. Я, естественно, не знаю всех причин конфликтов. Но одной из них были, по-моему, противоречия между самостоятельными решениями ЯБ, отвечающими его убеждениям, и ожиданиями этих сотрудников, желавших других решений и некоторым образом привыкших видеть в ЯБ золотую рыбку. Возможно, я не права, и тогда пусть простят мне мои суждения.
Об огорчениях отца я никогда не слышала от него самого, узнавала лишь косвенно: от мамы, после ее смерти — от второй жены отца Анжелики Яковлевны Васильевой (человека незаурядного и в чем-то трагической судьбы), после смерти АЯВ — от последней жены, Инночки Черняховской, уважаемой и любимой всеми детьми ЯБ. Что касается отца, то несмотря ни на какие огорчения (по внешним ли поводам или связанные с периодами недовольства собой или раскаянием), он был счастливейшим человеком на свете, на всю жизнь восхищенным миром, его устройством, красотой физических теорий, человеком, охваченным радостью жизни вообще. Возможно, это звучит слишком громко и шаблонно, но это так и было, проявляясь во всем — в отношении к науке, спорту, литературе, театру, хорошеньким женщинам, детям.
Я не пытаюсь сделать из отца икону. Он был достаточно сложным, но очень искренним. И сполна платил за все черты своего характера, в частности и за те, которые мы не могли принять в нем. {82}
В последние годы он с удовольствием ощущал себя патриархом большого семейства. Любил по очереди навещать детей, любоваться новыми маленькими внуками, правнуками. У него с Инной, всегда сопровождавшей его во всех поездках в ущерб собственным друзьям, был даже специальный термин — «хождение по внукам». Он гордился каждым из своих детей: Лениными невероятными прожектами и подвигами, в частности, на экваторе; Аннушкиной большой дружной семьей и спортивными успехами; Сашиной красотой, музыкальностью и победами; Бориными открытиями и наукой, вдумчивостью его детей; добротой, теплотой и уютом вокруг Ольги, унаследовавшей больше всех черт маминого золотого характера. Гордился женой Инной, ее профессией иммунолога, из-за которой, правда, на нее свалилось устройство к врачам всех многочисленных папиных потомков.
Также гордился ЯБ и своими учениками. Недавно Оля и я независимо и по разным поводам перечитывали «Автобиографическое послесловие» в двухтомнике избранных трудов Якова Борисовича Зельдовича1. Нас еще раз поразили его доброжелательность к коллегам, тщательное подчеркивание достоинств учеников, радость за их успехи и абсолютно честная, безо всякой рисовки или тщеславия оценка собственного вклада в науку.
Ниже приведены некоторые, показавшиеся мне интересными, письма. Первые два из них — письмо ЯБ к М.М. Агресту и письмо Агреста в редакцию журнала «Химия и жизнь». Последний документ — рецензия академика А. И. Лурье (рецензия на рецензию), которую после смерти Лурье его сын прислал Якову Борисовичу. Она проливает свет на методы, которыми велась борьба против отцовской книги «Высшая математика для начинающих», и на отношение к ним нормального порядочного человека.
Заканчивая, я хочу выразить глубокую благодарность мою, И.Ю. Черняховской, моих братьев и сестер всем, кто дал согласие участвовать в этом сборнике и написал столько теплого о ЯБ, всем, кто помогал выпустить эту книгу и найти средства на это. В особенности мы благодарны Семену Соломоновичу Герштейну, Рашиду Алиевичу Сюняеву, Наталии Дмитриевне Морозовой, без которых этот сборник не мог бы увидеть свет. Спасибо всем, кто помнит Я. Б. Зельдовича. Большая радость для нас — что таких людей очень много.
Дорогой Матес Менделевич!
Мы очень давно не виделись. Работа по космологии все больше подводит меня к вопросам мировоззренческим, которые интересно было бы обсудить с Вами. Наверное, 19/V1 или скорее 26/VI появятся в «За рубежом» статья Риса и мои к ней комментарии; в апреле или в марте была статья в «УФН». Пишите мне, если будут соображения: Воробьевское шоссе (ул. Косыгина) д. 2–6, кв. 47.
Не скрою, однако, что сегодня взялся за перо по совсем другому, очень мне неприятному поводу. {83}
Шкловский написал мемуары, которые ходят по рукам в машинописном виде. Одна глава посвящена Вам. Он пишет о сочетании физматзнаний и глубокой религиозности, включающей и соблюдение установлений, которые Вам присущи. С Ваших слов он рассказывает, как в тех краях, где мы были, Вы по субботам приходили на работу, разговаривали с людьми по научным вопросам, но не брали в руки перо или карандаш. Совесть Ваша была чиста, вместе с тем не возникали конфликты с администрацией.
Дальше (с Ваших слов также) рассказывается, как в одну из суббот я позвал Вас к себе, указал на ошибку или непонятное место в одной из формул и попросил ответить. Для ответа Вам надо было что-то написать. Но Вы этого сделать не могли. Изображается дело так, что я понимал Вашу ситуацию и несмотря на это не отпускал Вас. «Два часа длилась эта отвратительная пытка», — примерно в таком патетическом тоне пишет Шкловский, изображая меня садистом, человеком, который сознательно издевается над нижестоящим, над чужими религиозными убеждениями.
Вот исходный пункт моего письма. Я начисто забыл отдельные конкретные встречи с Вами — происходили ли они у меня в кабинете или у Вас, в понедельник или в субботу и т. п. Думаю, что Вы достаточно знаете меня: я абсолютный атеист, все дни недели для меня абсолютно одинаковы. Вполне допускаю, что мог позвать Вас в субботу. Вместе с тем, я уважаю чувства религиозные и другие взгляды, даже если не разделяю их.
Вопрос мой не только о фактической стороне дела — был ли у нас деловой разговор в субботу. Важнее психологическая сторона — если разговор был, то были ли у Вас основания думать, что я понимал Вашу ситуацию и нарочно издевался и мучил Вас? Так ли Вы описали это Шкловскому? Повторяю, сама мысль о том, что в субботу нельзя работать, и о том, как Вы решаете эту коллизию и раньше и теперь, бесконечно далеки от меня. Религиозности во мне не было ни в детстве, ни в юности, ни позже.
И еще: почему Вы мне не сказали о своей коллизии? Ну перенесли бы мы разговор на понедельник. Что Вы — не доверяли мне?
Я вспоминаю, как хорошо и, казалось, душевно принимали Вы и Ваша семья нас в Сухуми, как мы были рады встрече на крымской дороге. Что мне сейчас думать? Что все это время у Вас за пазухой был камень, в груди была обида за ту субботу? Мне Вы ее не высказали — мы могли бы все выяснить.
Я еще раз повторяю свой вопрос: почему Вы говорили Шкловскому обо мне то, что не говорили мне, не говорили другим нашим общим знакомым — Франк-Каменецкому? Честно ли это?
Думаю, что религия представляет не только соблюдение форм, но и глубокую честность. Поэтому, если другие аргументы для Вас недостаточно весомы, то во имя Ваших религиозных убеждений я настаиваю на том, чтобы Вы дали мне объяснения и по этому эпизоду, и по {84} последующим нашим встречам, и с оценкой литературно-клеветнической деятельности Шкловского или, по крайней мере, этой части мемуаров, касающейся меня и Вас.
Его мемуары порочат и Ландау, и многих других, мертвых и живых, евреев и русских, верующих и безбожников, но об этом в другой раз. Сегодня я должен защитить свое имя.
Я вправе знать истину.
Я. Зельдович. 14/VI–81
В редакцию журнала «Химия и жизнь»
В начале 80-х годов была достигнута договоренность с И. С. Шкловским, что его очерк «Наш советский раввин» не будет опубликован без моего согласия. После кончины автора в 1985 г. такая же договоренность была у меня с его вдовой А. Д. Ульяницкой.
Крайне сожалею, что редакция газеты «НГ» опубликовала этот очерк без моего согласия в № 13 от 29 января 1992 г. Об этом я написал в редакцию. 10.01.92 г. в беседе с Вашим сотрудником В. И. Рабиновичем я дал согласие на публикацию очерка «Наш советский раввин» при том лишь условии, что в соответствующем месте будет напечатано следующее подстрочное замечание:
«Об этом эпизоде я рассказал И. С. Шкловскому в феврале 1951 г. Но я никогда не считал, что в то время Я. Б. Зельдовичу было известно, что по религиозным причинам я не пишу по субботам и что он тогда умышленно заставлял меня нарушить эту традицию.
Я. Б. Зельдович требовал от меня изложить математические выкладки на доске, надеясь быстро обнаружить предполагаемую им ошибку. Во время долго длившейся беседы я все искал пути, чтобы устно убедить его в правильности моих результатов.
Уступив его требованиям, я до сих пор корю себя, почему не открыл ему причину моего нежелания пользоваться доской, в результате чего не выдержал выпавшего на мою долю испытания».
13.02.92. |
Агрест М.М. |
В редакцию журнала «Прикладная математика и механика» Главному редактору члену-корреспонденту АН СССР
Л. А. Галину
О рецензии неизвестного автора на книгу Я. Б. Зельдовича «Высшая математика для начинающих».
В работах, посылаемых для рецензирования членам редколлегии журнала, всегда указываются фамилии авторов. Непонятно и, думаю, {85} недопустимо отступление от этого правила. Не означает ли это, что рецензия неизвестного автора предназначена к опубликованию «от редакции»? В редколлегии журнала состою с «доисторических времен» (когда ПММ издавалась с 1929 г. Ленинградским механическим обществом)» но подобного рода прецедентов не помню, их, пожалуй, не было.
Перелистав книгу Я. Б. Зельдовича, удивился разнообразию содержания, богатству интересных и нетривиальных прикладных задач. В годы моей юности существовали аналогичные книги Лоренца, Н. Б. Делоне, Нернста и Шенфлисса; в них также без претензий на математическую строгость и рафинированный язык пояснялись понятия производной и интеграла и приводились их некоторые применения к задачам механики, физики и других естественных наук. Продолжая эту традицию, Я. Б. Зельдович также адресует свою книгу любознательному читателю, осознавшему невозможность продвинуться в понимании не только законов природы, но и многих повседневных явлений, не владея хотя бы первоначальными знаниями математического анализа. Разница заключается в том, что после протекших более чем полвека подобные книги адресуются не десяти, скажем, тысячам, а не одному миллиону читателей. В соответствии с этим возрастает ответственность автора книги. Это могло бы послужить оправданием опубликования непредвзятой и хорошо обоснованной рецензии на книгу Я. Б. Зельдовича в ПММ.
Гнев направлен на курсив на стр. 60: «Отношение Δz/Δt стремится к определенному пределу при стремлении Δt к нулю». Но умалчивается, что этой фразе предшествуют обстоятельные пояснения. Не отмечено, что на стр. 255 сказано: «мы, не оговаривая это специально, рассматривали гладкие кривые», а на стр. 257: «мы намеренно для упрощения изложения не отмечали каждый раз, что определенное значение независимо от способа стремления к нулю ( слева или справа) существует лишь для точек, в которых кривая — гладкая».
Можно обрушить на Я. Б. Зельдовича всяческие обвинения за вы-шеприведенный ( выхваченный из текста) курсив, но можно сказать и иначе: «Я. Б. Зельдович проявил педагогический такт, постепенно подготовляя начинающего читателя к уточнению понятий от менее к более сложным». Хорошо известно, что понятие производной — одно из самых трудных в анализе, и изощренный математик найдет недостаток в любом определении, но Кельвин говорил: «Оставим это математикам, производная — это скорость».
Изложение основ механики в гл. VI книги Я. Б. Зельдовича своеобразно. Анонимный автор прав, утверждая, что использование понятий о материальной точке и законов движения упростило бы постановку задачи. Еще проще он мог сказать: Я. Б. Зельдовичу следовало бы отправить читателя к любому учебнику механики. По-видимому, это и заставило Я. Б. Зельдовича отказаться от следования рекомендуемым ему уважаемым канонам.
От меня требуется дать рецензию на рецензию, а отнюдь не на книгу Я. Б. Зельдовича. В заключительных строках рецензии говорится, что {86} стиль книги «развязный и непрофессиональный». Упрек в «развязности», конечно, следует немедленно вернуть анониму, а в его «профессионализме» не приходится сомневаться.
Чтение рецензии вызывает желание вымыть руки.
Считаю необходимым рецензию, если опубликовать, то, конечно, с ответом Я. Б. Зельдовича в том же выпуске журнала. Естественно, если публиковать, то не анонимно. Но, по моему убеждению, лучше не публиковать — рискованно натаскать грязь в журнал, заслуживающий международного распространения.
А. И. Лурье
| {87} |
Мне очень повезло в жизни: в течение примерно 25 лет я работал с фантастически интересным человеком и совершенно исключительным ученым — Яковом Борисовичем Зельдовичем. Широта его научных интересов поистине невероятная: катализ, теория горения и детонации, адсорбция и наряду с этим — элементарные частицы и ядерная физика, астрофизика и космология, теория относительности и квантовая механика. И всюду он был силен, универсален. Когда приблизилось 70-летие Якова Борисовича, я остро почувствовал, что необходимо выпустить сборник его научных трудов, потому что такого разнообразия работ, которое он создал за свою жизнь, ни у кого не было. Президент АН СССР А. П. Александров горячо поддержал мою идею, попросив быть редактором издания. Была создана довольно большая редакционная коллегия, поскольку пришлось иметь дело с работами, относящимися к огромному кругу вопросов. Вышедшее к юбилею Зельдовича двухтомное издание поражает каждого невероятно широким кругом затронутых проблем. Недаром, когда Якова Борисовича где-то в 70-х годах на конференции в Будапеште представили крупнейшему английскому физику С. Хокингу, тот сказал, что теперь, наконец, убедился, что это действительно один человек, а не разновидность Бурбаки.
История появления Зельдовича в Институте химической физики в Ленинграде в 1931 г. уже многими и довольно детально описана, поэтому я не буду на ней подробно останавливаться. Напомню лишь, что в вузе он не учился — не хотел терять время. Первые его работы относились к адсорбции, катализу, {88} детонации и горению. Видно было, как он растет буквально на глазах. Придя в институт 17-летним юношей, он через короткое время проявил себя самостоятельным исследователем. Шло, например, заседание Ученого совета института, и этот совсем еще молодой человек вдруг выступает с совершенно неожиданной и очень интересной идеей. Повторяю, это была поистине уникальная личность, с самого начала отличавшаяся независимостью суждений. Он необычайно быстро разбирался в довольно сложных вещах; свободно, на равных чувствовал себя среди профессионалов, давно занимающихся определенной областью исследований. Признание специалистов пришло к нему очень быстро. Насколько я помню, он получил одну из первых Сталинских премий за работы по горению и детонации.
Вместе мы начали работать в 1939 г. Тогда появилась первая статья о наблюдении деления ядер урана, авторами которой были О. Ган и Ф. Штрас-сман, а затем работа Л. Мейтнер и О. Фриша, объяснивших это явление делением ядер урана под действием нейтронов. Прочитав об этом, мы поняли, что в данном случае возможны не обычные цепные реакции, а ядерные, которые могли бы быть и разветвленными, т.е. приводящими к ядерному взрыву с выделением огромной энергии. Дело в том, что в нашем институте много занимались вопросами, связанными с цепными реакциями. Директором института Н. Н. Семеновым была построена теория разветвленных цепных химических реакций. Поэтому нам было довольно легко перекинуть мостик к ядерным разветвленным цепным реакциям, и мы договорились заняться этим вплотную.
Поначалу, поскольку в наши официальные научные планы это не входило (я занимался взрывчатыми веществами, организовал соответствующую лабораторию, у Якова Борисовича была своя утвержденная тема по адсорбции), то мы решили днем вести плановые работы, а по окончании рабочего дня заниматься исследованием возможности осуществления цепных ядерных реакций. Но довольно скоро мы поняли, что имеем дело с проблемой настолько важной, что необходимо сосредоточиться только на ней. Результатами мы делились с И. В. Курчатовым, который в Ленинградском физико-техническом институте, расположенном поблизости, руководил одной из лабораторий ядерной физики. Естественно, в курсе наших работ был и Н.Н. Семенов; он быстро оценил несомненную важность новой проблемы, ее возможный выход на ядерные взрывы и, не дожидаясь, пока мы оформим все в виде статей, направил письмо в Научно-техническое управление Министерства нефтяной промышленности (в то время Институт химической физики был в его подчинении), поручив одному из сотрудников, Ф. И. Дубовицкому, отвезти его и постараться «протолкнуть» как можно дальше. В письме он обосновывал необходимость широко развивать эти работы.
В 1939–1940 гг. мы с Яковом Борисовичем опубликовали три статьи в «Журнале экспериментальной и теоретической физики», а также обзорную статью в «УФН» и послали туда же вторую обзорную статью. В тот момент мы уже работали вместе с И. И. Гуревичем. Нам удалось установить, что если с помощью обычных взрывчатых веществ произвести обжатие 10 кг урана–235 до более высокой плотности! то возникнет разветвленная ядерная реакция, а при достаточно сильном обжатии — ядерный взрыв. Оценка критической {89} массы (10 кг) вошла во вторую обзорную статью в «УФН», но оказалась довольно грубой, поскольку расчеты велись достаточно примитивно — в нашем распоряжении не было ЭВМ, да и экспериментальных данных не хватало. В результате, мы ошиблись примерно в пять раз (правильная цифра — 55 кг). Но несмотря на эту погрешность, мы все равно были полны энтузиазма и, без сомнения, продолжили бы свои исследования по урановой проблеме, если бы не начавшаяся жестокая война с фашистской Германией. Тем временем в июле 1940 г. в журнале «Physical Review» появилось письмо в редакцию Тернера, дававшее основания надеяться, что химический элемент с атомным номером 94 и атомным весом 239 тоже может дать цепную ядерную реакцию. Один из способов его получения — воздействие нейтронов на уран. Впоследствии он был назван плутонием. Его критическая масса оказалась несколько больше 10 кг. (Пока наша статья находилась в редакции, в июне 1941 г. началась война, «ЖЭТФ» и «УФН» временно перестали выходить, а потом эту работу и вовсе засекретили. В итоге статья, с кратким описанием ее истории, вышла в 1983 г. в номере «УФН», посвященном 80-летию со дня рождения И. В. Курчатова.)
Итак, началась война, и всем нам пришлось заняться работами, непосредственно относящимися к созданию новых видов обычного оружия. (Да и лабораторию взрывчатых веществ в свое время я организовал, наблюдая развивающийся в Германии фашизм и понимая, к чему все это может привести.) Я был прикомандирован к одному из институтов Наркомата боеприпасов (НИИ–6), Яков Борисович начал заниматься порохами; потом мы работали совместно над некоторыми образцами оружия. В результате, на какой-то период мы перестали заниматься вопросами осуществления ядерного взрыва. (А в 1942 г. было написано известное письмо Г. Н. Флерова Сталину.)
За это время наша разведка получила очень важные сведения. В Германии до войны жил молодой талантливый физик-теоретик Клаус Фукс; он был коммунистом; опасаясь преследований, он в 1934 г. эмигрировал в Англию, где через некоторое время получил английское подданство. Там он продолжил свои теоретические исследования. Когда после открытия деления урана в Англии начали заниматься вопросами создания ядерного оружия, один из руководителей проекта физик Пайерлс пригласил Фукса принять в нем участие. Возмущенный тем, что все делалось в глубокой тайне от Советского Союза, союзника Англии в войне против фашистской Германии, хотя между этими двумя странами была договоренность об обмене информацией оборонного характера, Фукс пошел в советское посольство в Лондоне и сообщил о ведущихся работах. Но, видимо, информация не «пошла», застряла — из посольства она попала в Министерство обороны, там, судя по всему, не смог ли оценить ее, а потому, видимо, дальше не передали. Тем временем группа Пайерлса была приглашена для совместной работы по урановой проблеме в Америку.
Существует много книг с описанием работ по этому проекту. Напомню лишь, что также участвовал в нем венгерский эмигрант, физик Л. Сциллард. Именно он уговорил А. Эйнштейна написать президенту Рузвельту письмо, в котором обосновывалась настоятельная необходимость развертывания исследований в этом направлении. В результате чего через некоторое время {90} была организована Лос-Аламосская лаборатория в юго-восточной части штата Нью-Мехико. Помещения одного из стадионов использовали для строительства первого атомного реактора для получения плутония.
Советская разведка сумела связаться с Фуксом в США, и он начал систематически передавать крайне ценную информацию о ходе работ там. Позднее, благодаря разведке» нами были получены сведения по принципу имплозии и, в конце 1945 г., схема первой испытанной в США атомной бомбы.
В 1943 г. наше правительство приняло решение начать работы по созданию ядерного оружия. По рекомендации А.Ф. Иоффе общее научное руководство было поручено И. В. Курчатову. Зная наши с Зельдовичем работы, Курчатов предложил мне возглавить исследования по созданию конструкции ядерного заряда. Зельдович активно включился в комплекс работ. Некоторое время он, как и я, продолжал работы и по традиционному оружию.
Информация Фукса охватывала широкий круг вопросов; из касавшихся нашей работы в ней содержалось достаточно подробное описание составного заряда из взрывчатых веществ. В нем создавалась сходящаяся сферическая детонационная волна, обжимавшая находящуюся в центре сферу из плутония. Было решено отложить изобретательскую деятельность и действовать в соответствии с полученной информацией. Конечно, мы не могли быть уверены в абсолютной надежности этих данных, в отсутствии дезинформации. Чтобы с уверенностью проводить испытания, требовалось провернуть огромный объем экспериментальной и расчетной работы, но люди были готовы работать день и ночь, чтобы все получилось надежно.
Яков Борисович тщательно подбирал коллектив теоретиков. Особенно удачной оказалась одна из первых кандидатур — Николай Александрович Дмитриев, ученик блестящего математика академика А. Н. Колмогорова. Прошло два-три года, и иногда, после какого-либо острого обсуждения на «высоком уровне» Яков Борисович говорил: «Пойду-ка я все-таки посоветуюсь с Колей».
Незадолго до наших испытаний, в начале 1949 г., двум группам физиков было поручено измерить скорость продуктов взрыва применяемого нами взрывчатого вещества. Знать ее было необходимо для расчета развивающегося при взрыве давления, действующего обжимающим образом. По данным первой группы, которой руководил В. А. Цукерман, получалось, что все в порядке, а вот из результатов второй группы, которую возглавил Е. К. Завойский (очень хороший физик, открывший электронный парамагнитный резонанс, но имевший меньший опыт работы со взрывчатыми веществами), получалось, что ядерного взрыва быть не должно. Помню, по этому поводу приехал Б. Л. Ванников — бывший нарком боеприпасов. Кстати, незадолго до войны он был арестован, но когда война началась, вспомнили, что он крупный специалист, а посему вернули его на работу, назначив затем начальником 1-го Главного управления при Совете Министров, которое и решало все вопросы создания ядерного оружия. Так вот, Ванников был весьма встревожен. Мы посадили обе группы вместе, чтобы они разобрались сами. Оказалось, что в эксперименте Завойского была поставлена недостаточно легкая пластинка для измерения давления, и когда сделали все, как следует, то результаты обеих групп совпали. Но до этого у нас было «небольшое» волнение. Эта {91} история еще раз показала, что нельзя просто взять и использовать чужой опыт (тот же американский), необходимо все самим понять, просчитать, прочувствовать.
Поскольку необходимо было проводить довольно мощные взрывы, а осуществлять их под Москвой было невозможно, то стали искать место подальше, но все же не очень далеко от Москвы. Дело было после войны, многие заводы боеприпасов закрывались или переводились на мирную продукцию, мы ездили на некоторые из них. Так как предполагалось взрывать около двух тонн взрывчатых веществ, требовалось достаточно уединенное место. Помог Ванников. По его совету мы поехали в маленький монастырский поселок Сэров, где находился небольшой завод по производству новых типов боеприпасов для минометов. К заводскому поселку примыкал обширный лесной заповедник. Нам выделили в нем достаточно большую площадь, где можно было разместить испытательные полигоны и небольшой завод для изготовления прецизионных деталей из взрывчатых веществ. Директором завода назначили специалиста, бывшего во время войны главным инженером одного из предприятий по производству взрывчатых веществ, с ним у меня был давний контакт. Он с удовольствием согласился — ведь это было совсем новое применение взрывчатых веществ.
Началось строительство, и поскольку военный завод был небольшим, то потребовались дополнительные помещения под производство, лаборатории и жилье. Никто тогда еще до конца не осознавал масштабов проекта, поэтому, когда я сказал, что нужно построить трехэтажное лабораторное здание, меня сначала не поняли, уверяя, что вполне можно обойтись двумя этажами. Но вот наш поселок и производство стали быстро разрастаться, для работ надо было набирать новых людей. Кое-кого я взял из числа тех, с кем был связан во время войны, среди них — молодые ребята-дипломники, защищавшие свои выпускные проекты на оборонных предприятиях. Яков Борисович набирал теоретиков, параллельно Курчатов сформировал две группы московских физиков: под руководством Л. Д. Ландау из Института физических проблем, созданного П. Л. Капицей, и группу И.Е. Тамма из Физического института им. П.Н. Лебедева, в которую вошел А.Д. Сахаров. Первую атомную бомбу делали без их участия, и уже тогда возникли некоторые наработки, легшие затем в основу водородной бомбы. Когда я недавно просматривал старые отчеты Сахарова в ФИАНе, то натолкнулся на один из них (отчет группы Тамма, вышедший в январе 1949 г.). В нем Сахаров пишет, что развивает здесь идеи, высказанные ранее Зельдовичем. Имелось в виду начало работ — «заготовки» к водородной бомбе, сделанные еще в 1948 г.
В 1949 г. мы провели первые испытания отечественной атомной бомбы, сделанной по американскому образцу, но наши ученые уже работали над более совершенными и изящными конструкциями, которые и были испытаны через непродолжительное время. Применение испытанной схемы для нашей первой бомбы исключало излишний риск. В то время было важно как можно скорее показать миру, что мы тоже владеем ядерным оружием. Но уже тогда нам было ясно, что это только начало и созданное не есть «последнее слово» техники.
В дальнейшем продолжались работы по совершенствованию ядерных зарядов и созданию водородных. Сахаров и Зельдович (а у каждого была
| {92} |
 |
группа молодых теоретиков) уже работали над развитием идеи водородной бомбы. В 1951 г. американцы сделали несколько физических опытов, в которых с помощью атомной бомбы удавалось «поджечь» малые количества жидкой смеси дейтерия с тритием. А в ноябре 1952 г. они первыми произвели термоядерный взрыв мощностью около 10 Мт. Но это был взрыв огромного, с двухэтажный дом, наземного сооружения, которое бомбой, конечно, не было. Это был только промежуточный факт на пути к ее созданию. А первый в мире реальный водородный заряд мощностью около 400 кт, уже готовый к применению в виде транспортабельной бомбы и без каких-либо жидких, низкотемпературных компонентов, был испытан в Советском Союзе в августе 1953 г. Это испытание стало выдающимся приоритетным достижением наших физиков, и прежде всего А. Д. Сахарова и В. Л. Гинзбурга. И с этим испытанием не могут отождествляться американские опыты с малым количеством трития и дейтерия, относящиеся к 1951 г., как и взрыв 1952 г., для которого использовалось термоядерное горючее в сжиженном состоянии при температуре, близкой к абсолютному нулю.
В «Военно-историческом журнале» утверждалось, что с помощью Фукса мы, якобы, получили от американцев все сведения по водородной бомбе. Г. Йорк же в своей известной книге «Советники (Оппенгеймер, Теллер и супербомба)» подробно описывает, как все было на самом деле. Г. Бете, заведовавший в Лос-Аламосе теоретическим отделом, отмечал, что с октября 1950 г. по январь 1951 г. Теллер — отец американской водородной бомбы — был в полном отчаянии: польский математик Улам, принимавший участие в проекте, нашел у него серьезные ошибки, сводившие на нет все полученные {93} к тому моменту результаты. А Фукс уже сидел в это время в тюрьме и передать ничего не мог. Так что утверждение о заимствовании совершенно несостоятельно.
В последнее время на Западе появились утверждения, что когда американцы произвели свой первый термоядерный взрыв, нам, вероятно, удалось поймать вторичные продукты взрыва, содержащиеся в атмосферных осадках, и, проанализировав их, воссоздать всю схему процесса. На самом же деле мы в принципе не могли этого сделать, так как тогда улавливание радиоактивных осколков и их анализ были у нас недостаточно разработаны. Таким образом, и это утверждение не имеет под собой никаких оснований.
Над водородной бомбой параллельно работали две группы — Сахарова и Зельдовича, причем исследования велись в тесном контакте, резкого разделения не было. Как-то во время очередного приезда на «объект» Тамм пожаловался мне, что настолько погружен сейчас в наши дела, что стал отрываться от современной физики. И тут же отметил, что Зельдович умудряется каким-то образом быть полностью в курсе всех научных новостей — должно быть, работает по ночам, так как днем занят основной работой. Как ему это удается? Я объяснил это просто — он был уникальной личностью, совершенно невероятной. (Если посмотреть двухтомник избранных трудов Зельдовича, в котором дан список его статей, сразу видно, сколько выдающихся работ он сделал.)
Но вот в определенный момент он принял решение уйти с «объекта». Я видел, что он полон идей, здесь же ему становилось тесно. С другой стороны, уже выросли сильные ученики, так что особой трагедии в случае его ухода не произошло бы. Я не мог возражать, не имел морального права, просто грешно было бы его удерживать.
И вот еще о чем хочу сказать в заключение. В последнее время довольно часто противопоставляют Сахарова и Зельдовича, и не как ученых, а по их отношению к общественной деятельности. Яков Борисович был бесконечно увлечен физикой, поглощен ею. С другой стороны, он прекрасно понимал, что в той обстановке особого толку от «политики» не будет, а вот мешать, отвлекать от науки — она безусловно будет. В общем, Зельдович выбрал свой путь и в жизни, и в науке.
Для меня годы, проведенные в тесном контакте с ним, дружба, которая соединяла нас долгие годы, останутся годами огромного счастья. Решая какую-нибудь сложную проблему, мучаясь над нею, в глубине души я всегда знал, что есть Зельдович. Стоило прийти к нему, и он всегда находил решение любого самого сложного вопроса, причем делалось это еще и красиво, изящно. Ярко помню один случай. Приехавший к нам Курчатов проводил совещание по одному острому научно-техническому вопросу. В обсуждении энергично участвовал Яков Борисович. После длительной дискуссии пришли, наконец, к соглашению, и народ разошелся. Остались мы с Курчатовым. Некоторое время он сидел молча, а затем вздохнул, ударил кулаком о ладонь и сказал: «Да, все-таки Яшка гений!». Это был совершенно фантастический интеллект. Я преклоняюсь перед ним — как ученым и человеком.
| {94} |
8 марта 2004 года мы отмечаем 90-летие со дня рождения Я. Б. Зельдовича, этого выдающегося ученого XX столетия, внесшего огромный вклад в развитие фундаментальной теоретической физики. Но мы, сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, чтим этого блестящего ученого и как основателя теоретической школы, заложившей в нашей стране основы науки о ядерном оружии.
Выдающаяся роль, которую сыграл Я. 5. Зельдович в отечественном атомном проекте, в первую очередь в создании отечественного ядерного оружия, была предопределена уже его ранними довоенными теоретическими работами 1939–1940 годов, выполненными совместно с Ю.Б. Харитоном и посвященными проблеме осуществления цепной реакции деления.
В этих работах были заложены основы физики реакторов и описаны первые подходы к решению проблемы взрывного освобождения ядерной энергии. В 1940 году Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон опубликовали статью «Кинетика цепного распада урана», в которой, в частности, было сформулировано основное условие для осуществления атомного взрыва — достижение «весьма быстрого и глубокого перехода в сверхкритическую область». В этой статье содержалось и упоминание о принципе атомной бомбы, получившем название «принцип пушечного сближения». Соображения Я. Б. Зельдовича и Ю.Б. Харитона стимулировали поиск практических путей реализации взрывного освобождения атомной энергии.
В феврале 1943 года И. В. Курчатов возглавил научное руководство советским атомным проектом. Для осуществления возложенной на него грандиозной миссии он привлек лучших ученых страны. В числе первых ученых, намеченных им для участия в проекте, было названо и имя Я. Б. Зельдовича. Весной 1943 года И. В. Курчатову, на основе анализа разведывательных материалов и довоенных публикаций, стала принципиально ясной новая возможность конструирования атомной бомбы, основанная на использовании в бомбе в качестве ядерного горючего не ура на–235, а нового активного делящегося материала — плутония–239. Отметив в письме на имя М. Г. Первухина от 22 марта 1943 года, что «перспективы этого направления необычайно увлекательны», И. В. Курчатов далее писал: «Бомба будет сделана, следовательно, из «неземного» материала, исчезнувшего на нашей планете...Разобранные необычайные возможности, конечно, во многом еще не обоснованы. Их реализация мыслима лишь в том случае, если сэкономить (плутоний–239 действительно аналогичен урану–235) и если, кроме того, так или иначе может быть пущен в ход «урановый котел». Кроме того, развитая схема нуждается в проведении количественного учета всех деталей процесса. Эта последняя работа в ближайшее время будет мной поручена проф. Я. Б. Зельдовичу». И уже с начала 1944 года Я. Б. Зельдович, будучи заведующим лабораторией Института химической физики АН СССР (в котором он начал свой трудовой путь и работал с мая 1931 года), по совместительству начал работать в возглавлявшейся И. В. Курчатовым Лаборатории №2 АН СССР (теперь Российский научный центр «Курчатовский институт»). Сохранился {95} подписанный И. В. Курчатовым набросок плана Лаборатории №2 на 1944 год, в котором содержался пункт: «Теоретическая разработка вопросов осуществления бомбы и котла (01.01.44 — 01.01.45) — Зельдович, Померанчук, Гуревич».
Нужно отметить, что в военное время Я. Б. Зельдович активно занимался также вопросами горения и детонации взрывчатых веществ. В 1943 году он получил за эти работы свою первую Сталинскую премию.
В конце 1945 года Я. Б. Зельдович был привлечен и к рассмотрению возможности создания водородной бомбы. 17 декабря 1945 года на заседании Технического Совета Специального Комитета был заслушан доклад Я. Б. Зельдовича «О возможности возбуждения реакций в легких ядрах». Доклад был основан на материалах представленного к этому заседанию отчета И.И.Гуревича, Я. Б. Зельдовича, И.Я.Померанчука и Ю. Б. Харитона «Использование ядерной энергии легких элементов». Этот отчет явился первым отечественным исследованием по проблеме создания водородной бомбы.
В отчете рассматривалась схема бомбы, получившая в дальнейшем название «труба» и являвшаяся аналогом американского проекта водородной бомбы «классический супер».
С мая 1945 года работы по проблеме создания атомной бомбы, проводившиеся в Лаборатории №2, координировал Ю.Б. Харитон, который был назначен научным руководителем этих работ. Постановлением СМ СССР от
9 апреля 1946 года сектор №6 Лаборатории №2 АН СССР, занимавшийся исследованиями по проблеме создания атомной бомбы, был реорганизован в Конструкторское бюро №11 при Лаборатории №2 АН СССР. Местом размещения КБ–11 был выбран поселок Саров. Главным конструктором КБ–11 был назначен Ю.Б. Харитон. В 1950 году КБ–11 получило статус самостоятельного института, независимого от Лаборатории №2 АН СССР. Конструкторское бюро № 11 стало базой, на которой вырос наш нынешний институт — «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».
Указанное постановление СМ СССР возлагало проведение теоретических работ по проблеме создания атомной бомбы по заданиям Лаборатории №2 АН СССР (имелись в виду задания КБ–11) на Институт химической физики АН СССР, руководимый Н.Н.Семеновым. Я. Б. Зельдович возглавил теоретический отдел ИХФ, занимавшийся ядерно-оружейными вопросами. Однако он продолжал непосредственное сотрудничество с Лабораторией №2 по теоретическим вопросам создания «уран-графитового реактора».
25 декабря 1946 года произошло знаменательное событие в истории советского атомного проекта — в Лаборатории №2 был пущен первый в СССР, он же первый в Европе и Азии, ядерный реактор. Постановлениями СМ СССР, принятыми в феврале и марте 1947 года, участники работ по созданию и пуску первого ядерного реактора были поощрены денежными премиями. Среди премированных был и Я. Б. Зельдович, получивший премию в 50 тыс. рублей.
Широта научных интересов Я. Б. Зельдовича делала его незаменимым специалистом в самых разных областях деятельности по осуществлению отечественного атомного проекта. Постановлениями СМ СССР от 9 апреля 1946 года и 17 декабря 1948 года Я. Б. Зельдович был утвержден членом секции {96} Научно-технического совета Первого главного управления по вопросам охраны труда.
В 1946 году Я. Б. Зельдович был избран членом-корреспондентом АН СССР. Академиком АН СССР он стал в 1958 году.
К тематике отдела Я. Б. Зельдовича в ИХФ с 1946 года относились не только вопросы, связанные с разработкой атомных бомб (теория сходящейся детонационной волны, расчеты размножения нейтронов, расчеты вероятности преждевременного взрыва), но и оценки возможности создания водородной бомбы, в которой ядерные реакции на легких ядрах инициировались бы атомным взрывом. На заседании Научно-технического совета Первого главного управления при СМ СССР 3 ноября 1947 года был заслушан доклад Я. Б. Зельдовича «О новых источниках тепла». К этому заседанию НТС был представлен отчет С.П.Дьякова, Я. Б. Зельдовича и А. С. Компанейца «К вопросу об использовании внутриатомной энергии легких элементов». Интересно, что в отчете рассматривалась не только возможность осуществления ядерной детонации в среде из дейтерия, но и в среде из дейтерида лития. Возможность ядерной детонации в среде из дейтерия не исключалась, однако был сделан вывод о невозможности осуществления ядерной детонации в дейтериде лития. Как бы то ни было, мы можем констатировать, что первое в нашей стране рассмотрение возможности использования в качестве ядерного горючего в термоядерной бомбе дейтерида лития относится к 1947 году и связано с именем Я. Б. Зельдовича.
По мере развертывания работ КБ–11 Ю. Б. Харитон все более ощущал необходимость организации теоретических работ по тематике КБ–11 непосредственно в КБ–11. В ноябре 1947 года Ю. Б. Харитон подобрал и кандидата на должность начальника теоретической группы КБ–11. Это был проф. О.М. Тодес, бывший коллега Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича по ИХФ. Но события стали развиваться иначе, и в феврале 1948 года вышло постановление СМ СССР, которое предписывало направить в КБ–11 для проведения теоретических работ, связанных с заданиями, выполняемыми КБ–11, сроком на один год группу сотрудников теоретического отдела ИХФ во главе с Я. Б. Зельдовичем.
Приказом начальника КБ–11 П.М. Зернова Я. Б. Зельдович был с 20 февраля 1948 года назначен начальником теоретического отдела КБ–11 с окладом 6000 рублей и с выплатой 75% надбавки. С этой даты начинается история теоретических отделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Сохранилось письмо уполномоченного СМ СССР при ИХФ АН СССР А. Н. Бабкина от 14 апреля 1948 года, проливающее свет на причины перехода Я. Б. Зельдовича из ИХФ в КБ–11. Из письма следует, что в конце 1947 — начале 1948 года в ИХФ сложилась атмосфера недоверия со стороны режимных органов к ряду сотрудников, обусловленная их анкетными данными, и был поставлен вопрос о правомерности допуска этих сотрудников к специальным работам. Относительно Я. Б. Зельдовича А.Н.Бабкин писал: «Зельдович Яков Борисович — 1914 года рождения. Родители его матери и сестра живут в Париже. Сестра отца — Фрумкина Р. Н. в 1936 году арестована. В настоящее время Зельдович категорически отказывается работать в институте и добился зачисления в штат Лаборатории Ю. Харитона». {97} Так благодаря режимным органам в стенах нашего института стал работать замечательный ученый.
Я. Б. Зельдович прибыл в КБ–11 в период, когда в КБ шла интенсивная разработка, затем и подготовка к испытанию первой отечественной атомной бомбы РДС–1, и вместе с сотрудниками своего отдела принял активное участие в расчетно-теоретическом обосновании РДС–1.
За участие в работах по созданию РДС–1, которая была успешно испытана 12 августа 1949 года, Я. Б. Зельдович был удостоен звания Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени.
Еще до испытания РДС–1 в КБ–11 начались работы над усовершенствованными конструкциями атомных бомб. Первые образцы таких бомб — бомбы РДС–2 и РДС–3 были испытаны 24 сентября и 18 октября 1951 года. За участие в расчетно-теоретическом обосновании этих бомб Я. Б. Зельдович снова получил Сталинскую премию I степени.
Работы по выяснению возможности создания усовершенствованных по сравнению с РДС–1 атомных бомб были начаты в КБ–11 в соответствии с постановлениями СМ СССР, принятыми в июне 1948 года, вскоре после прибытия Я. Б. Зельдовича в КБ–11. Эти постановления предусматривали проведение соответствующих экспериментальных и расчетно-теоретических работ по заданиям Ю.Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича. Эти же постановления обязывали КБ–11 с участием Физического института АН СССР провести по заданиям Ю.Б. Харитона и Я.Б. Зельдовича исследования возможности создания водородной бомбы. В ФИАН СССР с этой целью была организована теоретическая группа под руководством И. Е. Тамма, в состав которой, в частности, вошли А. Д. Сахаров и В. Л. Гинзбург.
Осенью 1948 года А. Д. Сахаров выдвинул новую концепцию водородной бомбы — концепцию «слойки», а вскоре В. Л. Гинзбург предложил использовать в «слойке» в качестве термоядерного горючего дейтерид лития–6. С этого времени параллельно с расчетами по «трубе» стали проводиться расчеты по «слойке».
26 февраля 1950 года Советом Министров СССР в ответ на директиву президента США было принято постановление о создании отечественной водородной бомбы. Постановление предусматривало разработку водородной бомбы в двух вариантах: РДС–6с — «слойка» и РДС–6т — «труба». В первую очередь должна была быть создана «слойка». Научным руководителем по созданию РДС–6с и РДС–6т был назначен Ю. Б. Харитон, его заместителем по РДС–6с — И.Е. Тамм, заместителем по расчетно-теоретической части РДС–6т — Я. Б. Зельдович. В конце 1951 года вышло постановление СМ СССР, которое определяло ряд дополнительных мер по обеспечению разработки «слойки», и среди них привлечение к работам по РДС–6с нескольких ученых, в том числе Я. Б. Зельдовича. Выпущенный в июле 1953 года итоговый отчет по РДС–6с был подписан тремя авторами — И. Е. Таммом, А. Д. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем. Испытание РДС–6с, явившееся важнейшим этапом в развитии ядерно-оружейной программы СССР, состоялось 12 августа 1953 года.
После этого испытания в 1953 году были проведены и взрывы нескольких усовершенствованных атомных бомб, в расчетно-теоретическом обосновании {98} которых также участвовал Я. Б. Зельдович. За работы над РДС–6с и указанными бомбами Я. Б. Зельдович был награжден второй медалью Героя Социалистического Труда и получил Сталинскую премию I степени. Это была уже четвертая Сталинская премия Я. Б. Зельдовича.
В 1952 году В. А. Давиденко высказал важные соображения, касающиеся возможности создания значительно более совершенной по сравнению с РДС–6с водородной бомбы — двухступенчатой бомбы, в которой термоядерный узел подвергался бы сжатию не взрывом химического взрывчатого вещества, а энергией взрыва первичной атомной бомбы (атомное обжатие — АО). Я. Б. Зельдович был первым физиком-теоретиком, осознавшим необходимость развертывания работ в этом направлении еще до испытания РДС–6с. Хотя самая общая идея двухступенчатой бомбы была высказана А. Д. Сахаровым еще в его первом отчете по «слойке» в 1949 году («использование дополнительного заряда плутония для предварительного сжатия "слойки"»), именно Я. Б. Зельдович в сентябре 1952 года в документе «О работах по РДС–6» поставил вопрос о необходимости начала теоретических и экспериментальных работ по новым методам обжатия. В январе 1953 года Я. Б. Зельдович включил в план своего сектора пункт: «Исследования возможности применения обычных РДС для обжатия РДС–6с большой мощности (атомное обжатие)», отметив, что работы проводятся совместно с сектором И. Е. Тамма.
Оценки возможности создания двухступенчатой водородной бомбы, проводившиеся с 1952 года, в течение 1953 года и первых месяцев 1954 года не давали обнадеживающих результатов, однако весной 1954 года наступило прозрение: была осознана возможность создания эффективной двухступенчатой водородной бомбы с использованием принципа радиационной имплозии. Я. Б. Зельдович разделил с А. Д. Сахаровым авторство идеи о возможности создания двухступенчатой водородной бомбы на принципе радиационной имплозии. Начатые с весны 1954 года энергичные расчетно-теоретические и изобретательско-конструкторские работы, в которых активное участие принял Я. Б. Зельдович, завершились успешным испытанием 22 ноября 1955 года первой двухступенчатой водородной бомбы СССР — бомбы РДС–37, ставшей прототипом современного термоядерного оружия. Это было выдающееся и непреходящее по своему значению событие в истории создания ядерного оружия в нашей стране.
Основные участники работ над РДС–37 были отмечены государственными наградами. Я. Б. Зельдович был награжден третьей медалью Героя Социалистического Труда и стая лауреатом Ленинской премии.
Как отметил А. Д. Сахаров, «с самого начала советских работ над атомной (позже термоядерной) проблемой Зельдович был в центре событий. Его роль здесь была совершенно исключительной». Нет такой стороны деятельности КБ–11 периода 1948–1965 годов, к которой не проявил бы интерес Я. Б. Зельдович и на которой так или иначе не сказалась бы его личное творческое влияние.
Годичная командировка Я. Б. Зельдовича в КБ–11 растянулась почти на 18 лет. С мая 1952 года он возглавлял теоретический сектор №2. В должности начальника этого сектора Я. Б. Зельдович проработал в КБ–11 до октября 1965 года, после чего, полагая свою миссию выполненной, вернулся в Москву, чтобы сосредоточиться на фундаментальных исследованиях. {99}
Я. Б. решил уйти с объекта в 1963 г. Он был полон идей. Вопрос отпустить его или нет, болезненно решался в ЦК. Его уход рассматривался как большая потеря. Ю. Б. Харитон испытывал глубокую уверенность в том, что если бы А. Д. Сахаров и Я. Б. Зельдович продолжили бы свою деятельность в области оборонной тематики, то они выполнили бы еще что-нибудь существенное. Однако Ю.Б. не мог не признать, что выросли уже сильные ученики и особой трагедии не произойдет. Просто грешно было его удерживать.
Так закончилась огромная и самая эффектная часть жизни Я. Б. Зельдовича.
С 1965 года по 1983 год Я. Б. Зельдович был заведующим отделом Института прикладной математики АН СССР и одновременно заведующим отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, с 1983 года — заведующим отделом Института физических проблем АН СССР и консультантом дирекции Института космических исследований АН СССР.
Требовалось изрядное мужество, чтобы разрабатывать новое дело в 49 лет, опровергая незыблемую истину, что физику делают молодые люди. Он выбирает по своему масштабу и темпераменту огромнейший диапазон работ от элементарных частиц до вселенной.
Будучи сам человеком неиссякаемой энергии, Я. Б. Зельдович с самого начала работы в КБ–11 заряжал своей энергией прибывавших в КБ–11 молодых теоретиков, неизменно создавал и поддерживал атмосферу творческого поиска. В Я. Б. Зельдовиче удивительно сочетался интерес к фундаментальной науке и деятельности по ядерно-оружейной тематике. Создаваемую при его непосредственном участии науку о ядерном оружии он ставил на один уровень с фундаментальной наукой. Ему принадлежит высказывание, что защита диссертации по ядерно-оружейной тематике является самой почетной защитой на объекте. В то же время он стремился поддержать уровень знаний молодых теоретиков в области фундаментальной науки, постоянно информировал их о новых достижениях и после каждой поездки в Москву рассказывал о последних научных новостях.
Я. Б. Зельдович был вдохновителем создания атомного оружия с термоядерным усилением, принимал непосредственное участие в его разработке и постоянно подчеркивал преимущества такого оружия.
К сфере его интересов относились вопросы теоретического и экспериментального определения и уточнения физических параметров, существенных для расчетов двухступенчатых термоядерных зарядов, вопросы дальнейшего усовершенствования двухступенчатых термоядерных зарядов, вопросы создания атомных зарядов с внешним нейтронным инициированием, вопросы создания малогабаритных атомных зарядов, вопросы создания тактического ядерного оружия, вопросы осуществления невзрывной цепной реакции, проблема «чистой бомбы», в которой зажигание термоядерных реакций достигалось бы взрывом химического взрывчатого вещества, вопросы осуществления высотных ядерных взрывов, вопрос о возможности усовершенствования ядерных зарядов в условиях отсутствия ядерных испытаний, вопросы создания «промышленных» ядерных зарядов для использования ядерных взрывов в народном хозяйстве и многие другие. {100}
Не менее многогранной была деятельность Я. Б. Зельдовича, «человека универсальных интересов», как охарактеризовал его А. Д. Сахаров, в области фундаментальной науки. Огромный талант позволял Я. Б. Зельдовичу в течение многих лет успешно совмещать деятельность в области фундаментальной науки с участием в отечественном атомном проекте.
Я. Б. Зельдович внес огромный вклад в развитие теории адсорбции, катализа, горения и детонации, в теорию ударных волн и высокотемпературных газодинамических явлений, молекулярную физику, ядерную физику, физику элементарных частиц, релятивистскую физику, астрономию и космологию. Впечатляет уже простое перечисление направлений работ Я. Б. Зельдовича.
В списке публикаций, автором и соавтором которых является Я. Б. Зельдович, около 450 работ. В их числе более 30 монографий и учебников.
Своими выдающимися достижениями Я. Б. Зельдович навсегда вписал свое имя в историю науки.
Для учеников и последователей Я.Б. Зельдовича его труды в области фундаментальной науки и науки о ядерном оружии служат и еще долго будут служить фундаментом новых исследований.
Он протянул мне серую трубку диаметром около 12 мм, длиной 50 см, похожую на спагетти, и сказал: «Было бы очень занятно измерить» с какой скоростью горит эта штука в середине и по краям. Мы сейчас изучаем скорости горения таких порохов при давлениях в десятки атмосфер. Представляется, что центральная часть трубки должна выгорать медленнее, чем края. Вы уже получали рентгеновские снимки пули в полете. Нельзя ли использовать Вашу технику для изучения явлений при горении пороха?»
Так запомнилась мне одна из первых встреч с Яковом Борисовичем Зельдовичем. Это было в Казани, в январе или феврале 1943 г., в середине войны, когда шли бои за Сталинград и великая битва на Курской дуге еще только готовилась. В это время мы провели успешные опыты по рентгено-графированию явлений при взрыве небольших зарядов. Яков Борисович внимательно следил за развитием этой работы.
Спустя три года наша встреча произошла на другом меридиане, где развертывались работы по созданию советского ядерного оружия. Яков Борисович был назначен руководителем теоретического отдела. Время показало, насколько правильным было такое решение. Широко образованный физик, отлично знающий газодинамику и физику взрыва, живой как ртуть, очень активный и деятельный, Зельдович на протяжении двух десятилетий был душой и символом нашего отдела. Он отлично разбирался не только во всех теоретических вопросах, связанных с созданием оружия, но и в подавляющем большинстве экспериментальных работ, многие из которых начаты по его инициативе. Ставил перед экспериментаторами актуальные, еще не решенные {101} проблемы и часто сам предлагал способы и методы их решения. Активно занимался подбором квалифицированных кадров физиков-теоретиков.
Зельдович оказался «виновником» приезда к нам еще одного отличного физика-теоретика, обладающего высоким изобретательским потенциалом, — Евгения Ивановича Забабахина. История его приезда такова. В 1944 г., окончив с отличием Военно-воздушную академию им. Жуковского, Забабахин был зачислен в адъюнктуру Академии. Руководитель диссертационной работы профессор Д. А. Венцель предложил ему тему — «Исследование процессов в сходящейся детонационной волне». После завершения работы над диссертацией Венцель рекомендовал направить ее в Институт химической физики АН СССР. Там она попала в руки Зельдовича, который сразу же понял, что работа Забабахина вплотную примыкает к нашим задачам. Весной 1948 г. капитан Е.И. Забабахин приехал в институт и вскоре стал одним из ведущих сотрудников теоретического отдела. (Огромен его вклад в развитие вопросов прикладной ядерной физики и решение ряда научных задач, связанных с созданием различных типов ядерного оружия. В 1968 г. он был избран действительным членом АН СССР.)
В ту пору произошел «великий спор» между теоретиками и экспериментаторами. По оценкам теоретиков, массовая скорость продуктов взрыва должна была составлять 2 км/с, тогда как оценки экспериментаторов давали меньшее значение. Экспериментаторы проиграли, и сами нашли ошибку в своих опытах. Предстояло «рассчитаться». Поскольку основная масса сотрудников отдела жила тогда в Москве, то вино было выпито в Институте химической физики, расположенном на Воробьевском шоссе.
Наши столкновения по вопросу об истинном значении массовой скорости продуктов взрыва не были исчерпаны этим эпизодом. Когда начали измерять этот параметр по методу откола, он оказался на 25–30% меньше ожидавшегося. Пошли к Якову Борисовичу, тот попросил срок до утра, чтобы поразмышлять о возможных просчетах эксперимента или теории. Рано утром раздался телефонный звонок: «Кажется, я нашел причину расхождения. Приезжайте ко мне в гостиницу».
Приехали. По мнению Зельдовича, причина расхождения заключалась в малой длине используемых зарядов. Если увеличить эту длину до метра, а еще лучше — двух, то фронт волны из сферического превратится в почти плоский. Тогда измеряемая массовая скорость возрастет. При точечном инициировании взрывчатых веществ образуется расходящаяся волна с бесконечной производной у фронта, и, следовательно, очень тонким и быстро затухающим к преграде пиком давлений. Для получения правильных результатов опыты надо ставить на зарядах, длина которых не менее чем в 10 раз превышала бы их диаметр.
Но почему процессы, протекающие на фронте детонационной волны, должны «чувствовать» явления, происходящие за десятки, а то и сотни микросекунд до образования фронта? Этого мы не понимали. Однако, к нашему удивлению, Зельдович оказался прав. Давление на фронте волны при увеличении протяженности заряда заметно возросло.
Что это было? Интуиция, знание, талант... Без этих трех слагаемых невозможно творчество в науке. За два десятилетия совместных работ мы {102} убедились — Яков Борисович в полной мере обладал теми редкими качествами, которые позволяют искать и находить правильные решения в сложнейших физических или физико-химических ситуациях.
С разрешения Ю.Б. Харитона приведу случай, иллюстрирующий сказанное. На совещании, посвященном решению сложной технической проблемы, долго не могли найти правильного решения. Предложения выступавших отвергались одно за другим. Но вот появился Зельдович. На доске возникла цепочка формул, и за считанные минуты задача была решена. Это было похоже на колдовство. Когда все разошлись и в кабинете остались только Юлий Борисович и Игорь Васильевич, Курчатов сказал: «А все-таки Яшка гений...»
Трудно определить, где разница между талантливостью и гениальностью. Может быть ее вовсе нет... Но автор сам был свидетелем такого эпизода. В начале 50-х годов после проведения ответственного опыта большая группа ученых ожидала, когда будут обсчитаны осциллограммы и другие записи приборов. Игорь Васильевич посетовал: «Жалко, нет Яшки. Он бы вынул из кармана свою маленькую логарифмическую линейку, передвинул рамку несколько раз вправо и влево и выдал бы нам все необходимые цифры». (В те далекие времена логарифмическая линейка была главным инструментом теоретиков и экспериментаторов.)
В том творческом стиле, который установился в институте с первых дней его существования, большая заслуга Якова Борисовича. Но он был нетерпим ко всякого рода лженаукам. У нас хранится его открытое письмо от 18 января 1963 г., адресованное экспериментаторам. (В начале 60-х годов широко дискутировалась так называемая машина Дина, использующая для своей работы гравитационные силы. Письмо было составлено в связи с объявлением о семинаре, посвященном машине Дина.)
«Я глубоко уважаю коллектив экспериментаторов... Это самостоятельный институт. В наше общее дело он внес большой, неоценимый вклад. Поэтому мне не только смешно, но и больно видеть рекламу безграмотного «изобретения» Дина.
Всякому, знающему основы механики, ясно, что это чепуха. Можно гадать, почему чепуху запатентовали или почему она попала на страницы журнала, но, право, это не так интересно.
Иногда говорят: «Конечно, опыт Дина противоречит теории, но ведь это Опыт, факты — упрямая вещь и т.д.». Надо же понимать, что теория — в данном случае классическая механика — это концентрированный результат огромного числа опытов, вывод из опытов, опубликованных, проверенных, много раз обсужденных, согласующихся друг с другом...
Помните шум вокруг превращения времени в энергию, «открытого» одним из ленинградских физиков? Несколько лет назад, о чем бы ни докладывал любой лектор, его спрашивали об этом. А где теперь эта, с позволения сказать, «теория»? Все мы понимаем, что будь она правильна, ее бы не замолчали и не зажали».
И гораздо позже, на объединенном заседании АН СССР и АМН СССР в ноябре 1980 г. короткое, но запомнившееся всем выступление Зельдовича было направлено против модных и сейчас экстрасенсов. Он указал, что {103} даже дореволюционная Императорская академия наук не допускала на свои заседания «мага и чародея» — Григория Распутина, который пользовался покровительством царской фамилии. А у нас имеют место случаи, когда неграмотные в естественных науках философы, прикрываясь академическими званиями, устраивают публичные демонстрации «фокусов» небезызвестной Джуны.
Яковом Борисовичем написаны превосходные книги, по которым воспитывалось и будет воспитываться не одно поколение физиков. Восхищает его умение вскрыть сущность сложных проблем, его яркий, образный язык. Многие страницы его книг — подлинный гимн науке и вдохновенному творчеству. Разве можно оставить без внимания книгу, предисловие к которой написано Зельдовичем и заканчивается такими словами: «Вы можете прочесть эту книгу и изучить ее, но Вы можете использовать ее и как источник вдохновения. Быть может, это и есть лучший комплимент книге, заглавие которой звучит так специально»1).
В нашей памяти живут его блистательные обзорные статьи, опубликованные в журнале «Успехи физических наук», написанные раскованно и свободно, иногда с элементами озорства. Устные выступления Зельдовича всегда вызывали подлинное удовольствие и восторг аудитории, какой бы разнородной она ни была.
Яков Борисович был всесторонне образованным человеком, круг его интересов был чрезвычайно широк. В его научных статьях часто цитируются поэтические строки. Свои литературно-художественные симпатии он защищал так же энергично и последовательно, как и научные убеждения. Горячо и страстно отстаивал он выдвижение писателя Чингиза Айтматова в действительные члены АН СССР.
Внезапная смерть Якова Борисовича 2 декабря 1987 г. от инфаркта миокарда потрясла всех знавших его. В последний раз мы виделись в ноябре 1985 г. на похоронах дочери Харитона — Татьяны Юльевны. Я стоял неподалеку от гроба и вдруг почувствовал, что кто-то пристально смотрит на меня. В эти годы мое поле зрения было очень небольшим, но острое ощущение чужого взгляда заставило повернуться. Это был Зельдович. Мы обнялись и расцеловались. Кто мог ожидать, что встреча будет последней. Он никогда не жаловался на сердце, не обращался к врачам...
Быстро, очень быстро проходит человеческая жизнь. Кто мог подумать, что такой крепыш и оптимист, как Яков Борисович, так скоро покинет наш мир. Он был всего на год младше меня, но успел сделать в науках и жизни
много больше.
На гражданской панихиде 7 декабря Андрей Дмитриевич Сахаров сказал замечательные слова о Якове Борисовиче Зельдовиче, к которым присоединяется каждый, кто работал с ним2).
| {104} |
Я знал Якова Борисовича почти полвека. Он, безусловно, один из наиболее замечательных людей, которых мне посчастливилось знать. Писать воспоминания о нем горько. В моей памяти он всегда живой. Личность его неразрывна с наукой, которую он создавал. Он был уникален в своем творческом многообразии: от физики горения, через ядерное оружие до самых глубин астрофизики и космологии. Недаром один английский ученый сказал о нем: «Наконец я увидел Бурбаки в одном лице1». Если учесть глубину и значение каждой научной страсти Зельдовича, то эти слова являются одной из лучших и самых высоких оценок его научного творчества. Одному человеку воспоминания о нем не под силу. Поэтому думаю, что поступлю правильно, рассказав только об одной главе научных свершений Якова Борисовича, которую я подробно наблюдал. Этот выбор для меня правилен еще и потому, что мне посчастливилось два раза работать в этой области с Зельдовичем.
Речь пойдет о физике ядерного реактора. Эти работы Якова Борисовича хорошо демонстрируют его творческую мощь и одновременно столь редко встречающийся в наше время характерный научный стиль. Он состоит в замечательном умении расщеплять любую произвольно трудную задачу на ряд подзадач, допускающих получение решения физически прозрачными методами, с не слишком изощренной математикой.
Это не значит, что Яков Борисович не любил или не владел математическим аппаратом современной теоретической физики. Просто он считал свой метод, стиль получения ответа более адекватным своей глубокой физической интуиции и, я бы сказал, своей сущности. Кажется, среди физиков XX века только Ферми действовал сходными методами.
Отмечу, что помимо восхищения мощью интеллекта Якова Борисовича, он был для меня близким и очень теплым человеком.
Теперь о ядерных реакторах. 6 января 1939 г. в немецком журнале «Naturwissenschaften» появилась эпохальная статья О. Гана и Р. Штрассмана об открытии ими деления ядер — образовании радиоактивного бария при поглощении нейтронов ядрами урана. Подавляющая часть лабораторий мира (Франции, Англии, Германии, Швеции, США), занимавшихся ядерной физикой, отложив в сторону все ранее ведущиеся исследования, с энтузиазмом занялись изучением этого, непредвиденного ранее, явления. В нашей стране в первую очередь следует назвать лабораторию И. В. Курчатова в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) и Радиевый институт (РИАН). Игорь Васильевич развернул широкие исследования по физике деления. Часть их велась совместно с физическим отделом РИАНа (Л. В. Мысовский). {105} В самом РИАНе В. Г. Хлопин организовал и возглавил радиохимические исследования осколков деления.
После окончания Ленинградского университета с весны 1934 г. я работал в РИАНе и прекрасно помню обстановку энтузиазма, царившего тогда среди физиков и химиков. В это время в ЛФТИ регулярно собирался возглавляемый Курчатовым нейтронный семинар, объединявший физиков ЛФТИ и РИАНа, работавших под научной эгидой Игоря Васильевича. Этот семинар сразу после открытия деления ядер был в основном посвящен физике деления. Докладывалась вся известная научная литература и обсуждались собственные работы — постановка и результаты.
С апреля или мая того же года на семинар стал похаживать Яков Борисович. Тогда «то и началось наше знакомство. Реже там можно было увидеть Ю. Б. Харитона. Интерес ЯБ и ЮБ к физике деления был более чем естествен. Ученики создателя теории химических цепных реакций Н.Н. Семенова не могли остаться в стороне от грандиозной проблемы освобождения внутриядерной энергии. Весь мир заговорил о цепной ядерной реакции сразу же после открытия мгновенных нейтронов деления, независимо, во Франции, в США и Советском Союзе — А. Жолио-Кюри, Э. Ферми, В. Зинн и Л. Сцил-лард, Г. Н. Флеров и Л. И. Русинов. Уже в следующем, 1940 г. число публикаций на эту тему стало стремительно уменьшаться, но энтузиазм возрастал.
Как мне рассказывали, начало интереса ЯБ и ЮБ к этой проблеме было положено разговором И. Я. Померанчука с Зельдовичем. Померанчук, кратко рассказав о возможности цепной реакции деления, закончил словами: «Вот эта проблема как раз для Вас». Но если этого разговора и не было, все равно результат был бы тем же. Для Зельдовича и Харитона открытие деления ядер было как голос судьбы, и они не могли его не услышать.
Их интерес к цепным реакциям был отнюдь не абстрактно-познавательным, а активно-творческим. Уже в 1939 г. появилась их первая работа, посвященная теории деления урана на быстрых нейтронах. В ней было показано, что даже в чистом металлическом уране с естественной концентрацией изотопов 238U и 235U цепной процесс невозможен. Роль обрыва цепи играет неупругое рассеяние нейтронов, замедляющее эти частицы ниже порога деления основного изотопа. Главный вывод этой работы: для цепной реакции деления на быстрых нейтронах необходим изотоп, не имеющий порога деления (т.е. делящийся под воздействием нейтронов всех энергий), — ядерное горючее.
Замечательное сотрудничество продолжалось, и 1940 год был ознаменован двумя основополагающими работами этих двух авторов. В первой была дана теория цепной реакции деления на тепловых нейтронах в бесконечной гомогенной смеси урана и замедлителя. Конкретным замедлителем служил водород (вода). Была прослежена история одного поколения нейтронов от акта рождения быстрого нейтрона в процессе деления, затем его замедление и поглощение в тепловой области ураном и замедлителем. Впервые был подробно рассмотрен процесс резонансного поглощения нейтронов уровнями основного изотопа урана и дана полная теория резонансного поглощения нейтронов в гомогенных системах, естественно обобщающаяся для любого замедлителя. История одного поколения нейтронов привела авторов к знаменитой формуле {106} трех сомножителей для коэффициента размножения нейтронов (К∞ = νφθ). Анализируя опыты Жолио, авторы показали, что в смеси естественного урана и обычной воды цепная реакция невозможна при любой концентрации урана. Этот важнейший вывод привел их к следующим условиям осуществления цепной реакции деления на тепловых нейтронах. Необходимо применять другой легкий замедлитель, обладающий меньшим поглощением нейтронов по сравнению с водородом, или применять уран, обогащенный редким изотопом 235U. Как известно, в ядерных реакторах реализуется одно (или оба) из этих основополагающих условий.
Для меня эта замечательная работа ЯБ и ЮБ значительна не только в научном плане. В процессе работы над ней они несколько раз обсуждали ее со мной, и, в частности, я подробно рассказывал Зельдовичу и Харитону все, что знал о резонансном поглощении нейтронов и формуле Брайта-Вигнера, положенной авторами в основу своей теории резонансного поглощения в системах уран плюс замедлитель. Таким образом, эти собеседования привели к моему значительно более близкому знакомству с Зельдовичем и Харитоном.
Б связи с проблемой цепной реакции на тепловых нейтронах вспоминается следующее. Однажды, в мае или июне 1941 г., Яков Борисович, встретив меня, посетовал, что мы живем так поздно. Миллиард лет тому назад, сказал он, относительная концентрация легкого изотопа урана была значительно выше, и тогда цепная реакция в смеси естественного урана и обычной воды могла бы идти1. Яков Борисович ничего не сказал тогда о возможности естественного реактора, но его рассуждения полиостью подводят нас к естественному реактору, открытому в Габоне в 1972 г.
В третьей довоенной работе Зельдовича и Харитона была построена последовательная теория кинетики ядерного реактора при отклонении от условий критичности. Основным ее достижением было выяснение роли запаздывающих нейтронов в кинетике реактора в области малых отклонений от критичности. В этой области благодаря запаздывающим нейтронам кинетика становится очень «мягкой», что и делает возможным регулирование ядерных реакторов, а следовательно, само существование ядерной энергетики. Значение этих трех основополагающих работ трудно переоценить.
Пока я рассказывал об известных работах Зельдовича и Харитона, но без них картина их вклада в проблему цепных ядерных реакций была бы неполна. Теперь перейду к тому, что знают немногие. В середине 1940-х гг. интересы ЯБ и ЮБ обратились к выявлению необходимого количества делящегося вещества для осуществления цепной реакции в случае, когда коэффициент размножения превышает единицу. Речь идет о проблеме критических размеров, или критических масс. И тут мне очень повезло. Яков Борисович предложил войти третьим участником в их творческий коллектив и заняться разработкой этой проблемы. Естественно, я с восторгом согласился.
Все, что было известно в то время по этой проблеме — диффузионное уравнение Перрена, пригодное только для очень малых мультипликаций, и интегральное уравнение Пайерлса, решенное им в двух предельных случаях {107} очень малых и очень больших мультипликаций для голого (без отражателя) делящегося вещества. Надо также иметь в виду» что тогда все вычислительные средства ограничивались логарифмической линейкой и механическим арифмометром. Решать же нам было необходимо интегральные уравнения диффузии для любых мультипликаций и в случае наличия отражателя. Ясно, что такая задача не поддается обычным аналитическим методам. Решающим стал прием, предложенный Яковом Борисовичем и состоящий в обращении задачи — дается распределение плотности нейтронов и ищется распределение плотности делящегося вещества. Эта задача решается простой квадратурой. В уравнение закладываются различные пробные функции для плотности нейтронов и находятся те, для которых плотность делящегося вещества почти постоянна. В результате длинных, но достаточно элементарных расчетов мы получили всю кривую зависимости критического размера чистого 235U от коэффициента размножения для любых мультипликаций вначале для голого урана, а потом — урана, окруженного отражателем с сечением рассеяния таким же, как и в уране. Была оценена известная в то время критическая масса 235U, которая при всей неопределенности ядерных свойств этого делящегося изотопа, как оказалось, составляет единицы или десятки килограмм.
Во второй части работы исследовалась проблема критической массы в водных (обычная вода) растворах чистого 235U в реакции на тепловых нейтронах. Отсутствие в то время адекватной теории замедления заставило нас применить следующий прием. Экспериментальная кривая распределения замедленных в воде нейтронов интерполировалась экспонентой с найденным на опыте средним квадратом длины замедления. Экспонента вводилась в интегральное уравнение для плотности тепловых нейтронов как его ядро, после чего описанным приемом оно решалось. В результате был получен немонотонный ход критической массы 235U с минимумом при относительной концентрации водорода к урану, равной 200–300; сама критическая масса была оценена в 1–2 кг.
Судьба этой работы отлична от первых трех классических работ Зельдовича и Харитона, опубликованных в ЖЭТФ в 1939–1940 гг. Хотя основные результаты работы по критическим массам на быстрых нейтронах были получены уже осенью 1940 г., вся работа растянулась и была написана только в мае 1941 г. Началась война, было не до публикаций, а потом вся проблема стала закрытой, и только в последнее время появилась возможность говорить об этой работе, замыкающей довоенный цикл работ Зельдовича и Харитона по теории цепных ядерных реакций. Сказанное мной показывает не только их пионерский и фундаментальный вклад в проблему освобождения ядерной энергии, но и их удивительную научную проницательность. Мне посчастливилось наблюдать и далее, хотя в очень малом объеме, работу Якова Борисовича над этой проблемой века.
В начале 1943 г. была создана Лаборатория №2 Академии наук СССР (впоследствии Институт атомной энергии) под руководством Игоря Васильевича Курчатова для решения проблемы освобождения ядерной энергии и в первую очередь — для создания отечественного ядерного оружия. Игорь {108} Васильевич начал с того, что привлек к этим работам лучших физиков-ядерщиков страны — теоретиков и экспериментаторов, собрав небольшой, но высококвалифицированный научный коллектив. Яков Борисович, естественно, был привлечен одним из первых. Первой задачей коллектива Лаборатории было осуществление цепной реакции деления на тепловых нейтронах в системе естественный уран-замедлитель. Такая система, названная урановым котлом, а впоследствии — ядерным реактором, служит для получения ядерного горючего — плутония. Задача была блестяще решена Курчатовым, когда он с сотрудниками 25 декабря 1946 г. осуществил цепную реакцию деления в первом советском уран-графитовом реакторе.
Однако путь к этому свершению был хотя и удивительно коротким (менее четырех лет), но дьявольски трудным. Проблема разделялась на ряд подпроблем огромной сложности. Тут и получение предельно чистого урана и графитового замедлителя, и серия макроскопических «экспоненциальных» опытов как с чистым графитом, так и с подкритическими уран-графитовыми сборками, которые осуществлял лично Игорь Васильевич. Тут и измерение основных ядерных констант делящихся изотопов, и осознание полной физической картины явлений, проходящих в ядерном реакторе, и создание адекватной теории ядерного реактора, пока хотя бы в первом приближении. И вот здесь выявился в полной мере талант Зельдовича, соединявший в себе прозрачность физического мышления и научную интуицию с высочайшей квалификацией физика-теоретика.
Всего два примера. Одним из ключевых вопросов физики реактора было создание адекватной теории замедления нейтронов. Зельдович, исходя из естественного положения, что энергию замедляющегося нейтрона можно измерять в единицах времени замедления, точнее, в единицах эффективного времени замедления — возраста (не секунды, а квадратные сантиметры), в июне 1943 г. строит возрастную теорию замедления и получает знаменитое уравнение возраста. Когда в 1950 г. вышли лекции Э. Ферми по ядерной физике, мы узнали, что еще раньше это уравнение открыл в США Ферми и что оно так и называется уравнением Ферми. Было бы справедливым уравнение возраста называть уравнением Ферми-Зельдовича, отдавая дань обоим замечательным физикам. Со всей определенностью я могу утверждать, что незнание уравнения возраста существенно отразилось бы на нашем движении к цепной реакции деления. Такая определяющая критический размер реактора величина, как средний квадрат длины замедления в графите, не могла бы быть определена Курчатовым в его «экспоненциальных» опытах, если бы уравнение возраста не было известным.
Второй пример. Здесь мне посчастливилось, как и в 1941 г., поработать вместе с Яковом Борисовичем. Предыстория следующая. Проблема получения коэффициента размножения, превышающего единицу в системах с естественным ураном, решается гетерогенным (блочным) размещением урана в замедлителе. При этом подавляется вредное резонансное поглощение нейтронов изотопом 238U за счет эффекта самоэкранирования внутренних областей уранового блока. Теория резонансного поглощения нейтронов в гетерогенных системах, продолжающая теорию резонансного поглощения в гомогенных системах Зельдовича и Харитона, была построена в сентябре-октябре 1943 г. {109} Померанчуком и мною. Она показывает, как уменьшается резонансное поглощение с увеличением размера блока урана. Однако очень «толстые» блоки должны приводить к уменьшению доли тепловых нейтронов, поглощаемых ураном, за счет того же эффекта самоэкранирования. Так что возникает задача о нахождении оптимального размера блока. Но это было осознано не сразу, и сама постановка задачи принадлежала Якову Борисовичу. Вначале мы с Померанчуком думали, что благодаря очень большому поглощению резонансных нейтронов изотопом 238U и заметно меньшему поглощению тепловых нейтронов естественным ураном можно получить необходимый выигрыш в коэффициенте размножения для достаточно «тонких» блоков. Такие блоки будут почти «черными» для резонансных нейтронов (точнее, при поглощении нижними уровнями 238U) — блок-эффект присутствует, и почти прозрачными для тепловых нейтронов — нет блок-эффекта.
После нашей с Померанчуком работы я уехал на короткое время в Казань, а когда вернулся в Москву, меня встретил Яков Борисович и сказал, что для оптимизации эффекта размножения в урановых решетках, возможно, будет необходимо применять блоки больших размеров, в которых необходимо учитывать блокирование тепловых нейтронов. Мы тут же обсудили этот вопрос и решили в первом приближении сделать расчеты коэффициента использования тепловых нейтронов в диффузионном односкоростном приближении. Не расходясь, мы получили все формулы в случае плоских блоков (урановые пластины). Задача была с самого начала симметричной и поэтому элементарно решалась. Тут же мы осознали, что в действительности существует два блок-эффекта: первого и второго рода. Первый связан с самоэкранировкой внутренних слоев урана в блоке, а второй — с падением плотности тепловых нейтронов в замедлителе вблизи поверхности сильно поглощающего блока по сравнению с плотностью в далеких от блока областях замедлителя. В гетерогенных системах резонансное поглощение уменьшается с увеличением размера блока, но уменьшается и доля тепловых нейтронов, поглощаемых ураном. Существует оптимальный размер блока, дающий максимальный коэффициент размножения. Через несколько дней мы научились решать задачу о коэффициенте использования тепловых нейтронов в гетерогенных системах для любых решеток и блоков любой формы (цилиндры, шары), применив, по предложению Зельдовича, известный в теории металлов метод ячейки Вигнера-Зейтца. В принятом приближении задача была решена. Сейчас все это кажется несколько наивным, но когда создавались основы, такая теория качественно проясняла ситуацию.
Эти две работы Якова Борисовича, выполненные в Лаборатории №2, дополняют довоенный цикл, когда они вместе с Харитоном заложили основы теории цепных ядерных реакций. Во всех этих работах видна мощь его таланта.
Я не буду говорить о других, как я полагаю, еще более фундаментальных достижениях Зельдовича в проблемах освобождения ядерной энергии. Они в основном связаны с ядерным оружием и о них должны написать другие.
Я же счастлив, что мне удалось увидеть дарование Якова Борисовича не только со стороны, изучая его работы, а изнутри — работая вместе с ним.
| {110} |
Из жизни ушел Яков Борисович Зельдович. В это трудно было поверить, так как мысль о смерти не вяжется с его образом. Нестерпимо горько сознавать» что его уже нет с нами.
...В Якове Борисовиче всегда поражала неустанная научная активность, поразительная разносторонность и интуиция. Он начал рано и продолжал работать до последнего дня жизни, успев сделать невероятно много в самых различных областях. В ноябрьском номере «УФН» уже после его смерти мы увидели статью, как бы перекидывающую мост к началу его работы в науке. Это была химическая физика, поверхностные явления, горение и детонация, химические и ядерные цепные реакции. Затем — реактивная техника, годы участия в создании советского атомного и термоядерного оружия. Роль его тут была исключительна, об этом можно теперь сказать во весь голос. Ему принадлежит несколько выдающихся работ по физике элементарных частиц, в них зачатки «алгебры токов», предсказание существования и некоторых свойств Z0-бозона, постановка проблемы космологической постоянной. Последние 25 лет — астрофизика и космология. Он все время на переднем крае, все время окружен людьми. Все, кто общался с ним, получали на всю жизнь неоценимые уроки — и по конкретным научным вопросам, и в качестве примера и образца, как надо работать в науке и современной технике.
Мне довелось многие годы провести бок о бок с Яковом Борисовичем. Вспоминая это время, я чувствую, сколь многим ему обязан. В чрезвычайно острой и напряженной обстановке тех лет — простые товарищеские, в высшей степени доброжелательные отношения, и это при том, что мы с Игорем Евгеньевичем Таммом тогда как бы ворвались в его сферу «со стороны», и требовалась незаурядная объективность, чтобы не встать в позу негативизма, обиды; но вместо этого от Якова Борисовича и его учеников — неоценимая помощь и сотрудничество ради общего дела. А затем, плечом к плечу, общий натиск 1954–1955 гг. Те, кто был участником тех событий вместе с нами (многие из них сейчас находятся в этом зале), понимают, что это значило. В области фундаментальной науки многие мои работы возникли из общения с ним, под влиянием его работ и идей.
Яков Борисович в науке — человек огромной жадности (в хорошем смысле этого слова) и в то же время — абсолютной честности, самокритичный, готовый признать свою ошибку, правоту или авторство другого. Он почти по-детски радовался, когда ему удавалось сделать что-то существенное или преодолеть методическую трудность красивым приемом, и глубоко переживал неудачи и ошибки. По большому счету в отношении науки он был скромным человеком. Часто ему казалось, что он дилетант, недостаточно профессионален в том или ином вопросе, и он прилагал огромные (невидимые со стороны) усилия, чтобы преодолеть свои пробелы. {111}
В наших сорокалетних отношениях были и свои тернии, обиды и периоды охлаждения, сейчас это выглядит не более, чем пеной в потоке жизни, но, как говорится, что было, то было. Однажды, много лет назад, Яков Борисович позвонил и сказал: «Есть слова, которые нельзя повторять каждый день, но иногда их надо произнести». Сегодня, прощаясь с Яковом Борисовичем, я хочу сказать, какую огромную роль сыграл он в моей жизни, так же, как в жизни и работе многих и многих людей, как мы его любили., как я его любил, как нам будет его недоставать, как он нам был нужен!
2 декабря 1987 г. внезапно умер от инфаркта академик Яков Борисович Зельдович. Он был выдающимся физиком, внесшим огромный вклад во многие области науки и техники. Я не специалист в каждой из сфер его деятельности (он, вероятно, был поистине уникальным по широте своих интересов) и поэтому затрону лишь некоторые стороны его деятельности, причем достаточно схематично. Однако с 1948 по 1968 гг. мы вместе работали над близкими проблемами, и я много знаю об этом периоде его жизни.
В своем автобиографическом послесловии Зельдович рассказывает, что в 1931 г. (когда он был 17-летним лаборантом Института механической обработки полезных ископаемых) он пошел на экскурсию в лабораторию
 |
С А. Д. Сахаровым |
В последующие 12–15 лет после перехода в Физико-технический институт Зельдович сделал выдающиеся работы по теории горения и детонации, адсорбции и катализа, фиксации азота, химическим цепным реакциям и (до, во время и после войны) по реактивной технике. Его интерес к химической физике {112} продолжался всю его жизнь, и последняя работа воспринимается нами сейчас как возвращение его к своей первой любви в науке.
Открытие деления урана изменило научную судьбу Зельдовича, как и судьбы многих ученых, на годы вперед — в более широком смысле оно изменило судьбы всех нас. Его пионерские исследования совместно с Ю. Б. Харитоном по теории взрывных и контролируемых цепных ядерных реакций деления были одновременно и последними работами, опубликованными в открытой литературе до того, как занавес секретности опустился на эту тематику. Они оказали огромное влияние на каждого, кто работал в этой области. С самого начала советских работ над атомной (позже термоядерной) проблемой Зельдович был в эпицентре событий. Его роль здесь была совершенно исключительной.
В середине 1950-х годов он находит новые сферы приложения своей активности — сначала теорию элементарных частиц (в которой сразу после II мировой войны наметился прорыв и которая развивается до настоящего времени), а затем, с 1960-х годов, не менее динамичную и захватывающую область — астрофизику и космологию.
В 1955 г. Я. Б. Зельдович и С. С. Герштейн выдвинули гипотезу о сохранении слабого векторного заряженного тока. Эта идея (независимо высказанная Р. Фейнманом и М. Гелл-Манном) сыграла важную роль в формулировке теории слабых взаимодействий, а также в том, что стало позже известно как «алгебра токов». В другой работе того же периода Зельдович предсказал существование и некоторые свойства Z0-бозонa.
В последние 25 лет жизни астрофизика и космология занимали центральное место в мыслях Зельдовича и его учеников. Он был всемирно признанным лидером в этой области — за исключительную ясность и конкретность физического мышления, за интеллектуальную смелость как физика-теоретика, которая проявлялась с одинаковой легкостью по отношению к физическим законам и теоретическим методам: к образованию колец Лизеганга в аэродинамической трубе, к грандиозным процессам взрывов сверхновых с образованием нейтронных звезд или черных дыр, и далее к более экстремальным процессам космологии ранней Вселенной; за его близость к наблюдениям.
Я перечислю (без специального порядка) несколько его работ, внесших важный вклад в астрофизику и космологию.
В работе 1967 г. дана формулировка проблемы космологической постоянной. Согласно Зельдовичу, из теории элементарных частиц следовало, что эта константа мала или равна нулю. В настоящее время космологическая постоянная — одна из центральных проблем при попытках построить Объединенную теорию всех полей и взаимодействий. В публикации с Я. А. Смородинским и С. С. Герштейном Зельдович рассмотрел космологические ограничения на массы электронных и мюонных нейтрино. Таковы примеры новых направлений, возникших в 60-х годах на стыке космологии, астрофизики и теории элементарных частиц, которые в значительной степени ассоциируются с именем Зельдовича. Здесь вся Вселенная играет роль гигантской лаборатории. Чрезвычайно важными представляются работы Зельдовича по рождению частиц в гравитационном поле; среди них — совместная статья с Питаевским, содержащая замечательную дискуссию с С. Хокингом. Речь идет о том, {113} что эффекты поляризации вакуума делают возможным рождение частиц классическими полями. Вскоре после этой дискуссии Хокинг опубликовал свою знаменитую теорию радиационного испарения черных дыр. Эффекты поляризации вакуума (квадратичная конформная аномалия), согласно теории ученика Зельдовича — А. А. Старобинского, приводят к космологическим решениям с сингулярностью. (Я не поддерживаю эту формулировку всем сердцем и вместо нее предложил бы эффекты «ложного вакуума» в качестве главных причин инфляции.)
Более близкими к классической астрофизике, но» несомненно, важными, являются публикации Зельдовича по нейтронным звездам и черным дырам, аккреции и излучению на одиночные объекты и двойные звезды. В своей первой работе по черным дырам (1964 г.) он выдвинул идею наблюдения черной дыры по излучению вещества, движущегося в ее гравитационном поле (одновременно и независимо подобное же предположение было опубликовано Э. Салпитером). За этим вскоре последовала его работа с О. X. Гусейновым по излучению в двойных системах, одним из компонентов которых является черная дыра. В работе 1964 г. (совместной с М.А. Подурцом) и ряде последующих статей Зельдович рассматривает динамику испускания нейтрино в ходе образования черных дыр. В результате черные дыры стали восприниматься как действительно наблюдаемые объекты, были разработаны и начали осуществляться соответствующие программы их наблюдений. Эти программы, как известно, уже дали очень интересные результаты.
Другой важный аспект интересов Зельдовича (в разработке которых приняли участие А. Г. Дорошкевич, И. Д. Новиков, Р. А. Сюняев, С.Ф. Шандарин и другие) относился к образованию галактик и их скоплений. Он установил природу начального спектра возмущений плотности, приводящих к наблюдаемым следствиям, и предсказал сингулярности в крупномасштабной структуре Вселенной. Согласно этой теории, существуют гигантские «черные области» (пустоты), свободные от галактик и заполненные только горячим газом низкой плотности и «догалактического» состава. Имеются данные, указывающие, что это, видимо, действительно так, хотя вопрос все еще следует считать открытым.
Зельдович и его коллеги анализировали космическое электромагнитное излучение и предложили провести эксперименты в подходящей области спектра для открытия и исследования реликтового излучения. Эти идеи вообще не были известны за рубежом и потому не были должным образом использованы теми, кто сделал это открытие. Немедленно после открытия реликтового излучения Зельдович осознал громадное значение его не только как подтверждение горячей модели Вселенной, но также как мощное средство исследования многих важных вопросов космологии и астрофизики. В ряде публикаций (совместно с Сюняевым и другими) он исследует влияние различных космологических факторов на возможную анизотропию реликтового излучения. Как известно, сейчас это направление исследований приобрело очень большое значение.
В последние годы Зельдович опубликовал работы, в которых нашла наиболее глубокое отражение взаимосвязь теории элементарных частиц и космологии, рассматривающей космические домены и космические струны, {114} астрономические следствия конечной массы покоя нейтрино, других постулатов теории элементарных частиц. Он пытался набросать картину того, что он называл «полной космологической теорией» (о характере доклассической, т.е. квантово-гравитационной, стадии развития Вселенной, происхождений качественных и количественных особенностей классической стадии, включая степенной спектр «начальных возмущений»).
В течение всей своей жизни Зельдович был на переднем крае науки и всегда окружен людьми. Влияние его на учеников поразительно; он часто открывал в них способность к научному творчеству, которая без него не реализовалась бы или смогла бы реализоваться лишь частично и с большими трудностями. Важным фактором тут был его научный стиль, индивидуальность — колоссальная энергия, чувство нового в науке, интуиция, стремление к теоретической простоте и элегантности, его научная честность и готовность признать собственную ошибку или приоритет и правоту другого. В науке Зельдович был, в сущности, скромным человеком (хотя манера, с которой он участвовал в дискуссиях, отстаивая то, что он считал неопровержимым в науке, могла иногда производить обратное впечатление). Он почти по-детски радовался, когда ему удавалось добиться важного результата или преодолеть методологическую трудность элегантным способом, и остро переживал неудачу или ошибку. Зельдовичу часто казалось, что он является не достаточным профессионалом в той или иной области, и он прилагал громадные усилия, чтобы заполнить пробел. И здесь его подход был творческим. Он часто находил новые, более понятные способы описания или подхода к решению проблемы. Это приводило к появлению многочисленных заметок и статей педагогического характера, книг и монографий (более 20), которые всегда включали много оригинального. Его книги «Релятивистская астрофизика», «Теория тяготения и эволюции звезд» и «Строение и эволюция Вселенной» (написанные совместно с И. Д. Новиковым) получили широкую известность. Невозможно переоценить эту грань его творчества, которая помогла очень многим людям прийти в науку наиболее прямым путем.
Специально следует отметить его книгу «Высшая математика для начинающих». В одной из статей Зельдович писал: «Так называемые «строгие» доказательства и определения гораздо более сложны, чем интуитивный подход к производным и интегралам. В результате математические идеи, необходимые для понимания физики, доходят до школьников слишком поздно. Это все равно, что подавать соль и перец не к обеду, а позже — к чаю». Я полностью согласен с ним в этом вопросе.
В течение многих лет я работал близко с Зельдовичем. Это были отношения товарищеской доброжелательности, взаимной готовности помочь и напряженно работать ради общей цели. В его отношении ко мне не было ни малейших признаков негативизма, недоброжелательства или нездоровой конкуренции (и это несмотря на то, что группа Тамма, к которой я принадлежал, вторглась со стороны в уже крепко спаянную команду Зельдовича). В 1950-х–60-х годах наши рабочие кабинеты и дома были совсем по соседству, и обычно по несколько раз в день мы собирались, чтобы обсудить какую-то волнующую нас тему; мы говорили также об общенаучных проблемах. Часто обсуждали забавные физические или математические загадки, {115} которые я называл «любительскими задачами». Иногда мы играли в игру, соревнуясь в скорости и элегантности решения задачи (тот, кто первым решал, бежал рассказывать другому в любое время дня или ночи).
Большая часть моих собственных работ в фундаментальной науке возникла в результате контактов с Зельдовичем. Вот один из примеров. Однажды Зельдович позвонил мне и сказал, что делал доклад на одном из московских научных семинаров о своей работе по космологической постоянной и пришел в некое смущение. Я немедленно оценил важность проблемы и через несколько дней позвонил ему, рассказав о дальнейшем развитии этой темы — об идее индуцированной гравитации. Зельдович воспринял идею с энтузиазмом и в свою очередь написал статью, в которой аналогичным образом истолковал электродинамику. Тогда же я понял роль, которую играет в проблеме космологической постоянной компенсация бозонных и фермионных вкладов (к сожалению, ни один из нас не смог додумать эту проблему до того, чтобы догадаться о такой веши, как суперсимметрия).
Я хотел бы также, чтобы не забылось, что Зельдович помогал большому числу людей в чисто личном плане, даже в повседневной жизни. Конечно, не стоит полагать, что во всех случаях Зельдович представал только в наилучшем возможном свете. Он не был ангелом.
Мои собственные отношения с ним не всегда были безоблачными. В 1970-х –80-х годах, особенно в горьковский период моей жизни, в них вкралось чувство боли и взаимного охлаждения. Зельдович крайне не одобрял мою общественную деятельность, которая раздражала и даже пугала его. Однажды он сказал: «Вот такие люди, как Хокинг, по-настоящему преданы науке. Ничто не может отвлечь их». Я никак не понимал, почему он не мог прийти мне на помощь, о которой, при нашей дружбе, я считал себя вправе просить. Я знал, что все это терзало Зельдовича. Мне это также причиняло боль. Сегодня эти события прошедших лет кажутся не более, чем пеной, унесенной потоком жизни. К сожалению, после моего возвращения из Горького я встречался с Зельдовичем лишь однажды или дважды, да и то на людях, так что едва ли можно было по-человечески поговорить с ним. Таков еще один урок — не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
Теперь, когда Яков Борисович Зельдович ушел от нас, мы, его друзья и коллеги в науке, понимаем, как много он сделал сам, и как много он давал тем, кто имел счастье разделять с ним жизнь и работу.
В самом начале 1951 г. после окончания МГУ я был направлен в совершенно секретную «точку». О степени секретности можно судить хотя бы по тому, что при оформлении в Москве (в мрачной комнате-конторе на Цветном бульваре), когда я легкомысленно спросил, как долго лететь до места, то тут же получил получасовой разнос — оказывается, я не должен был вслух произносить слово «самолет». {116}
По приезде, после небольшого экзамена, к которому я был блестяще подготовлен, поскольку имел точную информацию от однокашников, приехавших сюда чуть раньше, я оказался в теоретической группе Д. А. Франк-Каменецкого. Она, в свою очередь, входила в состав отдела, руководимого членом-корреспондентом АН СССР Яковом Борисовичем Зельдовичем. Тогда же я познакомился и с другими знаменитыми людьми: И. Е. Таммом, Н. Н. Боголюбовым, А. Д. Сахаровым, которые заведовали другими теоретическими подразделениями.
Уровень секретности на «объекте» был необычайно высок: разные группы, занятые каждая своей проблемой, по идее, не должны были знать, что делают соседи, хотя, конечно же, знали все обо всем. Молодые люди вроде меня оказались в замкнутом пространстве, за проволокой, без права покидать объект даже во время отпусков. Такое положение не касалось крупного начальства.
Я начал работать под трогательной опекой Д. А. Франк-Каменецкого, который передавал мне всю мудреную и специальную науку не из книг. Вдруг пронесся слух — «член-корр. едет». Давид Альбертович (или ДА — там принято было называть начальство по первым буквам имени и отчества — ЯБ, ЮБ, АД и т.д.) повел меня знакомить, при этом, по-моему, нервничал больше меня. Я увидел невысокого подвижного человека с умным и насмешливым взглядом. ЯБ начал непринужденный разговор, который перешел в профессиональный, и как бы мимоходом попросил написать на доске уравнение гидродинамики. «Началось», — пронеслось в голове, а вслух жалкий лепет: «Мы это не проходили». Но все оказалось не так страшно, поскольку одной-двумя подсказками тебе разжевывают, что вся механика построена на законах сохранения массы, импульса и энергии.
Многие теперь любят что-то начинать, и почти никто не умеет или не желает завершать. И тянется это дело бесконечно долго, нудно и бесполезно. Совсем не так было в то динамичное время, причем, как всегда, картину определяли лидеры.
Когда я начинал, отдел Зельдовича занимался вопросами термоядерного горения (детонации) дейтерия в трубе. Это была совсем непростая задача, почти неразрешимая. Дело в том, что радиус такой трубы был ограничен и снизу, и сверху. Последнее особенно удивительно, поскольку, как правило, чем больше размер, тем меньше потери и лучше горение. В данной ситуации, однако, развивается явление, которое получило название комптонизация: мягкие тормозные кванты света, рассеиваясь на горячих электронах плазмы, не теряют энергию, как при известном комптон-эффекте, а наращивают ее, стремясь к планковскому (виновскому) равновесию. Возникает дополнительный «сток» энергии от вещества в излучение. Чтобы его уменьшить, надо сделать среду по возможности более прозрачной, с тем чтобы кванты, не набрав энергии, вылетали за ее пределы.
Мы потратили четыре года на работы в этом направлении, очень тонкие и увлекательные с физической точки зрения; но вдруг, в какой-то момент, решив, что они неконкурентоспособны, руководство отдела буквально за несколько дней переориентировало весь наш коллектив. Подобная решительность привела к тому, что через год возникли устройства, неустаревшие до {117} нашего времени. Считаю, что многие работы по термоядерной детонации, проводившиеся под руководством Зельдовича и сохранившие большой теоретический и приоритетный интерес, должны быть рассекречены и опубликованы.
Как оказалось, в отличие от чисто дейтериевой среды, смесь трития с дейтерием горит настолько быстро, что излучение не успевает прийти в равновесие со средой, резко поднимается температура вещества — факт, о котором я слышал от Зельдовича и который сильнейшим образом повлиял на мое образование. Позднее по доплеровскому уширению энергии 14-МэВных нейтронов была зафиксирована температура, превышающая миллиард градусов, достойная как рукотворная быть отмеченной в книге рекордов Гиннеса.
Простое замечание Зельдовича о том, что в спектре нейтронов ДТ-реакции могут наблюдаться изредка нейтроны с энергией до 28 МэВ (от столкновений нейтронов друг с другом), положило начало большой группе взрывных экспериментов по получению далеких трансуранов.
При всей своей занятости ЯБ много времени отдавал нашей учебе. Как всякий крупный начальник, по утрам он приходил попозже, с толстой тетрадкой и начинал рассказывать. Оказывалось, он уже успел написать какую-то статью или что-то посчитать. Тогда же, например, я научился элементам квантовой электродинамики. Помню, мы вместе увлеченно вычисляли формулы комптон-эффекта по диаграммам Фейнмана. И что удивительно, ответ иногда получался правильным.
Когда бы ни приезжал ЯБ из столицы, он сразу собирал всех и выкладывал научные новости. В один из таких приездов вечером он что-то рассказывал, как обычно, но мы то ли устали, то ли было слишком сложно. Видимо, он почувствовал, потому что на следующее утро начал допытываться, кто что понял. Более или менее членораздельно отвечал я и даже удостоился похвалы. Только много лет спустя в случайном разговоре с ЯБ я признался, как обхитрил его: утром прочитал нужное место в учебнике Ландау, предчувствуя разнос.
Шеф был прирожденным лидером, он это знал, но никогда не подчеркивал» да в том и не было необходимости, все было очевидно. И все же... Яков Борисович очень любовно и с большим уважением относился к Давиду Альбертовичу Франк-Каменецкому (Додику). Но однажды я присутствовал при их споре: ДА заявил, что за 2 часа прочитает книгу в 300 страниц. ЯБ не поверил, стало ясно, что он сам это не в состоянии сделать, авторитет «пошатнулся». ЯБ начал горячиться, наконец, они поспорили. ДА заперся в комнате, а через 2 часа началась проверка. ЯБ открывал книгу в произвольном месте, читал строчку, ДА продолжал почти дословно. Память у добрейшего ДА была необыкновенная!
Врезался в память и другой эпизод, наверное, потому, что он был единственным, когда я поправил выдающегося ученого. Он недовольно буркнул: «Один-ноль в Вашу пользу», и продолжал беседу ровно до тех пор, пока не ошибся я, что, как вы понимаете, совсем не трудно было сделать. «Один-один», — сказал удовлетворенный учитель.
Наверное, каждый переживал эйфорию, ощущение того, что достиг вершин, все знает. Обычно это происходит после удачно сданного экзамена, {118} окончания школы, вуза. Правда, вскоре наступает грустное отрезвление. В то далекое время мы изредка выезжали на семипалатинский полигон. ЯБ и там умудрялся писать «формулы». Мы же, полагая, что наша работа начинается после «явления» (мы никогда не употребляли слов «взрыв», «бомба», «плутоний», «тритий», а говорили «явление», «изделие» и т.д.), откровенно бездельничали. Как-то шеф не выдержал и завел разговор: «При взрыве возникает мощный электромагнитный сигнал», после чего поручил Г. М. Гандельману и мне разобраться в его природе. Задача оказалась на редкость увлекательной. Через несколько дней мы не сомневались, что нащупали правильный подход. Дело в том, что мгновенные γ-кванты деления, вылетающие из точки взрыва, смещают электроны в направлении своего полета и поляризуют воздух. Мы быстро составили «отчет» (расчет и описание) и, довольные, пришли к ЯБ. По глазам было видно, что он доволен, тем более странным прозвучало заключение: «В вашей постановке задачи амплитуда радиосигналов строго равна нулю». «Почему?» — хором спросили мы. «Потому что электрический вектор направлен по радиусу, а куда направлен магнитный — направо, налево, в чем предпочтение? Сферически симметричная система не излучает». Поправить результат с учетом асимметрии было не сложно, но горький осадок от собственной безграмотности остался надолго.
В нашей насыщенной и тревожной (под прессой секретности) жизни обычными были подначки, розыгрыши. Однажды еду на велосипеде, сбоку куда-то спешит ЯБ. Увидел меня, остановился, заговорил. Далее все как в басне. «Как Вы хорошо катаетесь на велосипеде! Знаете, у меня было бедное детство, никогда не имел велосипеда...». «Как, Вы не умеете кататься? Но это так просто», — у меня появилась реальная возможность хоть в чем-то продемонстрировать свое превосходство. ЯБ неуклюже забрался в седло, попискивая: «Ох, держите!». А еще через несколько секунд я с изумлением наблюдал быстро удаляющуюся фигуру, которая решила свои транспортные проблемы за мой счет.
На нашем объекте в то бериевское время была загадочная военная личность — представитель Совнаркома. Что он делал, никто толком не знал. Сталкивались мы с ним раз в году, если стремились оформить отпуск за пределы зоны. Тут уж каждый полагался на себя; так, мой приятель по запросу сельсовета каждый год выезжал продавать козу, я — жениться. У нас работало несколько человек, окончивших военные академии. Мы воспользовались военной формой одного из них, одели в нее нашего товарища (того самого, «с козой»), замаскировав под «представителя», после чего по одному стали запускать к нему наших сотрудников на «допрос». Боже, сколько нового — хорошего и плохого — мы узнали про начальство и советскую систему.
«Экзекуция» подходила к концу, когда в коридоре я столкнулся с ЯБ. «Что за шум?» — спросил он (это «потерпевшие» обменивались впечатлениями). Я с воодушевлением объяснил. ЯБ сначала рассмеялся, потом помрачнел и сказал: «За подобные шутки некоторые органы отрежут вам некоторые органы, и я ничем не смогу помочь».
Незадолго до его смерти я случайно повстречал Якова Борисовича на прогулке на Ленинских горах. Разговорились. Он был полон впечатлений от поездки в Грецию, с воодушевлением рассказывал о своих астрофизических {119} успехах. Тем неожиданней были слова, сказанные им на прощание: «Вы не догадаетесь, какое для меня было самое яркое время? Да, да, то самое... У меня осталась мечта: написать еще одну книгу про детонацию».
Я отсчитываю годы назад, и тоже благословляю то время. Не только потому, что с ним связана лучшая пора молодости, но и потому, что судьба свела с очень умными и талантливыми ПЕРВЫМИ УЧИТЕЛЯМИ.
Мне посчастливилось начать работу под руководством Я. Б. Зельдовича и Д. А. Франк-Каменецкого. С 1947 по 1965 гг. Яков Борисович возглавлял первый теоретический отдел КБ–11, преобразованный в 1951 г. в теоретический сектор, и являлся заместителем научного руководителя.
Яков Борисович был наиболее авторитетным ученым-теоретиком нашего института, внесшим огромный вклад в создание физических основ российской науки и техники. Он — один из создателей первого образца ядерного заряда (1949 г.). В 1955 г. за создание нового, намного более эффективного образца Я. Б. Зельдовичу (а также И. В. Курчатову, Ю. Б. Харитону и А. Д. Сахарову) было присвоено звание лауреата Ленинской премии (впервые после ее восстановления). К сожалению, перечислить все его важнейшие заслуги в области развития военной техники просто невозможно.
У Якова Борисовича был постоянный интерес к педагогике — от создания научных школ до школьного преподавания. Уже в 1947 г. его лекции в Московском механическом институте (ныне МИФИ) собирали огромную аудиторию. Он был неповторимым воспитателем теоретиков и в Институте химической физики, и во ВНИИЭФ. Большинство ученых-теоретиков института — его ученики или ученики его учеников. Он заложил основы и традиции многих научных коллективов, создал школу релятивистской астрофизики. Его книга «Высшая математика для начинающих» обошла весь мир.
В Якове Борисовиче всегда восхищали неиссякающие с годами жизнелюбие и оптимизм. Хочется вспомнить еще одну, более важную его личную черту, связанную с оптимизмом и пробуждающую оптимизм, — всегда высокую научную этику.
Это был удивительно ясный ум. Зельдович очень любил жизнь во всех ее проявлениях. Я думаю, это здорово помогало ему жить и работать. Он никогда не приспосабливался. У нас сложились очень хорошие отношения. Яков Борисович уговорил меня не уезжать с «объекта». В 1958 г. он предложил мне заняться будущими промышленными зарядами. Он подарил мне много своих книг с автографами, в которых сквозила сильная тоска по «объекту», и вспоминал это время как самое счастливое в своей жизни. Для нас, его учеников, Яков Борисович Зельдович всегда останется высоким идеалом ученого, всю свою жизнь посвятившего науке.
| {120} |
В МИФИ я поступил в 1952 г. Назывался он в ту пору Московским механическим институтом. На третьем курсе меня перевели в группу теоретиков. Диплом писал у академика Я. Б. Зельдовича. Окончил институт с отличием по специальности «Теоретическая ядерная физика».
Учился в институте легко и с удовольствием — все зачеты и экзамены сдавал досрочно. В быту — обычная жизнь студента. Однако встреча в подмосковной Лосинке с Людмилой, моей будущей супругой, круто изменила безалаберную студенческую жизнь на суровый быт семьи студента.
На четвертом курсе родился сын Сергей, я забыл об отдыхе и работал в летние каникулы — проводил водяное отопление на частные дачи. Однако, несмотря ни на что, в институте дела шли отлично. Была одна трудность: жили мы втроем — я, жена и сын — в комнате, восемь квадратных метров, где были кровать да тумбочка со стулом.
Когда Я. Б. Зельдович предложил мне сдать экзамен для работы в закрытом городе, я с радостью пришел, получил за экзамен сто баллов из ста и был определен на «объект» (так назывался раньше секретный город Арзамас–16). На этом экзамене мне очень помогли знания, полученные на знаменитых семинарах академика Л. Д. Ландау на Воробьевых горах, и сдача теоретического минимума. Уже потом, занимаясь теорией импульсных реакций деления ядер, я познакомился с прекрасными работами Дау, как ласково называли все Льва Давыдовича, в этой области. Это были классические работы по физике микропроцессов цепной реакции деления ядер с переходом на макроскопические эффекты атомного взрыва.
Впервые я приехал в Арзамас–16 в 1957 г. для написания дипломной работы по тематике сжатия сверхмалых масс активных материалов, в которых еще возможна взрывная цепная реакция деления ядер. Тоща в теоретических отделениях под руководством А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича работало несколько десятков теоретиков. Коллектив был молодой и шумный, очень эмоционально реагировал на события за колючей проволокой, которой был окружен город. Но главное — работа спорилась, была атмосфера интеллектуального соперничества. Всех нас, молодых специалистов, привлекали удивительные возможности постижения микромира. А если к этому прибавить отдельную приличную комнату в коммунальной двухкомнатной квартире и вполне достаточный для пропитания семьи заработок — это такое счастье после студенческих лишений! Трудно поверить, что сама жизнь осуществила мою мечту.
Помню, как накануне окончания средней школы меня вызвали в кабинет секретаря горкома партии и предложили пойти в военное училище. Я ответил, что хочу заниматься ядерной физикой. «Вот ты куда махнул! Не каждому это доверят», — ответил мне секретарь.
И вот я — физик-теоретик в ядерном центре и занимаюсь разработкой ядерного оружия. Видимо, сама судьба вела меня в этот город. {121}
Жили мы здесь дружно и полностью были поглощены работой. Физик-теоретик был головой проекта, и как-то сами по себе складывались коллективы математиков, физиков-экспериментаторов и конструкторов на каждом этапе работ по атомному проекту.
Занимаясь теорией малых энерговыделений от реакций деления ядер, пришлось столкнуться с проблемой несоответствия теории и обширной серии экспериментальных результатов. Десятки раз я перепробовал приближенную теорию и проделывал сотни расчетов на ЭВМ, но результат не менялся. Засиживаясь до поздней ночи на кухне, когда жена и сын уже спали, я ломал голову, проверяя каждое приближение в теории выгораний ядерно-активных материалов в потоке нейтронов. Наконец мой труд был вознагражден. Оказалось, что небольшая неточность в теории связи давления с энергией вещества приводила к большой погрешности конечного результата атомного взрыва. Я обратился к классическим секретным работам Л. Д. Ландау, и там тоже обнаружил эту неточность. Да, для успеха в любом деле нужны не только знания, но и колоссальный труд. В дальнейшем уточнение теории помогло создать более совершенные конструкции для форсирования реакций деления. Это была моя первая личная маленькая победа. В душе я очень гордился ею и был просто счастлив. Так немного нужно для счастья теоретика — совпадение теории и эксперимента!
Я. Б. Зельдовича привлекала задача получения мезоядер, в которых вокруг ядра вместо легких электронов вращаются тяжелые отрицательные мезоны. Сегодня его увлекли бы эксперименты с фемтосекундным лазером, луч которого, минуя электроны, может проникнуть в ядро для управления ориентацией ядер. Ориентированные ядра заслуживают особого внимания в области мирного использования ядерной энергии без радиоактивных отходов, таких, как при делении ядер.
Пока при использовании ядерной энергии в мирных и военных целях мы имеем дело с изотопами, которые отличаются от стабильного ядра только количеством нейтронов и могут делиться с выделением энергии под действием нейтронов. Нейтроны легко могут атаковать любое ядро, свободно проникая через защитную оболочку атома из электронного облака. В 1939 г. Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович предложили и представили расчет цепной реакции деления тяжелых атомов.
Для решения военных или промышленных задач полезно придать новому поколению ядерных зарядов новые качества, обеспечивающие сравнительно низкие радиационные последствия после их применения, такие, чтобы спустя недели или месяцы можно было использовать территории, на которых проводятся взрывы. А для этого надо существенно уменьшить количество осколков деления ядер, а лучше всего вообще их исключить.
В природе есть изомеры, которые ничем не отличаются от стабильного ядра по количеству протонов и нейтронов в нем. Основное их отличие — они находятся в возбужденном состоянии по отношению к стабильному ядру. Ядерный изомеризм был открыт И. В. Курчатовым. Период перехода изомеров в стабильное состояние колеблется до сотен тысяч лет. Любые переходы из возбужденного в основное состояние сопровождаются выделением энергии. Ядерная энергия при этом излучается в виде рентгеновского или {122} гамма-излучения. Американцы уже писали об этом на примере изомера элемента гафния. Так, если энергия при делении 1 г урана или плутония эквивалентна 15 т в тротиловом эквиваленте (ТЭ), то 1 г изомера — 100 кг в ТЭ, что по биологическому воздействию эквивалентно 1 мг деления ядер. Вся проблема — научиться управлять временем перехода в стабильное состояние в течение очень короткого промежутка времени взрыва.
При делении ядра вновь родившиеся нейтроны обладают такой же способностью делить новые ядра, как погибшие в акте деления. При изомерных переходах вновь родившиеся гамма-кванты заметно отличаются своими свойствами от погибших при изомерном переходе. Это усложняет решение задачи.
К сожалению, с нами нет Якова Борисовича Зельдовича, который умел и любил с помощью оценок «на пальцах» анализировать физические явления и результаты экспериментов и который, несомненно, сумел бы качественно решить проблему изомеризма.
Впервые я увидел Якова Борисовича Зельдовича в феврале 1955 года, когда после окончания МГУ приехал на работу в Саров (теперь это Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ, а тогда в ходу были условные наименования «Москва Центр–300» или «Приволжская контора Главгорстроя»).
Тогда в Сарове собралось целое созвездие выдающихся ученых: Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, Д. А. Франк-Каменецкий, Е. И. Забабахин. Но и на их фоне Яков Борисович выделялся ярким талантом, неистощимой эрудицией, артистизмом и обаянием.
В Сарове было два теоретических сектора: под руководством А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича. Я был определен в сектор А. Д. Сахарова. Впрочем, это разделение было весьма условным, оба сектора размещались вместе. Андрей Дмитриевич практически не занимался молодыми специалистами, а Яков Борисович охотно с нами возился. Регулярно, особенно после поездок в Москву, он устраивал семинары, на которых увлеченно рассказывал о последних научных новостях.
На одном таком семинаре произошел эпизод, как мне кажется, очень характерный для ЯБ. Во время его рассказа я сделал замечание, видимо, не вполне глупое. После семинара он подошел ко мне и спросил, как мне удалось понять эту достаточно сложную проблему, я ответил, что занимался этим во время дипломной работы и читал статьи, о которых он рассказывал. Яков Борисович сразу же потерял интерес к разговору — он не слишком ценил книжную начитанность и гораздо выше ставил способность самостоятельно разобраться в научных вопросах.
Через полгода я в группе теоретиков во главе с Ю. А. Романовым уехал на «новый объект» на Урал — теперь это РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина {123} в г. Снежинске. Вскоре мне поручили работу по подготовке физического опыта с целью изучения свойств веществ при температурах и давлениях, характерных для термоядерных зарядов — «водородных бомб».
Первый такой опыт был предложен Яковом Борисовичем в Сарове. К сожалению, он закончился неудачей по методическим причинам. Было» конечно, очень важно узнать подробности о причинах неудачи и меня направили к ЯБ. Уже тогда начиналось соперничество между нашими институтами и я сомневался, захочет ли он помогать соперникам. К чести Якова Борисовича он охотно и детально рассказал мне свои соображения о причинах отказа, заинтересовано расспросил о нашей постановке опыта. Его советы очень помогли нам, и в нашем опыте были получены практически все запланированные результаты.
И в дальнейшем Яков Борисович всегда оказывался выше «местнических» соображений и посмеивался над чрезмерными проявлениями Саровского или Снежинского «патриотизма», которыми, что греха таить, отличались многие сотрудники наших обоих центров. Яков Борисович иногда любил щегольнуть напускным цинизмом, но в серьезных вопросах он вел себя предельно порядочно. В то же время кое-кто, считавшийся (и считавший себя) высоким нравственным идеалом, в сложных ситуациях, бывало, «давал трещину» (выражение начальника Главного управления ядерных зарядов Н. И. Павлова).
Еще один случай, характерный для атмосферы среди теоретиков в те далекие годы. На заседании Научно-технического совета во время серьезных докладов участники часто обменивались шутливыми, обычно рифмованными записками. Особенно отличался этим Ю. А. Романов. Однажды и я набрался наглости и послал записку Якову Борисовичу, который почему-то пришел на заседание с трехдневной щетиной (теперь это модно среди «столичной тусовки»). Записка гласила:
Будь хоть Наташа, хоть Рита я,
Мне нравится Зельда небритая.
Проследив, откуда пришла записка, Яков Борисович решил, что она послана Ю.А. Романовым или Л. П. Феоктистовым, с которыми мы сидели рядом, и ответил иронической (к сожалению, вполне непечатной) ремаркой на излишне эмоциональное выступление Л. П. Феоктистова на этом заседании. К счастью, старшие товарищи проявили благородство и не выдали меня.
Выдающимся событием стал выход в 1963 г. уникальной книги Я. Б. Зельдовича (совместно с Ю. П. Райзером) «Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений», по ней учатся уже несколько поколений научных работников во всем мире. И у меня она «зачитана до дыр», уже несколько раз приходилось ее подклеивать.
Я хотел бы рассказать и о последней встрече с Яковом Борисовичем. Она произошла во время очередной кампании по выборам в Академию. Научный руководитель нашего института Е. И. Забабахин выдвинул меня в «членкоры». Видимо, по его просьбе (а их связывали многолетние взаимные симпатии и уважение), Яков Борисович встретился со мной и предложил познакомить с несколькими авторитетными академиками, чтобы заручиться их поддержкой. Когда я сказал, что мне это кажется не вполне этичным, он {124} ехидно проехался по поводу моего «чистоплюйства», но» как мне кажется, одобрил мой отказ. Думаю, что моим избранием я все-таки обязан и поддержке Якова Борисовича, хотя оно произошло на следующих выборах, когда ЯБ уже не было в живых.
Вспоминая те, уже далекие годы, все яснее понимаешь, насколько нам, «второму поколению» Сарова и Снежинска, редкостно повезло на учителей и наставников.
Яков Борисович (или просто ЯБ) любил вспоминать слова Маяковского: «Я поэт, тем и интересен». Перефразировав их, применительно к себе, он говорил: «Я физик» тем и интересен». Конечно, для всех нас он, прежде всего, замечательный, поистине великий физик, с колоссальной эрудицией и с проницательным и молниеносным умом. Авторы воспоминаний о Зельдовиче, сами в большинстве своем физики, много и подробно пишут о его научных интересах, о результатах его работы и о стиле ее.
Однако ЯБ интересен не только как физик, но и просто как человек. Его высказывания и поступки в околонаучных или просто в ненаучных делах тоже очень интересны, их также стоит запомнить, и многие из них могут быть примерами для руководства и подражания.
В связи с этим я хочу рассказать об одном эпизоде, свидетелем и участником которого оказался я сам. А было дело так.
В 1965 году я собрался сдавать кандидатский экзамен по теоретической физике, конкретно, — по общей теории относительности. Выбор предмета был обусловлен темой диссертации, а та в свою очередь была предопределена моим участием в работе семинара по релятивистской астрофизике, организованном и руководимым Зельдовичем в начале шестидесятых годов в нашем институте (тогда еще конструкторском бюро, КБ–11). Это было время бурного становления новой науки, и, конечно, ЯБ с его острым чувством нового не мог не увлечься ею, не мог остаться в стороне.
Могло бы показаться странным, что в специализированном КБ, где люди должны заниматься своим основным делом — разработкой ядерного оружия, не запрещалось заниматься «посторонней» наукой. Но, во-первых, эти два научных направления не так уж далеки друг от друга. И то, и другое имеют дело со свойствами материи в экстремальных условиях и не очень чужды между собой в методическом отношении, а, во-вторых, и это весьма важно, научное руководство в те времена не препятствовало занятиям у нас так называемой открытой наукой. Помнится, что однажды на одном из совещаний в ответ на упрек московского административного начальства в слишком широкой тематике наш научный руководитель Ю. Б. Харитон {125} в сердцах воскликнул: «Грош нам цена, если мы не будем знать в десять раз больше того, что нужно сегодня!».
Позже обстановка, к сожалению, изменилась в худшую сторону, но в то время препятствий практически не было, и небольшой коллектив энтузиастов работал дружно и увлеченно. По молодости успевали и закрытой наукой заниматься, и открытой. Научное поле было почти непаханым, поэтому над темами не слишком задумывались, задачи находились легко (тем более при руководстве ЯБ), и результаты следовали довольно быстро.
Мне также удалось сделать и опубликовать несколько работ (совместно с ЯБ и самостоятельно), после чего по благословению Якова Борисовича я написал кандидатскую диссертацию по теории релятивистского гравитационного коллапса. В первой половине 1965 года диссертация была готова. Однако защита откладывалась из-за того, что кандидатские экзамены не были еще мной сданы. К тому времени Зельдович уже у нас постоянно не работал; он числился научным консультантом, и время от времени приезжал в Саров. Приезжая, он, кроме контактов с руководством, занимался тем, что вызывал к себе для бесед сотрудников, работавших над интересующими его вопросами. Я в ту пору занимался развитием методов численного счета уравнений общей теории относительности применительно к коллапсу звезд большой массы. В очередной приезд Зельдовича я намеревался рассказать ему об этой работе, а напоследок договориться с ним об экзамене по специальности.
Встреча состоялась 13 июля 1965 года в гостинице-коттедже на Зеленой. Я рассказал Зельдовичу о своих делах, а он мне стал рассказывать о московских научных новостях. Рассказал, в частности, о своей последней работе по аналогу зееман-эффекта в гравитационном поле вращающегося тела. Закончилось обсуждение текущих дел, и он спросил меня о том, в каком состоянии защита. Я ему рассказал и попросил назначить время для экзамена. Ответ был быстрым и неожиданным: «Садитесь и пишите протокол, оформим нашу беседу как экзамен». Сел я писать. Конечно, полагалось выдержать форму протокола. Не знаю как сейчас, а тогда требовалось, чтобы на экзамене, кроме заданных в процессе самого экзамена вопросов, был обязательно реферат на заранее указанную тему. Когда я спросил его, какую тему записать, он назвал ее: «Свойства гравитационного поля вращающихся тел», т.е. даже не то, что я ему рассказывал, а то, что он рассказывал мне! Далее следовало вписать оценку, и тут я наотрез отказался сам себя оценивать. Тогда он взял бумагу, собственноручно вписал высший балл и расписался как председатель экзаменационной комиссии. Остальные два члена комиссии (В. Б. Адамский и Н. А. Дмитриев) на следующий день расписались, что называется, «не глядя». Вот такой вышел экзамен.
Конечно, ЯБ так поступил не потому, что был уверен в моей способности ответить на любой вопрос, а просто, я думаю, не хотел тратить свое и чужое время на лишнюю волокиту.
Мне кажется, что описанный эпизод может служить неплохой иллюстрацией того, как Зельдович мог принимать неформальные и неординарные решения, — не только в науке, но и в обыденной жизни.
| {126} |
В 1993 г. была издана книга о Якове Борисовиче Зельдовиче «Знакомый незнакомый Зельдович (в воспоминаниях друзей, коллег, учеников)»1 С большим трудом я приобрел карточку заказа на эту книгу. Но в те смутные годы мне никто эту книгу не прислал. Это меня, конечно, расстроило. Позже я неоднократно пытался приобрести книгу о Зельдовиче, но безрезультатно. Значит — не судьба. Однажды я приехал в Москву и по служебным делам зашел в Научно-исследовательский институт автоматики (НИИА). Я всегда с большим уважением относился и отношусь к замечательному человеку, главному конструктору этого института Аркадию Адамовичу Бришу. По делу ли, или просто из уважения к нему я, будучи в НИНА, всегда его навещал. Увидев меня и поздоровавшись, он сказал, что привез мне подарок. С этими словами он достал из стола книгу о Зельдовиче и, передавая ее мне, сказал, что ему пришлось потрудиться, чтобы ее заполучить. Я очень был обрадован такому подарку. С волнением я прочел слова Бриша ко мне. Вот эти слова.
«Дорогой Борис! Мы имели счастье работать и общаться с великим ученым современности Яковом Борисовичем Зельдовичем. Он оказал большое влияние на нас. Как жаль, что в дни пятидесятилетия нашей Победы его нет с нами». Роспись Бриша. Дата: май 1995 г.
Да, остается только сожалеть, что нет возможности быть в аудитории или в рабочей комнате и слушать Якова Борисовича. Память сохраняют книги, и книга, подаренная мне, особенно дорога и тем, что я имею возможность в любое время взять ее в руки и почитать о замечательном человеке, и тем, что эта книга была подарена мне Аркадием Адамовичем Бришом, не просто видевшим Якова Борисовича, но и тесно работавшим с ним.
Приведу выдержку из коллективной книги ВНИИЭФ «Советский атомный проект»2): «В ноябре 1948 г. Я. Б. Зельдович и В. А. Цукерман предложили использовать новый принцип нейтронного инициирования. Для непосвященного читателя поясним, что взрыв атомной бомбы производится с помощью специального автоматического устройства, а инициирование ядерного взрыва осуществляется особым нейтронным источником. Его назначение — в нужный момент, а именно в момент достижения плутонием определенного уровня надкритичности, «дать» нейтроны. По схеме РДС–1 нейтронный источник помещался внутри атомного заряда. Я. Б. Зельдович и В. А. Цукерман выдвинули идею внешнего источника нейтронов, входящего в состав системы автоматики бомбы. Поначалу многим это показалось технологически {127} неосуществимо. Однако И. Б. Курчатов, Ю. Б. Харитон, Е. И. Забабахин и П. М. Зернов поддержали ученых. Была создана группа разработчиков под началом А. А. Бриша. Итогом ее деятельности стала новая автоматика. Она получила признание позже, к середине 50-х годов, когда результаты испытаний ядерных зарядов, оснащенных внешними источниками нейтронов, показали, что мощность взрыва в этом случае значительно увеличивается».
Переходя к моим воспоминаниям, хочу заметить, что я непосредственно с ним не работал. Он был уже физиком-теоретиком высочайшего класса, а я — начинающим физиком-ядерщиком, который приехал переучиваться на газодинамика. Прошло много лет, прошло много событий, но всякий раз я всегда помню о кратких минутах моего присутствия возле него.
Я узнал о Якове Борисовиче Зельдовиче в июне 1952 г. Тогда пятеро студентов-дипломников инженерно-физического факультета Московского механического института приехали жить, работать, защитить дипломы и остаться навсегда в г. Сарове, в том почтовом ящике. Там собралось много молодых людей разных специальностей и разного уровня подготовки к трудовой деятельности. Для всех них была организована учеба: курсы повышения квалификации, подготовка к сдачам экзаменов на право получения более высоких разрядов для рабочих, работали вечерний институт — вечерний филиал МИФИ, аспирантура, постоянно и аккуратно работали семинары различной ориентации. Естественно, что я стал ходить на семинары по газовой динамике. Там было кого и что послушать. Выступали Цукерман, Альтшулер, Кормер, Попов, Гандельман, Дмитриев; всех и не упомнишь. В большой аудитории всегда было полно участников семинара, всегда было интересно. На семинарах нередко выступал Яков Борисович Зельдович, расспрашивал, высказывал свои соображения, будоражил аудиторию, практически никого не оставляя без участия в семинаре. Это была школа растущего мастерства, в которой маститые ученые воспитывали молодых ученых. Впрочем понятия «маститый» и «молодой» были весьма условны. «Маститому» Я. Б. Зельдовичу было в 1952 г. 38 лет, а молодому специалисту Л. П. Феоктистову в это время было 23 года. Само присутствие на семинарах развивало профессиональный уровень. Даже молчаливое наблюдение поведения разных интересных участников семинара было поучительно. Кое-какие из этих наблюдений помню до сих пор.
Однажды во время какого-то из семинаров я заметил, что Андрей Дмитриевич Сахаров рисует на небольшом куске бумаги рисунок. Он рисовал двумя цветами: красным и синим. Я заметил, что художник рисует обеими руками — левой и правой — с одинаковым уровнем мастерства. Такое я увидел впервые. Позже я заметил, что Сахаров обычно писал правой рукой. Когда же хотел сказать что-нибудь важное, то он перекладывал карандаш, мел или ручку в левую руку. При этом чувствовалось, что ему так писать было сподручнее. Я смотрел, как из-под двух карандашей появляются контуры разноцветного рисунка и... в это время к Сахарову подошел Зельдович, мельком посмотрел на его творение и сказал: «Андрей, отложи свой рисунок, есть интересная задача как раз для тебя». В ответ я услышал: «Яша, сейчас я занят, дорисую — послушаю твою интересную задачу». Зельдович еще что-то хотел сказать, но видя, с каким старанием Сахаров выводит над {128} рисунком надпись к нему, махнул рукой и куда-то помчался. Я уже заметил, что Яков Борисович не столько идет, сколько летит, и говорил он быстро, но четко и содержательно, словно он уже подготовился к разговору с Вами. Наконец, над рисунком Сахарова появилась надпись: «Пусть расцветает тысяча цветов». Было видно, что художнику понравилось его творение, он полюбовался им, положил в тетрадку и стал оглядываться вокруг, кого-то высматривая. Потом он встал, подошел ко вновь появившемуся Зельдовичу и в своей непередаваемой манере сказал: «Яша, я готов тебя слушать. Только выйдем из аудитории, трудно усваивать два сообщения». Друзья — они на самом деле были в те годы друзьями — пошли куда-то побеседовать в спокойном месте.
В начале 1956 г. на специально выделенной площадке началась подготовка к монтажу первого физического опыта в КБ–11, который предстояло провести на Учебном полигоне №2 Министерства Обороны СССР. Целью этого опыта, главным идеологом которого был Яков Борисович, являлось экспериментальное определение длин пробегов фотонов ядерного взрыва и их альбедо для нескольких веществ. Предполагалось установить на стальной башне высотой 100 метров толстостенный свинцовый цилиндр, внутри которого будет установлен ядерный заряд. Ожидалось, что его энерговыделение составит около 20 тыс. т. тротилового эквивалента (ТЭ). В цилиндре по окружности на уровне экваториальной плоскости ядерного заряда вырезалось много отверстий диаметром 100–120 мм. Отверстия закрывались пластинами разной толщины из разных веществ: железа, свинца и урана. Предполагалось, что после взрыва ядерного заряда его излучение (фотоны), пройдя через эти пластины, начнут в разное время появляться и это свечение через систему зеркал попадет в оптические приборы, установленные на расстояниях от 3 до 10 километров.
До выезда на полигон мы смонтировали и отъюстировали на сборочной площадке весь оптический тракт, потом разобрали этот тракт, упаковали в тару и 27 июля 1956 г. наша группа отбыла на Семипалатинский полигон. Я не буду описывать всю технологию нашей работы с оптическим трактом. Это была нудная утомительная работа, которую мы выполняли в 100 км от центра полигона. Центром полигона был город. Его называли Берегом и там можно было отдохнуть в комнате на четырех человек, сходить в баню, в кино, в магазины. После короткого отдыха опять работа, которую не выбирают, а делают, если ее надо делать. В дни отдыха на Берегу я познакомился с физиками-теоретиками Юрой Райзером и Виктором Адамским, много раз видел Якова Борисовича. Он всегда ходил окруженным молодежью, сыпал шутками. 24 августа 1956 г. физический опыт был проведен, но он был неудачным, произошел неполный взрыв.
Позднее, в 1957–1958 гг. Яков Борисович предложил Самуилу Борисовичу Кормеру, бывшему в то время начальником отдела, изучающего интенсивные ударные волны, интересную экспериментальную задачу: отражает ли ударная волна свет, падающий нормально, или он проходит через ударную волну? Яков Борисович считал, что свет будет отражаться от плоскости волны. Он даже прочитал небольшую лекцию, в которой он объяснял это явление и решил эту задачу теоретически. Теперь ему интересно, что скажут {129} экспериментаторы. Об этой беседе Зельдовича с Кормером мне рассказал Кормер, который загорелся постановкой и проведением такого опыта. К этой работе он привлек своих сотрудников Кима Юшко и Мишу Синицына. В то время, когда я зашел к Кормеру, у него сидели эти сотрудники и еще двое или трое. Шло активное обсуждение постановки опыта. Увидев такое скопление возбужденных экспериментаторов, я попятился, бормоча какие-то извинения. Кормер, по сути своей, мог привлечь хоть черта, лишь бы он для этого оказался полезен. Через какое-то время Кормер предупредил меня о времени сбора, на который собирался прийти Зельдович, для обсуждения результатов нескольких опытов. Такое собрание состоялось, и на нем я просидел часа четыре, совершенно не заметив этого. Это было очень увлекательное обсуждение. Яков Борисович на этом обсуждении не изображал из себя всезнающего мэтра. Он организовал по-настоящему деловое обсуждение людей, заинтересованных в решении очередной непростой задачи.
В августе 1961 г. меня из КБ–11 (ныне ВНИИЭФ) в Нижегородской области перевели на новую работу в НИИ–1011 (ныне ВНИИТФ) в Челябинской области. Здесь я познакомился с Евгением Ивановичем Забабахиным, научным руководителем этого института. В горячке воздушных ядерных испытаний прошли 1961–1962 гг. В то время меня ввели в Научно-технический совет нашего министерства. Этот Совет возглавлял Юлий Борисович Харитон, его заместителем был Евгений Иванович Забабахин. В Совет входили: министр Е.П. Славский, академики АН СССР Я. Б. Зельдович и А. Д. Сахаров, члены-корреспонденты Л. П. Феоктистов, Ю. Н. Бабаев, Ю. А. Трутнев, доктора наук Ю. А. Романов, Е. А. Негин, С. Г. Кочарянц и др. Научно-технический совет Министерства среднего машиностроения собирался регулярно и решал главные вопросы развития ядерного оружия. Два раза я присутствовал на совещаниях у Н.С. Хрущева. Докладывали: Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров, Е.И. Забабахин, командующий Ракетными войсками стратегического назначения К. С. Москаленко. Все, что там говорилось, заняло бы много времени. Запомнилось, что в Научно-техническом Совете МСМ Яков Борисович всегда был активным. На совещаниях же у Хрущева он выступал гораздо реже, стараясь оставаться в тени. Хрущев явно благоволил к Сахарову и часто обращался к нему с вопросами, поучениями и рассуждениями. Тот охотно вступал в полемику с Никитой Сергеевичем, но ее содержание мною забыто, как любой словесный мусор, связанный с неконкретными разговорами руководителей Партии и Правительства. Результаты ядерных испытаний 1961–1962 гг. обсуждались на Научно-технических Советах, совещаниях разных уровней.
В 1963 г. был подписан трехсторонний Договор между СССР, США и Великобританией о прекращении ядерных испытаний в воздухе, под водой и в космосе. Постепенно установился ежегодный темп подземных ядерных испытаний, ядерные заряды к которым готовили ВНИИЭФ и ВНИИП практически в равных количествах и разного назначения.
В 1964 г. Яков Борисович уехал в Москву и занялся большой физикой. Мне редко доводилось встречаться с ним, только когда я приезжал в Министерство, с которым Яков Борисович никогда не порывал. Я знал, что он переписывался с Евгением Ивановичем Забабахиным, который изредка {130} рассказывал мне о содержании этой переписки. Основной ее темой было обсуждение задач кумуляции. Евгений Иванович высоко ценил это общение и дорожил им. Когда он по болезни перестал приезжать в Москву в 70-х годах, переписка Забабахина и Зельдовича не прекратилась.
Однажды, приехав в Москву, я случайно попал на лекцию Зельдовича, которую он прочитал перед сотрудниками Министерства. Лекция поразила редким сочетанием сложности и доступности. Он рассказывал о новейшей физике, о новых путях ее развития и делал это настолько великолепно, что хотелось аплодировать. Я подумал тогда о том, как огромен был научный багаж его знаний. Сейчас нередко вспоминают, что Зельдович представлял собой огромный, виртуозный и сложно устроенный мир, который развивался непрерывно.
Его смерть казалась величайшей нелепостью. Казалось, что понятия смерть и Зельдович были несовместимы. Но это только казалось...
В один из осенних вечеров 1968 г., когда работы по оформлению мемориальных комнат в доме Игоря Васильевича Курчатова шли полным ходом, мне довелось быть гостем его вдовы Марины Дмитриевны.
Мы сидели за столом, на котором в круглой плоской вазочке стояли яркие веселые цветы и было приготовлено угощение к чаю. Радушие хозяйки дома, ее интеллигентная простота, обстановка покоя и памяти располагали к беседе. Постепенно разговор от музейных забот смещался в прошлое, и Марина Дмитриевна стала вспоминать жизнь в Ленинграде и напряженный самоотверженный период деятельности Игоря Васильевича в Москве. Как-то само собой заговорили о появившейся книге П. Асташенкова «Курчатов». Марина Дмитриевна не жаловала эту книгу, которая скорее разочаровала ее, чем порадовала, высказала сожаление, что детально ознакомила автора с сохранившимися у нее письмами мужа. Но когда я заметил, что лучшая книга об Игоре Васильевиче наверняка впереди, Марина Дмитриевна с грустью возразила: «Нет... Наступило другое время. Теперь вся слава у космонавтов. Создатели ядерного оружия отошли в тень...»
Минуло почти четверть века. Ушли в прошлое восторги и ликования по поводу каждого нового космического запуска. И мало кто помнит зажигательные слова о том, что мы научились делать ракеты на конвейере, как сосиски. Говоря об обороне, мы давно используем уравновешенную формулу «ракетно-ядерный щит страны», воздавая этим должное героическому вкладу и физиков, и ракетчиков в его создание.
Некую аналогию в ситуации я усматриваю, когда в год широко отмечаемого 70-летия Андрея Дмитриевича Сахарова, вслед за воспоминаниями о нем1 мне предложили написать о Якове Борисовиче Зельдовиче. Когда {131} с уст очнувшегося от оцепенения или неведения общества, быть может, переживающего и очистительное покаяние, не сходит одно имя и как бы невольно пребывает в тени другое.
Величие Андрея Дмитриевича не пострадает, если я осмелюсь утверждать, что ему как физику неизменно соответствовал равновеликий талант другого соотечественника — Якова Борисовича Зельдовича. Дело тут не в одинаковых официальных отличиях, хотя и тот, и другой удостоились отнюдь не к юбилейным датам и задолго до «звездопадной эпохи застоя» званий трижды Героев Социалистического Труда и лауреатов Ленинской премии. Суть гораздо глубже. И не случайно патриарх отечественной ядерной физики Ю.Б. Харитон, удостоенный, кстати, таких же отличий и прекрасно посвященный в «открытые» н «закрытые» работы обоих знаменитых коллег, говорит об одном из них как о «совершенно уникальном явлении в нашей науке», и как о «совершенно исключительном ученом» — о другом.
Благодатная тема равновеликости дарований двух корифеев физической науки — Сахарова и Зельдовича — увлечет еще не одного исследователя. Но мне представляется уместным обратить внимание на два-три примечательных обстоятельства. Действительно, если А. Д. Сахарову вместе с И.Е. Таммом принадлежит кардинальная идея термоизоляции горячей плазмы сильным магнитным полем и магнитного термоядерного реактора, то Я. Б. Зельдовичу вместе с Ю.Б, Харитоном выпала честь заложить фундамент современной физики атомных реакторов и ядерной энергетики, выполнить в этой области основополагающие работы, имеющие огромное принципиальное значение. Если Сахарову принадлежит оригинальная идея создания взрывомагнитных (магнитокумулятивных) генераторов, обеспечивших получение рекордных сверхсильных импульсных магнитных полей, то Зельдович, к примеру, предложил способ удержания очень медленных нейтронов в полости («ядерная бутылка Зельдовича»), положивший начало новой области нейтронной физики. Якову Борисовичу принадлежит и идея использования встречных пучков, реализованная в ускорительной технике. Андрей Дмитриевич и Яков Борисович независимо друг от друга высказали пионерские идеи о возможности мюонного катализа ядерных реакций в дейтерии, а затем совместно развили их.
Вклад Андрея Дмитриевича в разработку советской термоядерной бомбы был решающим. Но уместно опять обратиться к авторитетному мнению Харитона: «...Здесь достаточно велика также роль многих других. В общем-то, это была коллективная работа. В одном из отчетов самого начального периода Андрей Дмитриевич оговаривается, что развивает некоторые идеи, высказанные Зельдовичем. Так что трудно сказать, пришли бы ему в голову решающие мысли, если бы не было более ранних работ Якова Борисовича»1.
Эту же мысль о тесном творческом содружестве Якова Борисовича и Андрея Дмитриевича подчеркивают и другие их коллеги-ветераны. Ю. А. Романов, говоря о работе А. Д. Сахарова уже после первого испытания отечественной водородной бомбы в августе 1953 г., обращает внимание на {132} то, что «ранней весной 1954 г. в обсуждениях с Зельдовичем родились идеи, к которым Улам и Теллер пришли в 1951 г.»1). Беседуя об этом периоде с В. Б. Адамским, я узнал, что трудно было даже понять, чьи озарения их великолепного творческого взаимодействия стали решающими, ибо в памяти запечатлелся по-мальчишески непосредственный, подскакивающий на одной ноге от радости, счастливый Яков Борисович, возвещающий о наступившем в ходе его дискуссии с Сахаровым понимании, «как надо делать...»
Яков Борисович был в числе основных создателей первой отечественной атомной бомбы, успешное испытание которой 29 августа 1949 г. ликвидировало атомную монополию США. За участие в этой работе Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1949 г., подписанным Сталиным, Яков Борисович вместе с несколькими коллегами был представлен к званию Героя Социалистического Труда, премирован крупной денежной суммой и автомашиной «Победа», получил звание лауреата Сталинской премии первой степени и дачу, построенную за счет государства.
Наконец, я уже не говорю о том, что если Андрей Дмитриевич, получивший ряд выдающихся результатов в астрофизике и теоретической физике, был наиболее изощрен, удачлив и неповторим в революционизирующих, важных для обороны страны и развития науки инженерных приложениях своих блестящих физических идей, то Яков Борисович, внеся огромный вклад в атомную оборонную тематику страны и создав физическую основу внутренней баллистики твердотопливных ракет, оставил после себя не только необъятное богатейшее научное наследие, но и породил научные школы в химической физике, гидродинамике, теории горения, ядерной физике, физике элементарных частиц и в астрофизике.
Если говорить о творческом почерке Якова Борисовича и Андрея Дмитриевича, то они как бы обогащали, дополняли друг друга и в определенном смысле шли во встречных направлениях. Действительно, Зельдович, включаясь в новую для него область исследований, предпочитал «поставить и решить какую-нибудь задачу» и через обобщение шел к пониманию проблемы и глубинных связей. Для Андрея Дмтриевича с его широкой эрудицией, как отмечал Тамм, «физические закономерности и связи явлений... непосредственно зримы и ощутимы во всей своей внутренней простоте»2), что: и позволило ему проявлять прямо-таки чудеса технической изобретательности.
Я не могу удержаться, чтобы не привести слова Андрея Дмитриевича: «В Якове Борисовиче всегда поражала неустанная научная активность, живой интерес ко всему новому, поразительная разносторонность и интуиция... Он все время на переднем крае, все время окружен людьми... Влияние Якова Борисовича на учеников и окружающих было поразительным. В них зачастую раскрывались способности к плодотворному творчеству, которые без этого не могли бы реализоваться или реализовались бы не полностью... Я чувствую, сколь многим я ему обязан. В чрезвычайно острой и напряженной обстановке тех лет — простые и товарищеские, в высшей степени доброжелательные {133} отношения... В области фундаментальной науки многие мои работы возникли из общения с ним, под влиянием его работ и идей. Яков Борисович в науке — человек огромной жадности (в хорошем смысле слова) и в то же время абсолютной честности, самокритичный, готовый признать свою ошибку, правоту или авторство другого. Он по-детски радовался, когда ему удавалось сделать что-то существенное...»1).
Оказавшись на объекте в коллективе А. Д. Сахарова в августе 1960 г., я сразу почувствовал гипнотическое, завораживающее очарование Зельдовича. Он был настолько яркой индивидуальностью, что мне, прочитавшему к тому времени «Атомы у нас дома» Лауры Ферми, показалось, что если и сопоставлять Якова Борисовича с кем-либо из знаменитых участников американского атомного проекта, то только с легендарным итальянцем Энрико Ферми. И я пережил «тихую радость», когда много позже узнал, что, по замечанию Л. Д. Ландау, ему не известен ни один физик, исключая Ферми, который обладал бы таким богатством новых идей, как Зельдович.
Дарование Якова Борисовича проявилось необыкновенно рано. В 1938 г., когда он был еще кандидатом наук, Ученый совет Института химической физики единогласно выдвинул его в состав Академии (правда, в тот раз неудачно): «успев в возрасте 24 лет уже столь много сделать для науки, продолжая все более интенсивно работать и расти, он, без сомнения, в дальнейшем обогатит науку еще более ценными результатами. Но уже и сейчас, независимо от его возраста, по качеству и количеству сделанного им он несомненно достоин звания члена-корреспондента Академии наук СССР»2).
Талантом и сообразительностью Зельдовича восхищались Семенов и Курчатов. Один из ярких и одаренных коллег Якова Борисовича по «объекту» Н. А. Дмитриев в пору, когда еще не существовало ЭВМ, сравнивал его сразу с десятком работающих арифмометров. Оценка по тем временам наивысшая!
Все понимали, что Зельдович — личность выдающаяся. Поражала легкость, с которой он периодически переключался с одной области физики на совершенно иную, очень скоро и тут становясь признанным лидером. И не порывал, как это водится у других, с предшествующими увлечениями. Он даже шутил, называя «вечнозелеными» свои работы в области горения и детонации, к которым возвращался вновь и вновь.
В июне 1980 г., когда в конференц-зале Института химической физики отмечался день памяти Д. А. Франк-Каменецкого — человека энциклопедических знаний и необыкновенного по широте научных интересов, мне, уже давно знавшему Якова Борисовача и видевшему его при различных обстоятельствах, посчастливилось как никогда ранее наблюдать академика, если можно так выразиться, во всем его полифоническом блеске. Дело в том, что при обсуждении различными специалистами вклада Давида Альбертовича в те или иные области физики объединяющим центром и своеобразным «переводчиком» неизменно становился Яков Борисович. Он без малейшего напряжения в любой момент переходил от глубин атомного ядра и астрофизики к тонким вопросам теории горения или же химической физики, удивляя {134} фейерверками подробностей, старых и новых литературных ссылок, фамилий. И говоря в тот же день о друге, он невольно охарактеризовал самого себя: «Давид Альбертович был очень легок на подъем. Помню, еще в Ленинграде, в дни нашей молодости мы гуляли за городом... Какая-то станция... Проходил какой-то поезд — мы сели в него и оказались в Новгороде, смотрели древние храмы... Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что в науке не раз шел по следу Давида Альбертовича. Позже него я занялся горением. Через много лет, когда он обратился к звездам, какое-то время спустя я также занялся астрофизикой...»
Руководители атомного ведомства страны высоко ценили Зельдовича. Когда в конце 1963 г. он уходил из оборонной тематики, вопрос — отпускать его или нет — болезненно решался в ЦК. Его уход рассматривался как большая потеря. И это перекликается с мнением Харитона, который испытывал «глубокую уверенность, что если бы Сахаров и Зельдович продолжали свою деятельность в области оборонной тематики, они выкопали бы что-то существенное»1).
Совсем недавно, беседуя с Е. П. Славским, три десятилетия возглавлявшим Министерство среднего машиностроения, я поинтересовался его отношением к Якову Борисовичу. Ефим Павлович преобразился и восторженно воскликнул: «Зельдович — это же сверхталант! Вот это тала-а-аит! Какой умница, какой величайший человек!»
За годы совместной работы бывали разные ситуации, которые позволяли «прочувствовать людей, включая руководителей, в необычных или критических обстоятельствах». Так, во время первого испытания отечественной атомной бомбы, когда малейшая неудача могла кончиться трагически для ее создателей, были люди, предрекавшие провал и не скрывавшие свои мрачные прогнозы от высокого начальства. Кто-то из руководителей атомного проекта встретился с такими людьми: в очередной раз услышав от них, что ничего не получится, предложил изложить свои соображения письменно.
Те написали, и тогда им было сказано, что испытание уже проведено и прошло успешно...
Приведу выразительный штрих. Когда на каком-то совещании во время выступления министра Л. В. Альтшулер в резкой форме не согласился с одним из его спорных высказываний, Зельдович не сдержался: «Лев Владимирович! Вы поступили бестактно. Ефим Павлович очень хороший человек, а вы подаете такие реплики...». Однако вскоре Яков Борисович позвонил своему коллеге и разрядил происшедшее в свойственном ему стиле: «Лев Владимирович, поймите, я с возрастом потерял чувство юмора...».
Чего-чего, а юмора Якову Борисовичу было не занимать! Искрометный, иногда с налетом язвительности и задиристости юмор был неотделим от Зельдовича, казался частью его натуры. И не дай Бог было попасться ему на язык!
Он мог подойти к доске и со словами «сейчас мы с вами нарисуем совершенно секретную окружность» под одобрительный гул присутствующих {135} решительно взмахивал рукой. Если на семинаре увлекались статистическими выкладками, он любил приговаривать: «Есть ложь, наглая ложь и... статистика». Укорял докладчика, если тот топтался «вокруг да около»: «Что это Вы, как в индийском любовном эпосе — о цветах, птичках, солнце... Скажите, наконец, и о возлюбленной!»
Яков Борисович прекрасно знал поэзию и литературу, следил за новинками. И если уж прибегал к цитированию (что делал довольно часто), то приводимые им литературные «заимствования» отличались свежестью, неожиданностью и точностью попадания. То ли ноябрьским, то ли декабрьским вечером 1962 г. я видел его в городском читальном зале, упоенно глотающим «Один день Ивана Денисовича» в только что пришедшем номере «Нового мира». Особую слабость он питал к Ильфу и Петрову, удачно и кстати используя их образы и выражения.
На радость местным острякам, с его уст слетали высказывания и с «солоноватым» привкусом: «Сделать секретную работу — все равно, что держать кукиш в кармане», «это наглость без удовольствия» и т. п. Даже свой возраст, когда ему исполнилось 49 лет, он обыгрывал с озорством: «Мне теперь семь в квадрате!» Родившись 8 марта, он не упускал случая заметить, что является подарком женщинам. И однажды, преодолевая все режимные преграды и запреты, привез на работу 8 марта (а тогда это был еще рабочий день) ящик шампанского для женского коллектива соседнего подразделения.
В озорстве, розыгрышах и шутках, как и в острой реакции, все получалось у Якова Борисовича естественно и внезапно. Когда бывший коллега, сосед по даче, обратился за консультацией к нему, уже покинувшему объект и расставшемуся с секретной тематикой, Зельдович без промедления парировал: «Ради Бога, избавьте меня от этого! Я так хочу «стерилизоваться»! Ну, на кой черт мне эти бомбы — китайские, американские... Будь они все неладны!»
Веселый нрав и остроумие Зельдовича очень импонировали Курчатову. Однажды при драматических обстоятельствах он и сам стал невольным соучастником рискованной проделки. Вот как рассказывает очевидец происшествия В. И. Алферов:
«Во время подготовки к испытанию нашего самого первого атомного заряда заключительные операции выполнялись строго по технической инструкции: один читал, что делать, другие (как правило, двое) действовали. Читал обычно Харитон, сидя на стуле. А инструкция представляла собой нечто вроде детального сценария: правой рукой взять то, левой это, так-то сблизить, так-то соединить и тому подобное. Подошла самая ответственная операция — сборка плутониевых полусфер; на нее пришли Курчатов и Зельдович. Две половинки собрали и приступили к техническому осмотру на соответствие чертежу. И тут вдруг выяснилось, что по кромкам плутониевых полусфер были выполнены фасочки, а на чертеже они отсутствовали! Формально — явное несоответствие. Да еще при том напряжении и ответственности... Игорь Васильевич, хотя и понимал, что фаски для срабатывания изделия опасности не представляют, вмешался: «Почему выполнены фаски, а на чертеже их нет?» Нашлись объяснения. И в этот момент, как на грех, подошел окруженный свитой Берия. Чтобы разрядить ситуацию, Курчатов обратился к Зельдовичу: {136}
— Яков Борисович» посчитай, что может дать эта фаска. Сколько нужно времени?
— Минут пятнадцать.
— Хорошо. Ида, считай.
Не прошло и десяти минут, как Зельдович возвратился.
— Ну, что, посчитал? — спросил Курчатов.
— Посчитал. Все будет в порядке.
— Покажи!
Я стоял как раз за спиной Зельдовича. Он разворачивает папку, а в ней — чистый лист бумаги. Игорь Васильевич, мгновенно принял игру, хлопнул Зельдовича по плечу:
— Правильно! Молодец, Яша!
На том и порешили, а Берия, стоявший, к счастью, в стороне от них, ничего не понял».
Существует и несколько иная версия заключительной части этой истории, описанная И. Н. Головиным со слов В. А. Давиденко — также непосредственного участника подготовки нашего первого атомного изделия к испытанию:
«Курчатов зовет Зельдовича — и назначает комиссию для принятия решения: не приведет ли снятие фасок к нарушению сжатия. Членов комиссии рассаживают по разным комнатам, чтобы аргументация была независимой. Их заключения — фаски не помешают, симметрия сжатия сохранится — подшивают к протоколу сборки «изделия». Сборка продолжается»1.
При кажущемся на первый взгляд различии, мне представляется, что обе версии лишь в разной пропорции и, быть может, относясь к разным моментам времени, описывают реальные события и потому не могут взаимно исключать друг друга. Как бы там ни было, находчивость и остроумие Зельдовича не могли не проявиться в столь драматической ситуации.
Его мгновенная реакция на слово или действие в ходе дискуссии с коллегой вызывала удивление и восхищение. И непроизвольное желание... платить той же монетой. Если это хотя бы иногда удавалось, случай превращался в легенду. Так, из уст в уста передавалась история, как на семинаре в институте М.В. Келдыша в ответ на вопрос Зельдовича докладчик — один из известных математиков — отмахнулся: «Ну, Яков Борисович, Вам это объяснять, что генералу...»
Обыгрывались его постоянные поездки из Москвы на объект и обратно, где он руководил группами физиков:
Что за тележка у дядюшки Якова —
Едет и взад и вперед одинаково!
И так как с отъездом Якова Борисовича несколько спадало напряжение в одной из групп, стихотворец отмечал:
Пусть половина другая почешется,
Эта ж пока отдохнет и утешится... {137}
Яков Борисович ценил красоту в жизни. Но говорил, что для него не менее важно и ощущение красоты, которое возникает, если удается что-то понять в природе и ее законах. Нередко, однако, коллеги обыгрывали только первую часть этого утверждения. Один из них даже одарил Якова Борисовича эпиграммой:
...Для покорения девиц
ЯБ ничем не поскупится:
Чтоб приобресть шикарный стиль,
ЯБ купил автомобиль.
Но я жалеть о том не стану —
Авось, пешой я не отстану!
Эта же тема присутствовала и в «Выездной арии теореев» на одном из объектовских капустников:
Мы едем, едем, едем:
Зовет нас Харитон,
И каждый теоретик —
Без малого Ньютон.
Мы ринемся в работу,
Нам трудность нипочем.
И левою рукою
Все корни извлечем.
Красота, красота!
Гандельмана нам сюда, (1 голос),
Женьку Забабаху, (2 голоса),
Яшку-забияку, (женщины),
Дмитриева Николая —
Вот компания какая!
Вот компания какая!
Мне уже доводилось рассказывать1, что для нас, молодежи, Яков Борисович и Андрей Дмитриевич были новым, удивительным типом академика. Демократизмом, отсутствием какого-либо намека на величие или начальственность, открытостью и доступностью они разрушали традиционное представление об академиках как объектах всеобщего почитания и поклонения. И вызывали у нас восхищение.
Их творческая «кухня» была открыта для всех. Как дискуссия между ними, так и жаркий, на равных, спор у доски с любым из нас были нормальным, обычным делом. Или знакомство, например, по предложению Якова Борисовича, с его вычислениями или рукописью по рабочей тетради.
Невозможно даже представить, чтобы Зельдович или Сахаров устроили кому-нибудь из сотрудников «начальственный разнос». Атмосфера дружелюбия в коллективе была их заслугой, следствием внимания к каждому из нас. Мы знали, что оба отказались от обычных, регулярных по итогам работ {138} денежных премий и постоянно перечисляли их, как сказали бы теперь, на благотворительные цели.
С Яковом Борисовичем в нашем небольшом городе можно было столкнуться в кинотеатре, библиотеке, на лыжне или катке, в уютной, на три-четыре столика, «генеральской» столовой для местной элиты и даже в продуктовом магазине. Однажды, возвращаясь с тренировки, я столкнулся с ним на автобусной остановке. Он провел вечер на катке. Разговорились о спорте. Оказалось, через какие только спортивные увлечения не прошел Яков Борисович. «Неужели и боксом занимались?» «И боксом, — подтвердил он и со смехом добавил, — но только до первого нокдауна!»
Вместе с нами он участвовал в шумных коллективных встречах Нового года, с легкостью откликался на приглашение и приходил в общежитие разделить какую-либо радость. Участвовал в застолье, распивая вместе с нами популярную тогда «кровавую Мэри».
Он был неизменным «возмутителем» научного спокойствия, поставщиком «последних известий» из самых различных областей физики и физических сообществ страны. Творческий потенциал Зельдовича казался безграничным. Он постоянно тянулся к фундаментальной науке, работа в которой всегда считалась на объекте высшим классом. Яков Борисович старался быть на переднем крае, что-то творить, и не позволял нам расслабляться и превращаться в заурядных «технарей». Заботясь о том, чтобы самому быть в отличной «научной форме», он был подлинным живительным источником для коллектива, ибо ни свои знания, ни идеи Зельдович, по удачному замечанию А даме кого, в себе не держал и быстро выплескивал. Его стихией было как раз генерировать научные идеи и облекать в плоть физические догадки, зажигать и вовлекать в процесс научного творчества окружающих людей и особенно молодежь.
Даже при самой первой встрече, когда я столкнулся с ним в коридоре, и он тут же, протянув руку, представился: «Зельдович. А кто Вы?» — я не избежал приглашения зайти в его кабинет на начавшийся семинар. Кстати, в тот раз он сам был докладчиком и, рассказывая что-то из области элементарных частиц, на ходу уличил себя в погрешности. И тут же у доски все поправил. В заключение удовлетворенно заметил; «Вот видите, как полезно выступать на семинарах!» Уже тогда я обратил внимание на атмосферу непосредственности, доброжелательности и веселого неистощимого остроумия. Тон, конечно, задавал Яков Борисович.
Могло случиться и так. Только Зельдович начнет свой доклад, как вскакивает Коля Дмитриев и как бы всерьез предлагает: «Э, нет! Давайте позовем Андрея Дмитриевича! Для инспекции». Приходит Сахаров, садится. Зельдович продолжает свое сообщение. Конечно, ни о какой инспекции речи нет. Но цель достигнута: настроение на семинаре создано.
И все-таки следует оговориться, что подобные шутки вне ситуации, приобретающие в тех или иных высказываниях и воспоминаниях как бы самостоятельное звучание, обедняются и акценты смещаются. К примеру, вряд ли может возводиться в абсолют (вне озорной атмосферы семинара) реплика Якова Борисовича: «Андрей, вам уже, конечно, все ясно! Поэтому вы погуляйте с полчасика, пока мы доберемся до сути. И тогда вас позовем». {139}
Однако правда и то, что Яков Борисович всегда выделял Андрея Дмитриевича, посматривал, как он реагирует. Они вообще представляли собой великолепный научный дуэт. И зачастую действовали в контакте друг с другом. От В. Д. Шафранова я узнал примечательную историю. Почти 35 лет назад, еще молодым теоретиком, Виталий Дмитриевич сделал работу по структуре ударной волны в плазме и послал статью в научный журнал. Оказалось, почти одновременно созвучную работу выполнил Яков Борисович и его рукопись также была направлена в редакцию этого журнала. В каждой работе были свои достоинства, но в одном месте просматривалось некое совпадение. В редколлегии, вероятно, возникли сомнения, как поступить с рукописью Шафранова при наличии статьи Зельдовича. Поэтому решили устроить встречу авторов с соответствующим обсуждением. Встреча состоялась. Но сюрпризом было то, что Яков Борисович приехал в Институт атомной энергии к Виталию Дмитриевичу не один, а... с Андреем Дмитриевичем. Вспоминает В. Д. Шафранов: «Яков Борисович в присутствии Сахарова устроил мне нечто вроде экзамена. Так как для меня это были уже ясные, продуманные вещи, то я ответил на все вопросы, в том числе и на показавшийся мне каверзным вопрос о роли электрического поля. Атмосфера встречи резко изменилась, и он очень дружелюбно закончил беседу. Андрей Дмитриевич, которому, как мне показалось, была отведена роль беспристрастного арбитра, молча отсиживался рядышком, так и не задав ни одного вопроса. А наши статьи были опубликованы то ли в одном номере журнала, то ли друг за другом».
Поток научных публикаций Зельдовича в самых различных областях физики не иссякал. И среди нас даже проскальзывали шутливые реплики с этакой напускной бравадой молодости: «Ну как, читал в журнале очередную университетскую задачку ЯБ?...» Но мы и тогда прекрасно сознавали как цену этим «задачкам», так и глубину, и смелость научной фантазии Якова Борисовича.
Пожалуй, одна из самых мимолетных, как бы невзначай оброненных им идей — встречные пучки. (С подобной же легкостью Андрей Дмитриевич высказал идею магнитной кумуляции, когда, по замечанию Ю.А. Романова, это «предложение родилось буквально у меня на глазах»1).) И я не могу отказать себе в удовольствии напомнить, с каким элегантным изяществом писали позднее об идее встречных пучков и ее воплощении в жизнь непосредственные «виновники» нового направления в физике ускорителей.
А. М. Будкер: «Идея встречных пучков не нова, она является тривиальным следствием теории относительности. Впервые, как мне известно, ее высказал академик Зельдович, правда, в весьма пессимистическом тоне. Пессимизм вполне понятен. В этом случае мишенью служит второй пучок, плотность которого на 17 порядков меньше плотности конденсированной среды — мишени обычного ускорителя»2). {140}
Я. Б. Зельдович: «Для характеристики щепетильности А. М. Будкера1 напомню один случай: в докладе Общему собранию Академии наук СССР он упомянул и мое замечание о том, что встречные пучки энергетически очень выгодны, однако тут же совершенно справедливо отметил, что я считал встречные пучки практически неосуществимыми из-за трудности их фокусировки. Для научной смелости Андрея Михайловича очень характерно, что он воспринял положительную часть высказывания. В то же время простейшие (но и наивные) пессимистические оценки его не пугали: он нашел пути преодоления трудностей»2).
Если бы мне пришлось давать лаконичную характеристику Якову Борисовичу, я бы сказал, что он обладал азартной юношеской увлеченностью наукой и невообразимой энергией. В науке Зельдовича привлекал, говоря его словами, не столько каскад уже сделанных открытий, но прежде всего явная, зияющая незавершенность теории. При творческом общении с ним неизменно возникало непередаваемо прекрасное ощущение соприкосновения с передним краем в исследовании, с его «кромочкой», за которой главенствуют не столько ответы, сколько лавинонарастающие вопросы. Он обладал безошибочным и таинственным даром — чувствовать «почки роста» науки.
Даже приезд Зельдовича на работу становился событием. Он лихо подкатывал на белой «Волге» к зданию, закладывал энергичный вираж и, дав задний ход, прижимал машину багажником к стене. Так же энергично поднимался на наш этаж и уже в коридоре, направляясь в кабинет, кому-то давал поручения, кого-то, заглянув в комнату, приглашал к себе. И все это — с неизменной веселой шуткой. Он мог появиться в аккуратном ладном костюме и даже иногда с одной звездой Героя (но никогда с двумя или тремя!) на лацкане пиджака, который в кабинете тут же водружался на спинку стула.
В жаркий день Яков Борисович мог собрать сотрудников и, усадив их в машину, в рабочее время отправиться на пруд купаться. Проходил какой-нибудь час, и Яков Борисович командовал: «Теперь за работу!».
Обращала на себя внимание и его озорная непосредственность. Собравшись пообедать, я подкатил на своем мотоцикле к «генеральской» столовой, когда из нее выходил Яков Борисович. Увидев меня на мотоцикле, он загорелся: «Юра! Позвольте прокатиться!» Мотоцикл затрещал, и Яков Борисович не очень-то уверенно (ведь прошли годы, как он с мотоцикла пересел за руль автомобиля), но постепенно увеличивая скорость, скрылся за поворотом. По мере того, как он все не возвращался, мною овладевало нарастающее беспокойство. Через 15–20 минут он показался, широко улыбающийся, счастливый, уже уверенно восседающий за рулем. И воскликнул, показывая на свою «Волгу»: «Давайте меняться!»
А вот рассказ еще одного участника необыкновенного эпизода, В. С. Комелькова: «В Зельдовиче меня привлекала его непосредственность. Он совершенно свободно мог говорить на любую тему, и наше время проходило довольно весело. Но однажды он неожиданно предложил... побороться. Я оценил его низкий рост, наши разные весовые категории и почувствовал {141} недоумение — зачем ему это? Но тем не менее согласился! Мы некоторое время «повозились», а потом я уложил его в пыль. Яков Борисович воспринял все как должное, спокойно поднялся, отряхнулся, и мы пошли дальше, продолжая, как ни в чем не бывало, наш разговор...»
Г. Л. Шнирман припоминает переполох, который случился на полигоне, когда вдруг обнаружилось, что в местную охраняемую гостиницу не через вход, а (по совершенно непонятной причине) через окно в свою комнату на первом этаже залезал член-корреспондент АН СССР Я. Б. Зельдович. «Он резвился, как человек, еще не достигший зрелого возраста». И резвиться очень любил. Как-то несколько сотрудников, включая Якова Борисовича, безуспешно уговаривали пойти на прогулку Д. А. Франк-Каменецкого. Тот все артачился и идти не хотел. Тогда вчетвером, во главе с Яковом Борисовичем, они взяли за углы одеяло, на котором на кровати отдыхал Давид Альбертович, подняли его и вышли с необычной ношей из здания гостиницы мимо повстречавшихся недоумевающих генералов из местного начальства.
Яков Борисович не упускал случая подурачиться, и его проделок, вплоть до внезапного «таинственного» исчезновения из помещения, не могли предотвратить даже приставленные к нему одно время два телохранителя. Один из них был полный, в возрасте (видимо, дослуживал свой срок перед пенсией) и не умел плавать. Находясь в командировке на полигоне, Яков Борисович обожал размяться и понырять в водах Иртыша. Можно представить комизм ситуации и состояние этого бедняги, находившегося «при исполнении служебных обязанностей» и беспомощно переживавшего на берегу, в то время как его неистощимый на розыгрыши «подопечный» развлекался в реке и голова его нет-нет, да и скрывалась под водой.
Но страсть к науке у Якова Борисовича преобладала над всем остальным. Он не расставался с маленькой логарифмической линейкой, которой виртуозно владел, как и с толстой общей тетрадью, в которой производил выкладки и вычисления. Он не упускал случая обсудить с собеседником интересовавшие его научные вопросы. Однажды, зимой 1961 или 1962 года, мы, физики-теоретики, недавние выпускники Ленинградского университета, работавшие в группах Зельдовича и Сахарова, были приятно удивлены, когда на нашем этаже вдруг увидели Якова Борисовича в обществе профессора этого университета О. А. Ладыженской. Мы обсуждали тогда научные вопросы в кабинете отсутствовавшего Андрея Дмитриевича (в ту пору кабинет Якова Борисовича перестраивали). Ольге Александровне необычное путешествие запомнилось: «Для меня поездка на «объект» оказалась совершенной экзотикой. Без всяких допусков (никаких бумаг я не читала и ничего не подписывала) меня как привезли туда «с закрытыми глазами», так почти через неделю «с закрытыми глазами» и увезли... Больше никаких контактов не было — чистая случайность. Я даже и не подозревала, что наша беседа проходила в кабинете Андрея Дмитриевича, хотя упоминание о нем слышала. Предшествовало поездке следующее.
После того, как я получила результаты по уравнениям Навье-Стокса (глобальной однозначной разрешимости двумерных задач гидродинамики), не математики, а именно физики пригласили меня сделать доклад на общем тогда Отделении физико-математических наук Академии. Зал был полон, {142} были знаменитости. И как-то трогательно приветствовали меня Леонтович, Ландау, подошел и Юлий Борисович Харитон... Познакомился и спросил, не соглашусь ли я приехать и выступить перед его коллегами — моими бывшими выпускниками-математиками. Я согласилась, дала свои координаты и вернулась в Ленинград.
Дальнейшие события развивались в пределах месяца. Со мной созвонились, и я приехала в Москву. Там меня встретил совершенно незнакомый человек, который затем и сопровождал меня всюду. На объект мы ехали поездом, ночью. Я понимала, что посторонних нет и этот человек недаром меня сопровождает. (Поездом мы вернулись и назад.)
На объекте я прочитала математикам своеобразный курс лекций. А к физикам-теоретикам меня пригласил уже Яков Борисович. Он был очень яркой личностью и всегда как ртуть. На следующий день он даже организовал общую с теоретиками лыжную прогулку. Кстати, потом я сама ходила по этому необыкновенному лесному массиву и, конечно, видела разрушенную церковь. Задавать вопросы тому же Юлию Борисовичу об объекте или о церкви я считала некорректным. Раз не говорят — значит не могут. И мне никого не хотелось ставить в неловкое положение. Уже когда вернулась в Ленинград, мы с Владимиром Ивановичем Смирновым сообразили, что довелось побывать в Саровской пустыни...».
Действительно, по воле случая Ольга Александровна оказалась тогда в сверхзасекреченных «владениях» Харитона, Сахарова и Зельдовича, на территории когда-то знаменитой Саровской пустыни, о которой в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона можно прочитать: «...Основана в XVII в. на месте татарского городка Сараклы. Первая церковь сооружена в 1706 г. Пустынь приобрела известность строгостью жизни иноков; особенно чтится память отшельников Марка и Серафима». Волею обстоятельств Саровская пустынь стала центром создания отечественного ядерного оружия...
Профессиональные дискуссии с Яковом Борисовичем отличались динамизмом и экспрессией. Ознакомившись с только что опубликованной в журнале «Атомная энергия» его статьей «Начальные стадии эволюции Вселенной»1 и обнаружив некоторые неточности, я зашел к нему в кабинет. Без промедления мы оказались у доски, и я еле успевал следить за танцующим мелком в руке Якова Борисовича. Реплика, вычисление, снова реплика, возражение, контрвозражение... И вдруг — с довольной улыбкой: «Уели, уели академика!» Затем он подошел к рабочему столу, раскрыл общую тетрадь и предложил прочитать рукопись его последней работы — не заинтересует ли. Заинтересовала... Улетая на традиционные две недели в Москву и разминувшись со мной, оставил для меня записку-задание. И пока задание не было выполнено, терпеливо и заинтересованно опекал.
А когда работа была завершена и я предложил опубликовать ее совместно, Яков Борисович категорически возразил: «Нет! Это Ваша статья!» Ознакомившись с рукописью, основательно покритиковал ее (письменно!) и дал
| {143} |
 |
Записка Я. Б. Зельдовича, адресованная Ю.Н. Смирнову |
мне несколько советов по совершенствованию текста. Это был предметный, впечатляющий и незабываемый урок «мэтра»1.
Замечательный пример дал Зельдович своим молодым коллегам. Именно тогда» на рубеже 1961–1962 гг. он сделал резкий «крен» от физики элементарных частиц к теории относительности и космологии. И решительно переориентировав тематику семинара, увлек за собой молодежь. Наши стартовые позиции сравнялись: Яков Борисович и мы начали синхронно вживаться в «Теорию поля» Ландау и Лифшица. От семинара к семинару мы изучали и по очереди по главам докладывали содержание книги, которая очень нравилась Зельдовичу. (Более того, он как-то заметил, что, полистав монографию В. А. Фока «Теория пространства, времени, тяготения», увидел в ней пример того, как она перегружена математикой и «как нельзя писать книга».) Дискуссии порождали вопросы, которые превращались в задачи, и незаметно для нас пошли публикации участников семинара. Яков Борисович бурно «набирал обороты», быстро и уверенно становясь авторитетом в новой для себя области физики.
Не обошлось, однако, и без «осечек». Я уже упоминал статью Зельдовича в «Атомной энергии». В ней он предложил гипотезу «холодной» модели развития Вселенной в отличие от «Большого Взрыва» в модели Г. Гамова. И возлагал на свою гипотезу большие надежды. Не случайно статья была опубликована им в специальном номере журнала, посвященном памяти И. В. Курчатова, и заканчивалась обязывающими словами: «И в практической, и в теоретической работе будем помнить то, чему учил нас Игорь Васильевич, — браться за главные, принципиальные вопросы, быть честным, смелым и страстным в работе и в жизни». {144}
Разработке «холодной» модели Вселенной Яков Борисович придал необычайный размах. Он популяризировал ее среди своих коллег и на всевозможных общедоступных лекциях, которые всегда проводил с завидным мастерством; был неистощим на увлекательные задачи, и часть его молодых сотрудников — участников семинара — с энтузиазмом развивала предложенную «мэтром» модель.
Заинтересовался и увлекся ею и Андрей Дмитриевич, опубликовавший по меньшей мере две работы в рамкам гипотезы Зельдовича. Поглощенный объектовской тематикой, Сахаров в течение нескольких предшествующих лет «отмалчивался» на страницах открытых общефизических журналов. И обращение к гипотезе Зельдовича было для него своеобразным «пробуждением». Говоря об одной из своих работ того периода, он отметил в своих «Воспоминаниях»: «...Я вновь уверовал в свои силы физика-теоретика. Это был некий психологический «разбег», сделавший возможным мои последующие работы тех лет»1).
Так продолжалось два-три года. Но с открытием в 1965 г. А. Пензиасом и Р. Вильсоном космического микроволнового реликтового излучения, увенчанного Нобелевской премией, «холодная» модель в своей изначальной форме рухнула. Однако фактом является то, что Яков Борисович, занимаясь с сотрудниками не только разработкой «холодной» модели, но и одновременно сопоставлением ее с моделью «Большого Взрыва», был на самом гребне захватывающих фундаментальных исследований и в полушаге от триумфа. Тогда фортуна, как это случается в науке, не была благосклонна к нему, и решающий успех достался другим.
Яков Борисович переживал. Л. В. Альтшулер вспоминает: «Как-то он пришел к нам домой очень подавленный. И говорил, что из общефизических соображений имел полное основание выдвинуть свою гипотезу «холодной» Вселенной. «Но я обязан был сказать, — продолжал Яков Борисович, — что если она «горячая», то должно быть реликтовое излучение! И указать экспериментаторам, что и как наблюдать».
Служа истине в науке, он с достоинством признал поражение. (В виде курьеза упомяну, что позднее он все-таки оценил Фока, отметив его «глубокую» и блестящую математическую технику.) А признав, со всей страстью пропагандировал эпохальное значение открытия реликтового излучения для представлений о развитии Вселенной. Помню, как по горячим следам он сделал блистательные сообщения в Институте физических проблем (заседание проходило в переполненной аудитории под председательством Б. П. Константинова), на Международной конференции по ударным волнам в плазме в новосибирском Академгородке, выступал перед математиками, привлекая их внимание к задачам космологии. Не одна академическая и неакадемическая аудитория тех лет слушала живого, невысокого роста человека, выступавшего с лекциями о Вселенной. В памяти моего товарища, присутствовавшего на одной из них, запечатлелась картина: «В аудитории появился Зельдович. В простой одежде, в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом. И начал {145} без всякой доски просто и доходчиво рассказывать. Его эмоциональность увлекала, и контакт со слушателями был полный. Перед нами был человек увлеченный, живой, как мячик...»
И вновь нарастающий поток публикаций!
Зельдович избегал политических разговоров, хотя иногда и ему было свойственно переживать чувство некоей неотвратимости, порождающейся нашей жизнью на объекте. Но, по наблюдению В. Б. Адамского, он не оставался равнодушным при соперничестве научных школ. И если уж возникал азартный научный спор, то в пылу дискуссии иногда весело приговаривал: «Голову на отруб даю, но на 10 рублей не поспорю!»
Он принадлежал к числу немногих физиков, отваживавшихся спорить с самим Ландау, и очень гордился, если ему удавалось сделать работу, в чем-то поправлявшую или развивавшую результаты учителя.
Великий талант не укладывается в прокрустово ложе обычных житейских представлений и в повседневной жизни своими проявлениями вызывает разнородные реакции. Как, впрочем, и окружающий мир. Но в путанице и хаосе обступающих нас нагромождений спасает ясная и мудрая мысль, заключенная в поэтических строках, столь любимых Яковом Борисовичем:
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Яков Борисович обладал великим талантом. И как всякий щедро одаренный человек, он не для всех и не всегда был прост, «правилен» и удобен. Но вспоминая эту выдающуюся личность, проникнемся пониманием, что время, поглотив частности и «случайные черты», сохранит ее истинный и величественный масштаб.
...Перед моими глазами теплый солнечный осенний день с яркой палитрой разноцветных листьев, замерших в безветрии деревьев. Только что закончилось совещание, на которое к нам, теоретикам, приезжал Харитон. Зельдович пошел его проводить. Из окна своей рабочей комнаты с последнего этажа здания я вижу золотую осень, безлюдную асфальтовую подъездную дорожку, ведущую к зданию, и появившихся на ней неторопливо, плечом к плечу вышагивающих Юлия Борисовича и Якова Борисовича.
Они проходят вдоль здания, разворачиваются, идут назад, увлеченно беседуя. Мягкая, широкая жестикуляция Якова Борисовича — говорит Зельдович. Полное спокойствие вышагивающих собеседников и заложенные за спину руки Зельдовича — говорит Харитон. Они прогуливаются взад-вперед, а предупредительный охранник Харитона поджидает его в стороне, у машины. И можно быть уверенным, что за этой беседой последует дело и обязательно будет результат.
А мой взгляд скользит от собеседников по пожухлой траве лужайки, на которой тут и там набирают силу молодые вишенки. Переходит через охранную забороненную полосу на защитный забор нашей площадки с часовыми на вышках по углам, скользит по кронам деревьев. И далеко-далеко, уже за километровыми расстояниями, вне внешнего неусыпно и тщательно охраняемого периметра «закрытой» секретной зоны с городом и объектами, выхватывает чуть виднеющийся дымчатый изгиб Большой земли — нашей {146} необъятной Родины. В такой момент нельзя было не думать, что безопасность ее в значительной степени — на плечах трех гигантов, замечательных ученых Якова Борисовича Зельдовича, Андрея Дмитриевича Сахарова и Юлия Борисовича Харитона.
8 февраля 1948 г. И. В. Сталин утвердил Постановление СМ СССР «О плане работ КБ–11...», в котором был такой пункт: «Обязать т. Семенова направить 10 февраля 1948 года на объект 550 (КБ–11) сроком на один год группу работников теоретического отдела Института химической физики во главе с начальником теоретического отдела т. Зельдовичем».
После окончания физического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова меня распределили в начале 1952 г. на работу в КБ–11 (ныне г. Саров). Я стал лаборантом в теоретическом секторе Я. Б. Зельдовича в отделе Е.И. Забабахина.
Я. Б. Зельдович был прирожденным лидером, активным, общительным и остроумным человеком. Круг его научных интересов был необычайно широк, голова всегда полна масштабных научно-технических идей, которые он детально прорабатывал, изучал теоретически и экспериментально и в конце концов доводил до конструкторского и технического решения.
В 1939–1940 гг. Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон опубликовали три классические работы о цепных реакциях деления в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» и обзорную статью в журнале «Успехи физических наук». В одной из статей, обсуждая вопрос о возможности осуществления цепной реакции в природном уране, авторы отметили, что приблизительно миллиард лет назад, когда процент содержания 235U был намного больше, было бы сравнительно просто осуществить это. Действительно, в 1972 г. был открыт природный ядерный реактор, действовавший около двух миллиардов лет назад в Габоне (Западная Африка).
Уверенность в своих знаниях позволяла Я.Б. делать в докладах и статьях смелые замечания, которые казались поначалу сомнительными, невоплотимыми, однако вскоре доказывали свою научную ценность. Приведу пример. Как вспоминает А. М. Будкер, выступая с докладом» ЯБ сказал: «Этот вопрос можно было бы выяснить, если бы существовали встречные пучки, но, видимо, создать их невозможно». Это задело А. М. Будкера «за живое», он стал искать способы технической реализации идеи и нашел их! Впоследствии на встречных пучках были сделаны выдающиеся открытия, и Будкер неоднократно отмечал ту роль, которую сыграл в этом открытии Зельдович. Л. Д. Ландау сказал однажды, что ему не известен ни один физик, исключая Ферми, который обладал бы таким богатством новых идей, как Зельдович.
29 августа 1949 г. была успешно испытана первая советская атомная бомба РДС–1, по физической схеме близкая к американскому «Толстяку», сброшенному на Нагасаки. Значительная часть материалов по конструкции {147} американской атомной бомбы была получена нашей разведкой через Клауса Фукса и передана руководству КБ–11. Однако вся теоретическая, экспериментальная и конструкторская отработка РДС–1 с нуля и до момента испытания была проведена в СССР, в частности, в КБ–11.
Приведем свидетельства специалистов, лично проделавших огромный объем исследований по созданию атомной бомбы.
В. И. Жучихин, инженер-испытатель: «Было известно, что обжатие плутониевого заряда американцы осуществляли с помощью заряда ВВ со сферически сходящейся детонацией»
Г. А. Цырков, начальник оружейного главка Министерства атомной энергии: «Если Фукс что и передал, то голую схему. Все делали сами, от «А» до «Я», у нас не было никаких подсказок».
Конструктор Н.А. Терлецкий: «Конструкцию линз шарового заряда ВВ создавали и отрабатывали сами».
В первых газодинамических опытах при подрыве натурного сферического заряда ВВ центральный сферический керн из алюминия в центре ВВ превращался в «блин». Лишь после многократного исправления чертежей линз он оставался правильным шаром после взрыва.
Необходимо было также изучить ядерные свойства делящихся материалов 235U и 239Pu: сечения деления в зависимости от энергии нейтронов, среднее число нейтронов в акте деления и т. д. Эти работы проводились под руководством Я. Б. Зельдовича.
После испытания первой американской атомной бомбы, когда о Фуксе еще ничего не было известно, США признавали: «Публикации по атомной тематике в открытой печати и шпионаж не будут иметь для России решающего значения, поскольку объем работ фантастически велик и слишком изощренны научно-технические методы, необходимые для создания атомной бомбы».
Сразу после взрывов в Хиросиме и Нагасаки в 1945 г. американцы открыто издали книгу Г. Смита «Атомная энергия для военных целей», в которой было описано, как сделать атомную бомбу. Хиросима и Нагасаки открыли самый главный секрет: атомную бомбу действительно можно сделать.
Любопытно, что задолго до испытания первой советской атомной бомбы Правительство СССР приняло решение о наградах ее создателям. Это были: премия в один миллион рублей, Звезда Героя Социалистического Труда, звание лауреата Сталинской премии, легковой автомобиль, особняк и дача; кроме того — двойной оклад, квартира в любом районе страны, загранкомандировки. Как известно, впоследствии этими наградами были отмечены Игорь Васильевич Курчатов и многие из его ближайших соратников. Но трудились они, понятно, прежде всего за идею, а не ради наград.
За успешное испытание РДС–1 Я. Б. Зельдович был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Теперь его задачей стало усовершенствование заряда: обеспечение надежности его срабатывания с повышенной мощностью, миниатюризация изделия и экономия делящихся материалов (особенно плутония).
Усовершенствование конструкции проводилось по двум направлениям: по предложению Е. И. Забабахина разрабатывалась новая фокусирующая система, а газодинамическую отработку возглавил К. И. Щёлкин; теоретическими {148} вопросами занимались, в основном, Я.Б. Зельдович, Е. И. Забабахин, Е.А. Негин.
Критическая масса делящихся материалов (ДМ), урана и плутония, и, следовательно, мощность атомного взрыва зависят от плотности ДМ, поэтому основным направлением измерительных экспериментов КБ–11 стало определение степени сжатия ДМ за фронтами сильных ударных волн, образованных детонацией ВВ. Было организовано четыре экспериментальных газодинамических отдела, изучающих эти вопросы: отделы В. А. Цукермана, Л. В. Альтшулера и Е. К. Завойского проводили эксперименты на уменьшенных моделях изделий, отдел К. И. Щёлкина — на натурных моделях. Теоретическую интерпретацию опытов осуществляли Я. Б. Зельдович, Г.М. Гандельман и Е.И. Забабахин.
Зельдович Я. Б. был вторично удостоен звания Героя Социалистического Труда после успешного испытания первой советской термоядерной бомбы РДС–6с 12 августа 1953 г. (сахаровской «слойки»). Это была первая в мире транспортабельная термоядерная бомба.
Третью звезду Героя Социалистического Труда Яков Борисович получил после испытания двухступенчатой термоядерной бомбы РДС–37 22 ноября 1955 г.
Яков Борисович обладал поразительной работоспособностью: вставал около 5 часов утра, делал пробежку, зарядку, завтракал — и на работу. В 7 часов он был уже за письменным столом у себя в кабинете и писал какую-нибудь статью в физический журнал. На дверь кабинета вешал табличку: «Работаю, прошу не беспокоить до 9 часов, если нет срочных серьезных вопросов». Однако Яков Борисович был доступен для всех сотрудников, к нему всегда можно было войти без доклада и предварительной записи.
Яков Борисович бывал в Москве на семинарах в ФИАНе, где обсуждались последние научные новости, посещал другие институты Академии наук, Министерства среднего машиностроения и т.д. Помню, Я.Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон организовали для молодых научных сотрудников КБ–11 коллективные поездки на физический научный семинар в ФИАНе. В КБ–11 Зельдович также регулярно проводил семинары по ядерной физике и газовой динамике.
Приезжая в Москву для решения производственных вопросов, я встречался с ЯБ, который жил в столице на Воробьевых горах. Поезд из Сарова приходил в Москву рано утром, часов в 5. Метро еще не работало, а встретиться с Зельдовичем было необходимо. Тогда я прямо с Казанского вокзала звонил Я.Б. домой, и он сразу присылал за мной машину. Никто не думал о правилах приличия: работа была важнее всего.
Вспоминаю еще пару интересных эпизодов, когда мы летали министерским самолетом ИЛ–14 на Северный и Южный ядерные полигоны. Самолеты были обычные, винтовые (реактивных машин СССР еще не выпускал), скорость их небольшая, 350–400 км/ч, и максимальная высота около 4 км, так что на воздушных ямах была «болтанка», и перелет занимал, как правило, несколько дней с посадками в Свердловске, Омске, Новосибирске и других городах. Но Яков Борисович и здесь времени не терял. {149}
Летали мы с ЯБ в составе государственной комиссии по воздушным испытаниям в Семипалатинск и поселок Белушья Губа на Новой Земле (Яков Борисович был тогда назначен председателем государственной комиссии по расследованию причин контактного срабатывания атомной бомбы на земле вместо взрыва в воздухе), оба раза одним и тем же самолетом. В его салоне по бортам стояли две кровати с пружинными матрасами. Полулежа на одной из них (ведь была «болтанка»), Яков Борисович работал над книгой «Высшая математика для начинающих», которая затем была издана большими тиражами на разных языках.
В бухте Белушья мы жили на трофейном свадебном корабле Гитлера «Эмба» в шикарных каютах. Коком был бывший главный повар ресторана московской гостиницы «Москва». Обеды, естественно, были изысканные, особенно рыбные блюда — ведь Новая Земля!
В 1958 г. Я. Б. Зельдович был избран действительным членом АН СССР. По этому поводу состоялся банкет, на который были приглашены представители всех подразделений КБ–11, так что в речах и тостах в честь нового академика отразились все направления работ института, которыми он руководил.
Но Якову Борисовичу становилось тесно на «объекте»: выросли сильные ученики, и Ю.Б. Харитон отпустил его в большую науку, в Москву.
Трудно говорить о Якове Борисовиче в прошедшем времени — настолько это был живой, яркий, многогранный человек. И трудно писать о нем в короткой заметке.
«Все жанры хороши, кроме скучного», — любил повторять он. Поэтому вернее будет перебрать наиболее яркие моменты, оставшиеся в памяти у меня, тогда еще неискушенного молодого специалиста, которому повезло начать свою трудовую деятельность рядом с Яковом Борисовичем.
Эпизод
...Я у него дома. Мой руководитель диплома привел меня (по моей просьбе) «сватать» на работу. У Якова Борисовича на столе стоял простой и остроумный приборчик — вертушка в откачанной колбе с лопастями, зачерненными с одной стороны, которая вращалась на свету.
— Объясните. — Меня хватило на то, чтобы сказать, что это действие большей отдачи молекулы при ударе о горячую сторону, а не давление света.
— Рассчитайте. — Тут я спасовал.
Так или иначе, но на работу меня приняли, и я стал учиться рассчитывать явления. В то время (1956 г.) не было ЭВМ, мы обходились логарифмическими линейками и счетной машинкой «Мерседес». «Почувствовать» число, размышлять, воображать, опираясь на конкретные величины, — вот основной {150} урок нашей научной школы, одним из первых педагогов которой был Яков Борисович Зельдович.
Больше всего молодежь привлекали в Якове Борисовиче остроумие и широта интересов, полное отсутствие менторского тона, жажда нового, желание поделиться возникающей идеей или научной новинкой и, конечно, бескорыстное внимание к свежим, пусть робким, но дельным предложениям, способность быстро оценить их рациональное зерно и поддержать своим авторитетом. Общение с ним вдохновляло.
Но бывали и другие ситуации.
Идет совещание в кабинете Ю. Б. Харитона. Я у доски, приперт вопросами к стене. Молчу. Яков Борисович: «Докладчик пустил сок». Бывало и такое.
Простота Якова Борисовича — это простота большого ученого и большого человека. Она проявлялась в товарищеских отношениях с сотрудниками по работе, уважении чужого мнения, общении при длительных командировках; это и игра в пинг-понг после работы (могу похвалиться, что раз я играл с ним и выиграл), и раздел кабинета, когда не хватало места для молодых специалистов: «Я не мерю свое величие на квадратные метры», — говорил Яков Борисович. Человеческое внимание в большом и малом к нам: «Где Ваши очки?» — как-то раз спросил он у меня. Я их часто ломал, купить можно было только в Москве, а командировки туда были редки. «Я Вам привезу», — пообещал он. И привез. Многих хлопот стоило Зельдовичу устройство лечения моей тяжелобольной матери.
Наверное, многие могли бы рассказать о подобных случаях. Но вот еще один эпизод, который теперь звучит скорбно. На симпозиуме в Черноголовке Яков Борисович, заканчивая свой доклад, рассказал притчу о мастере-каменщике, который, выполнив работу, выбил слова: «Я сделал. Кто придет, пусть сделает лучше»...
Возможность существования такого необычайного газодинамического явления, как ударные волны разрежения в веществах, претерпевающих фазовые переходы с уменьшением удельного объема, была впервые предсказана академиком Я. Б. Зельдовичем в 1946 г. Первым экспериментальным подтверждением этому явились результаты взрывных экспериментов, проведенных во ВНИИЭФ в 1956 г. А. Г. Ивановым и С. А. Новиковым.
В этих экспериментах разрушение образцов из железа и стали при взрыве на их поверхности заряда взрывчатого вещества происходило с образованием очень гладкой (почти зеркальной) поверхности разрушения. Это однозначно указывало, что откол происходил при взаимодействии ударных волн разрежения (со скачкообразным уменьшением давления). {151}
В 1990 г. доказательство существования ударных волн разрежения было признано открытием в Государственном комитете по изобретениям и открытиям (диплом №321 «Явление образования ударных волн разрежения»). Соавторами от ВНИИЭФ были Я. Б. Зельдович, А. Г. Иванов, С. А. Новиков.
Дальнейшие работы показали, что если в тонком слое ВВ, нанесенном на поверхность массивной стальной конструкции, создать две встречные детонационные волны, то по линии их взаимодействия в стали образуется гладкий откол, инициирующий самопроизвольно распространяющуюся трещину, разделяющую конструкцию на две части. Для этого требуется весьма небольшое количество ВВ. Например, чтобы расколоть перпендикулярно оси сплошной стальной цилиндр диаметром ~500 мм, необходим слой ВВ толщиной всего 3 мм (~5 кг).
Это явление было использовано нами для создания взрывных устройств для резки массивных стальных опор морских нефтегазовых платформ по заказу американской фирмы «Хэллибертон».
В проведенных в США в декабре 2003 г. испытаниях были получены прекрасные результаты.
В студенческие годы, перелистывая страницы «Журнала экспериментальной и теоретической физики», я неоднократно видел статьи Якова Борисовича Зельдовича, а вскоре познакомился с ним самим, когда в 1961 г. прибыл молодым специалистом в теоретический сектор А. Д. Сахарова во ВНИИЭФ. Зельдович всегда стремился к быстрейшему получению конкретных результатов; атмосфера, царившая среди его сотрудников, напомнила мне взаимоотношения хорошей спортивной команды, где не важны возраст, звания, регалии, а важен только уровень результатов.
Это было время его увлечения общей теорией относительности (ОТО). Яков Борисович сразу мысленно ставил эксперименты, пытался качественно их решить и изложить решение в виде формул. На первом же семинаре он предложил мне помочь ему переформулировать вариационный принцип для статических решений уравнений ОТО. Мне было приятно выполнить его просьбу. Сравнение «замкнутого» и «открытого» мира привело его к мысли о возможности полузамкнутого мира, появились соответствующие публикации. Трудности с ростом возмущений в модели «горячей» Вселенной привели его к мысли о необходимости построения модели «холодной» Вселенной.
Зельдович все время анализировал физические явления, задачи, процессы. Своей активностью он вовлекал окружающих в непрерывный процесс решения новых и новых задач. Н.А. Дмитриева и меня он «заставил» получить автомодельные решения статических уравнений Эйнштейна.
Интересно сравнить стили работы Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова.
Сахаров вспоминал: «Когда «Британский союзник» начал в 1945 г. публикацию «Отчета Смита» (так назывался отчет об американских работах по созданию атомной бомбы), содержащего целый массив рассекреченной {152} информации о разделении изотопов, ядерных реакторах, плутонии и уране–235 и кое-что об устройстве атомной бомбы (в самых общих чертах), я с нетерпением хватал и изучал каждый вновь поступающий номер. Интерес у меня при этом был чисто научный, но хотелось и изобретать. Конечно, я придумывал либо давно известное (например, блок-эффект), либо непрактичное (методы разделения изотопов, основанные на кнудсеновском течении в зазорах между фигурными роторами). Мой товарищ школьных и университетских лет Акива Яглом говорил тогда: «У Андрея каждую неделю не меньше двух методов разделения изотопов».
Эти строки доказывают, что основной интерес у Сахарова вызывал не научный анализ, а возможность проявить творческую изобретательность в новой области. Позже Андрей Дмитриевич как блестящий изобретатель участвовал только на начальном этапе работ по созданию магнитокумулятивных устройств и разработке термоядерного реактора. Когда исчезала потребность в изобретательской деятельности и начиналась рутинная техническая работа, у Сахарова пропадал интерес к этим устройствам.
Зельдович же был нацелен не на изобретательскую деятельность, а на решение конкретных текущих задач, таких, которые требуют нестандартного решения, смекалки и находчивости.
Увлекшись космологией, Сахаров и Зельдович не загромождали свои рабочие столы современными научными журналами и книгами. Для Андрея Дмитриевича в этом не было необходимости, так как его интересовали такие общие проблемы происхождения Вселенной, по которым очень редко появлялись новые работы. Яков Борисович новую информацию по проблемам астрофизики черпал в основном в устной форме, общаясь с Л. Д. Ландау во время многочисленных поездок в Москву. Он всегда щедро делился полученными сведениями, организуя семинары для теоретиков. Большинство молодых теоретиков не разделяло увлечения академиков астрофизикой, хотя между взрывом термоядерного заряда и взрывом звезды много общего. Создание новых зарядов и их испытания им казались более интересным делом, а астрофизика — «наукой стареющих академиков». Количество научных статей Зельдовича (около 300) примерно в 4 раза превосходит количество его научных отчетов за период работы над ядерным оружием и примерно в 7 раз — количество статей Сахарова. Такое различие объясняется «всеядностью» Якова Борисовича: он был готов решать любые научные и производственные физические задачи, а Сахарова привлекали только сложные задачи, требующие глубоких размышлений.
Энциклопедические знания Ландау, его умение мгновенно осознать суть новой проблемы или задачи были опорой для Якова Борисовича. Он считал Льва Давыдовича своим учителем и восхищался им. В 1962 г. Ландау пострадал в автомобильной аварии и с тех пор не занимался наукой. Эта потеря была для Зельдовича невосполнимой: чтобы быть в курсе новых научных проблем и идей, теперь недостаточно было кратких приездов в Москву. Нужно было выбирать: или ядерные заряды, или астрофизика. Он выбрал астрофизику и переехал в Москву.
| {153} |
Я познакомился с Яковом Борисовичем Зельдовичем ранней весной 1955 г. Вскоре после защиты дипломов в МИФИ нашу группу студентов-теоретиков пригласили в здание Министерства среднего машиностроения; о цели приглашения ничего не говорилось. Мы слышали, что где-то существуют Зельдович и Сахаров, которые забирают молодых специалистов и увозят их из Москвы, чего практически никто из нас не хотел. В Министерстве нас пригласили в комнату, посадили за столы; через некоторое время вошли два клерка в потертых пиджаках и мятых брюках с карандашами и бумагой. Один — высокий и долговязый, второй — маленький и толстенький. Вдруг без всякого представления эти клерки стали задавать нам задачи. Они придумывали вопросы на ходу, переговариваясь и смеясь. Это была блестящая игра интеллектов, которой эти люди наслаждались. Мы быстро поняли, что эти «клерки» — Зельдович и Сахаров. Часто на свои вопросы они отвечали сами. Задачи были красивы, я до сих пор помню задачу об уровнях энергии в мезоатоме урана, заданную мне.
В итоге из нашей группы отобрали двоих — E.G. Павловского и меня. К этому времени я уже должен был поступать в аспирантуру и стал умолять оставить меня в покое. Сахаров молчал, улыбаясь, а Зельдович убеждал, что я ошибаюсь. После довольно длительной борьбы и безуспешных хлопот моего научного руководителя А. Б. Мигдала я согласился с новым назначением, так как в противном случае меня грозили оставить без диплома. По приезде во ВНИИЭФ я стал сотрудником теоретического сектора, возглавляемого Зельдовичем.
По-видимому, как и у большинства знавших Якова Борисовича, у меня накопилось огромное количество воспоминаний и фактов, характеризующих его с разных сторон.
Однажды Яков Борисович катался на моем мотоцикле «Ява», застрял на песчаной дороге и обиженно заявил: «Я понял: чтобы уметь ездить по таким дорогам, нужно иметь длинные ноги».
А поездки на полигон и неукротимое желание и умение Якова Борисовича в любых условиях загружать всех работой; многочисленные беседы на житейские темы, например, о том, как ему надежнее добиться для меня, молодого специалиста, выделения двухкомнатной квартиры; жаркие споры и многочисленные обсуждения производственных задач...
Приятно было слышать от него характерное «один-ноль в Вашу пользу», когда он знакомился с неожиданной для него находкой.
Яков Борисович мог быть строгим: однажды я неоправданно затянул подготовку к публикации уже законченной совместной работы, и он заявил, что если я не в состоянии довести дело до конца, то он все сделает сам. Это, конечно, заставило меня собраться и завершить начатое. Иногда приходилось слышать от него в конце беседы гораздо менее приятное: «Ноль-один, молодой человек». {154}
Интересны были взаимоотношения Якова Борисовича с А. Д. Сахаровым. Оба умели очень быстро думать, но во всем остальном это были совершенно разные люди: ярко выраженные сангвиник и холерик, «жаворонок» и «сова»; быстрый, энергичный, с отменным здоровьем Зельдович — и медлительный, болезненный Андрей Дмитриевич; любитель резких, зачастую нецензурных выражений Яков Борисович — и сдержанный, интеллигентный Сахаров. Бывали и такие случаи, когда А. Д. Сахаров формулировал теорему, а доказывал ее через несколько дней Я. Б. Зельдович. Однако в целом ученые относились друг к другу с большим уважением.
В научной деятельности Якова Борисовича можно выделить такие достижения, которые не просто внесли существенный вклад в какие-то области науки, а легли в основу решения определенных научно-технических проблем, ставших вехой в истории знаний всего человечества. К таким достижениям, в первую очередь, следует отнести циклы работ Якова Борисовича по следующим направлениям: исследования по детонации (эти исследования легли в основу работ по ядерному оружию) и физике взрыва; научное обоснование принципа работы ядерной бомбы и исследование физических процессов при ее взрыве; физические исследования работы термоядерных зарядов на принципе обжатия термоядерного узла с помощью равновесного рентгеновского излучения и научное обеспечение создания таких зарядов.
До момента ядерного взрыва на полигоне во вновь создаваемых лабораториях расчетно и экспериментально обосновывались и проверялись все детали устройства, работа каждого узла заряда, исследовались физические явления, от которых зависит процесс подрыва бомбы. Огромная часть исследований велась «на кончике пера», так как экспериментальная проверка работы многих узлов в условиях ядерного взрыва, а также заряда в целом, невозможна в лабораторных условиях без полигонных опытов. Свойства веществ, вид и качество элементов конструкций, создаваемых в СССР, конечно, отличались от тех, которые были в американской ядерной бомбе. Для обоснования работоспособности создаваемых нами конструкций было необходимо развитие новых областей науки, создание расчетных и экспериментальных методов и технологий. Без наличия хорошей теории и результатов лабораторных исследований получить положительные результаты было невозможно. Нетрудно себе представить, какие последствия принесла бы неудача такого полигонного эксперимента.
Создание термоядерных зарядов на принципе использования равновесного рентгеновского излучения потребовало разработать совершенно новые главы в физике высоких плотностей энергии. Это касалось, в первую очередь, свойств излучения в киловольтном диапазоне частот, его распространения и взаимодействия с различными веществами, включая абляцию вещества со стенок из тяжелых веществ. Решалась сложнейшая задача определения пробегов рентгеновских квантов в среде, заполненной атомами веществ с различной степенью ионизации; потребовалось знать свойства различных веществ, находящихся в состоянии высокотемпературной плазмы и исследовать сложные физические процессы, происходящие при термоядерном взрыве, включая рождение, поглощение и распространение нейтронов. Яков Борисович, благодаря своей феноменальной скорости мышления и умению {155} работать с людьми, фактически был руководителем проводившихся научных исследований, как теоретических, так и экспериментальных. Он был в курсе практически всех научных работ в институте, давал задания исполнителям и детально обсуждал результаты. Зельдович был руководителем, который умел сделать практически любое поручаемое теоретическое задание сам, быстро и просто, и часто так и делал.
Если А. Д. Сахаров и Н.А. Дмитриев получали блестящие результаты индивидуально, то Яков Борисович изобретал и выдвигал свои идеи в процессе коллективной работы. Часто, стоя у доски перед собравшимися коллегами, он высказывал совершенно новые, только что родившиеся идеи, мысли, решения, которые впоследствии становились темой совместных работ. Яков Борисович концентрировался на научных исследованиях, вникая в работу физиков, математиков, химиков, конструкторов и был, повторюсь, фактическим руководителем научных исследований соответствующих подразделений. Работе по созданию ядерного щита нашей страны Яков Борисович посвятил наиболее продуктивные годы своей жизни. И, по моему мнению, его работы того времени представляют наибольшую ценность для науки и страны.
Большой труженик, работающий по 12–15 часов в сутки, — и жизнерадостный человек. Такую противоречивую натуру трудно объяснить. Мне кажется, что Яков Борисович даже в моменты «хулиганских» выходок полностью был подвластен своему великолепному, мощному интеллекту. Зельдович — это огромный ум, способный быстро улавливать любую высказанную мысль и находить решение сложнейших задач.
В те годы героического труда были созданы первые образцы ядерных и термоядерных зарядов и заложены основы физики высоких плотностей энергии, возникли уникальные коллективы талантливых ученых, которые продолжили совершенствование ядерного оружия, ставшего надежной защитой нашей страны.
Моя мама, Ширяева Ольга Константиновна, родилась в 1911 г. и хорошо помнила дореволюционное время. После окончания школы она поступила в текстильный институт, где у нее возникли некоторые проблемы из-за ее происхождения: отец Ольги Константиновны был русским офицером и служил в царской армии, а мать — из семьи обрусевших шведов. В результате ей разрешили перейти, якобы по здоровью, из текстильного в архитектурный институт, который в то время назывался ВХУТЕМАС. Ей повезло: она попала работать в мастерскую Щусева и прошла хорошую школу. Примером могут служить работы, выполненные ею еще во время учебы — это рисунки на станции метро «Комсомольская» в Москве и оформление ресторана «Арагви».
После окончания института Ольга Константиновна вышла замуж, в 1937 г. у нее родился сын Сергей. С 1939 г. по 1941 г. Ольга Константиновна {156}
 |
Дружеский шарж O.K. Ширяевой |
После освобождения в 1949 г. она продолжала работать на стройках города: занималась Отделкой коттеджей, делала декорации для театральных постановок, расписывала собор, который сначала был «генеральской столовой», а потом стал театром. Под куполом до сих пор сохранилась ее роспись: голубое бескрайнее небо и облака.
С папой, Яковом Борисовичем, мама встретилась на теннисном корте. Она всегда увлекалась спортом и, как только позволили условия, начала играть в теннис. Однажды она увидела невысокого человека с яркими глазами. Это был Яков Борисович. Мамина внешность, нордическая и интересная, производила впечатление. Человек очень внимательно за ней наблюдал. Ей это не понравилось, и она ушла, как назло забыв мячики, которые были страшным дефицитом. Вернулась за мячиками, когда он уже переоделся. Он тут же пошел ее провожать. Вот так они познакомились. Знакомство переросло в любовь.
С мамой эта встреча сыграла злую шутку. Вскоре ее вызвали «куда надо» и предложили «давать отчеты», но «стучать» она не согласилась. Предстоял довольно тяжелый выбор. Сначала она месяц просидела в тюрьме. Ее мог навещать только сын Сергей. Он приносил передачи., в том числе вещи и деньги, которые передавал Яков Борисович. Очевидно, тогда он не в силах был что-либо изменить. К ней, слава Богу, не применяли никаких мер физического воздействия. Семейная легенда гласит, что папа очень расстроился, переживая мамино исчезновение. Он знал, что ее «упекли», но сделать ничего не мог. Ему тогда не дали какое-то очередное звание — как бы наказали.
До поезда маму сопровождал тот следователь, который хотел, чтобы она давала сведения, «писала отчеты». Как раз за несколько дней до отъезда она узнала, что беременна. Знал это и следователь и уговаривал до последнего момента, предупреждал, что уж там-то она точно погибнет. До последней минуты надеялся, что мама согласится. Оба понимали, что она отправляется в неизвестность, если не на смерть. Никакого решения суда не было. Ее просто «отправили» на Колыму. {167}
Переезд продолжался месяцев пять. На золотых приисках жили ссыльные и уголовники, это была уже «последняя инстанция» на пути к вымиранию. Беременность спасла мою мать. Ее поселили за печкой в булочной. Я родилась в январе 1951 г., как говорила мама, при температуре —72 °С.
Первый год мы с мамой провели на Колыме, а папа бился в Сарове, чтобы как-то нас спасти. Как опять же гласит семейная легенда, Яков Борисович дошел до Берии, был у него на приеме. Поскольку никакого решения не выносилось, то и не было никакого постановления об освобождении. Просто человек был там, а стал здесь.
Вдруг нам пришли денежный перевод и направление, чтобы выехать... Шесть дней мама добиралась до Магадана, ужасно устала.
Прошли годы, я выросла.
Папа был всегда. Он меня страшно шокировал: ужасно веселый, можно сказать, заводной. Я очень стеснялась, что он ниже мамы ростом, что любит шумные игры, что обязательно во дворе подденет мяч, что любит танцевать, хотя и не умеет. Мне, закомплексованному подростку, это казалось ужасным.
С папой мне всегда было хорошо. Он говорил: «То, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка». Такая политика в отношении меня, естественно, привела к избалованности. Если я отдыхала на юге с друзьями и у меня кончались деньги, то посылала папе телеграмму, и деньги приходили тут же. Когда я захотела учиться в известной 2-й физико-математической школе (на самом деле еще не очень обоснованно), тут же был звонок, и меня перевели. Он пытался меня чему-то учить. Я активно сопротивлялась. Но, тем не менее, наверное, под давлением папы я пошла учиться в МИФИ.
Еще будучи школьницей, я занималась у Израиля Хаимовича Сивашинс-кого: он хорошо готовил к поступлению в институт. Мне это все нравилось, и занималась я нормально, но когда поступала на факультет вычислительной техники в МИФИ, то со страха в письменной работе сделала все возможные самые глупые ошибки и страшно расстроилась. Тогда экзамен пересдать было нельзя. Папа сказал: «Ничего», —• и я писала второй раз, выполнила все задания н получила «пятерку». Просто перестала психовать.
Как-то папа приехал в институт читать лекцию. Скорее всего, начальство знало, чья я дочь, но среди студентов я не выделялась. Естественно, я пошла в аудиторию вместе со всеми. А отец меня выдернул, как репку, и сказал: «Это моя дочка». И на переменке мы с ним гуляли под ручку на глазах у всех... После того случая у меня долго было ощущение, что сзади слышен «шорох».
Пять лет я училась в МИФИ достаточно средне. Как-то я сказала папе, что не хочу учиться на «Вычислительной технике», там, мол, девчонок много. Захотела на теоретический факультет. Меня сразу же туда перевели. Когда я сказала, что не хочу учиться в МИФИ, папа спросил: «Ну, куда ты хочешь?» Я сказала, что, наверное, в Плехановский или еще какой-то. Меня благополучно перевели в Плехановский, в котором я продемонстрировала совершенно невероятное по тем временам знание математики.
Теперь я думаю, что такой способ воспитания был не очень правильным, но, тем не менее, он был таков. Я не представляю себе папу строгим, поскольку он с нами никогда не жил, а вот папу балующего очень хорошо {158} себе представляю. Правда, мы никогда не отдыхали вместе. И с папой никогда в театр не ходили...
Однажды мама тяжело заболела, и папа поехал за врачом. Я привыкла, что папа меня катает на переднем сидении своей машины, и залезла вперед. Он мне сказал: «Кыш, брысь, сейчас это не для тебя». Я тут же надулась. Но больше я не помню, чтобы меня ругали.
Он был достаточно прост в общении: если надо было «кыш», то он говорил «кыш», не стесняясь. Если надо было «кис», то «кис». Поскольку я никуда особенно не лезла, то чаще было «кис».
Когда я в 16 лет выбирала фамилию, то взяла мамину. Папа сказал: «Ну, как хочешь, конечно. Если ты не хочешь быть Зельдович, не будь». Но он огорчился, это было заметно»
Для меня тогда гораздо больший страх представляла национальная окраска. Я не думала о папином авторитете как ученого. А с еврейской фамилией, всем понятно, будет гораздо труднее. К тому же я буквально в 17 лет в первый раз выскочила замуж и благополучно поменяла свою фамилию, поэтому вопрос отпал сам собой.
Чем именно в науке занимался папа, мама рассказывала в общих чертах. Тогда, наверное, я была слишком сосредоточена на себе, но тот «шорох», что сопровождал меня все студенческие годы, заставил задуматься. Я поняла, что мой уровень в науке не только не достигнет папиных высот, но что я не буду даже слабым его отражением» Не стоило мне с этим делом связываться...
После Плехановского я стала по образованию экономистом-математиком, у меня были первый муж и ребенок. Со своим нынешним мужем я познакомилась там же, в институте — он стал руководителем моей курсовой работы. С тех пор я не работала и не училась: плавно перешла от одного балующего субъекта к другому.
Я помню, как сильно переживал папа, когда у меня возникли проблемы со здоровьем перед рождением третьего ребенка: мне было немало — 37. Он бегал, звонил, старался как-то помочь. Папа очень долго поддерживал нашу семью материально.
С младшим братом Ленькой мы познакомились забавно. Я ехала к папе повидаться в троллейбусе «семерке», что в Москве и теперь ходит по улице Косыгина. Вижу молодого человека и думаю: «Он мой брат», — увидела его и просто узнала. Потом мы идем по одной дорожке, по одной лестнице, доходим до одной двери — так и познакомились.
Леня, как и я, внебрачный ребенок. Его мама рано умерла, опекал его старший брат Боря. Ленька тоже окончил 2-ю физико-математическую школу, у него была своя квартира, он учился в МФТИ.
Помню, незадолго до смерти папы я пришла в гости со своим младшим сыном, которому был месяц или два, и мужем. В это время зашла Марина. {159} А с Сашей, Борей, Олей мы познакомились, когда папа умер, на похоронах, хотя они знали о моем существовании и я знала о них. Просто жизнь нас не сводила.
В 2000 г. мы с мужем уехали жить в Прагу. У меня одна дочка в Москве, другая живет то тут, то там. А младший — Сергей — еще маленький, ему 16 лет. Он учится в Чехии на химика.
У старшей дочери уже трое своих детей, мальчишки. Средняя дочь хорошо закончила все ту же 2-ю физико-математическую школу и факультет автоматики и микроэлектроники МИФИ, хорошо разбирается в компьютерах. Сейчас сдала экзамены на кандидатский минимум по социологии. Как она говорит, ей интереснее сейчас другие вещи: она занимается решением «женских» вопросов.
Совершенно неожиданно почти все младшее поколение — внуки, правнуки — увлеклось химией. Мой сын Сережка попросту выбирал любые технические предметы: физика, математика, химия — только не гуманитарные. Старший внук Альберт занимается шахматами в школе Ботвинника и успешно учится в английской школе. Внук Денис тоже пока школьник и делает успехи в плавании. Яшенька еще маленький, вот только что мне «подкинули» годовалого внука Сереженьку. Жизнь идет своим чередом.
Мой отец Андрей Дмитриевич Сахаров при теплом и доброжелательном отношении ко многим знакомым и коллегам особенно выделял лишь немногих. В первую очередь к таким людям относились Игорь Евгеньевич Тамм и Яков Борисович Зельдович.
При несходстве характеров, темпераментов и некоторых взглядов на жизнь, папу и Якова Борисовича роднило высшее — это и было основным стержнем их взаимной привязанности — талант от Бога и безоглядное служение физике. Физика была для них основным содержанием и смыслом жизни. Они очень ценили этот талант друг в друге. И, возможно, в чем-то дополняли друг друга. В записях Якова Борисовича иногда встречались пометки вроде «глубочайшая идея АДС!»
Папа не скрывал восхищения необычайной научной продуктивностью Якова Борисовича, его потрясающей организованностью в работе и часто рассказывал мне в детстве, что Яков Борисович каждый день вставал в 5 часов утра, энергично делал зарядку, а затем работал по многу часов подряд до вечера, позволяя себе лишь короткие перерывы. Зато вечер Яков Борисович посвящал отдыху. Стиль работы самого папы был совершенно другой. Проблема, которой он занимался и которая мучила его, не отпускала его ни на минуту, часто уходя в подсознание. Неожиданное решение возникало в совершенно неподходящий момент — во время отвлеченного разговора с {160} мамой, со мной или с друзьями. Тогда папа сразу вдруг «отключался» и уже не слышал ни одного слова из ставшего несущественным разговора.
Навсегда остались в памяти яркие воспоминания детства: к калитке участка нашего коттеджа на «объекте» подходит Яков Борисович и громко кричит с полпути: «АД! Вы дома?» Зачастую оказывалось, что это было обеденное время в нашей семье. Но, к огорчению мамы, папа немедленно забывал про обед и уже не вспоминал. Его лицо озарялось радостью и оживлением. И, как будто было это совсем недавно, я помню, как долго ходили они по нашей улице из конца в конец, бесконечно повторяя свой путь и разговаривая о чем-то очень важном для них, такие непохожие внешне — высокий и медлительный папа и подвижный как ртуть, невысокий Яков Борисович. Яков Борисович часто заходил в наш дом на «объекте», а папа любил бывать у него.
Сильное впечатление моего детства — катание с Яковом Борисовичем на мотоцикле с коляской. Я, конечно, сидела в коляске. Ветер свистел в ушах, было весело и немного страшно. Запомнилось из общения того времени, что он ценил каждую минуту, речь его была всегда быстра и лаконична. Его вопросы: «Спортом занимаешься?», «что читаешь?», «как учишься?» Ответы он любил краткие и точные.
Папа, сам человек не очень спортивный, всегда восхищался спортивными успехами Якова Борисовича. Не раз я могла убедиться в справедливости папиного мнения. Однажды Яков Борисович поджидал папу во дворе нашего дома. Я играла поблизости у высокого каменного крыльца бокового входа в наш коттедж. «Как ты думаешь, смогу я запрыгнуть на это крыльцо? — спросил Яков Борисович. — Хочешь посмотреть?» Я думала, что на такое высокое крыльцо запрыгнуть нельзя, но посмотреть, как Яков Борисович попытается это сделать, мне хотелось. И Яков Борисович разбежался, подпрыгнул и, к моему изумлению, оказался на крыльце. Таким он и остался навсегда в моей памяти, буквально излучающим энергию.
Судьба сложилась так, что всю жизнь самые близкие мне люди тесно общались и работали с Яковом Борисовичем. Когда я вышла замуж, оказалось, что и мой муж, будучи фактически учеником Якова Борисовича, относился к нему с большой любовью и уважением. И опять я слышала знакомые с детства слова о том, как Яков Борисович умеет работать, вставая каждый день в 5 часов утра, и о его огромном таланте. Когда позже Яков Борисович стал заведующим теоретическим отделом в Институте физических проблем, сотрудником которого был муж, то почти каждый день я слышала его рассказы о том, каким необычайным человеком был Яков Борисович. Каждый день в теоротдел выстраивалась очередь желающих — от студентов до академиков — обсудить свои проблемы с ЯБ. Для всех был важен сам факт разговора, оценки ЯБ. Известно, сколь широк был диапазон научных интересов ЯБ. Невозможно представить область физики, в которую, по словам его коллег, ЯБ не внес бы существенного вклада. Муж говорил, как поразительно быстро и глубоко ЯБ умел вникать в, казалось бы, самые далекие от него проблемы. При этом для ЯБ одинаково важен был как разговор с маститым ученым, так и со студентом, причем ЯБ никогда не забывал спросить у студента имя-отчество. {161}
Вскоре к рассказам мужа прибавились другие — моей дочери Марины, которая часто бывала в ИФП, — о человеческом обаянии, остроумии и оптимизме Якова Борисовича.
Я всегда чувствовала, что он был где-то рядом, и знала, что в любой трудной ситуации смогу обратиться к нему и он всегда поможет.
Неожиданная смерть Якова Борисовича потрясла всех, кто его любил. Я позволю себе процитировать, что написал папа в своей книге «Воспоминания» уже после смерти Якова Борисовича: «Все наносное, мелочное отпало, остались результаты его поистине необъятной работы. И те, кто с его помощью вошли в науку. Я иногда ловлю себя на том, что веду с ЯБ диалог на научные темы».
Через два года после смерти Якова Борисовича в том же месяце умер папа...
В феврале 1956 года я защитил дипломную работу в Лаборатории Измерительных Приборов Академии Наук (в настоящее время — Российский Научный Центр «Курчатовский институт») и должен был по распределению отправиться на уральский атомный «объект». Работа, связанная с производством расщепляющихся веществ, не очень устраивала меня. Еще в школьные годы меня интересовали физические науки и исследовательская деятельность.
Во время прогулки в сосновом бору недалеко от Покровского-Стрешнева я поделился этими своими мыслями с моим школьным приятелем Анатолием Ларкиным, который только что защитил диплом под руководством А. Д. Сахарова в малоизвестном «Приволжском бюро».
В судьбах людей, вероятно, существуют повороты, которые определяют всю дальнейшую их жизнь. Для меня таким поворотным моментом стал именно тот холодный февральский день. Выслушав мои стенания по поводу будущей работы, Анатолий предложил замолвить словечко перед своими руководителями. «Бюро» разрасталось, и ему были нужны молодые специалисты-физики.
Мы приняли решение и немедленно начали действовать. Первый телефонный звонок был сделан Ю.Н. Бабаеву, коллеге А. Д. Сахарова. Юрий Николаевич сразу понял ситуацию и предложил, в свою очередь, поговорить обо мне с Я. Б. Зельдовичем, который (как будто это было угодно судьбе) был в это время в Москве. К вечеру уже наметились конкретные результаты: выслушав Ю.Н. Бабаева, ЯБ попросил Юрия Николаевича передать мне, чтобы я на следующее утро связался с ним по телефону.
Едва сдерживая волнение, я позвонил и представился. ЯБ пригласил меня в свою квартиру на Воробьевском шоссе к восьми утра в понедельник.
Я очень отчетливо помню эту первую встречу. Анатолий и я добрались до Воробьевского шоссе от метро Калужская на автобусе. Мороз ослаб, и снег валил большими хлопьями. Дверь открыл сам Яков Борисович, его лицо {162} было покрыто мыльной пеной. Мы прошли в комнату, в которой на видном месте стояла небольшая классная доска. Яков Борисович извинился за то, что, задавая мне вопросы, он будет продолжать бриться. Так началось наше знакомство.
Коротко поинтересовавшись темой моего диплома и областью моих интересов в физике, ЯБ начал всерьез экзаменовать меня. В связи с моей дипломной работой, название которой было что-то вроде «Зависимость коэффициента газоразделения в трубе с пористыми стенками от параметров турбулизации», ЯБ попросил меня вывести логарифмический профиль распределения скорости в турбулентном потоке. К счастью, я помнил основные постулаты теории Прандтля и справился с этой задачей. Следующий вопрос был связан с прослушанным нами в институте курсом по теории ускорителей заряженных частиц: вывести условия работы бетатронного индуктивного ускорителя электронов. Приравняв силу Лоренца центробежной силе, я вывел зависимость величины магнитного поля от скорости электрона и радиуса его орбиты.
Но мне пришлось попотеть над выводом условия стабильности орбиты, а именно, над тем, что среднее значение индукции магнитного поля должно быть вдвое больше ее значения на орбите. Далее был вопрос о статистиках Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Однако мы с Анатолием Ларкиным провели все воскресенье в общежитии на улице Зацепа, 2а, штудируя недавно изданное пособие по теоретической физике А. С. Компанейца, и сейчас это оказалось весьма кстати. Наконец, последовала, как я позже узнал от других, классическая задача Якова Борисовича: вычислить интеграл ∫x ln x dx. Это было не сложно; я быстро взял интеграл и стал ожидать дальнейших вопросов. Их не последовало.
Свежевыбритый ЯБ, сверкающий синевой щек, с улыбкой обратился к Ларкину: «Ну что, мы его берем?», а затем сказал мне, что сегодня он будет в министерстве и поговорит с необходимыми людьми в руководстве, и велел позвонить ему на следующее утро.
У входа в дом Якова Борисовича уже ждала служебная машина ЗИМ. ЯБ любезно предложил довезти нас с Анатолием до ближайшего метро, и десятью минутами позже мы расстались с ним у метро Калужская.
На следующий день я позвонил, как мы и договаривались. Томясь в ожидании, я, как мне казалось, слышал биение своего сердца. И вот я услышал голос ЯБ: «Тебе разрешено работать с нами. Свяжись с Тишкиной в министерстве, она объяснит тебе что делать. До встречи».
Моя судьба была решена. Я отправлялся на работу в «Приволжское Бюро», где работали Зельдович и Сахаров, а также много другие лучшие ученые, имена которых тогда были мне еще незнакомы. Мне предстояло работать бок о бок с моим другом Ларкиным, разделявшим мой энтузиазм школьника в отношении физики и математики, над весьма секретными научными проблемами правительственного значения. Но все это должно было начаться через месяц, после моего отпуска, а тогда моя душа была переполнена радостью и благодарностью Якову Борисовичу, который решил мою судьбу.
Я попытаюсь вспомнить мои первые впечатления о Якове Борисовиче. Его облик в некотором смысле разочаровал меня. Я готовился встретить {163} солидного величественного члена Академии Наук, чьи (огромные достоинства и заслуги вкратце описывал мне Анатолий Ларкин. Но Яков Борисович был относительно невысок, носил круглые очки, не был статным и не отличался изысканностью костюма. Я вспомнил это потому, что позднее я вдруг осознал, что я любуюсь им, когда он говорит, делает доклад или ведет дискуссию на семинаре, сидит на колесе автомобиля, танцует и т.д. То же самое я замечал в глазах других людей, окружавших его. Да, первое впечатление было ошибочным: в жизни Яков Борисович был очень обаятельным человеком, утонченным, с неистощимой энергией и юмором. Его глаза сияли юношеским энтузиазмом и порой даже озорством. Он был «вечно юным». С самой первой минуты нашего общения с ЯБ я почувствовал себя свободно и легко. В его голосе не было командного высокомерного тона, он никогда не кичился своими научными достижениями. Для него всегда самым важным и интересным было суть задачи, проблемы, вопроса. Уже тогда всех поражала его широчайшая научная эрудиция, которая чувствовалась в его вопросах и комментариях. Это ощущение только усиливалось с каждой новой встречей, перерастая в удивление и благоговение. Размах областей физики и астрофизики, в которые внес свой вклад ЯБ, был настолько широк, что у некоторых зарубежных ученых (в частности, в этой связи упоминался Стивен Хокинг) складывалось впечатление, что под именем Я. Б. Зельдовича работает целый коллектив авторов, как это было в случае с Н. Бурбаки.
Когда в начале апреля 1956 года я прибыл в «Приволжское Бюро» (как оказалось, оно располагалось в г. Сарове, историческом месте России, связанном с именем святого Серафима Саровского), в двух теоретических отделах, возглавляемых Я. Б. Зельдовичем и А. Д. Сахаровым, работало немногим более двадцати человек. В основном, это были молодые теоретики без высоких степеней и званий, которые работали здесь от двух до четырех лет, но, тем не менее, некоторые из них уже были удостоены Сталинской Премии или правительственных наград. В отделе были также и выдающиеся физики, такие, как Д. А. Франк-Каменецкий, Г. М. Гандельман и Н. А. Дмитриев. Этот небольшой коллектив работал в области вычислительно-теоретических исследований ядерных зарядов. Здесь новые, свежерожденные идеи превращались в теоретические оценки структурных параметров зарядов. На основе этого теоретические оценки отдавали прикладным математикам для проведения комплексных детальных вычислений; формулировались технические спецификации для инженеров и технических работников, которые превращали эти идеи в проекты и модели; и, наконец, на основе технической документации формулировалась задача для экспертов в области газодинамики и для физиков-экспериментаторов для проведения физических измерений и экспериментов с зарядами. Основной целью было сделать ядерные заряды более мощными, легкими, меньшими по размеру и более экономичными с точки зрения использования специальных материалов и др.
Это была суть работы физиков-теоретиков, специфичной для этой новой области военной технологии, и объяснял ее нам, небольшой группе «новобранцев» в когорте работников ядерного вооружения, Я. Б. Зельдович. Прежде всего, он перечислил области физики, в которых каждый, в силу специфики работы, должен быть осведомлен, и наметил первые шаги, {164} с которых надо было начать. Он не избегал вопросов важности работ по созданию ядерного оружия, о повышенных требованиях и ответственности, связанных с этой работой, о высокой цене ошибки. Позже все это стало частью нашего мировоззрения, и Юлий Борисович Харитон постоянно и требовательно напоминал нам, что мы должны знать в десять раз больше чем то, что необходимо для какой-либо конкретной задачи.
Высокий дух созидательного энтузиазма витал во всех отделах «объекта»: только несколько месяцев прошло с момента испытания в ноябре 1955 термоядерной бомбы двухстадийной конструкции. Я.Б. Зельдович был одним из тех, чей вклад в разработку термоядерной бомбы был особенно весом и значим. Теоретики были вдохновлены открывшимися перспективами дальнейшего успеха за счет новой конструкции бомбы. Дух уверенности и оптимизма, а также удовлетворения от решения важнейшей проблемы достиг новых высот. Количество идей значительно превышало: возможности их быстрой проверки.
К концу апреля мы получили доступ ко всем секретным документам, включая секреты нового оружия, и «военная» физика стала «пропитывать» наши жизни.
1956 год не был удачным годом для ЯБ. Попытка значительно улучшить технические и военные характеристики бомбы, испытанной в 1955 г., закончились двумя «неудачными» тестами (так называли испытания со значительно более низким выходом энергии). И это было не из-за того, что были сделаны какие-то непростительные ошибки. Просто сама Природа отказывалась сотрудничать с нами, когда уровень наших знаний относительно определенных физических параметров был недостаточен, чтобы выбрать правильную конструкционную схему. Прошло более года до того как комплексные квантово-механические вычисления и различные физические эксперименты привели к лучшему пониманию и успеху в этой работе.
Отсутствие успеха с этими экспериментами сильно беспокоило ЯБ. В порыве раздражения он говорил теоретикам, курирующим работу над этими объектами: «Я уже исчерпал лимит неудач и не могу поддерживать ваши планы».
В теоретическом секторе ЯБ было три отдела. Однако ЯБ и АДС (Андрей Дмитриевич Сахаров) не проявляли какого-либо административного рвения в пробивании назначений для сотрудников их отделов в деятельности по разработке зарядов. Фактически разработка зарядов осуществлялась группами сотрудников из различных отделов. Тот факт, что коллективы организовывали себя сами наиболее полезным для работы образом, поддерживал атмосферу созидания. Все наши кабинеты находились на одном этаже в здании. Кабинеты АДС и ЯБ располагались рядом, по одну сторону коридора. Сейчас эти комнаты отданы службам компьютерной поддержки, они заполнены тестовым оборудованием и запахами паяльников, и ничего здесь уже не напоминает о былом. Ужасно грустно, что время так безжалостно.
Я помню первую задачу, которую поставил передо мной ЯБ: определить время, после которого возможно взорвать ядерную бомбу, переносимую бомбардировщиком, на который воздействуют нейтроны от ядерного взрыва ракет-перехватчиков. Задача сводилась к оценке числа задерживаемых {165} нейтронов, которые могли бы привести к преждевременному началу цепной реакции при запуске взрывного механизма. В то время не было компьютеров, и задачи подобного типа решались сведением их к простым моделям, которые могли быть решены аналитически. Из этой своей ранней работы я вынес очень много.
В прикладных исследованиях, до начала массовых вычислений, было важно уметь быстро получить численные ответы, которые были бы правильными по порядку величины (т.е. давали бы правильную качественную оценку эффекта). ЯБ и АДС были великими мастерами этого искусства. Казалось, что не было задачи, для которой они не могли бы получить численный ответ после некоторого времени вычислений с мелом у доски. Для нас, тех, кто еще вчера были студентами, это были четкие уроки того, как использовать аргументы размерности, аналогии и симметрии, а более всего — демонстрация физической интуиции, которая могла выделить в физическом явлении основные факторы, управляющие развитием всего явления. В то время были очень популярны задачи с автомодельными решениями, особенно задачи, связанные с нелинейным теплопереносом и гидродинамикой. Некоторые из них имели прямую взаимосвязь с ядерной физикой. Уже в 1950 году Я. Б. Зельдович и А. С. Компанеец опубликовали результаты о режиме тепловых волн (американская публикация Р. Маршака появилась в 1958 г.). Монография «Физика ударных волн и высокотемпературные гидродинамические явления», написанная ЯБ и Ю. П. Райзером (ЮПР) стала известной во всем мире. Написанная одним из создателей ядерного оружия (ЯБ) и специалистом в области физики ядерного взрыва (ЮПР), эта книга стала учебником для всех, чья работа была связана с режимами высоких температур, давлений и плотностей.
Для Якова Борисовича 1957 год ознаменовался успешной практической реализацией его старой идеи, разработанной совместно с Л. П. Феоктистовым, об увеличении эффективности взрыва атомного заряда посредством так называемого бустерного режима (следуя американской терминологии). ЯБ привлек к этой работе молодого физика-теоретика Виталия Морозова. Вычислительная теоретическая работа осуществлялась более года и закончилась в декабре 1957 года успешным испытанием. Это стало важнейшим событием не только для теоретиков, но и для разработчиков и технических специалистов.
Деятельность по исследованию зарядов вступила в период завершающих работ, и новые идеи ждали часа своей проверки. ЯБ осуществил дальнейшее развитие и расширение идеи бустерного режима, а также реализации, совместно с Л. В. Альтшулером и Ю.М. Стяжкиным, идеи режима расщепления, в котором цепная реакция только начавшись, затухала. В будущем, проведение таких «неполных» взрывов стало весьма важным для научных исследований по ряду вопросов в физике вооружений.
Будучи руководителем теоретического сектора, Яков Борисович отвечал за «производство» в целом, которое выполняли его подчиненные (т.е. ему звонили, чтобы подтвердить их отчеты, получить большое количество результатов вычислительных и аналитических исследований, которые проходили через него). Конечно, это была большая нагрузка, а для ЯБ просто огромная, принимая во внимание его научные интересы помимо физики вооружения. Он никогда не терял ни минуты, порой решая проблемы на ходу. {166}
Помимо работы с теоретиками у ЯБ было множество контактов с экспериментаторами: с Л.В, Альтшулером, В.А. Давиденко, СБ. Кормером, М. А. Цукерманом и другими коллегами. Взаимообмен идеями принес свои плоды: в Сарове возник один из мировых центров прикладных и фундаментальных исследований в новейших областях физики. Не случайно, что на конференции, посвященной физике высоких плотностей энергии (1969, Школа Ферми в Варение, Италия), Эдвард Теллер сказал:
«У нас две причины сожалеть. Первая — это отсутствие Альтшулера и Зельдовича, двух человек, которые может быть более, чем кто-либо другой, помогли приблизить открытие этой новой области исследований. Вторая — отсутствие среди нас ученых из прекрасной лаборатории в Лос-Аламосе».
Мораторий на ядерные испытания (с конца 1958 г. по сентябрь 1961 г.) в действительности не оказал влияния на работу теоретиков, хотя ряд коллег частично переключились на работу с несекретными темами.
Заслуживающим внимания эпизодом является организация поездок в Москву для прослушивания лекций по квантовой электродинамике, которые читал Л. Д. Ландау на физическом факультете МГУ в течение двух семестров в 1959–1960 гг. ЯБ и АДС смогли пробить разрешение у директора «объекта», Б. Г. Музрукова, на поездки в Москву более чем для 15 человек.
Лекции Д. Д. Ландау произвели на нас огромное впечатление, по их глубине и манере, в которой они подавались. Яков Борисович также присутствовал на этих лекциях. «Я, как физик-теоретик, считаю себя студентом Льва Давидовича Ландау», — писал ЯБ в автобиографическом послесловии к своим «Избранным Трудам». Глубокое восхищение ЯБ своим учителем звучало во всем, что было связано у него с Ландау.
Яков Борисович играл ведущую роль в создании научной атмосферы на «объекте». Часто бывая в Москве и общаясь на семинарах или при личных встречах с ведущими учеными страны, ЯБ был в курсе последних достижений в физике. По прибытии на «объект» ЯБ организовывал семинары, на которых он делился новостями. Часто его выступление включало обсуждение последних разработок по проблемам, поставленным самим ЯБ, или постановку новых задач. Семинары делились на маленькие, предназначенные для теоретиков, и те, когда огромная аудитория трещала по швам и где присутствовать мог любой заинтересованный. Всем нравилось слушать Якова Борисовича. Семинары посещали как начальники больших отделов, так и лаборанты. Его интерес к науке, жажда познания, ощущение красоты эффекта звучал в его выступлениях и передавался присутствующим. Вот лишь краткий перечень тем, затронутых ЯБ на семинарах: создание теории сверхпроводимости; открытие несохранения четности; накопление холодных нейтронов; перенасыщение легких ядер нейтронами; горячая и холодная модели Вселенной; наиболее точное уравнение состояния. Этот список не включает в себя семинары по гидродинамике, процессам в ударных волнах, оптическим явлениям и автомодельным решениям.
Можно было только изумляться, как ЯБ мог впитывать такую массу новой информации. Сам он говорил, что лучший способ изучить новую область в физике — это написать научный обзор по ее текущему состоянию. Как много таких обзоров ЯБ написал для журнала «Успехи Физических Наук»! {167}
ЯБ всегда был переполнен задачами и идеями, которыми он щедро делился с аудиторией на семинарах. Порой, поставив задачу всего днем раньше, уже к утру следующего дня ЯБ был готов рассказать о найденном решении.
Один из семинаров Якова Борисовича сыграл важную роль в моем выборе темы будущей диссертационной работы. В начале января 1959 года, вернувшись из Москвы, ЯБ рассказал нам о гипотезе Б. Понтекорво, что слабые взаимодействия электронов и нейтрино с гамильтонианом в форме, предложенной Фейнманом и Гелл-Манном, могли бы приводить к излучению электроном в поле ядра нейтринных пар. Согласно этому механизму, горячие ядра звезд должны без затруднения терять энергию в виде нейтринного излучения, поскольку поглощение нейтрино звездной материей пренебрежимо мало. Кто не хотел бы проверить, так ли это в действительности?
Эта проблема заинтересовала меня. Вооружившись моим скромным опытом вычисления фейнмановских диаграмм, которым я был обязан молодому аспиранту, а впоследствии министру Атомной Энергетики, Виктору Михайлову, я решил сделать попытку. Мою заинтересованность поддержал Г.М. Гандельман, и вместе мы показали, что, действительно, на последних стадиях эволюции звезды излучение нейтрино за счет электрон-нейтринных взаимодействий может превышать излучение фотонов.
Услышав об этих результатах, ЯБ организовал встречу с Б. Понтекорво, которая состоялась в Москве, в квартире Д. А. Франк-Каменецого. Результатом встречи стало письмо Б. Понтекорво в «Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики» и моя статья с Г.М. Гандельманом. Публикация этих работ вызвала широкий отклик и последовавший поток работ по другим, более эффективным процессам излучения нейтрино. Яков Борисович был одним из первых, кто рассмотрел проблему нейтринной потери во время гравитационного коллапса. Регистрация нейтрино от Сверхновой 1987А в удаленном Магеллановом Облаке подтвердила, что нейтрино уносят основную часть энергии звезды при взрыве сверхновой.
В сентябре 1961 г. возобновились ядерные испытания. За годы моратория теоретики проделали огромный объем работы, проанализировав экспериментальные конструкции для ядерных зарядов, и определили направления для их дальнейшего улучшения, составив впечатляющий список для испытаний.
Началось захватывающее время, когда некоторые из конструкций были на пути к испытательному полигону, другие подготавливались к погрузке на железнодорожных станциях, третьи, днем и ночью, собирались в заводских мастерских, остальные реализовывались в чертежах или в перфокартах для компьютерных вычислений.
Для Якова Борисовича серия ядерных испытаний в период с 1961 по 1962 гг. стала последней. Эта была работа, которая была крайне стрессовой, требовавшей большой ответственности, и как мне казалось, даже не приносила ЯБ удовлетворения. Можно было ощущать, что его интересы сместились в сторону решения непознанных загадок природы, ему стало тесно в рамках прикладной физики вооружений. «Тараканьи бега» — так с юмором ЯБ описал свою работу в течение последнего года перед его уходом с «объекта».
ЯБ глубоко увлекся общей теорией относительности, космологией и астрофизикой. Это может послужить подтверждением замеченного кем-то факта, {168} что у многих физиков-теоретиков, вступающих во вторую половину своей жизни» возникает горячий интерес к проблемам природы Вселенной. Конечно, их знание физики процессов, проистекающих в звездах и при термоядерных взрывах, играло немаловажную роль в этом выборе.
Спустя короткое время, используя теоретический учебник Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица «Теория полей», ЯБ освоил общую теорию относительности. Это было не просто самообучение. Участники организованного им семинара (1960–1963 гг.) помнят, как ЯБ представлял и обсуждал нерешенные проблемы в теории относительности, в частности, вопрос эволюции массивных звезд и гравитационный коллапс. ЯБ назвал результат катастрофического сжатия звезды «гравитационной могилой» (термин, который по содержанию может быть не менее богат чем, «черная дыра»). Семинар становился более оживленным, когда на нем присутствовал А. Д. Сахаров. Мнения академиков не всегда совпадали, и обсуждение деталей иногда выходило далеко за рамки темы семинара. Один из них как-то не семинаре заметил; «Не слишком ли много моделей Вселенной для одного конструкторского бюро?» Энтузиазм ЯБ по поводу общей теории относительности не мешал ему быть преданным физике элементарных частиц» физической кинетике, ядерной и атомной физике, физкинетике, физике непрерывных сред и др.
В 1962 году в Тарту проходило теоретическое совещание по наиболее важным проблемам астрофизики, для которого ЯБ подготовил очень обширный обзорный доклад «Современная физика и астрономия». Яков Борисович поручил мне выступить с докладом о нейтринных процессах в звездах. Семинар в Тарту был незабываем. Тогда впервые я увидел ЯБ, волнующегося по поводу доклада перед аудиторией астрономов и астрофизиков. Семинар был крайне представительным, среди его участников были ИХ. Шкловский, Б.М. Понтекорво, Д. А. Франк-Каменецкий С. Б. Пикельнер, А. Г. Масевич, Р.З. Сагдеев, С. С. Герштейн, Г. С. Сисакян и другие хорошо известные ученые. Вероятно причиной озабоченности ЯБ являлось, что он, физик-теоретик, специалист по сжатию и детонации, гидродинамике и ударным волнам, один из столпов советского атомного проекта, ворвался в авангард астрофизиков. Заключение доклада ЯБ прозвучало как кредо: «Есть громадный пафос в проблеме описать все разнообразие наблюдаемых явлений и общих законов Вселенной на основании существующих законов физики, установленных в лабораторных экспериментах и путем теоретического анализа». Несколько лет спустя с тем же успехом ЯБ использовал данные по наблюдению Вселенной для постановки ограничений в физике элементарных частиц, которые были не достижимы для экспериментов на Земле.
Также достопамятен еще один момент. В один из дней в Университете Тарту, где проводилось совещание, проходила кампания по сбору подписей в поддержку протеста против проведения в СССР ядерных испытаний в атмосфере. ЯБ, не ожидая, пока к нему обратятся за подписью, ушел, сказав напоследок, что не будет одной и той же рукой подписывать документы по разработке зарядов для ядерных испытаний и петицию против проведения испытаний.
В 1964 году Яков Борисович перебрался в Москву и возглавил небольшой теоретический отдел в Институте прикладной математики. Начался новый {169} этап его жизни, полностью посвященный его любимой науке. Он отдал 20 лет разработке атомного и водородного оружия. «Для меня это были счастливые годы», — напишет позже Яков Борисович в автобиографическом послесловии к своим «Избранным Трудам». Впереди оставалось еще немного времени, которое велением судьбы будет посвящено неутомимому изучению загадок пространства, времени и материи. Было близко мировое признание.
«Архимед и Галилей не были последними среди тех, кто обеспечил прорыв своей науке из нужд обороны большего сообщества. Вильсоны и Зельдовичи наших дней — через их математические предсказания и проверки, которые прошли эти предсказания — создали стандарт для своих коллег по науке во всем мире».
Эти слова были сказаны в 1982 году на симпозиуме в США, посвященном 60-летию Д. Р. Вильсона, Джоном А. Уилером, автором (совместно с Н. Бором) теории расщепления урана, одним из разработчиков ядерного вооружения США, астрофизиком и космологом.
Воздавая должное памяти Якова Борисовича Зельдовича, выдающегося ученого XX столетия, внесшего большой вклад в развитие фундаментальной теоретической физики, мы чтим этого блестящего ученого и как основателя теоретической школы, заложившей в нашей стране основы науки о ядерном оружии, как участника разработки, расчетно-теоретического обоснования и испытаний отечественного ядерного оружия, создателя ядерного щита нашей страны.
Исключительная роль, которую сыграл Я. Б. Зельдович в создании отечественного атомного и термоядерного оружия, и, в целом, в отечественном атомном проекте, была предопределена уже его ранними довоенными теоретическими работами 1939–1940 годов, выполненными совместно с Ю. Б. Харитоном и посвященными проблеме осуществления цепной реакции деления. В этих работах были заложены основы физики реакторов и описаны первые подходы к решению проблемы взрывного освобождения ядерной энергии. В 1940 г. Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон опубликовали статью «Кинетика цепного распада урана», в которой, в частности, было сформулировано основное условие для осуществления атомного взрыва — достижение «весьма быстрого и глубокого перехода в сверхкритическую область». Изложенные в этой статье соображения Я. Б. Зельдовича и Ю.Б. Харитона, в которых был затронут и принцип конструирования атомной бомбы, получивший название «пушечное сближение», стимулировали поиск практических путей реализации взрывного освобождения атомной энергии.
Когда в феврале 1943 года И. В. Курчатов возглавил научное руководство советским атомным проектом, он не мыслил осуществление возложенной на него грандиозной миссии без привлечения лучших ученых страны. В числе первых ученых, намеченных им в качестве участников проекта, было названо {170} и имя Я. Б. Зельдовича. Весной 1943 года И. В. Курчатову на основе анализа разведывательных материалов и довоенных публикаций стала принципиально ясной новая возможность конструирования атомной бомбы, основанная на использовании в бомбе в качестве ядерного горючего не урана–235, а нового активного делящегося материала — плутония–239. Отметив в письме иа имя М. Г. Первухина от 22 марта 1943 года, что «перспективы этого направления необычайно увлекательны», И. В. Курчатов далее писал: «Бомба будет сделана, следовательно, из «неземного» материала, исчезнувшего на нашей планете. ..Разобранные необычайные возможности, конечно, во многом еще не обоснованы. Их реализация мыслима лишь в том случае, если эка-осьмий–239 (плутоний–239 — Авт.) действительно аналогичен урану–235 и если, кроме того, так или иначе может быть пущен в ход «урановый котел». Кроме того, развитая схема нуждается в проведении количественного учета всех деталей процесса. Эта последняя работа в ближайшее время будет мной поручена проф. Я. Б. Зельдовичу» [1]. И уже с начала 1944 года Я. Б. Зельдович, будучи заведующим лабораторией Института химической физики АН СССР, по совместительству начал работать в возглавлявшейся И. В. Курчатовым Лаборатории №2 АН СССР (теперь Российский научный центр «Курчатовский институт»). Сохранился подписанный И. В. Курчатовым набросок плана Лаборатории №2 на 1944 год, в котором содержался пункт: «Теоретическая разработка вопросов осуществления бомбы и котла (01.01.44 — 01.01.45) — Зельдович, Померанчук, Гуревич» [2].
Нужно отметить, что в военное время Я. Б. Зельдович активно занимался также вопросами горения и детонации взрывчатых веществ. В 1943 году он получил за эти работы свою первую Сталинскую премию.
В конце 1945 года Я. Б. Зельдович был привлечен и к рассмотрению возможности создания водородной бомбы. 17 декабря 1945 года на заседании Технического совета Специального комитета был заслушан доклад Я. Б. Зельдовича «О возможности возбуждения реакций в легких ядрах». Доклад был основан на материалах представленного к этому заседанию отчета И. И. Гуревича, Я. Б. Зельдовича, И. Я. Померанчука и Ю. Б. Харитона «Использование ядерной энергии легких элементов» [3]. Этот отчет явился первым отечественным исследованием по проблеме создания водородной бомбы. В отчете рассматривалась схема бомбы, получившая в дальнейшем название «труба» и являвшаяся аналогом американского проекта водородной бомбы «классический супер». Следует отметить, что отчет содержал ряд оригинальных предложений и представлений, отличавший его от поступивших к этому времени в СССР разведывательных материалов, относящихся к «классическому суперу». Этот отчет стал первым шагом на пути поиска собственных, отличных от американских, подходов к решению проблемы создания водородной бомбы, определивших, в конечном счете, успех термоядерной программы нашей страны.
С мая 1945 года работы по проблеме создания атомной бомбы, проводившиеся в Лаборатории №2, координировал Ю. Б. Харитон, который был назначен научным руководителем этих работ [4]. Постановлением СМ СССР от 9 апреля 1946 года сектор №6 Лаборатории №2 АН СССР, занимавшийся исследованиями по проблеме создания атомной бомбы, был {171} реорганизован в Конструкторское бюро №11 при Лаборатории №2 АН СССР [5, с. 429–430]. Местом размещения КБ–11 был выбран поселок Сарова, расположенный вблизи границы Мордовской АССР и Горьковской области. Главным конструктором КБ–11 был назначен Ю.Б. Харитон. В 1950 году КБ-И получило статус самостоятельного института, независимого от Лаборатории №2 АН СССР [6, с. 135–136]. Конструкторское бюро №11 явилось базой, на которой вырос «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».
Указанное выше постановление СМ СССР возлагало проведение теоретических работ по проблеме создания атомной бомбы по заданиям Лаборатории №2 АН СССР (имелись в виду задания КБ–11) на Институт химической физики АН СССР, руководимый Н.Н. Семеновым. Я. Б. Зельдович возглавил теоретический отдел ИХФ, занимавшийся ядерно-оружейными вопросами. Однако он продолжал непосредственное сотрудничество с Лабораторией №2 по теоретическим вопросам создания уран-графитового реактора. 25 декабря 1946 года произошло знаменательное событие в истории советского атомного проекта — в Лаборатории №2 был пущен первый в СССР, он же первый в Европе и Азии, ядерный реактор [5, с. 631–632]. Постановлениями СМ СССР, принятыми в феврале и марте 1947 года, участники работ по созданию и пуску первого ядерного реактора были поощрены денежными премиями. Среди премированных был и Я. Б. Зельдович, получивший тогда премию в 50 тыс. рублей [7, с. 120–121, 152–156].
Широта научных интересов Я. Б. Зельдовича делала его незаменимым специалистом в самых разных областях деятельности по осуществлению отечественного атомного проекта. Постановлениями СМ СССР от 9 апреля 1946 года и 17 декабря 1948 года Я. Б. Зельдович был утвержден членом секции Научно-технического совета Первого главного управления по вопросам охраны труда [3, с. 216–217; 8, с. 197–201].
В 1946 году Я. Б. Зельдович был избран членом-корреспондентом АН СССР. Академиком АН СССР он стал в 1958 году.
К тематике отдела Я. Б. Зельдовича в ИХФ с 1946 года относились не только вопросы, связанные с разработкой атомных бомб (теория сходящейся детонационной волны, расчеты размножения нейтронов, расчеты вероятности преждевременного взрыва), но и оценки возможности создания водородной бомбы, в которой ядерные реакции на легких ядрах инициировались бы атомным взрывом. На заседании Научно-технического совета Первого главного управления при СМ СССР 3 ноября 1947 года был заслушан доклад Я. Б. Зельдовича «О новых источниках тепла» [9]. К этому заседанию НТС был представлен отчет СП. Дьякова, Я.Б. Зельдовича и А.С. Компанейца «К вопросу об использовании внутриатомной энергии легких элементов» [10]. Интересно, что в отчете рассматривалась не только возможность осуществления ядерной детонации в среде из дейтерия, но и в среде из дейтерида лития. Возможность ядерной детонации в среде из дейтерия не исключалась, а что касается дейтерида лития, был сделан вывод о невозможности осуществления ядерной детонации в среде из такого термоядерного горючего (в связи с малыми значениями сечений реакций D + Li6 = 2He4 и D + Li7 = 2He4 + n). Как {172} бы то ни было, мы можем констатировать, что первое в нашей стране рассмотрение возможности использования в качестве ядерного горючего в термоядерной бомбе дейтерида лития относится к 1947 году и связано с именем Я. Б. Зельдовича.
По мере развертывания работ КБ–11 Ю.Б. Харитон все более ощущал необходимость организации теоретических работ по тематике КБ–11 непосредственно в КБ–11. В ноябре 1947 года Ю.Б. Харитон подобрал и кандидата на должность начальника теоретической группы КБ–11. Это был проф. О.М. Тодес, бывший коллега Ю.Б. Харитона и Я.Б. Зельдовича по ИХФ [И, с. 340–341]. Но события стали развиваться иначе, и в феврале 1948 года вышло постановление СМ СССР, которое предписывало направить в КБ–11 для проведения теоретических работ, связанных с заданиями, выполняемыми КБ–11, сроком на один год группу сотрудников теоретического отдела ИХФ во главе с Я. Б. Зельдовичем [5, с. 481–489].
Приказом начальника КБ–11 П.М. Зернова Я. Б. Зельдович был с 20 февраля 1948 года назначен начальником теоретического отдела КБ–11 с окладом 6000 рублей и с выплатой 75% надбавки. С этой даты начинается история теоретических отделений РФЯЦ-ВНИИЭФ [12].
Сохранилось письмо уполномоченного СМ СССР при ИХФ АН СССР А. Н Бабкина от 14 апреля 1948 года в МГБ СССР, проливающее свет на причины перехода Я. Б. Зельдовича из ИХФ в КБ–11. Из письма следует, что в конце 1947 — начале 1948 года в ИХФ сложилась атмосфера недоверия со стороны режимных органов к ряду сотрудников, обусловленная их анкетными данными, и был поставлен вопрос о правомерности допуска этих сотрудников к специальным работам. В этом письме говорилось: «При проверке выявилась засоренность и концентрация большого количества лиц, скомпрометированных в политическом отношении. Ниже приводится список таких лиц... 11. Зельдович Яков Борисович — 1914 года рождения. Родители его матери и сестра живут в Париже. Сестра отца — Фрумкина Р.Н. в 1936 году арестована. В настоящее время Зельдович категорически отказывается работать в институте и добился зачисления в штат Лаборатории Ю.Харитона... Прошу поручить еще раз проверить эти материалы и решить, не была ли допущена ошибка в части разрешения привлечения к специальным работам указанных лиц» [7, с. 802]. Так благодаря режимным органам в стенах КБ–11 стал работать выдающийся физик-теоретик Я. Б. Зельдович.
Годичная командировка Я. Б. Зельдовича в КБ–11 растянулась почти на 18 лет. С мая 1952 года он возглавлял теоретический сектор №2. В должности начальника этого сектора Я. Б. Зельдович проработал в КБ–11 до октября 1965 года, после чего, полагая свою миссию выполненной, вернулся в Москву, чтобы сосредоточиться на фундаментальных исследованиях. С 1965 года по 1983 год Я. Б. Зельдович был заведующим отделом Института прикладной математики АН СССР (и одновременно заведующим отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга), с 1983 года — заведующим отделом Института физических проблем АН СССР и консультантом дирекции Института космических исследований АН СССР. {173}
Еще до приезда Я. Б. Зельдовича в КБ–11, постановлением СМ СССР от июня 1947 года он был утвержден экспертом образованного этим постановлением Научно-технического совета при Лаборатории №2 АН ССССР по вопросам КБ–11 [5, с. 472–477]. В декабре 1949 года он стал членом Научно-технического совета КБ–11 [5, с. 606–609]. В 1959 году Я. Б. Зельдович был утвержден членом образованного в этом году нового совещательного органа по проблемам ядерного оружия — Научно-технического совета №2 Министерства среднего машиностроения.
Будучи сам человеком неиссякаемой энергии, Я. Б. Зельдович с самого начала работы в КБ–11 заряжал своей энергией прибывавших в КБ–11 молодых теоретиков, неизменно создавал и поддерживал атмосферу творческого поиска. В Я. Б. Зельдовиче удивительно сочетался интерес к фундаментальной науке и деятельности по ядерно-оружейной тематике. Создаваемую при его непосредственном участии науку о ядерном оружии он ставил на один уровень с фундаментальной наукой. Ему принадлежит высказывание, что защита диссертации по ядерно-оружейной тематике является самой почетной защитой на объекте. В то же время он стремился поддержать уровень знаний молодых теоретиков в области фундаментальной науки, постоянно информировал их о новых достижениях и после каждой поездки в Москву рассказывал о последних научных новостях.
Я. Б. Зельдович прибыл в КБ–11 в период, когда в КБ шла интенсивная отработка, затем и подготовка к испытанию первой отечественной атомной бомбы РДС–1, и вместе с сотрудниками своего отдела принял активное участие в расчетно-теоретическом обосновании РДС–1. За участие в работах по созданию РДС–1, которая была успешно испытана 29 августа 1949 года, Я. Б. Зельдович был удостоен звания Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени (согласно официальной формулировке как руководитель «работ по построению общей теории атомной бомбы») [5, с. 548–549, 564].
Еще до испытания РДС–1 в КБ–11 начались работы над усовершенствованными конструкциями атомных бомб. Первые образцы таких бомб — бомбы РДС–2 и РДС–3 были испытаны 24 сентября и 18 октября 1951 года. За участие в расчетно-теоретическом обосновании этих бомб («решении теоретических вопросов при разработке конструкции изделия РДС») Я. Б. Зельдович вновь получил Сталинскую премию I степени [6, с. 352].
Работы по выяснению возможности создания усовершенствованных по сравнению с РДС–1 атомных бомб были начаты в КБ–11 в соответствии с постановлениями СМ СССР, принятыми 10 июня 1948 года, вскоре после прибытия Я. Б. Зельдовича в КБ–11 [5, с. 494–498]. Эти постановления предусматривали проведение соответствующих экспериментальных и расчетно-теоретических работ по заданиям Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича. Эти же постановления обязывали КБ–11 с участием Физического института АН СССР провести по заданиям Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича исследования возможности создания водородной бомбы. В ФИАН СССР с этой целью была организована теоретическая группа под руководством И. Е. Тамма, в состав которой, в частности, вошли А. Д. Сахаров и В. Л. Гинзбург. Осенью 1948 года А. Д. Сахаров выдвинул новую концепцию водородной бомбы {174} — концепцию «слойки», а вскоре В. Л. Гинзбург предложил использовать в «слойке» в качестве термоядерного горючего дейтерид лития–6. С этого времени параллельно с расчетами по «трубе» стали проводиться расчеты по «слойке».
26 февраля 1950 года Советом Министров СССР в ответ на провозглашенную 31 января 1950 г. директиву президента США о форсирование американских работ по сверхбомбе было принято постановление №827–303сс/оп о создании отечественной водородной бомбы [14]. Постановление предусматривало разработку водородной бомбы в двух вариантах: РДС–6с — «слойка» и РДС-бт — «труба». В первую очередь должна была быть создана «слойка». Научным руководителем по созданию РДС–6с и РДС-бт был назначен Ю. Б. Харитон, его заместителем по РДС–6с — И.Е. Тамм, заместителем по расчетно-теоретической части РДС-бт Я. Б. Зельдович. В конце 1951 года вышло постановление СМ СССР №5373–2333сс/оп, которое определяло ряд дополнительных мер по обеспечению разработки «слойки», и среди них привлечение к работам по РДС–6с еще нескольких ученых, в том числе Я. Б. Зельдовича [14]. Выпущенный в июле 1953 года итоговый отчет по РДС–6с был подписан тремя авторами — И.Таммом, А. Д. Сахаровым и Я. Б. Зельдовичем. Испытание РДС–6с — первой транспортабельной термоядерной бомбы, явившееся важнейшим этапом в развитии ядерно-оружейной программы СССР, состоялось 12 августа 1953 года. После этого испытания в 1953 году были проведены и взрывы нескольких новых атомных бомб, в расчетно-теоретическом обосновании которых также участвовал Я. Б. Зельдович. «За разработку теоретических вопросов, связанных с созданием РДС–6с, РДС–4 и РДС–5 и их испытанием на полигоне №2» 31 декабря 1953 г. Я. Б. Зельдовичу была присуждена Сталинская премия I степени [6, с. 626]. Это была уже четвертая Сталинская премия Я. Б. Зельдовича. «За исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства» 4 января 1954 г. он был награжден второй медалью Героя Социалистического Труда [6, с. 648]. Что касается работ по «трубе», они были признаны бесперспективными и после 1953 г. в КБ–11 прекращены.
В 1952 году В. А. Давиденко высказал важные соображения, касающиеся возможности создания значительно более совершенной по сравнению с РДС–6с водородной бомбы — двухступенчатой бомбы, в которой термоядерный узел подвергался бы сжатию не взрывом химического взрывчатого вещества, а энергией взрыва первичной атомной бомбы (атомное обжатие — АО). Я. Б. Зельдович был первым физиком-теоретиком, проявившим инициативу по развертыванию работ в этом направлении еще до испытания РДС–6с. Хотя самая общая идея двухступенчатой бомбы была высказана А. Д. Сахаровым еще в его первом отчете по «слойке», выпущенном в январе 1949 года («использование дополнительного заряда плутония для предварительного сжатия «слойки»» [16]), именно Я. Б. Зельдович в сентябре 1952 года в документе «О работах по РДС–6» поставил вопрос о необходимости начала теоретических и экспериментальных работ по новым методам обжатия [16]. А 22 октября 1952 г. в письме на имя И. В. Курчатова и заместителя начальника Первого главного управления при СМ СССР Н, И. Павлова предложил конкретный полигонный эксперимент, о котором писал: «Проведение такого опыта является {175} необходимым этапом для выяснения возможности использования обычных изделий для обжатия сверхмощных 6с (Давиденко, Сахаров, Зельдович)» [17]. Важно отметить, что этот вопрос был поставлен в нашей стране до испытания Соединенными Штатами Америки первого мощного термоядерного устройства «Майк» с атомным обжатием, состоявшегося 1 ноября 1952 года. В январе 1953 года Я. Б. Зельдович включил в план своего сектора пункт: «Исследования возможности применения обычных РДС для обжатия РДС–6с большой мощности» (атомное обжатие)», отметив, что работы проводятся совместно с сектором И.Е. Тамма [18].
Оценки возможности создания двухступенчатой водородной бомбы, проводившиеся с 1952 года, в течение 1953 года и первых месяцев 1954 года не давали обнадеживающих результатов, однако весной 1954 года наступило прозрение: была осознана возможность создания эффективной двухступенчатой водородной бомбы с использованием радиационной имплозии. Я. Б. Зельдович разделил с А. Д. Сахаровым авторство концепции конструирования двухступенчатой водородной бомбы на принципе радиационной имплозии. Начатые с весны 1954 года в КБ–11 энергичные расчетно-теоретические и изобретательско-конструкторские работы, в которых активное участие принял Я. Б. Зельдович, завершились успешным испытанием 22 ноября 1955 года первой двухступенчатой водородной бомбы СССР — бомбы РДС–37, ставшей прототипом современного термоядерного оружия. Это было выдающееся и непреходящее по своему значению событие в истории создания ядерного оружия в нашей стране. Основные участники работ над РДС–37 были в 1956 г. отмечены государственными наградами. Я. Б. Зельдовичу была присуждена Ленинская премия и он был награжден третьей медалью Героя Социалистического Труда (постановлением СМ СССР №1253–634 от 7 сентября 1956 г. «за разработку физических принципов и теоретических расчетов изделия РДС–37» и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1956 г. «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства») [19, 20].
Как отметил А. Д. Сахаров, «с самого начала советских работ над атомной (позже термоядерной) проблемой Зельдович был в эпицентре событий. Его роль здесь была совершенно исключительной».
Нет такой стороны деятельности КБ–11 периода 1948–1965 годов, к которой не проявил бы интерес Я. Б. Зельдович и на которой так или иначе не сказалась бы его личное творческое влияние.
К сфере его интересов наряду с принципиальными вопросами создания водородной бомбы и первой отечественной атомной бомбы относились вопросы создания усовершенствованных атомных зарядов, в том числе зарядов с внешним нейтронным инициированием и малогабаритных атомных зарядов, вопросы создания тактического ядерного оружия, вопросы ядерной безопасности ядерного оружия, вопросы определения характеристик взрыва при полигонных испытаниях зарядов. Я. Б. Зельдович был вдохновителем создания бустерных атомных зарядов и принимал непосредственное участие в их разработке. Он занимался вопросами теоретического и экспериментального определения и уточнения физических параметров, существенных для расчетов двухступенчатых термоядерных зарядов, {176} вопросами дальнейшего усовершенствования двухступенчатых термоядерных зарядов, вопросами осуществления невзрывной цепной реакции, проблемой «чистой» бомбы, в которой зажигание термоядерных реакций достигалось бы взрывом химического взрывчатого вещества, вопросами осуществления высотных ядерных взрывов, вопросами создания зарядов с уменьшенной радиоактивностью и «промышленных» ядерных зарядов для использования ядерных взрывов в народном хозяйстве и многими другими.
Не менее многогранной была деятельность Я. Б. Зельдовича, «человека универсальных интересов», как охарактеризовал его А. Д. Сахаров, в области фундаментальной науки. Я. Б. Зельдович внес большой вклад в развитие теории адсорбции, катализа, горения и детонации, в теорию ударных волн и высокотемпературных газодинамических явлений, молекулярную физику, ядерную физику, физику элементарных частиц, релятивистскую физику, астрономию и космологию. Впечатляет уже простое перечисление направлений работ Я. Б. Зельдовича.
В списке публикаций, автором и соавтором которых является Я. Б. Зельдович, около 450 работ. В их числе более 30 монографий и учебников.
Огромный талант позволял Я. Б. Зельдовичу в течение многих лет успешно совмещать деятельность в области фундаментальной науки с участием в отечественном атомном проекте. Многие опубликованные работы Я. Б. Зельдовича созданы в период работы в КБ–11.
Своими выдающимися достижениями Я. Б. Зельдович навсегда вписал свое имя в историю науки.
Память о Я. Б. Зельдовиче, его труды и достижения в области фундаментальной науки и науки о ядерном оружии вдохновляют и будут всегда вдохновлять его учеников и последователей в их труде во имя укрепления научного потенциала и оборонного могущества нашей страны.
1. У истоков советского атомного проекта: роль разведки, 1941–1946 гг. (по материалам архива внешней разведки России) // ВИЕТ. 1992, №3. С. 97–134.
2. АП РФ. Ф. 93, д. 2/44, л. 12–13.
3. Атомный проект СССР. Документы и материалы: В 3 т. / Под общей редакцией Л. Д. Рябева. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. Книга 4/ Мин. РФ по атомной энергии; сост. Г. А. Гончаров (отв. сост.), П. П. Максименко. — М.: Наука. Физматлит. — Сэров. РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2003, с. 52–59.
4. РГАСПИ. Ф.644, оп.2, д. 494, л. 6–14.
5. Атомный проект СССР. Документы и материалы: В 3 т. / Под общей редакцией Л.Д. Рябева. Т.Н. Атомная бомба. 1945–1954. Книга 1 /Шин. РФ по атомной энергии; сост. Г. А. Гончаров (отв. сост.), П. П. Максименко, В. П. Феодоритов. — М.: Наука. Физматлит. — Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ, 1999.
6. Атомный проект СССР. Документы и материалы: В 3 т. / Под общей редакцией Л. Д. Рябева. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954 Книга 7 / Федеральное агентство РФ по атомной энергии; сост. Г. А. Гончаров (отв. сост.), П.П. Максименко. — М.:Наука, Физматлит. - Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2007.
7. Атомный проект СССР. Документы и материалы: В 3 т. / Под обшей редакцией Л. Д. Рябева. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. Книга 3 / Мин. РФ по атомной энергии; {177} сост. Г. А. Гончаров (отв. сост.). П. П. Максименхо. — М.: Наука. Физматлит. — Сэров. РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002.
8. Атомный проект СССР. Документы и материалы: В 3 т. / Под общей редакцией Л. Д. Рябева. Т. П. Атомная бомба. 1945–1954. Книга 2 / Мин. РФ по атомной энергии; сост. Г. А. Гончаров (отв. сост.), П. П. Максименко. — М.: Наука. Физматлит. — Сэров. РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2000.
9. АП РФ. Ф.93, д. 20/47, л. 277–291.
10. Архив Росатома. Ф.2, оп.2, д.97, л.21–41.
11. Атомный проект СССР. Документы и материалы: В 3 т. /Под общей редакцией Л. Д. Рябева. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. Книга 6/ Федеральное агентство РФ по атомной энергии; Сост. Г. А. Гончаров (отв. сост.), П. П. Максименко. — М.: Наука. Физматлит. — Сэров. РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2006.
12. Г. А. Гончаров «Об истоках теоретического и математического отделений РФЯЦ-ВНИИЭФ», в сб. «Теоретики ВНИИЭФ. Прошлое и настоящее». Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2003.
13. АП РФ. Ф.93. Коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1950 г.
14. АП РФ. Ф.93. Коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1951 г.
15. Архив РФЯЦ-ВНИИЭФ. Ф.1, оп. Зсто, ед. хр. 18.
16. АП РФ. Ф.93, д.265/52, л. 108–109.
17. Архив Росатома. Ф. 24, оп. 18, д. 20, л. 27–28.
18. Архив РФЯЦ-ВНИИЭФ. Ф.1, оп. 2с, ед. хр. 60, л. 1–4
19. ГА РФ. Ф. Р–7523 сч, оп.67а сс, д. 27, л. 1.
20. АП РФ. Ф.93. Коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1956 г.
| {178} |
Я навсегда запомнил свою первую встречу с ЯБ. Осенью 1951 г. после окончания МГУ я оказался учителем физики и математики в средней школе села Белоусово Калужской области, на 105-м км от Москвы. Сидя вечерами за столом со старой крестьянкой, в избе которой я жил и которая трогательно заботилась обо мне, при свете керосиновой лампы (электричество часто отключали) я просматривал свои университетские записи и под стук дождя, бившего в окно, за которым была сплошная темень, мысленно прощался с научной деятельностью, к которой готовился в университете.
Друзья-однокурсники, однако, не оставляли меня. Один из них, Сергей Репин, навестив меня, спросил: «Почему бы тебе не попытаться сдать Ландау-минимум?» — и сообщил телефон ЛД. Я позвонил Дау и начал сдавать ему экзамены. В начале 1953 г., когда я сдал последний, ЛД сказал: «Придумывайте себе тему и постарайтесь посещать семинар. К сожалению, взять к себе не могу. Я уже выяснял этот вопрос, ничего не получается».
Легко сказать, «придумывайте тему». Свежие журналы я мог читать только урывками, приезжая в Москву, а ядерную физику и физику элементарных частиц мы в университете тогда вовсе не изучали (эти предметы читались только на секретном ядерном отделении физфака). Тем не менее я постарался выкроить в школе свободный день, четверг, для посещения семинаров ЛД {179} (что было весьма непросто при нагрузке 44 часа в неделю в две смены) и через две недели после разговора с ЛД приехал на семинар. До начала семинара, усевшись где-то в средних рядах, начал просматривать свежий номер «Physical Review», который мне дали на два часа. Неожиданно на свободный стул рядом со мной сел незнакомый человек невысокого роста, в круглых очках, поразивший меня какой-то необычайной внутренней энергией. Эта энергия чувствовалась в его на редкость живых глазах, нетерпеливости движений. Казалось, он с трудом может усидеть на месте, оглядывая собирающихся на семинар и ища взглядом кого-то из знакомых. Мимоходом он бесцеремонно заглянул в мой раскрытый журнал и разочарованно отвернулся, убедившись, что этот номер он уже видел. Вскоре начался семинар. Не помню, что докладывалось. Кажется, какая-то статья по кинетике. Неожиданно мой сосед вступил в спор с докладчиком. В этот спор ввязался и ЛД, и разговор сразу превратился в дискуссию между Дау и моим соседом, быстро переместившимся на место в первом ряду. «Кто же это такой?» — подумал я, зная, что дискуссию с ЛД редко кому удавалось долго выдерживать. Еще больше меня удивили слова Дау: «Да, я думаю, Вы правы». Такое бывало совсем уж редко. Никого из знакомых рядом не было, чтобы спросить, кто же был моим соседом.
После семинара Дау вышел в коридор, но затем, вернувшись в зал, подошел ко мне, попросил следовать за ним, подвел к так заинтересовавшему меня незнакомцу и представил следующими словами: «Вот молодой человек, о котором я Вам говорил. Берите его, он всячески жаждет деятельности». Тот коротко сказал мне «пойдемте», и мы пошли к нему домой вместе с еще двумя людьми, которых он тоже пригласил. Из разговора я понял, что оба они — ленинградцы (это были И.М. Шмушкевич и Л. А. Слив, ставшие впоследствии моими друзьями). Войдя в квартиру, хозяин коротко скомандовал открывшей дверь женщине: «Саша, поесть», — а обращаясь к нам, — «все разговоры после обеда». Когда, пообедав, мы перешли в небольшую комнату, служившую кабинетом, он начал разговор о науке с двумя моими новыми знакомыми, а мне протянул машинописные страницы со словами — «Вы пока почитайте». Я прочитал фамилию автора статьи и только тогда понял, что говорю с Зельдовичем. Я испытывал невольную робость. Дело в том, что в те времена имя ЯБ было окружено покровом секретности. Учась в МГУ, мы слышали о предвоенных работах Зельдовича и Харитона по цепным реакциям деления урана, о его работах по горению и детонации, поэтому не сомневались, что он привлечен к работам по созданию атомной бомбы. Подтверждением тому служил рассказ одного из старшекурсников, что он видел ЯБ выступавшим в защиту Н. Н. Семенова на дискуссии, где Семенова обвиняли в протаскивании идеализма в теорию горения (подобного рода дискуссии были одной из примет того времени). ЯБ пришел на собрание со звездой Героя на груди. Было понятно, что он надел ее не случайно. Появление на трибуне докладчика с такой редкой тогда регалией часто оказывало существенное влияние на результат «научной» дискуссии подобного рода, а тот факт, что указ о награждении не был опубликован, придавало еще большую значимость выступавшему. Зная все это, я был поражен простотой обращения ЯБ и его демократичностью. {180}
Закончив разговор с двумя ленинградцами, ЯБ позвал меня к столу и стал рассказывать нам свою новую теорию β-распада. Было видно, что он очень увлечен и доволен полученным результатом. На прощание он дал мне несколько машинописных экземпляров своих работ и сказал, чтобы я прочел их и пришел через две недели, когда он снова будет в Москве. Так я впервые познакомился с ЯБ, и, попав в его дом, на всю жизнь «прикипел» душой к этому дому и его обитателям.
Когда я в следующий раз появился на семинаре Ландау, он спросил: «Ну, как вам ЯБ?» И, не дожидаясь ответа, сказал: «Скучать он вам не даст. Я не знаю человека, у которого в голове было бы столько идей. Разве что у Ферми. Кроме того, у ЯБ железная хватка, и он заставит Вас работать в полную силу». Это совпало с моим впечатлением. Статьи, которые ЯБ дал мне при знакомстве, были посвящены самым разным вопросам. Была работа о барионном заряде (который ЯБ переоткрыл, не зная о более ранних работах Вигнера и Штюкельберга, и которая впоследствии послужила образцом для его схемы лептонного заряда), была работа о комптон-эффекте на поляризованных электронах (позволяющая измерять циркулярную поляризацию γ-квантов) и, наконец, работа о вариантах β-распада. Последняя больше всего заинтересовала меня, и я решил заниматься этими проблемами.
Впоследствии я не раз думал, насколько мне повезло в жизни: я познакомился с ЯБ именно в то время, когда его привлекла физика элементарных частиц. Хорошо известно, что в течение своей научной деятельности ЯБ неоднократно менял главную область своих интересов: от химической физики (катализа, горения, детонации) к ядерной физике, теории элементарных частиц, а затем к астрофизике, гравитации и космологии. Такое смещение интересов было не случайно. Обладая широтой взглядов и поразительной интуицией, ЯБ выбирал наиболее интересные и животрепещущие проблемы своего времени. В начале 50-х годов такой проблемой стала физика слабого взаимодействия. После открытия в конце 40-х годов распадов π → μν, μ → е и μ-захвата стало ясно, что эти процессы происходят под действием сил такого же порядка величины, как силы, вызывающие известный β-распад. Таким образом, возникла идея, что все эти процессы обусловлены особым «слабым» четырехфермионным взаимодействием, имеющим универсальный характер. Очевидно, гипотеза о существовании нового элементарного взаимодействия (наряду с сильным, гравитационным и электромагнитным) имела фундаментальное значение, однако для ее проверки необходимо было прежде всего знать варианты слабого четырехфермионного взаимодействия для всех известных процессов. А экспериментально они не были надежно установлены даже для давно изучавшегося β-распада. Из пяти возможных вариантов четырехфермионного взаимодействия (скалярного S, векторного V, тензорного Т, аксиально-векторного А и псевдоскалярного Р) в β-распаде отдавалось предпочтение варианту Т, а также предполагалось существование одного из так называемых фермиевских вариантов (V или S).
Начиная заниматься новой областью исследований, ЯБ старался прежде всего выделить основные проблемы этой области и искать общие принципы для их решения, при этом он часто выявлял новые проблемы, которые не {181} были известны специалистам, но впоследствии приобретали фундаментальное значение; так было, например, с проблемой наблюдаемого предела на величину космологической постоянной.
ЯБ решил, что общий принцип, на основе которого надо искать варианты β-распада, есть перенормируемость теории. Как известно, этот принцип сыграл впоследствии важную роль в создании теории электрослабого взаимодействия. Однако сделано это было в другой форме, нежели предполагал ЯБ. В начале же 50-х годов было известно, что перенормируема, помимо электродинамики, теория со скалярными и псевдоскалярными частицами. Исходя из этого, ЯБ предположил, что промежуточными частицами в β-распаде являются именно такие частицы, и получил (V + Т)-вариант β-распада, который, как тогда казалось, полностью соответствовал экспериментальным данным. Поэтому легко понять его радость. Стремясь получить дальнейшие экспериментально наблюдаемые следствия своей теории, которые могли бы подтвердить ее или опровергнуть, ЯБ заметил, что в его схеме учет кулоновского поля ядер должен приводить к примеси других вариантов β-взаимодействия и сказываться на спектре электронов в β-распаде. Расчет этого явления он мне и поручил.
Встречались мы обычно так: ЯБ, приезжая на короткое время в Москву, давал телеграмму мне в Калужскую область и назначал время, когда я должен был к нему прийти (как правило, к шести утра). Добираясь с трудом на Воробьевское шоссе к назначенному часу (городской транспорт только начинал работать), я заставал ЯБ полуодетым, но уже сидящим за письменным столом. Занятый, в основном, своим «спецделом», ЯБ выкраивал редкие часы для занятия наукой. Иногда наши встречи происходили за несколько часов до отъезда ЯБ на «объект», и тогда дверь мне открывали «секретари», которые, как я догадывался, должны были сопровождать ЯБ. После обсуждений он заставлял меня позавтракать со своей семьей, и я, первое время стесняясь, поражался атмосфере доброжелательности и естественности, царившими в доме Зельдовичей. Было видно, что это глубоко трудовая семья, где каждый добросовестно занимается своим делом — будь то научная работа или учеба в школе. Я не видел и следа каких-либо амбиций или чувства собственной исключительности, которые были столь характерны для жен и детей во многих высокопоставленных семьях. Не было ни полированной мебели, ни дорогих вещей, выставляемых напоказ, а домработница Саша была, по-существу, членом семьи. На всю жизнь я запомнил доброту и участие, которые проявляла к людям Варвара Павловна.
Для многих людей, соприкасавшихся с ЯБ, было загадкой, как ему удавалось, сменив область интересов, с одной стороны, очень быстро освоить новое направление, а с другой — оставаться в курсе развития прежних работ и время от времени возвращаться к ним, получая новые результаты. Работая с ЯБ, я понял, что никакого секрета тут нет. Помимо таланта (того, что можно назвать Божьей милостью), это связано с методом работы ЯБ. Начиная осваивать новую область, он прежде всего находил специалистов из числа молодых людей, беседуя с которыми «на равных», он мог быстро {182} ознакомиться с основными результатами, полученными в этой области1. Процессу обучения во многом помогал демократизм ЯБ и отсутствие у него профессорского «чванства». Он не стеснялся задавать «глупые» вопросы в любой аудитории и получать на них часто снисходительно-почтительные ответы специалистов (я помню шуточку, которую любили повторять некоторые «серьезные» молодые люди: «ЯБ хочет применить физико-химические методы к теории элементарных частиц»). Но обычно скоро оказывалось, что некоторые «глупые» вопросы ЯБ ставят в тупик специалистов, что в действительности это — новая постановка проблемы или вообще совершенно новая проблема, о которой раньше не думали.
Кроме того, для ЯБ был характерен активный подход к процессу «обучения». Найдя неясный вопрос или новую задачу, он обучался в самом процессе их решения. Запомнились его слова, которые он как-то сказал мне, узнав, что я изучаю теорию перенормировок: «Что толку изучать впрок? Надо найти и решить какую-нибудь задачу, тогда Вы по-настоящему и изучите». По мере накопления новых задач ЯБ собирал вокруг себя молодых начинающих физиков и, работая вместе с ними, быстро осваивал новую для себя область. Так складывалась очередная новая научная школа ЯБ, которая продолжала исследования и после того, как интересы учителя смещались в другую область. Человеческие связи, внимание и забота, проявляемые ЯБ к бывшим ученикам, способствовали тому, что он все время был в курсе развития прежних работ. К нему постоянно приходили за советом или для обсуждения полученных результатов. Он втягивался в дискуссии, которые нередко приводили к новым идеям в «старой» области.
ЯБ испытывал потребность обсуждать свои новые работы с различными людьми, выслушивать их критику, находить контраргументы и тем самым проверять на прочность собственные идеи. Такие обсуждения были очень плодотворны и поучительны для его учеников. Мы невольно заражались той радостью, которую он испытывал, обнаружив новый неизвестный эффект, решив новую задачу или поняв возможность простого, буквально «на пальцах», объяснения какого-либо явления. Обычно он давал ученикам читать рукописи своих работ и просил сделать замечания, за что неизменно выражал благодарность в статьях. Такие поручения стимулировали более глубокое изучение предмета и укрепляли уверенность в своих силах.
ЯБ обычно обсуждал с учениками содержание своих собственных докладов. В связи с этим я запомнил такой эпизод. В 1954–55 гг. И. В. Курчатов для расширения кругозора своих сотрудников и возможности выбора новых направлений научной деятельности решил организовать цикл лекций по наиболее актуальным проблемам физики. Несколько лекций по β-распаду и слабым взаимодействиям он попросил прочитать ЯБ. Тот отнесся к просьбе серьезно, так как совершенно справедливо считал, что физики, особенно экспериментаторы, могут внести большой вклад в изучение указанных проблем. (Эти надежды ЯБ полностью оправдались уже через несколько лет, когда появились блестящие работы группы П. Е. Спивака по β-распаду нейтрона {183} и группы И. И. Гуревича по μ → е-распаду.) Поэтому он постарался сделать изложение максимально доступным экспериментаторам, не занимавшимся ранее рассматриваемыми вопросами. Надо сказать, что таким искусством ЯБ владел как никто другой. Готовясь к лекциям, он пригласил Судакова и меня, и мы вместе долго обсуждали не только их содержание, но и способы изложения отдельных вопросов. Своего рода наградой было то, что ЯБ взял нас на свои лекции, а в конце их представил Курчатову в качестве своих помощников1).
К этому времени я уже снова жил в Москве — отработав положенные три года в сельской школе, я переехал в Москву, чтобы быть поближе к науке; надеялся устроиться преподавателем в каком-нибудь вузе или, если повезет, в научном учреждении. ЯБ и Дау рекомендовали меня в несколько мест, но всякий раз, когда дело доходило до отдела кадров, оно затягивалось на месяц или два, и затем я получал отказ под более или менее благовидным предлогом. Я перебивался, давая уроки. Идти вновь работать в школу не хотелось, тем более, что впереди забрезжила надежда. Времена постепенно менялись, и Ландау как-то сказал мне: «Идут разговоры, что директором Физпроблем вновь назначат Капицу. Тогда я смогу взять вас в аспирантуру». Однако проходили недели, месяцы, а положение мое не менялось. Не знаю, что бы я делал без участия и помощи друзей.
ЯБ, интересуясь моими делами, неоднократно предлагал деньги, от которых я, разумеется, отказывался, говоря, что они мне не нужны. Обстоятельства позволили узнать, с какой деликатностью ЯБ может настоять на своем (впоследствии мне неоднократно приходилось встречаться с подобными проявлениями по отношению к себе и другим людям). Однажды он спросил, не соглашусь ли я давать уроки дочери его друга, школьнице, перенесшей в детстве тяжелую болезнь. Я принял это предложение и охотно занимался со способной девочкой, стремящейся к знаниям несмотря на тяжелые последствия болезни. Спустя некоторое время ЯБ, справившись о моих занятиях, сказал: «Поскольку Вы даете уроки, я хочу попросить Вас позаниматься с моими девочками». Я стал отказываться, говоря, что это им совершенно не нужно, они и так прекрасно учатся, отличницы, и только будут стесняться, что у них появился репетитор (в те времена этого стыдились). Однако ЯБ нашел следующее возражение: «В школе не прививают экспериментальных навыков. Накупите приборов, и пусть они делают эксперименты». Мне оставалось только согласиться (некоторый опыт у меня был: в сельской школе я постарался создать подобие физпрактикума, чтобы каждый ученик мог выполнить несколько лабораторных работ). В магазинах учебных пособий удалось приобрести довольно хорошие приборы — оптическую скамью, линзы, гальванометры и т. д. Нашлась также небольшая камера Вильсона. И вот мы с Олей и Мариной начали ставить различные опыты и решать связанные {184} с ними задачи. Бывало, опыты кончались для меня конфузом — пару раз я пережег чувствительные электроприборы. ЯБ подшучивал надо мной; нередко сам принимал участие в опытах, и я вместе со своими ученицами с интересом слушал его комментарии об использовании рассматриваемых явлений в различных технических устройствах. Меня удивляли экспериментальные навыки ЯБ и его способность «работать руками». «Я ведь начинал как экспериментатор, — сказал он мне, — а до этого работал лаборантом» (я тогда еще не знал, что ЯБ не имел официального высшего образования). Не знаю, принесли ли пользу ученицам мои уроки (придуманные, как я понимал, чтобы помочь мне), но меня самого они многому научили и помогли продержаться до мая 1955 г., когда Ландау удалось осуществить свой план и взять меня в аспирантуру Физпроблем.
Между тем продолжались наши с ЯБ научные обсуждения. Расчет эффекта, который я проделал, оказался бесполезным, так как к тому времени экспериментаторы уверенно утверждали, что β-взаимодействие представляет сумму скалярного и тензорного варианта (а не векторного и тензорного, как это следовало из теории ЯБ). Я чувствовал, что он огорчен тем, что моя работа оказалась напрасной, и ищет новую задачу. Однажды, обсуждая экспериментальные данные, он сказал мне: «Опыты показывают, что отношение гамов-теллеровской и фермиевской констант не слишком сильно превышает единицу. Было бы очень красиво и важно для понимания природы слабых взаимодействий, если бы для «голого» нуклона обе константы были одинаковы, а небольшое различие между ними возникало из-за того, что нуклоны окружены пионной шубой. Давайте рассчитаем этот эффект»1). Помня замечание ЯБ о том, что учиться надо на задачах, я предложил провести расчет для всех возможных вариантов взаимодействия, ЯБ согласился. Когда мы, действуя независимо, закончили расчеты и стали сверять полученные результаты, то обнаружили, что в векторном варианте у нас существенное расхождение. Я, работая ученически, аккуратно использовал матрицы изотопического спина, а ЯБ, стараясь быстрее получить результат, действовал несколько кустарно, используя одну и ту же константу для взаимодействия нейтрального пиона с протонами и нейтронами (в то время, как она имеет разный знак для обоих случаев). Обнаружив причину расхождения наших результатов, ЯБ воскликнул: «Теперь я понимаю, чем симметричная теория отличается от изотопически-инвариантной».
Однако неожиданности ждали нас впереди. Учтя в векторном варианте возможность β-распада заряженного пиона (которую ЯБ ранее вычислил на {185} основе модели Ферми-Янга, используя, по-существу, только изотопическую инвариантность этой модели), мы обнаружили, что пионные поправки не меняют константу слабого векторного взаимодействия. Этот результат сразу заинтересовал нас, хотя, казалось, и не относился к реальному, установленному на опыте, закону β-взаимодействия. Сначала мы подумали, что этот результат связан с низшей поправкой теории возмущений, с которой мы работали. Однако после некоторых обсуждений поняли, что он представляет аналог сохранения электрического заряда протона, который не меняется при учете сильного взаимодействия с пионами, и даже увидели возможность точно доказать это, используя тождество Уорда. Мы испытывали большое возбуждение от своего открытия и очень сожалели, что оно остается простой игрой ума и не осуществляется в Природе.
Мы понимали, что в случае векторного варианта открылась бы возможность точной экспериментальной проверки универсальности слабого взаимодействия. С прагматической же точки зрения нам приходилось довольствоваться лишь подтверждением догадки ЯБ. Наш результат для скалярного и тензорного вариантов показывал, что наблюдаемое на опыте отношение гамов-теллеровской и фермиевской констант вполне совместимо с предположением о равенстве этих констант для «голого» нуклона. «Надо писать статью», — сказал ЯБ. Однако возникло новое препятствие. Придя в назначенное время домой к ЯБ, я нашел записку, в которй он предупреждал, что задержится и просил подождать. Записка начиналась словами «увы нам...», а под ней лежал свежий номер «Physical Review» со статьей Финкельштейна и Мошковского, где рассматривалась аналогичная задача для скалярного и тензорного вариантов и делались те же выводы. Новизна была утеряна. Более того, расчет был проделан авторами на основе модели Чу и Лоу, которая, разумеется, лучше учитывала сильное взаимодействие, нежели теория возмущений, от которой мы ожидали лишь качественного подтверждения гипотезы.
Я был огорчен, понимая, что ЯБ будет также огорчаться и в значительной степени — из-за меня. Но ЯБ не унывал. Вернувшись домой, он предложил совместно разобрать статью Финкельштейна и Мошковского, и, изучая ее, мы обнаружили некоторые недочеты. Они не меняли основного вывода авторов, но были существенны для сравнения β- и μ-распадов. «Это предмет для короткой заметки, — сказал ЯБ. — Заодно отметим и свойство векторного варианта. Надо, чтобы у Вас появилась печатная работа». К следующему моему приходу у него уже был черновик статьи. Прочитав его и сделав некоторые поправки, я спросил: «Не будет ли ругаться Дау по поводу векторного варианта? Ведь он не любит отвлеченных рассуждений по поводу того, чего на самом деле нет». — «Нельзя проходить мимо такой красивой возможности, — ответил ЯБ. — А если Вы боитесь Дау, давайте перед абзацем о свойствах векторного варианта вставим слова: «не представляет практического значения, но методически очень интересно...» И мы послали статью в печать. Через пару лет закон сохранения векторного тока был переоткрыт Р. Фейнманом и М. Гелл-Манном в их знаменитой работе, где они практически одновременно с Маршаком и Сударшаном предложили теорию универсального (V-А)-слабого взаимодействия. Как отмечал впоследствии {186} Фейнман, ни он, ни Гелл-Манн не знали о нашей работе (но в дальнейшем всегда на нее ссылались). Многочисленные экспериментальные исследования, последовавшие за работой Фейнмана и Гелл-Манна, подтвердили, что в природе осуществляются именно векторный и аксиально-векторный варианты слабого взаимодействия.
Возвращаясь через много лет к этой нашей работе, ЯБ всегда высказывал удовлетворение, что мы, несмотря на существовавшую тогда экспериментальную ситуацию, заметили свойство векторного варианта, сыгравшее важную роль в экспериментальной проверке универсального характера слабых взаимодействий и стимулировавшее развитие калибровочных теорий. В этом, на мой взгляд, проявилось характерное для ЯБ стремление к всестороннему анализу любого рассматриваемого вопроса. Его научная раскованность и отсутствие боязни показаться кому-нибудь смешным позволяли ему широко обсуждать, казалось бы, нереализуемые в природе возможности1. Многие из подобных замечаний ЯБ, сделанных как бы походя, в дальнейшем оказывались очень важными. Хочу привести в связи с этим два примера. Так, А. М. Будкер вспоминал, что его желание заняться встречными пучками было инициировано словами ЯБ, сказавшего во время одного из своих докладов: «Этот вопрос можно было бы выяснить, если бы существовали встречные пучки, но, видимо, создать их невозможно». Будкер говорил, что слово «невозможно» задело его за живое, и он стал искать способы технической реализации идеи. Впоследствии, когда это удалось и на встречных пучках были сделаны выдающиеся открытия, Будкер неоднократно отмечал вклад Зельдовича.
Другим примером служит замечание, сделанное в классической предвоенной работе ЯБ и Харитона о цепных реакциях деления. Обсуждая вопрос о возможности осуществления цепной реакции в природном уране, авторы отметили, что приблизительно миллиард лет назад, когда процент содержания 235U был существенно больше, это можно было бы сравнительно просто сделать. Важность этого замечания была по-настоящему оценена после открытия природного реактора, действовавшего около двух миллиардов лет назад в Африке. ЯБ очень сокрушался, что, сделав указанное замечание, он не предсказал возможности существования в прошлом природных реакторов.
Надо отметить, кстати, что ЯБ, человек очень искренний и непосредственный, никогда не скрывал досаду на себя в тех случаях, когда, будучи на правильном пути в решении поставленной им самим задачи, упускал {187} какие-то следствия или окончательное решение вопроса. Вместе с тем это не мешало ему, как истинному ученому, восхищаться результатами, полученными другими исследователями, и всячески их превозносить. Помню, как ЯБ ругал себя за то, что, рассмотрев рождение пар в поле вращающейся черной дыры, не додумался до эффекта испарения черных дыр и как он восторгался результатами С. Хокинга.
Вспоминаю также слова, услышанные мною от Дау в конце 50-х годов: «У ЯБ поразительное чутье и везение. Сейчас это уже не представляет секрета, поэтому я могу Вам рассказать. Когда ЯБ впервые поднял вопрос о термоядерной реакции, было выяснено, что в дейтерии ее осуществить не удастся, так как измеренное на опыте эффективное сечение dd-реакции для этого слишком мало. Тогда ЯБ начал приводить, как мне тогда казалось, совершенно неосновательные доводы в пользу того, что сечение реакции дейтерия с тритием должно быть значительно больше. Когда его измерили, оно действительно оказалось в 100 раз больше, чем dd-сечение, из-за резонанса в ядре 5Не, о котором мы и не думали. Однако еще до этого уверенность ЯБ в большом значении сечения реакции дейтерия с тритием была настолько велика, что начали строить заводы».
[Примечание автора (2006 г.). В действительности, как это следует из рассекреченных к настоящему времени материалов, сведения о большом сечении ядерной реакции дейтерий-тритий были получены агентурным путем из-за рубежа. Но о них знал только очень узкий круг лиц. То, что ЯБ не имел права сообщать их даже Ландау, привлеченному к проблеме, характеризует обстановку, в которой они работали. Примечательно, что В. Л. Гинзбург, предлагая использовать в бомбе твердый LiD с изотопом лития-шесть (2-я идея по терминологии А. Д. Сахарова), исходил из того, что нейтроны от взрыва атомной бомбы будут вызывать с этим изотопом ядерную реакцию с дополнительным выделением энергии, а вовсе не из того, что в этой реакции будет нарабатываться тритий, с большой вероятностью вступающий в реакцию с дейтерием.
Ландау вообще считал, что ЯБ выполнил бóльшую часть работы по созданию водородной бомбы. По словам Ландау, ЯБ следовало бы просто помолчать, чтобы компетентное руководство это оценило, но когда А. Д. Сахаров, знакомясь с проделанной группой ЯБ работой, придумал оригинальное техническое решение (сейчас известно, что речь шла о «слойке»), ЯБ всем говорил: «Я — что, а вот Андрей!» А в результате был обижен тем, что в 1953 г. его не избрали академиком.]
Мое сотрудничество с ЯБ продолжалось и после поступления в аспирантуру к Ландау. Новый толчком к нашей совместной деятельности послужило открытие в 1957 г. Альварецем и др. мюонного катализа ядерных реакций в водороде и установление универсального слабого взаимодействия. Мы увидели, что эти две области связаны между собой, так как различные мезоатомные и мезомолекулярные процессы в водороде, определяющие протекание μ-катализа, существенно влияют на захват мюонов протонами. Явление необходимо было изучить экспериментально для всесторонней проверки теории универсального слабого взаимодействия. В области мезомолекулярных {188} процессов нам удалось открыть ряд неизвестных механизмов, объяснить существовавшие экспериментальные данные и предсказать новые явления. В июне 1958 г., когда ЯБ избирали в действительные члены АН СССР, он выбрал в качестве доклада на Физико-математическом отделении Академии именно эту тематику (поскольку о результатах закрытых работ, которым в течение полутора десятилетий ЯБ отдавал всю свою энергию и талант, говорить было нельзя). Помню, утром перед докладом ЯБ позвал меня к себе, и мы обсудили некоторые детали. А потом я, прослушав его доклад, весь день просидел, волнуясь, в Физпроблемах, дожидаясь результатов голосования. Причины для волнений были. Ландау, заходя в нашу аспирантскую комнату, рассказывал о разных предвыборных академических интригах. Он опасался, что независимый характер ЯБ, для которого на первом месте было дело, мог вызвать неудовольствие некоторых академиков. Так я впервые столкнулся с академической «изнанкой» и глубоко переживал за ЯБ. К счастью, все закончилось благополучно, и ЯБ был единодушно избран академиком. (Дау рассказывал, что большое впечатление на присутствующих произвело выступление Курчатова в поддержку ЯБ.)
Под влиянием ЯБ физика мюонов на многие годы определила область моих научных интересов, С его одобрения я переехал на работу в Дубну, где несколько экспериментальных групп Лаборатории ядерных проблем (в том числе Б.М. Понтекорво и В. П. Джелепова) начали заниматься изучением μ-захвата и μ-катализа, а группа Ю.Д. Прокошкина стала обдумывать опыт регистрации β-распада пиона. Идея ЯБ о возможности резонансного усиления образования мезомолекул (в случае, когда у них существует уровень с малой энергией связи)1) послужила нам путеводной нитью для интерпретации неожиданных результатов группы Джелепова и Ермолова, обнаруживших увеличение выхода μ-катализа ядерной реакции синтеза в дейтерии с ростом температуры. Замеченная мною возможность существования колебательно-вращательного уровня мезомолекулы дейтерия с энергией связи в несколько электронвольт привела эстонского физика Э. Весмана, бывшего тогда моим аспирантом, к открытию своеобразного механизма резонансного образования мезомолекул дейтерия, а последующие чрезвычайно тонкие расчеты группы Л. И. Пономарева не только подтвердили существование этого уровня в мезомолекуле дейтерия, но и установили наличие аналогичного уровня в мезомолекуле дейтерия-трития. Последнее оказалось очень важным и привело в 1977 г. к предсказанию, что один мюон может вызывать в смеси дейтерия-трития около 100 ядерных реакций синтеза. Последующие эксперименты, проведенные в СССР (Дубна), США и Швейцарии, подтвердили эти предсказания и выдвинули (в соответствии с идеей сотрудника ЛИЯФ Ю.В. Петрова) μ-катализ в качестве одного из альтернативных методов наработки ядерного топлива. При этом выяснилось, что наиболее важным ограничением эффективности μ-катализа является указанное ЯБ «прилипание» мюонов к ядрам гелия, возникающее в результате реакции ядерного {189} синтеза. В настоящее время исследованиями в области μ-катализа в мире занимается более 50 групп, регулярно созываются международные конференции, выпускается специальный международный журнал.
В 1960 г. мы вместе с ЯБ написали обзор в «УФН», посвященный μ-катализу. При этом ЯБ дал мне свои тетради, которые он вел в 1957 г. после открытия Альвареца. Это чтение позволило мне глубже проникнуть, как принято говорить, в творческую лабораторию ЯБ. Судя по записям, тетради велись во внеслужебное время на «объекте» и в Москве. По ним можно увидеть, как работал и мыслил ЯБ: ставил задачи, проводил оценки, перепроверял их различными способами. Он не чурался рутинных расчетов, вычисления интегралов, экстраполяции, численных оценок. Есть в тетрадях краткие конспекты работы Альвареца (вместе с обработкой его результатов, сделанной самим ЯБ), а также работы Франка в «Nature», выполненной в 1947 г., и опубликованного отчета Сахарова 1948 г. (о последних двух работах ЯБ узнал только в 1957 г.). Встречаются и следы обсуждений, которые ЯБ проводил в то время с Сахаровым: «АДС предлагает...», «глубочайшая идея АДС» и т. д. В одной из тетрадей содержится рукописный текст совместной работы ЯБ и Сахарова.
В нашем обзоре я постарался развить некоторые мысли ЯБ из его тетрадей, руководствуясь некоторыми наставлениями о том, каким должен быть, по его мнению, обзор. «В обзоре, — говорил ЯБ, — должно быть, прежде всего, хорошее введение, в котором дается ясная постановка проблемы, доступная для понимания любого физика, не занимающегося этими вопросами. Далее, должна быть полнота охвата. Не следует бояться разъяснений по общим вопросам, где они необходимы, чтобы основное содержание было полезно и для специалистов, и для людей, желающих войти в рассматриваемую проблему». Я постарался в дальнейшем всегда руководствоваться этими наставлениями ЯБ, и сейчас, когда, спустя 30 лет, встречаю ссылки на наш обзор, с благодарностью вспоминаю эти наставления. Что же касается упомянутых тетрадей ЯБ, то я, по просьбе Л. И. Пономарева, предоставил их ему для обучения его учеников, которые, в сущности, являются научными «правнуками» ЯБ.
Одним из крупнейших и признанных достижений современной физики, несомненно, является осознание той глубокой внутренней связи, которая существует между теорией элементарных частиц и космологией. ЯБ стоял у истоков этого направления. В 60-х годах, когда его интересы стали смещаться в сторону астрофизики и космологии, он вошел в эти области, обогащенный знанием новейших проблем физики элементарных частиц, и сразу же начал получать интересные результаты на стыке наук. Поскольку указанные годы ознаменовались крупнейшими открытиями в каждой из этих областей, ЯБ работал одновременно в двух направлениях. Он с энтузиазмом воспринял идею кварков и (совместно с Л. Б. Окунем и С. Б. Пикельнером) оценил из теории горячей Вселенной возможную концентрацию свободных кварков в окружающей среде. После этого он инициировал эксперименты по поиску свободных кварков в веществе. Помню, как он повез меня в лабораторию В. Б. Брагинского, чтобы ознакомиться с экспериментом и обсудить его. Отрицательные результаты этих экспериментов в значительной степени способствовали установлению современных представлений о невозможности {190} существования свободных кварков и тем самым дали толчок к поиску механизмов, обеспечивающих нераэделимость кварков (конфайнмент).
В 1966 г. я и ЯБ были приглашены профессором Марксом в Венгрию. Для нас обоих это была первая поездка за рубеж. ЯБ был, что называется, «в ударе». Многие не знавшие его прежде люди были буквально очарованы не только глубиной и широтой его познаний, но и энергией, блестящим остроумием и находчивостью в дискуссиях. В обсуждениях на Балатоне родилась наша идея о возможности получить из космологических данных ограничение на возможную суммарную массу всех типов стабильных (или квазистабильных) нейтрино.
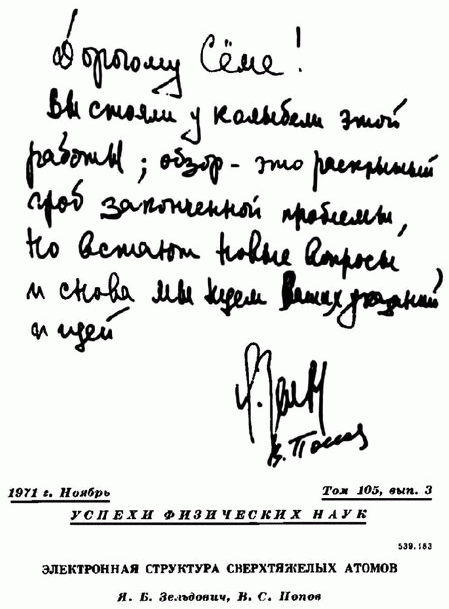 |
Надпись Я.Б. Зельдовича на его статье с B.C. Поповым, посвященная С. С. Герштейну. |
ЯБ очень полюбил Венгрию и с тех пор несколько раз ее посещал. Он очень сожалел, что не попал на конференцию «Нейтрино–72», проходившую на Балатоне и собравшую много выдающихся западных физиков, в числе которых был Р. Фейнман. Мне посчастливилось в течение нескольких часов беседовать с Фейнманом. Он заинтересовался работой по сверхкритическому заряду, начатой ЯБ вместе со мной и продолженной им затем вместе с В. С. Поповым, обнаружившим у нас одну существенную ошибку. Фейнман {191} записал проблему Z > 137 на специальную карточку, которую положил себе в карман. Он сказал, что желание встретиться с ЯБ было для него одним из побудительных мотивов приезда на конференцию, так как он узнал от В. Телегди, что Зельдович бывает на нейтринных конференциях в Венгрии. Возможность ездить за пределы «социалистического лагеря» для общения с крупнейшими западными физиками (которая могла бы оказаться столь плодотворной для науки) открылась для ЯБ только в конце его жизни. Под влиянием ЯБ я также начал интересоваться астрофизикой. Мы (совместно с М.Ю. Хлоповым) присоединились к группе моего университетского товарища B.C. Имшенника, занимавшейся проблемой взрыва сверхновых звезд. Нам удалось найти механизм нейтринного поджигания термоядерных реакций в звездах. Этот механизм обеспечивал в самосогласованном расчете взрыв звезды с образованием пульсара или полный разлет ее с выделением достаточно большой энергии, наблюдаемой на опыте. ЯБ заинтересовался нашей работой и многое в ней прояснил. Оказалось, что обнаруженный механизм горения с подогревом вещества перед фронтом горения был (конечно, для другого случая) рассмотрен ЯБ еще в молодые годы. Примечательно, таким образом, что в одном явлении сошлись самые разные области многолетних интересов ЯБ: физика звезд, слабое взаимодействие с участием нейтрино, горение и взрыв.
Знакомство с ЯБ позволило мне узнать некоторые эпизоды из его жизни, о которых хочется рассказать. В предвоенные годы, и особенно с началом Великой Отечественной войны, он отдавал много сил и энергии делу укрепления обороноспособности страны. При этом его деятельность отнюдь не сводилась к чисто теоретическим изысканиям, а нередко была связана с большим риском для жизни.
Один раз, когда мы ехали с ним в Дубну и водителем нашего автомобиля оказалась немолодая женщина, ЯБ вспомнил, как в начале войны женщина-шофер везла его с товарищем на полигон для испытания гранат, которыми была загружена вся машина. В какой-то момент женщина, утомленная бессонной работой, заснула за рулем, и машина, свалившись с дороги, перевернулась. К счастью, детонаторы, лежавшие отдельно в карманах у товарища, не среагировали на удар и взрыва не произошло. Зато в другой раз ЯБ и его товарищи буквально чудом спаслись при взрыве, который произошел, когда они вели работы по обеспечению устойчивости горения пороха в реактивных снарядах для знаменитых «Катюш».
И еще один эпизод деятельности ЯБ, о котором я случайно узнал от него. Глядя на только вышедший в свет двухтомник трудов Ландау, ЯБ с уважением произнес: «У Дау почти нет неправильных работ». Затем, помолчав, добавил: «Однако на одну из них мы все-таки накололись. Ландау доказал, что тангенциальный разрыв при сверхзвуковом течении является устойчивым. Исходя из этого мы с Харитоном начали экспериментировать со сверхзвуковыми струями водорода. Мы думали создать на этой основе огнеметы, способные поджигать фашистские танки. Но оказалось, что и при сверхзвуковом течении неустойчивость наступает практически так же, как и в случае
| {192} |
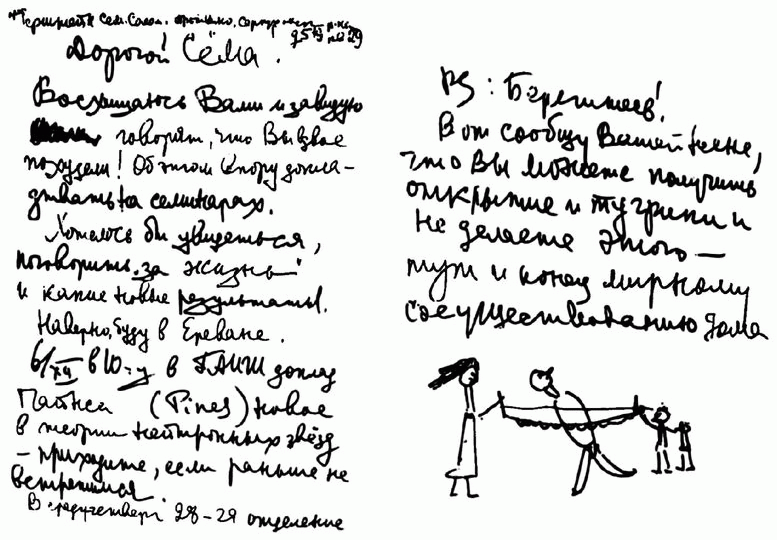 |
Записка Я. Б. Зельдовича, адресованная С. С. Герштейну |
дозвукового. У нас было тогда много других задач, и мы не могли позволить себе разбираться теоретически в этом вопросе. Позже его выяснил С. И. Сыроватский». Слушая рассказ ЯБ, я лишний раз поражался его феноменальной способности применять результаты фундаментальной науки к прикладным задачам, и думал о глупости и некомпетентности чиновников, запретивших работу по совместительству даже ученым ранга ЯБ (когда вышло соответствующее положение о запрете совместительства в научных учреждениях, из ИТЭФ были уволены работавшие там по совместительству Ландау и Зельдович).
ЯБ никогда не говорил со мной о том, что он называл «спецделом». Для меня несомненно, однако, что его роль в решении атомной проблемы не исчерпывается только его личным вкладом. Думаю, неоценимое значение имела широта его научных интересов, позволявшая знать людей различных специальностей, которых можно было привлечь для решения огромного числа возникающих конкретных задач. В последние годы мне приходилось встречать людей, склонных (задним числом) скептически оценивать эту активность ЯБ. Я считаю это глубоко неправильным и несправедливым. Нельзя судить о прошлом, исходя из настроений и ситуации 90-х годов. Во-первых, вся эта деятельность началась во время войны, в годы смертельной опасности. Во-вторых, в послевоенное десятилетие многие люди, занятые в «проблеме» (не только ЯБ, но и И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров), искренне полагали, что ядерное {193} равновесие может быть единственным средством сохранить мир. Этой цели они и служили во всю меру своего таланта и сил, отдавая ей лучшие, наиболее продуктивные годы жизни. Ситуация изменилась к началу 60-х годов, когда выяснилась вся опасность милитаризации и глобального противостояния. Здесь я вынужден снова сослаться на слова Ландау, услышанные от него осенью 1961 г. Дау рассказывал, что он, возмущенный нашими новыми ядерными испытаниями, начатыми после длительного моратория, буквально набросился на ЯБ со словами: «Это Ваша фирма подбила правительство на новые испытания?» «Нет, — отвечал ему ЯБ, — нам это было не нужно. У нас были люди, выступавшие против». Опубликованные недавно выдержки из воспоминаний Сахарова проливают некоторый свет на эту историю. Насколько я знаю, именно с начала 60-х годов ЯБ постарался отойти от «спецтематики». Сам он как-то обмолвился мне, что это было довольно непросто.
С годами у меня выработалась потребность регулярно общаться с ЯБ, звонить или заезжать к нему, чтобы рассказать научные новости, посоветоваться о своей работе, узнать, чем он занимается в данный момент. Иногда ЯБ писал мне письма (он вообще легко писал — как говорил). Попадались в этих письмах его шутливые рисунки. Мне очень дороги эти письма: в них проглядывает сама личность ЯБ.
Однажды в понедельник, возвращаясь домой с лекции, я почувствовал непреодолимое желание заглянуть к ЯБ в Физпроблемы. Встретивший меня СИ. Анисимов сказал, что ЯБ минут 20 назад уехал. «Ну что же, заеду в следующий раз», — сказал я. Следующего раза не было. Через два дня я узнал о болезни и скоропостижной смерти ЯБ...
Он любил стихи, много знал их и цитировал, сам мог экспромтом сочинять как на русском, так и на английском. Когда я думаю сейчас о ЯБ, мне на ум невольно приходят стихи Д. Самойлова, написанные на смерть Ахматовой:
Вот и все. Смежили очи гении. И когда померкли небеса, Словно в опустевшем помещении Стали слышны наши голоса.
Желание написать послесловие возникло у меня после того, как благодаря любезности Е.Г. Боннер я получил возможность ознакомиться с полным текстом воспоминаний А. Д. Сахарова. Из них видно, какую огромную роль сыграло в научной деятельности Сахарова его сближение с Зельдовичем и та поддержка, которую ЯБ оказывал ему как на самом раннем этапе его «специальности», так и в последующие годы, вовлекая в проблемы физики элементарных частиц, гравитации и космологии. Об этом АД сказал и в прощальном слове на похоронах ЯБ. Вместе с тем в воспоминаниях АД, написанных в тяжелейшие годы горьковской ссылки в условиях почти полной изоляции, встречаются упреки в адрес ЯБ, а иногда сквозит открытая неприязнь. Многих людей, хорошо знавших Сахарова и Зельдовича, эти {194} места очень огорчили. Мне кажется, некоторые из высказанных АД упреков основаны на взаимном непонимании (которое при других обстоятельствах могло бы быть просто разрешено в совместной беседе). Это и побудило меня написать дополнение к воспоминаниям о ЯБ.
Конечно, отношения людей масштаба Зельдовича и Сахарова часто бывают непростыми. Однако за все время знакомства с ЯБ я неизменно ощущал его восхищение талантом АД и исключительно бережное, я бы сказал, трепетное, отношение к этому таланту.
Нисколько не нарушили такое отношение академические выборы 1953 г., когда ЯБ не был избран академиком, а АД, по его воспоминаниям, будучи избранным, попал в неловкое по отношению к ЯБ положение. Глубокая вера в талант Сахарова и его, по-существу, не до конца раскрывшиеся возможности вызывали у ЯБ своего рода раздражение против любых обстоятельств, отвлекавших АД от научной деятельности. Таким обстоятельством стала общественная деятельность АД и его борьба за права человека. Не исключаю, что ЯБ переносил свое раздражение и на окружение АД, считая его виновным в отвлечении Сахарова от научной работы, а это, в свою очередь, не могло не вызвать особенно болезненную реакцию со стороны АД.
Я не могу сказать, что ЯБ не сочувствовал целям и мужеству АД. Как-то раз, весной 1970 г., он, отвечая на мой вопрос об АД, сказал полушутя-полусерьезно: «АД, несомненно, человек гениальный, а у гениального человека и ошибки бывают гениальными. Вот, например, если бы кто-нибудь другой выступил в Академии против Лысенко, Хрущев, несомненно, разогнал бы Академию, а в случае с АД — сняли Хрущева. Я думаю, АД должен получить Нобелевскую премию мира: ведь чтобы у нас заниматься той деятельностью, которой он занимается, необходимо иметь не меньше мужества, чем Мартину Лютеру Кингу»1). Правозащитную деятельность Сахарова ЯБ считал «ошибкой» потому, что не верил, что в условиях того времени она окажется успешной и сможет хоть в какой-то мере повлиять на изменение обстановки в стране и в мире. Его не оставляло беспокойство за личную судьбу АД и потерю, которую понесет наука, если полностью не раскроется научный потенциал Сахарова. Однажды в этой связи ЯБ процитировал мне замечательное стихотворение Пушкина: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...», написанное, по словам Пушкина, в «подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа», и в качестве итога содержавшее: «Но потерял я даром время, благие мысли и труды...» В очень узком кругу ЯБ возмущался и отдельными промахами, которые, по его мнению, совершал АД. Например, он искренне удивлялся, как это можно, обращаясь в защиту Пабло Неруды к Пиночету, свергнувшему законного либерального президента и расстрелявшему тысячи людей, говорить о консолидации, которую обещает его режим. Этим, а также тревогой за АД и объясняется, по-моему, и довольно резкий телефонный разговор по этому поводу, о котором пишет в своих воспоминаниях Сахаров. Я не думаю, что этим раз-
| {195} |
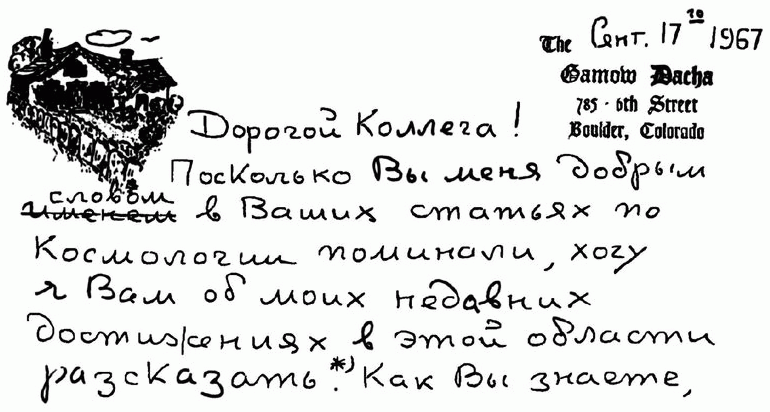 |
Письмо Г. А. Гамова к Я. Б. Зельдовичу (Полный текст письма читатель может найти в журнале «Природа», №10, 2005). Обращает на себя внимание первая фраза письма. Она не случайна. «Благодаря смелой инициативе Я. Б. Зельдовича на одном из научных собраний, по-видимому, впервые открыто подчеркнувшего значение работ Гамова в космологии, было в конце концов в научной и популярной советской литературе прекращено полное замалчивание его имени, появились биографические публикации в БСЭ и в ряде книг...» (Д. Д. Иваненко: «Эпоха Гамова глазами современника». Послесловие в книге Дж. Гамова «Моя мировая линия». М.:Физматлит, 1994.) |
говором по прослушиваемому телефону ЯБ как-то пытался демонстрировать свою лояльность по отношению к режиму, поскольку в значительно большей степени он проявлял «нелояльность», твердо отказываясь подписывать любые письма, направленные против АД. ЯБ понимал, что такие письма академиков послужат сигналом к общей травле Сахарова, к которой (как это и оказалось в действительности) примкнут письма рабочих, колхозников, писателей и композиторов.
Сам ЯБ в тяжелые и застойные времена помог многим и буквально спас многих людей. О некоторых случаях я знаю сам, но уверен, что еще больше мне неизвестно, так как ЯБ о них не распространялся. Он был реалистом и считал, что в существовавших условиях более эффективен метод «тихой дипломатии», т.е. личных обращений «наверх», а не публичных протестов. В этом отношении, как говорил мне ЯБ, он нашел полное взаимопонимание с П. Л. Капицей (некоторые письма которого сейчас опубликованы). Не берусь судить, прав ли был ЯБ, однако он сам хорошо понимал пределы своих возможностей, существовавшие независимо от его заслуг и регалий. А были эти возможности очень ограничены. Зачастую он даже не мог взять на работу тех сотрудников» которых хотел (если этому мешали их анкетные данные или, например, отсутствие прописки). Ему стоило больших хлопот устраивать {196} этих людей в подходящие места, чтобы иметь возможность продолжать совместную работу. (Многие коллеги в этом отношении его часто эксплуатировали, и он хлопотал не только за своих учеников.) Думаю, именно беспокойство за судьбу научных направлений, которые он развивал, и за судьбы многих людей, связанных с ним (а не за свое положение), сильно ограничивало свободу действий ЯБ. Случалось, что обращения ЯБ «наверх» получали отказ в довольно бесцеремонной и даже оскорбительной форме.
Характерна такая история. В 1980 г. Л. Б. Окунь получил почетное предложение сделать заключительный доклад на Международной рочестерской конференции по физике высоких энергий в Мэдисоне (США). Получив, как требовали тогда правила, разрешение от Комитета по атомной энергии, Окунь дал согласие и подготовил соответствующий доклад. В нем он подчеркивал настоятельную необходимость для современной физики поиска скалярных частиц, в том числе хиггеовских бозонов. (Впоследствии доклад стал знаменитым и во многом определил направление экспериментальных исследований, а также проекты новых ускорителей.) Однако в самый последний момент высокопоставленный чиновник из ЦК по «непонятным» причинам запретил поездку Окуня. После безуспешных попыток разных людей изменить это решение ЯБ позвонил секретарю ЦК М. В. Зимянину. В ответ Зимянин дал нахлобучку Президенту АН СССР А. П. Александрову за то, что тот «распустил» своих академиков настолько, что они суются не в свое дело и смеют звонить секретарю ЦК (так рассказывал сам А.П.). Надо сказать, что неявка Окуня на конференцию и срыв заключительного доклада приобрели характер скандала и нанесли значительный ущерб нашей науке1.
Разумеется, еще больший ущерб стране наносили высылка АД и его голодовки. Однако тогда это невозможно было объяснить «верхам», которые на этот счет твердо придерживались совершенно других взглядов. Поэтому, когда АД обратился с письмом к ЯБ и другим академикам с просьбой помочь отправить за границу близкого ему человека — Лизу Алексееву (невесту сына Е. Г. Боннер), ЯБ со всей прямотой написал, что он сделает все, чтобы обеспечить условия для научной работы АД, но не в его силах отправить кого-нибудь за границу. Ответ ЯБ вызвал резкую реакцию АД. В свою очередь, ЯБ, единственный человек, ответивший на обращение АД, очень переживал, узнав о реакции АД на его письмо (причем из передач иностранного радио, цитировавшего отдельные фразы из этого письма). Вся история доставила ЯБ много горьких часов.
В заключение мне хотелось бы коснуться еще одного вопроса, затронутого в «Воспоминаниях» Сахарова. Согласно мыслям АД, возникшим у него {197} в 80-е годы, проблема создания термоядерного оружия, над которой работал ЯБ и к которой в 1948 г. присоединился АД, была «цельнотянутой», т.е. основанной на информации, добытой советской разведкой. Еще более утвердило АД в этом мнении чтение иностранных источников. По стечению ряда обстоятельств в мои руки несколько месяцев назад попал материал, способный пролить дополнительный свет на указанный вопрос. В августовском номере журнала «Природа» за 1990 г., посвященном Сахарову, я нашел в статье Ю. А. Романова упоминание о том, что вопрос о создании водородной бомбы был впервые поставлен в СССР в 1946 г. в специальном докладе, представленном правительству И. И. Гуревичем, Я. Б. Зельдовичем, И. Я. Померанчуком и Ю. Б. Харитоном.
Заинтересовавшись этим, я заехал к Гуревичу и попросил его, если это возможно, рассказать об упомянутом докладе и прокомментировать предположение АД. Исай Исидорович сказал, что никаких данных о том, что в Америке занимаются подобным вопросом, у них в 1946 г. не было. Просто дейтрон и ядерные реакции между легкими ядрами были в круге интересов его и И. Я. Померанчука, поскольку они дают информацию о ядерных силах и являются источником энергии звезд. В совместных обсуждениях Зельдович и Харитон заметили, что осуществление термоядерного синтеза в земных условиях становится в принципе возможным путем разогрева дейтерия в ударной волне, инициированной атомным взрывом. В этих условиях, как показали оценки, можно избежать перехода подавляющей доли выделяемой энергии в электромагнитное излучение и получить взрыв неограниченного количества легкого элемента. Так возникло их совместное предложение, которое они отдали Курчатову. «Возможно, мне даже удастся его Вам показать, — сказал ИИ, — оно, наверное, сохранилось в архиве Института атомной энергии».
Действительно, через пару недель я держал в руках заверенную секретарем ксерокопию этого предложения, содержащую семь страниц машинописного текста со вставленными рукой ИИ формулами и пометкой «1946», сделанной на последней странице Курчатовым. «Вот Вам наглядное доказательство, что мы ничего не знали об американских работах, — сказал ИИ, указывая на титульный лист работы. — Представляете, какие были бы на нем грифы секретности и за сколькими печатями оно должно было бы храниться в противном случае»1). Я согласился, однако, мне все еще оставалось непонятным, почему оно вовсе не было засекреченным, а просто сдано в архив. ИИ объяснил так: «Думаю, тогда от нас просто отмахнулись. Сталин и Берия во всю гнали создание атомной бомбы. У нас еще не был запущен экспериментальный реактор, а тут ученые «мудрецы» лезут с новыми проектами, которые неясно, можно ли осуществить. Больше я этим не занимался, и как развивались события в дальнейшем — не знаю».
Судя по «Воспоминаниям» Сахарова, к середине 1948 г. теоретические расчеты по этому предложению были уже развернуты под руководством Я. Б. Зельдовича и А. С. Компанейца! в Институте химической физики АН СССР; для проверки их и была создана группа Тамма, в которую вошел АД. {198} Позже экспериментальные исследования по этому проекту велись на «объекте». В них были получены интереснейшие научные результаты, в частности, достигнуты температуры около миллиарда градусов1. Тот факт, что в 1948 г. все работы по ядерному синтезу велись в глубочайшей тайне (даже невинный отчет АД по μ-катализу был засекречен), указывает на то, что правительство к этому времени поняло важность проблемы. Возможно, Харитону и Зельдовичу удалось убедить в этом начальство (Ландау как-то с иронией сказал: «ЮБ и ЯБ — наши советские святые. Они готовы ругаться с начальством, отстаивая пользу дела, которую начальство не понимает»). Возможно, однако, и то, что поступили агентурные данные об аналогичных работах в США. Последнее весьма вероятно, учитывая инерцию государственной машины, не склонной особенно доверять своим «умникам». Ясно, например, что никакие отчаянные письма Г. Н. Флерова к Сталину по поводу создания атомной бомбы не смогли бы подействовать, если бы не были получены данные разведки об аналогичных работах за рубежом2).
[Примечание автора (2006 г.). Как выяснилось из рассекреченных материалов по истории атомного проекта, рассмотрение вопроса о создании водородной бомбы в СССР действительно было инициировано во второй половине 1945 года сообщением Фукса о дискуссиях, кото-рые велись по этой проблеме в Лос-Аламосе, и передачей им проекта Э. Теллера устройства «Супер» (получившего у нас название «трубы»), И. И. Гуревич об этом, конечно, не знал. Скорее всего упомянутая работа четырех авторов появилась в результате стимулировавшего ее вопроса И. В. Курчатова, вроде: «Интересно, нельзя ли с помощью взрыва атомной бомбы вызвать термоядерную реакцию синтеза дейтерия?» По воспоминаниям участников проекта Игорь Васильевич использовал подобный прием, чтобы привлечь внимание своих сотрудников к проблемам, известным ему из материалов разведки, о которых он не мог сообщить. Такой способ действия имел определенные достоинства. Во-первых, озадаченные Курчатовым сотрудники зачастую находили более эффективные решения, а во-вторых, он получил в результате независимую проверку полученных сведений. Подобным образом обстояло и с работой четырех авторов. Помимо результатов, совпавших с материалами Фукса, в них содержались и новые оригинальные предложения. И. В. Курчатов оставил эту работу в своем архиве. Это и убеждало И. И. Гуревича, что у них не было никаких заграничных предшественников. На самом деле, как это обнаружил профессор Г. А. Гончаров, работа И. И. Гуревича и его соавторов хранилась в Минсредмаше с самым высоким грифом секретности. Андрей Дмитриевич знал (но не мог рассказать), что устройство, названное «трубой», над которым пришлось работать Я. Б. Зельдовичу, было навязано ему проектом «Супер» Э. Теллера. Когда окрепли подозрения в неработоспособности «трубы», ЯБ настоял на закрытии этого проекта. Одновременно А. Д. Сахаров закрыл свой проект большой «слойки», который он, по его словам,
| {199} |
 |
Факсимиле 1-й страницы записки Я. Б. Зельдовича и А. Д. Сахарова, написанной рукой ЯБ. В дальнейшем был рассмотрен другой механизм передачи энергии от атомной бомбы к вторичному (термоядерному) узлу |
«неосторожно анонсировал» по инициативе правительства и который оказался тупиковым. Последующие месяцы участники работы называют временем небывалого «мозгового штурма». Коллектив физиков, возглавляемый Я. Б. Зельдовичем и А. Д. Сахаровым, объединился для решения общей задачи. Важную роль при этом сыграл В. А. Давиденко, который настойчиво призывал теоретиков подумать, как использовать «изделие» (т. е. атомную бомбу) для обжатия «сверхизделия» (т. е. термоядерного заряда). Это предложение инициировало совместные оценки Зельдовича и Сахарова (см. рисунок). {200}
Я вспоминаю, что как-то при встрече ЯБ сказал мне с грустью: «На днях умер Давиденко. Он был автором той самой идеи». Какой «той самой», я не знал, а вопросов, относящихся к этой стороне деятельности ЯБ, я привык никогда не задавать. Я подумал, что Давиденко предложил использовать дейтерит лития-шесть. Об этой остроумной идее тогда уже было известно, но не было известно, что это было предложение В. Л. Гинзбурга. Значение, которое ЯБ придавал неоформленной качественной идее Давиденко, лишний раз показывает, насколько ЯБ ценил и отмечал чужие мысли, которые приводили его к новым открытиям. Поразительно, как в разных местах может одинаково развиваться научная мысль. Математик Улам в Лос-Аламосе, обнаружив неработоспособность «Супера», предложил (аналогично тому, как это позже сделал Давиденко) использовать энергию атомного взрыва для обжатия термоядерного заряда с помощью гидродинамических линз. Однако Э. Теллер понял, что для этой цели лучше всего подходит радиационная имплозия — обжатие термоядерного заряда под действием мягкого рентгеновского изучения, возникающего в результате взрыва атомной бомбы в тяжелой оболочке «изделия». Подобная идея (но только для инициирующего блока системы «Супер») была высказана ранее К. Фуксом и фон Нейманом. К этой же идее пришли в конечном счете Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров и Ю.А. Трутнев. Осуществить в короткий срок идею двухступенчатой конструкции удалось благодаря самоотверженному труду блестящего коллектива выдающихся физиков, математиков, конструкторов и технологов. «По сути дела, над ее созданием мы работали только в 1954 и начале 1955 года, — вспоминал замечательный физик Лев Петрович Феоктистов, — а в ноябре 1955-го было проведено испытание водородной бомбы нового образца. Результат оказался ошеломляющем. Все прочие варианты были оставлены». Двухступенчатая конструкция стала основой всех дальнейших разработок и усовершенствований термоядерных зарядов, применяемых в различных типах оружия, а также предназначенных для мирных целей, (см. «История советского атомного проекта», Москва, издАТ, 1997; Лев Феоктистов «Оружие, которое себя исчерпало», М.: 1999)].
Над так называемой 3-й идеей, приведшей в 1955 г. фактически к полному решению задачи, АД и ЯБ работали уже вместе. При этом огромный вклад был внесен их молодыми сотрудниками.
В настоящее время некоторым людям, особенно за границей, очень трудно понять, как могли такие благородные и честнейшие люди, как Тамм, Сахаров, Померанчук, Зельдович и многие их товарищи, столь самоотверженно работать над созданием страшного оружия, отдавая этой работе все свои знания и талант, проявляя необычную инициативу, настойчивость и изобретательность и не осознавая при этом, какую опасность для судьбы всего мира представляет такое оружие в руках тоталитарной системы. Это не просто интерес исследователей к необычной физике (хотя, я думаю, он тоже многое значил). Мотивы, побуждавшие этих людей, хорошо изложены в «Воспоминаниях» Сахарова. Здесь ничего нельзя ни прибавить, ни убавить. {201}
Это послесловие ни в коем случае не преследует цель как-то оправдать ЯБ. Он в этом не нуждается. Уже после его смерти Сахаров писал о том, что все недоразумения, бывшие между ними, кажутся ему «не более, чем пеной, унесенной потоком жизни». Хотелось бы, чтобы в памяти людей сохранилось творческое сотрудничество Сахарова и Зельдовича, оказавшееся столь плодотворным, и то, что их подписи нередко стояли рядом (как это было, например, в сохранившейся у меня рукописи их совместной статьи «О реакциях, вызываемых μ-мезонами в водороде»).
В тот морозный декабрьский день двери в квартиру были распахнуты настежь. Люди приходили и уходили. А Борис Яковлевич Зельдович сидел за большим круглым столом и составлял посмертный список наград своего отца. В большой коробке лежали вперемешку золотые звезды, золотые медали различных академий, ордена. Список предназначался для некролога в журнале «Курьер ЦЕРНа». Туда же отобрали фотографию, копия которой стоит теперь на моей книжной полке за стеклом. На фотографии человек в простом сером свитере задумчиво, спокойно сидит, облокотившись на стол.
Его редко можно было застать таким спокойным. Обычно он был подвижным, как ртуть. Впервые я увидел его на сцене Большого зала Политехнического музея в начале 50-х годов на вечере, посвященном пятилетию Московского механического института. Он делал доклад о теории взрыва. Поразило, как весело и энергично можно обращаться с формулами, доской, мелом, тряпкой и аудиторией. Казалось, он играет в настольный теннис, стремительно отбивая невидимые мячи.
А в середине 50-х, вернувшись в Москву из «берлоги» (это его слово), он ушел от взрывов и жадно набросился на физику элементарных частиц. В это время он часто бывал в ИТЭФ, подолгу разговаривал с Чуком и с нами — его учениками. (Для тех, кто не знает, поясню, что ИТЭФ — Институт теоретической и экспериментальной физики, расположенный в Черемушках, Чук — Исаак Яковлевич Померанчук (1913–1966) — первый ученик Л. Д. Ландау, основатель и руководитель теоретического отдела ИТЭФ.) Одно время Яков Борисович был даже зачислен в ИТЭФ на полставки. Но потом решил обосноваться в Институте прикладной математики АН СССР у М. В. Келдыша. Возможно, двум столь сильным и столь разным физикам, как Чук и ЯБ, было «тесно» в одном институте. Но они оба с большой теплотой и уважением относились друг к другу, несмотря на «разносы», которые время от времени устраивал Чук и которые ЯБ с таким юмором описал в своих воспоминаниях о нем. В дальнейшем ЯБ часто высказывал сожаление, что не остался работать в ИТЭФ. Но где бы он ни работал, его связь с физиками ИТЭФ не прерывалась — ни научная, ни человеческая.
| {202} |
 |
В спортлагере Института космических исследований на Волге, 1973 г. |
Возрастные и иерархические барьеры в общении с ним никогда не ощущались. Впервые он пришел ко мне домой в начале 1958 г., когда я, молодой кандидат наук, с женой и дочкой жил в маленькой комнатке огромной коммунальной квартиры. Он хотел поподробнее узнать новости о физике в Соединенных Штатах» откуда я только что вернулся после двухнедельной командировки и где, в частности, слушал доклады Р. Фейнмана и М. Гелл-Манна о теории слабого взаимодействия. В этой теории была возрождена идея сохраняющегося векторного слабого тока, выдвинутая впервые за несколько лет до того в работе С. С. Герштейна и Я. Б. Зельдовича. Уходя» он оставил папку с оттисками своих работ, украсив их шутливыми надписями и рисунками рыбки («окуня»).
Кажется» в том же году он пригласил меня прийти к себе домой вечером 8 марта» и я, ничего не подозревая, оказался на праздновании его дня рождения. Это был веселый вечер. Разыгрывались смешные и не всегда приличные шарады (тут особенно отличался А. С. Компанеец). На шкафу стоял выкрашенный под бронзу с патиной гипсовый бюст ЯБ, подаренный ему кем-то из друзей. Портретное сходство было полным. С особым тщанием скульптор изобразил волосатую грудь, украшенную тремя звездами Героя Социалистического Труда. (Настоящий, бронзовый бюст {203} был установлен на родине Якова Борисовича в Минске, в начале 80-х годов.)
За глаза его иногда называли «трижды герой», но начальственная важность в нем отсутствовала полностью. Он не мог пропустить раскатанной ледяной дорожки на тротуаре, чтобы, разбежавшись, не прокатиться по ней. Появившись в ИТЭФе, он сразу же осудил нас с И.Ю. Кобзаревым за сутулость и предложил специальное упражнение, которому немедленно стал обучать. «Станьте ко мне спиной, — скомандовал он. — Придвиньтесь, чтобы наши спины соприкасались. Сцепим руки, согнув их в локтях. Вот я нагибаюсь и поднимаю Вас в воздух. Не бойтесь. Теперь Вы меня поднимаете. А теперь качаем друг друга. Только не резко, чтобы не уронить».
Вообще, он был очень чуток к чужому нездоровью. Много лет спустя он принес мне в кардиологическую палату книгу по расшифровке кардиограмм, а когда я окончательно поправился, приехал с пластмассовым диском, которым мы долго и азартно перебрасывались на ближайшем пустыре. Искры спортивного азарта вспыхивали в нем неожиданно. Помню, как во время прогулки мы обсуждали, что происходит с черной дырой, когда в результате излучения ее масса становится равной нулю. У метромоста он внезапно прервал обсуждение, предложив: «Ну, кто первый сбежит по лестнице до набережной?», и мы бросились вниз, перепрыгивая через ступеньки.
Особенно он любил плавать и мог плавать часами. Помню, в мае 1986 г. в Сухуми, в перерывах между заседаниями астрофизического симпозиума он уплывал далеко за горизонт. У меня сохранилось несколько писем, написанных им в разные годы в Крыму. Он обдумывал их во время заплывов. В письмах он ругал себя за упущенные возможности научных открытий, упрекая меня за инертность и скептицизм, требовал, чтобы я настойчиво развивал модель кварков (это было еще до квантовой хромодинамики), осуждал за консерватизм и осторожность в выборе статей для «Успехов физических наук».
«Успехи» были предметом его постоянной заботы. Он часто писал сам; многие из его обзоров в «УФН» стали классикой. Настойчиво искал молодых авторов. Бурно возражал против публикации статей, которые считал плохими. Так, он категорически возражал против появления в «УФН» статьи, суть которой состояла в том, что специальную теорию относительности можно записать таким образом, чтобы время во всех системах отсчета было единым, но скорость света в прямом и обратном направлении не была одной и той же. Он совершенно справедливо не считал это успехом физических наук и, когда статья была все же принята к печати, в знак протеста написал заявление об отставке. Как его уговорили вернуться в редколлегию, я уже не помню. Зато хорошо помню, как я уговаривал его не печатать в одном из его обзоров четверостишие, которое он выдавал за хлебниковское. Он терпеливо, с непонятной мне в то время улыбкой, выслушал мои возражения, но стихотворение (которое оказалось акростихом, сочиненным им самим) в тексте оставил, а в конце обзора не без яда поблагодарил меня за дискуссию.
Его последняя статья в защиту общей теории относительности, написанная совместно с Л. П. Грищуком, была опубликована в «УФН» уже после {204} кончины Якова Борисовича (мы договорились с ним обсудить ее за день до рокового инфаркта).
Обсуждать с ним физику (и не только физику) было легко, потому что он не обижался на критику. Ему всегда можно было абсолютно откровенно высказать все, что думаешь об его очередной идее или статье. Он очень изобретательно и большей частью успешно отбивал нападение. Но если отбиться не мог, то честно признавал свою неправоту. Я мало встречал людей, которые бы так охотно выслушивали критические замечания.
Правда, и в своих оценках он тоже особых церемоний не разводил. Вспоминаю, как в моей комнате в ИТЭФ мы (несколько авторов), по его настойчивой просьбе, рассказывали ему работу о нейтринных осцилляциях. Работа была чисто феноменологическая и, если можно так выразиться, теоретически-техническая, а Яков Борисович все ждал какой-то физической изюминки. Когда он убедился, что изюминки не будет, то сказал: «Это напоминает мне, как кот увлек кошку на крышу и долго рассказывал ей о том, как его кастрировали». Мы его на крышу не завлекали, но замечание было меткое.
Обсуждения с ним были необыкновенно плодотворны. Каким-то чудесным образом он умел заставить собеседника переместить смутную полумысль из подсознания в сознание и продумать ее. Если ответ на вопрос не удовлетворял его, он задавал этот вопрос через день, через неделю, через год. Забыть его, остановиться на полпути он органически не мог.
Обсуждать с ним физику было необыкновенно интересно. В нем постоянно жил ненасытный интерес к новым идеям и фактам. Он стремился и умел каждое новое для него явление понять самым простым образом и найти ему новое, очень часто совершенно неожиданное, применение. Именно это свойство его таланта неоднократно помогало ему с удивительной легкостью входить в новые для него области науки и становиться в них лидером.
Во время одной из наших последних прогулок (Воробьевское шоссе, парк Горького, Крымский мост, переулки Кропоткинской) он заговорил о том, что всегда стремился понять суть явления «на пальцах», «по-сермяжному», не используя сложного математического аппарата. «А, может быть, не надо было к этому стремиться? — спросил он. — Может быть, надо было как можно чаще пользоваться математическим формализмом? Это ведь мощнейший инструмент». Но вопрос этот был, скорее всего, риторическим. Я думаю, он прекрасно сознавал уникальность дара, которым обладал. Обсуждение этого вопроса осталось незаконченным, так как в тот момент мы подошли к ограде Института судебной психиатрии и разговор потек по другому руслу...
В одном интервью Эйнштейн сказал о себе, что отличался от обычных людей сохранившейся в нем детской способностью удивляться тому, что обычный взрослый человек воспринимает без удивления. Яков Борисович в полной мере обладал этим редким даром детства. Его умение удивляться, открытость новому, ненасытный интерес к жизни вообще и физике в особенности, мальчишеский азарт и озорство создавали неповторимое чудо — чудо гения. {205}
Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
Это сказала Ахматова о Пастернаке. Наследством, которое разделил со всеми Яков Борисович Зельдович, была Вселенная, весь физический мир.
С Яковом Борисовичем я был знаком без малого 40 лет. Однако у нас не было ни совместных работ, ни сколь-нибудь близких личных отношений. Поэтому мне лучше и не пытаться конкурировать с воспоминаниями его друзей, учеников и сотрудников. Вместе с тем нас связывало многократное пересечение научных интересов в самых разных областях физики и космо-физики (факт, отмеченный самим ЯБ на семинаре ФИАНа в день моего юбилея). Соответственно, было и множество научных контактов — дома у ЯБ, в ФИАНе, на различных семинарах и конференциях. По этой причине и мне есть что вспомнить. В этих заметках я попытаюсь, не претендуя ни на какие обобщения, рассказать о нескольких характерных эпизодах наших отношений с надеждой дополнить или закрепить тот образ ЯБ, который сложился у читателей этого сборника.
О существовании физика Зельдовича я узнал вскоре после войны, получив приглашение студентов-биологов МГУ рассказать им об атомной бомбе. Мои собственные познания об этом предмете ограничивались воспоминаниями о популярных лекциях Л. Д. Ландау и М. Ф. Широкова и тем немногим, что я вынес из бестселлера того времени — книги Г. Д. Смита «Атомная энергия для военных целей». Поэтому я обратился к знакомым студентам-старшекурсникам с вопросом, не знают ли они еще какой-нибудь литературы. Один из них вспомнил, что ему вроде бы попадалась статья об атомной энергии в старом, еще довоенном номере журнала «Успехи физических наук». Так я вышел на знаменитую серию работ Зельдовича и Харитона 1939–40 гг., лежавшую у истоков атомной энергетики.
Личное знакомство с ЯБ состоялось несколькими годами позже. Я появился в его квартире на Воробьевском шоссе по рекомендации руководителя моей дипломной работы А. С. Компанейца, надеявшегося пристроить меня после окончания МГУ в фирму, где тогда работал ЯБ. Меня встретил немолодой (по моим тогдашним меркам), коренастый, круглолицый человек в очках довоенного образца с еще вполне заметной шевелюрой. Без лишних разговоров мне было дано пять или шесть задач, которые надо было решить с ходу и «на пальцах» (помню первую — о радиусе обрезания статсуммы классического кулоновского газа). Ни с одной из них я толком не справился. И хотя на следующий день я принес правильные ответы, было ясно, что подорванного доверия уже не вернуть. {206}
Этот эпизод прочно врезался в память не только потому, что ознаменовал начало знакомства с одним из наиболее значительных и ярких людей, с которыми сводила меня жизнь. На самом деле я тогда впервые остро почувствовал, что в моем профессиональном образовании физика-теоретика (а в нем я до того не ощущал недостатков, сдавая минимум Ландау, участвуя в семинаре Н. Н. Боголюбова и благополучно справляясь с дипломной работой) есть существенный пробел — неразвитость интуитивного физического мышления. Понадобились годы заводской инженерной практики и работы в теоретическом отделе И. Е. Тамма в ФИАНе, чтобы этот пробел начал затягиваться. Зато какую радость доставили спустя много лет слова ЯБ, сказанные моему аспиранту: «Неужели ДА дал Вам такую... задачу — ведь он хороший физик» (многоточие заменяет забытый мной ругательный эпитет). Поэтому я всегда буду помнить о полученной от ЯБ столь важной для всей моей последующей профессиональной деятельности установки на будущее.
Во многом помог ЯБ и реализовать эту установку, особенно в первый период наших контактов после моего возвращения в Москву. Типичной была ситуация, когда я больше интересовался формальной, теорфизической стороной дела, а ЯБ «разворачивал» меня лицом к физике. Так, в конце 50-х годов после доклада ЯБ на семинаре Ландау я увлекся проблемой нейтронной жидкости (толком не решенной до сих пор): может ли большая система нейтронов удерживать себя силами притяжения от разлета? Меня прельстила необычность в плане теории многих тел: среднее расстояние между частицами хотя и велико по сравнению с радиусом действия сил, но мало по сравнению с длиной рассеяния. ЯБ же больше нацеливал меня на физику, в частности, на то, что отличает задачу двух тел от задачи многих тел (например, для точечного взаимодействия квантовых эффектов хватает для предотвращения падения на центр в случае двух частиц и не хватает — для трех и более частиц; это так называемая теорема Томаса). Физическая глубина и плодотворность такого подхода обнаружилась десятью годами позднее, после открытия эффекта Ефимова.
Другой пример касается развития метода Томаса-Ферми, чем ЯБ заинтересовался, прослушав наши с Компанейцем доклады на том же семинаре. Для меня самым интересным было применение в квантовой механике нетривиальной алгебры некоммутируемых переменных (операторов). Что же касается приложений к физике высоких давлений, то, хотя я этим и занимался довольно много, но главным образом — в иллюстративных целях. ЯБ ненавязчиво, но решительно повернул меня в сторону теории уравнения состояния вещества, заставив осознать ее важность для геофизики, планетологии, астрофизики и решения прикладных проблем. Тем самым он, по-существу, предопределил одно из важных направлений моей последующей деятельности, которое оказалось небезуспешным (две статьи вошли в число наиболее цитируемых работ по уравнению состояния) и даже приняло организационные формы (много лет я возглавлял периодически действующее Всесоюзное совещание по уравнению состояния). Упоминаю об этом с единственной целью — подчеркнуть роль, которую ЯБ сыграл в моей жизни.
В связи с последним примером вспоминается, как ЯБ рецензировал мой обзор по свойствам вещества при высоких давлениях и температурах. Типичная {207} рецензия «штаб-» и даже «обер-офицера» от науки содержит, наряду с общими оценками, несколько конкретных замечаний, причем рецензент, как правило, избегает прямых контактов с автором, А «генерал-фельдмаршал» Зельдович позвал меня домой, предъявил не менее сотни замечаний и несколько часов добивался четкости текста. Прощаясь, он сказал; «Ну, вольтеровской ясности мы, конечно, не достигли, но все же...», имея в виду цитату из «Микромегаса», завершающую обзор (сравнение малых княжеств Европы с империями Турции, Московии и Китая как пример контрастов, заложенных в природе).
Особенно многочисленными были контакты, относящиеся к астрофизической и космологической тематике. Начало им положило обсуждение работы ЯБ 1962 г., в которой делался удивительный вывод о возможности превращения (хотя и страшно медленного) в черную дыру тела произвольно малой массы. Много лет спустя этот вывод был уточнен Дж. Бекенштейном; согласно второму началу термодинамики, коллапсировать могут лишь тела тяжелее 1015 г (масса средней горы). Дискуссии по этому поводу запомнились потому, что на этот раз не было привычного энтузиазма ЯБ. Он довольно сдержанно отнесся к моим восторгам, хотя, как я думаю и сейчас, есть от чего прийти в восхищение — уже сам факт отсутствия информации о внутренности черной дыры ведет к тому, что она воспринимается как горячее тело. Как сказал Солженицын в своей Нобелевской лекции: «Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения».
К числу астрофизических контактов нужно отнести и обмен приоритетными «любезностями». В конце 50-х годов я обнаружил, что вещество звезд «белых карликов» находится не в плазменном, а в кристаллическом состоянии. Заинтересовавшись ядерными реакциями в кристаллической фазе, я обнаружил статью ЯБ 1957 г. о горении водорода в холодных небесных телах, а копая дальше, нашел довоенного предшественника этой статьи. Спустя некоторое время ЯБ торжественно вручил мне ссылку на работу предшественника моей статьи о белых карликах.
Особенно подробно обсуждалась с ЯБ наша с А. Д. Линде деятельность по фазовым переходам в космологии. Насколько я знаю, именно ЯБ принадлежит важная идея о независимых фазовых переходах в причинно не связанных областях (аналогично независимой кристаллизации быстро охлаждаемой стали в изложнице, что ведет к поликристалличности слитка). Следствия этой идеи, относящиеся к доменной структуре вакуума и магнитным монополиям во Вселенной, с успехом разрабатывались ЯБ вместе с соавторами. Самым интересным следствием, касающимся образования нитевидных структур, ЯБ предлагал заняться мне, но я, увы, не клюнул. А ведь отсюда пошла столь актуальная сейчас проблема космических струн. Много обсуждали мы и проблему космологического члена в уравнениях Эйнштейна, который, согласно Линде, должен меняться на много порядков при фазовых переходах. Несмотря на наши усилия, ЯБ долго сомневался в возможности физически осмысленно отделить космологический член от материи. Если он и соглашался с нашими аргументами, то как-то нехотя. Это тем более досадно, что мы были в одном шаге от инфляционного сценария развития Вселенной, и кто же, как не ЯБ, которому космологический {208} член обязан своим вторым рождением, должен был стать автором этого сценария.
Завершая заметки, хочу коснуться одной менее известной стороны деятельности ЯБ. Еще работая на заводе и сталкиваясь с математической безграмотностью среднего инженера, я задумался о необходимости перестройки преподавания математики в школе и ВТУЗе с целью освободить его от рутины и прямолинейного схематизма и приблизить к жизни. Поэтому особый интерес вызвала у меня книга ЯБ «Высшая математика для начинающих физиков и техников», случайно попавшая мне в руки. Как-то во время визита к ЯБ пришлось к слову заговорить об этой книге. Я спросил, не объясняется ли отсутствие в ней привычных физматовских штампов тем, что сам ЯБ имеет не физическое, а химическое высшее образование. Ответ: «Я вообще не учился в ВУЗе» поверг меня в немалое изумление. А потом я поинтересовался, что подвигло ЯБ на огромный труд по созданию книги. Вместо ответа он пригласил меняв столовую, где сидела молодежь — его дети с друзьями, и сказал: «Познакомьтесь с физиками XXI века, ради них я и старался...»
Не так давно, впервые попав в Минск — на родину Якова Борисовича Зельдовича, я долго стоял перед его бюстом трижды Героя, думая о том, как щедра природа по отношению к своим избранникам. И сейчас, когда его уже нет среди нас, вместе с горечью утраты испытываешь благодарность судьбе, подарившей возможность общения с таким могучим и ярким талантом.
Начало декабря 1987 г. Ясный солнечный день. Легкий морозец. Погода как нельзя лучше способствует хорошему настроению. Я иду из гостиницы в Протвино на семинар в ИФВЭ (Институт физики высоких энергий) с докладом о взаимоотношениях между физикой частиц и космологией. И вдруг — на доске объявлений рядом с конференц-залом написанный от руки небольшой листок: «Умер Яков Борисович Зельдович». Я перечитываю его несколько раз с ощущением, что перестал понимать родной язык. Вспоминаю, как неделю назад мы встретились, горячо обсуждали космологические проблемы, говорили о будущей работе. ЯБ был, как обычно, активен, энергичен и, казалось, полон сил.
Я не помню, как провел семинар, начавшийся минутой молчания, помню только, что мне помогало то священное уважение к Семинару, которому всегда учил Яков Борисович.
Один случай был особенно поучителен для меня. Несколько лет назад я должен был выступать на семинаре в ГАИШ, руководимом Зельдовичем. За день до семинара я простудился и, позвонив Якову Борисовичу вечером домой, спросил, нельзя ли перенести доклад на следующее заседание. В трубке возникло молчание, а затем последовал вежливый вопрос, не нахожусь ли я на смертном одре. Когда я ответил отрицательно, ЯБ сказал таким ледяным тоном, которого я никогда ни раньше, ни потом от него не слышал: «Тогда {209} я не понимаю, почему Вы мне звоните». Затем он немного отошел и произнес яркую речь о том, что молодежь теряет уважение к Вечным ценностям и происходит ужасное падение нравов, с которым необходимо бороться, иначе общество погибнет. После этого я, конечно, не мог даже заикнуться, чтобы перенести выступление. С такой же, если не с большей требовательностью, относился Яков Борисович и к самому себе. Тогда я еще не знал, как этот разговор перекликнется с его собственной судьбой...
Когда я вернулся в Москву из Протвино, мне рассказали, что Яков Борисович утром 2 декабря почувствовал себя нехорошо и зашел к врачу, который осмотрел его и посоветовал лечь в больницу для более глубокого обследования и лечения. «Не могу, — последовал ответ, — у меня сегодня доклад на семинаре». Для любого человека (от студента до многоопытного профессора) доклад — всегда нагрузка, нервное напряжение. Не знаю» насколько повлияло это на Якова Борисовича, но вечером того же дня ему стало резко хуже... Врачи говорили, что сделать ничего нельзя.
С Зельдовичем меня познакомил Лев Борисович Окунь в 1976 г. У Якова Борисовича были вопросы о виде взаимодействия лептонов в тогда еще относительно новой объединенной теории электрослабого взаимодействия. В результате обсуждений возникла наша с ним и М. И. Высоцким работа о космологическом нижнем пределе на массу нейтрального стабильного лептона1, положившая начало нашему близкому десятилетнему общению.
Под влиянием Якова Борисовича я стал заниматься космологией. Мое знакомство с этой увлекательной областью началось с написания нашего совместного обзора «Космология и частицы», в полном соответствии со стимулирующим кредо ЯБ: «Чтобы изучить какую-нибудь новую область науки, надо написать по ней обзор». Он удивительно точно чувствовал важность того или иного научного направления, с энтузиазмом принимал участие в его разработке, руководствуясь, как мне кажется, живым, каким-то детским интересом к тому новому, что возникало перед ним. ЯБ никоим образом не переоценил важность симбиоза космологии и физики элементарных частиц. Благодаря ему возникла новая научная область, в большей степени базирующаяся на работах и идеях Зельдовича, и сейчас ни одна конференция по физике частиц не обходится без космологической секции.
Вспоминая о нашей совместной работе, не могу не сказать, насколько его стиль был непохож на известный стереотип мэтра-академика, паразитирующего на трудах своих учеников2). Иногда даже казалось, что ситуация прямо обратная, и мне приходилось отбиваться от того, чтобы признать себя соавтором статьи, мое участие в которой ограничивалось лишь незначительными {210} обсуждениями. В других случаях, когда я приходил к ЯБ со своей, иногда очень сырой идеей, которая обретала плоть и кровь в результате иной раз бурных дискуссий, он всегда категорически вычеркивал свою фамилию, если ему казалось, что его роль в работе не основная. Мне кажется, что это результат богатства физическими идеями, которые он непрерывно генерировал на протяжении всей жизни, и большой душевной щедрости.
Поражало редкое сочетание широты и глубины его знаний. Он мог при обсуждении вопросов физики элементарных частиц непринужденно воспользоваться аналогией с тонкими эффектами из теории горения или статистической физики. При этом он непрерывно учился чему-то новому, изучая оригинальные статьи и обсуждая интересующие его вопросы с теми, кого он считал специалистами в данной области. Каждое такое обсуждение было непростым испытанием для его участников. У ЯБ был часто свой собственный, неожиданный взгляд на проблему, открывающий ее с новой стороны, и вести дискуссию «на его территории» было непросто. Но полученная польза с лихвой окупала все трудности. По поводу его энциклопедизма хорошо сказал, приехав в Москву, кажется, С. Хокинг: «Я думал, что Зельдович — это большая группа советских физиков, наподобие Бурбаки».
Удивительным качеством ЯБ, которое, наверное, помогло ему так долго и плодотворно работать, была постоянная душевная молодость, я бы даже сказал, мальчишество. Благодаря этому, с ним всегда было легко говорить на любые темы, несмотря на значительную разницу в возрасте и положении. В памяти оживает ряд эпизодов. Мы идем к нему домой по довольно крутой лестнице. ЯБ останавливается и вспрыгивает на пятую ступеньку. Вызывающе смотрит — смогу ли я прыгнуть выше. Неприятно проиграть при 30-летней разнице в возрасте. Я поднатуживаюсь и кое-как заскакиваю на шестую. ЯБ мрачнеет, некоторое время молчит, потом торжествующе поворачивается ко мне: «А мой внук прыгает еще выше!». Мир восстановлен.
Как мальчишка, ЯБ очень не любил проигрывать. Но и проиграть ему нарочно было нельзя. Помню наши теннисные встречи. В перекидке ЯБ мог похвалить хороший удар соперника, но как только начиналась игра на счет, все было подчинено одной задаче — выиграть. В случае, если игра не шла и шансов на выигрыш не было, ЯБ бросал коротко «к черту!» и отказывался вести счет. Нужно было время и несколько удачных ударов, чтобы к нему вернулось обычное хорошее расположение духа.
Другой эпизод, говорящий о его неистребимом мальчишестве. Мы обсуждали роль флуктуации плотности в процессе возникновения барионной асимметрии Вселеннной. Как-то вечером мне показалось, что я нашел решение одной из возникших тогда проблем, и я немедленно позвонил ЯБ. Излагая свои аргументы, я понял, что он меня не слушает. Действительно, скоро он перебил меня словами: «Лучше включите телевизор — там сейчас меня показывают». Узнав, что я на работе, он был глубоко и искренне расстроен. Впрочем, как я узнал на следующий день, он уже нашел решение проблемы и, пожалуй, более удачное, чем я.
Вообще, умение отключаться, если вопрос его не интересовал, у ЯБ было фантастическим. Он мог на минутку (как мне кажется, умышленно) заснуть во время разговора, так что собеседник это или не сразу, или вообще не {211} замечал, а проснувшись, когда собеседник замолкал, — перевести разговор на другую тему. Когда я впервые с этим столкнулся, то очень расстроился, ко потом подумал — а может, что-то неверно в моих рассуждениях. Как правило, так и оказывалось. Но иногда мне удавалось преодолеть пассивное, а порой и активное сопротивление ЯБ. Результаты этих баталий нередко позволяли мне самому намного лучше понять собственную работу.
В случае, когда ЯБ был заинтересован какой-то проблемой, его работоспособность казалась безграничной. Однажды в одиннадцатом часу вечера у дверей моего дома раздается звонок. Открыв дверь, я вижу курьера с телеграммой: «Немедленно позвоните мне. Зельдович.» Я знал, что ЯБ рано ложится спать, так как очень рано встает. Но делать было нечего. Пришлось выйти на улицу (тогда у меня еще не было телефона) и позвонить. ЯБ бодрствовал, и мы чуть ли не до полуночи говорили о кинетике процессов в ранней Вселенной. Признаюсь, в тот момент меня больше поразила скорость, с которой была доставлена телеграмма. ЯБ отправил ее по телефону, и она была доставлена менее чем за час. Другой случай. Я был простужен и вознамерился слегка побездельничать дома, тем более, что никакого выступления на этот раз не предстояло. Когда ЯБ узнал об этом, он немедленно приехал ко мне, и моему безделью пришел конец. Больше я болеть не «решался».
Когда мне, наконец, поставили телефон, общение стало проще, и я вспоминаю наши долгие утренние разговоры. К счастью, я вставал тоже рано, и это мне давалось легко. К тому же ЯБ звонил уже не в 6 утра (о чем рассказывали люди, знакомые с ним раньше), а всего лишь в семь. Когда я узнал о смерти Якова Борисовича, первая мысль, пронзившая меня, была о наших утренних, в это время уже не столь частых, разговорах. Дело даже не в той огромной научной пользе, которую я извлекал из них, а в том морально-эмоциональном влиянии, которое они оказывали. (Боюсь, яснее я выразиться не смогу.)
Вспоминаю историю написания нашего обзора в журнале «Природа» о барионной асимметрии Вселенной. Это был 1981 г. (статья вышла в августе 1982 г.), и содержащуюся в обзоре ссылку на А. Д. Сахарова цензура выкинула на том основании, что в популярном издании тиражом около 80 тыс. экземпляров упоминать это имя с похвалой не следует. (Правда, в научных трудах ссылки на Сахарова были дозволены.) Печатать статью без этой ссылки мы отказались1. Последовала долгая борьба. И только с помощью А. П. Александрова (тогдашнего президента Академии наук СССР, к которому настойчиво обращался Зельдович) было найдено компромиссное решение: мы убираем список рекомендуемой литературы в конце статьи, а все ссылки даем в виде подстрочных примечаний. В таком виде статья и вышла.
У Якова Борисовича было поражавшее меня сочетание дисциплины и стремления, что ли, созорничать. Два примера могут это проиллюстрировать. Я, да и другие, более молодые, чем ЯБ, физики неоднократно пытались {212} выяснить у него какие-нибудь подробности, касающиеся его работы над атомной бомбой. Иной раз это было в очень свободной атмосфере, скажем, за ужином с рюмкой коньяка. Но как только разговор заходил об этих вопросах, как будто кто-то переключал рубильник — ЯБ сразу замыкался и что-то вытянуть из него было невозможно. Другой пример. ЯБ рассказывал, как он выступал перед избирателями где-то в начале 80-х гг. в связи с выдвижением А. П. Александрова в Верховный Совет. В своей речи он, по его собственным словам, допустил оговорку: «Александров стал государственным деятелем, но остался человеком». Но по лукавому виду ЯБ было очевидно, что эта оговорка не столь уж случайна.
Не могу не вспомнить о любви Якова Борисовича к стихам. Он хорошо знал и часто цитировал очень разных поэтов, но, мне кажется, больше других любил Пастернака. С его помощью он оказался победителем в одном нашем споре, когда я настаивал на том, что в популярной статье для «Природы» формулы усложнят изложение и сделают его малоприятным. ЯБ разбил меня прекрасной, хотя и слегка искаженной, цитатой из Пастернака:
Хоть людям простота нужнее,
Но сложное понятней им.
Наши разговоры с ЯБ не ограничивались, конечно, только физикой. Он много и хорошо рассказывал о людях, с которыми встречался в жизни. Не мне воспроизводить эти рассказы, тем более, что многое уже стерлось в памяти. Ряд этих историй (но далеко не все) можно найти в опубликованных воспоминаниях ЯБ об его (увы) умерших друзьях. Мне хочется лишь привести наш краткий разговор о П. Л. Капице, к которому ЯБ относился с глубочайшим уважением. В то время Капице было почти 90 лет, и я спросил, как он может работать в таком возрасте. ЯБ ответил, что, пожалуй, на ученых советах он иной раз и засыпает, но в лабораторию бежит вприпрыжку и, помолчав, добавил: «Наверное, потому, что всегда жил достойно».
Среди всех качеств Якова Борисовича как физика-теоретика было, с моей точки зрения, одно особенно замечательное, выделяющее его из среды других теоретиков, — чутье на теории. Я имею в виду удивительный дар почувствовать глубину и перспективу теоретической мысли или идеи, когда эта мысль (или идея) еще не сформировалась, сыра, выглядит даже скорее абсурдной, чем разумной, и почти все остальные ее просто игнорируют.
Приведу несколько такого рода примеров.
В 1959–1961 гг. появились работы А. Салама, Дж. Уорда и Ш. Глешоу с первыми попытками объединения слабых и электромагнитных взаимодействий. В то время они не привлекли общего интереса. Но ЯБ сразу {213} обратил на них внимание. Он приходил к нам в ИТЭФ1 и говорил: «Какая замечательная теория, почему вы ею не занимаетесь?». Мы отвечали, что теория неперенормируема, в ней будет большая вероятность распада μ → еγ и т.д. ЯБ это не останавливало, по его мнению, идея была настолько глубока, что ею все равно нужно было заниматься, не обращая внимания на трудности. И, по большому счету, он был прав. Несмотря на то, что тогда, в 1961–1962 гг., мы не последовали его советам, мне кажется, что его слова (по крайней мере, для меня) не прошли даром — несколько позже, начиная с 1963 г., я стал заниматься теорией с промежуточными W-бозонами.
Другой пример связан с работой Голдстоуна 1961 г., в которой было доказано, что спонтанное нарушение симметрии приводит к появлению безмассовых частиц — голдстоунов. Отношение к этой работе в ИТЭФ было таким: все соглашались, что работа интересная, но никто не хотел развивать эти идеи дальше. Может быть, причина была в том, что почти все в ИТЭФ (и особенно И. Я. Померанчук) были увлечены тогда реджевской теорией. ЯБ в обсуждениях неоднократно подчеркивал глубину и перспективность идей Голдстоуна и призывал нас развивать их. Но, увы, его усилия были безуспешны — мы продолжали заниматься своим делом. Как известно, сейчас идеи о спонтанном нарушении симметрии и возникновении голдстоунов пронизывают всю физику элементарных частиц.
Третий пример подобного рода относится к космологическому члену в теории гравитации. Начиная с 70-х годов ЯБ говорил, что в существующих теориях поля (в том числе и в моделях великого объединения) космологический член, вычисленный по теории возмущений, как правило, расходится, либо, если даже в какой-то теории и удается добиться его сходимости, то его величина оказывается на много десятков порядков больше экспериментальных ограничений. По мнению ЯБ требование, чтобы теория приводила к равной нулю величине космологического члена, должно лежать в основе выбора подходящих теорий. К этой мысли он возвращался неоднократно, для него это было своего рода «Карфаген должен быть разрушен». Проблею космологического члена не разрешена до сих пор, и сейчас выдвинутый ЯБ критерий является одним из основных при отборе теорий, объединяющих все взаимодействия, включая гравитацию. Впрочем, есть и попытки решить этот вопрос иначе, в рамках космологии.
Мне кажется, если бы не повороты судьбы, которые оставляли Якову Борисовичу мало времени для работы в физике элементарных частиц, он мог бы сделать здесь намного больше и получить больше удовлетворения.
| {214} |
Уже можно уверенно говорить, кто и в чем был уникален в ушедшем от нас XX столетии. ЯБ был уникален в классической физике. Он охватил ее своими трудами почти целиком, а понимал в ней все. Сравнить его можно с лордом Релеем (все же Релей захватил в XX в. полтора десятилетия активной работы). Как раз столько, сколько ЯБ не дожил до его конца.
Было и существенное отличие. Релей в конце жизни подчеркнуто отстранялся от новой физики — квантовой и релятивистской, считая это делом следующих поколений. ЯБ до самого конца участвовал в гонках по новым областям.
Более того, волной своей славы, ставшей в конце жизни всемирной, ЯБ был обязан в первую очередь именно трудам последних десятилетий, прежде всего своим достижениям в астрофизике и физике элементарных частиц. Достаточно прочесть некролог ЯБ в «Nature», написанный А. Д. Сахаровым. Он упоминает об их совместной работе над атомным и водородным оружием, рассказывает об их жизни в другом городе. Однако, говоря о научных результатах ЯБ и тамошних дискуссиях, АД пишет почти исключительно об астрофизике и частицах, хотя, очевидно, не для таких дискуссий их там собрали. Второго некролога в «Nature» не будет, так что для многих ЯБ предстанет только астрофизиком и «частичником» или, в лучшем случае, люди будут спрашивать, как спросил меня в 1966 г. в Кембридже М. Гелл-Манн, {215} один из лидеров тогдашней физики: «Правда ли, что Зельдович что-то там сделал по пламенам и взрывам?» Не сомневаюсь, однако, что в благодарной памяти человечества ЯБ навсегда останется прежде всего как крупнейший физик-классик XX столетия.
Еще один аргумент. Мне довелось участвовать в представлении ЯБ на наиболее престижную международную премию. Сейчас об этом сказать можно, такая премия не присуждается умершим. Там требуется формула представления. После долгого обсуждения она прозвучала так: за определяющий вклад в новую область физики — физику самоорганизующихся систем в активных средах. Дело щепетильное. Как полагается, очень осторожно, обиняком, было выяснено мнение самого ЯБ: «Как Вы считаете, что было самым значительным Вашим вкладом в науку? Правильно ли думать так?..» — «Зачем Вам это?» — «Так просто. Для интеркалибрации». ЯБ после некоторого размышления согласился с предложенной формулировкой. Тогда я спросил прямо: «А как же астрофизика, космология, «блины», частицы и т.д.?» Ответ был очень определенным: эти результаты — более преходящие, и в них он разделяет успех с другими. В какой-то мере эта точка зрения отражена в ставшем знаменитым автобиографическом послесловии к собранию его трудов1.
 |
Медаль им. Н. П. Мансона, врученная Я. Б. Зельдовичу на Международном съезде по горению (Польша, 1977 г.). |
И действительно: пламя, воспламенение, детонация — явления очень важные сами по себе. Объект интереса всех людей, начиная с доисторических времен, — достаточно вспомнить легенду о Прометее. Создание теории этих процессов — дело непреходящей важности. Однако от волшебного прикосновения ЯБ к таким проблемам произошло нечто гораздо большее. Теоретические подходы к этим явлениям, развитые в трудах ЯБ (в ряде случаев — с коллегами и учениками) в 30-е–40-е годы и продолжавшиеся им до конца, стали важным элементом сегодняшнего теоретического естествознания в целом. Для сравнения уместно вспомнить: в свое время Релей в Англии, Л. И. Мандельштам и его школа в нашей стране создали общее учение о колебаниях. Возникла даже полезная концепция «колебательной взаимопомощи», когда трудности, возникающие в исследовании колебаний одной физической природы понимались и преодолевались анализом более понятных, по тем или иным причинам, колебаний другой природы. То же произошло с физикой самоорганизующихся
| {216} |
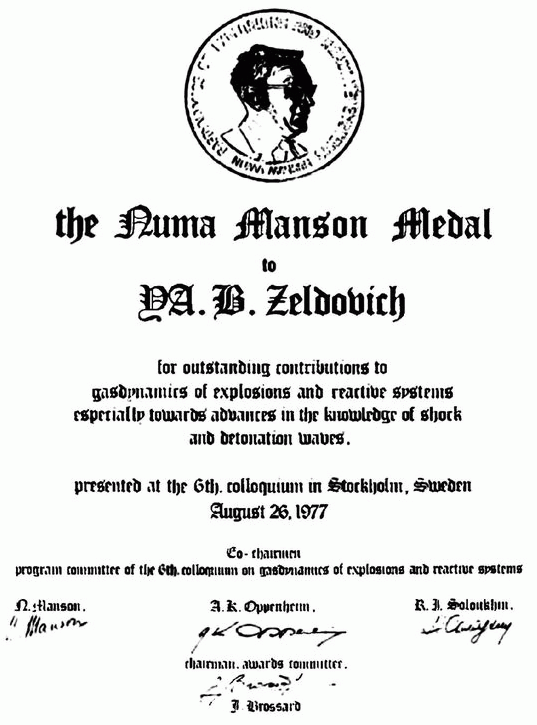 |
Диплом к медали им. Н. П. Мансона |
нелинейных волн, произошло при определяющем участии ЯБ. Сегодня эти концепции успешно работают в десятках областей, в том числе весьма далеких от породившей их теории горения.
Автор этих строк по профессии механик, занимался в основном гидродинамикой и прочностью. Однако в течение многих лет жизни (более тридцати) я имел привилегию постоянного научного и личного общения с ЯБ. Наши совместные работы были связаны, прежде всего, с промежуточными асимптотиками, начиная с формулировки основных представлений. Мы вместе занимались автомодельными решениями второго рода. В них показатели степени автомодельных переменных находятся решением задачи на собственные значения, а не из анализа размерностей. В конце жизни ЯБ увидел, как {217} развивавшиеся при его определяющем участии одновременно, но, исходя из разных соображений, разными людьми и в разных местах идеи масштабной инвариантности (скейлинг), фрактальности и неполной автомодельности (автомодельности второго рода) слились в единую систему представлений. Эти представления оказались фундаментальными для широкого и непрерывно расширяющегося круга задач точного естествознания. ЯБ это постоянно интересовало до самого конца. В печати и устно он высказывал много замечательных мыслей, определивших развитие этого круга идей. Вместе с ЯБ мы по-новому подошли к устойчивости автоволновых процессов, обнаружив, что их устойчивость не нарушается, если возмущенное решение стремится со временем не к невозмущенному решению, а к решению, сдвинутому относительно невозмущенного по фазе. Это меняет определение устойчивости инвариантных, в том числе автомодельных, решений, включая в спектр нулевое собственное значение. В том же году в совершенно другой области физики математически аналогичная идея была высказана Голдстоуном. Были у нас и другие работы, связанные, в частности, с устойчивостью пламен. ЯБ придавал большое значение нашей книге «Математическая теория горения и взрыва», которую мы написали вместе с В. Б. Либровичем и Г. М. Махвиладзе.
Но не только это было предметом наших обсуждений и общих дел. ЯБ интересовало в классической физике буквально все. Узнав о новом всплеске работ по разрушению, он высказал идею о возможности взаимного упрочения трещин в каскаде дефектов. Идея особенно заиграла сейчас, когда множественное разрушение оказалось в центре внимания. Другой случай: ЯБ узнал об эффекте гашения турбулентности малыми добавками полимеров и объяснении этого эффекта наличием в потоках агрегатов, состоящих главным образом из иммобилизованных молекулами полимеров молекул растворителя. Он высказал идею возможной проверки этого объяснения, которая мгновенно сработала. И таких примеров множество.
Уместно рассказать мои впечатления о ЯБ как о личности. Он был совершенно, глубоко внутренне равнодушен к вещам (мебели и т.д.). Есть стол и стулья (на столе надпись рукой: Гуга — дура1), которые служат более или менее удобно, и ладно. Просто не помню у них серьезных ремонтов. Деньги интересовали ЯБ лишь постольку, поскольку была большая семья, много детей, потом — внуков. Каждому надо было как-то и в чем-то помочь. Одевался он, как и все члены семьи, более чем скромно.
Помню такой случай. Мне довелось быть в прихожей квартиры модной московской портнихи. Она любезно уступила мне одно из десяти или двадцати имевшихся у нее приглашений на открытие международной книжной ярмарки на ВДНХ. Уступила после того, как я убедил ее, что по этим приглашениям «книжного дефицита» давать не будут. Для сравнения: отдел научно-технической литературы Агентства по авторским правам имел одно приглашение для всех авторов. Мне было сказано, что оно достанется
| {218} |
 |
Е. М. Лифшицу — решение совершенно справедливое. Было обещано: они будут интриговать» и если достанут второе — оно мне. Не достали. Дожидаясь, пока вынесут приглашение, я поймал себя на мысли, что одна люстра в этой прихожей стоит дороже, чем все движимое имущество ЯБ. Кроме, пожалуй, гипсового слепка бюста ЯБ, так и не отлитого в бронзе. Автор этого бюста — сейчас выдающийся американский скульптор. Он родился в Польше, но долгое время жил в Москве. По действовавшему в то время соглашению выехал в Польшу, но задержался там (это было в конце 60-х) недолго: время не благоприятствовало таким людям, как он. К одному из дней рождения мы, несколько друзей ЯБ, заказали этому скульптору бюст ЯБ.
Бюст получился примечательным. ЯБ представлен обнаженным, волосатая грудь пробрита в трех местах и там укреплены звезды Героя. В то время тройное геройство ЯБ не афишировалось, и ему, как и, по его словам, немногим другим трижды Героям (И. В. Курчатову, Ю. Б. Харитону) не рекомендовалось появляться с тремя звездами публично. (Единственный трижды {219} Герой Социалистического Труда, о котором говорилось открыто, был, хочется думать, заслуженно, председатель колхоза из Узбекистана Хамракул Турсункулов.) Появляясь изредка на людях с тремя звездами (об одном таком случае — ниже) и выслушивая за это упреки тех, кому ведать надлежало, ЯБ оправдывался тем, что он похож на Хамракула.
В праздничный день бюст, покрытый простыней, был установлен на домашней лестнице-стремянке. Витя Гольданский наговорил на магнитофон голосом Левитана «указ» Президиума Верховного Совета об установлении бюста академика Я. Б. Зельдовича на квартире награжденного по такому-то адресу. На мою долю выпала честь сдернуть покрывало: бюст чуть не упал. Я вспомнил все это, снявшись специально с бюстом ЯБ, установленным по настоящему Указу в Минске, где ЯБ родился. ЯБ понравилась эта фотография, и мы послали ее многим зарубежным коллегам. (Не помню, чтобы мы на самом деле фотографировались вместе.)
Вообще, дарить ЯБ подарки ко дню рождения было очень непросто: подарок должен был быть нужным, иначе он увозился на дачу или передаривался. Помню, я подарил ему доску (на которой пишут мелом): те, кто бывал у ЯБ, помнят ее, она висит слева от входа в большой комнате. Вместе А. С. Компанейцем мы подарили ЯБ вращающееся кресло. Надпись (придуманная А. С. Компанейцем) восхитила ЯБ: «Гений — это усидчивость плюс поворотливость».
ЯБ был неистощим на выдумки, когда дарил подарки сам. Однажды ко дню рождения подарил мне рюмки и компас. Как объединить такое? Надпись гласила: «Пей, но ходи прямо!» Его надписи на книгах, которые им были мне подарены, очень серьезны и глубоки. Они поддерживают меня в трудную минуту; эти книги будут сохраняться в нашей семье, а потом — в семьях моих детей как самые дорогие реликвии.
ЯБ обладал мужеством, которое проявлялось в действительно трудных ситуациях. Несколько таких ситуаций были связаны со мной; расскажу об одной из них.
Мой отец, участник-доброволец гражданской и Отечественной войн, давнишний член партии, был известным в Москве врачом-эндокринологом, по отзывам многих — замечательным. После XX съезда он высказал мнение, что Хрущев не имел морального права говорить о Сталине, не упоминая о себе, так как у него самого руки по локоть в крови невинных жертв. Отец знал, что говорил, — в 30-е годы он работал в Лечсанупре Кремля. Высказал он это троим своим друзьям с первого класса витебской гимназии, помню их фамилии: Шур, Немец и Брауде.
Преодолев, как тогда говорилось, ложное чувство товарищества, они заявили куда следует (или, скорее куда не следует). К этому добавилось (а может быть, этому предшествовало, мне не удалось установить) заявление двух пациентов отца, вытащенных им с того света, — Довгалевской {220} (племянницы бывшего советского посла в Париже) и старика Болотина: он-де рассказывал им политические анекдоты1.
Короче, 8 апреля 1957 г. отца арестовали. ЯБ узнал об аресте не от меня и приехал ко мне немедленно. На лацкане три звезды. Обругал меня за молчание2) и повелел собираться.
Куда мы едем? В Московский городской суд: там скоро будет слушаться дело. Приезжаем. Охрана ЯБ присоединяется к бабушке с наганом, стоявшей у входа. Поднимаемся в приемную: помню расширенные донельзя глаза секретарши, завороженно глядящей на звезды. Проходит к председателю: «Прошу допустить меня в суд!» (суд должен был быть закрытым). «Зачем Вам?» — «Буду на Вас жаловаться, если засудите!» На суд председатель не пустил, но визит свое дело сделал.
Первый суд происходил 22 июня 1957 г. Вершителям правосудия, право же, можно было посочувствовать: они просто не знали, как судить. Дело в том, что в тот день шел Пленум ЦК, обсуждавший решение Президиума ЦК о снятии Хрущева. Как известно, Хрущева тогда поддержал Г. К. Жуков, и он в 1957 г. снят не был. Но это стало известно вечером, а как быть судьям? Все же судьи свое дело знали: они отправили отца на медицинскую экспертизу. ЯБ пришел в суд, опять при звездах, и некоторое время сидел в коридоре, вместе с родственниками. Отец видел ЯБ (когда шел на суд под конвоем с закинутыми назад руками), и это его морально поддержало.
Дальше делом занялся А. Д. Сахаров — опять по собственной инициативе. Он написал письмо Хрущеву с просьбой освободить отца. Хрущев письмо получил и сказал Суслову, что он тут необъективен и чтобы Михаил Андреевич решил это дело по совести. Однажды в январе 1958 г. АД был вызван из другого города, где работал, в Москву для разговора с Сусловым. Разговор был трудным для АД (помню комнату депутатов Казанского вокзала, куда АД меня позвал ночью перед отходом обратного поезда, чтобы рассказать результаты), но весной отец из лагеря вышел.
Мне несколько раз приходилось бывать с ЯБ в поездках. Из них особенно вспоминаю первую — в альпинистский лагерь Белалакая на Кавказе ранней весной 1960 г. Мы приехали туда вчетвером: ЯБ, его первая жена Варвара Павловна Константинова, скоропостижно скончавшаяся летом 1976 г., его двоюродный брат Александр Григорьевич Зельдович, физик, специалист по {221} низким температурам, тоже, увы, ушедший из жизни, и я. Поселились в одной комнате.
Варвара Павловна была человеческим чудом. Ее фотография поныне висит на стене в моем кабинете, память о ней согревает душу. Сам ЯБ говорил: «Варя — человек без недостатков». Она была старше ЯБ и уже тогда нездорова. Тем не менее центром нашего общества была именно Варвара Павловна, и все мы радостно подчинились ее предводительству. Нас влили в группу неумелых лыжников, и прекрасный инструктор (к сожалению, не помню его имени) сочетал в своих действиях уважение к ЯБ и его спутникам с заботой о том, как бы нам не повредиться при лыжных спусках. В лагере было самообслуживание, все по очереди дежурили, помогая на кухне и подавая в столовой еду. чай и компот, которого давали сразу по две чашки. В день дежурства ЯБ и его команды все, кто имел фотоаппараты, явились с ними в столовую — уникальная возможность снять ЯБ в роли официанта. Этому не суждено было осуществиться: мы с А. Г. Зельдовичем взяли на себя удвоенную нагрузку в столовой, а ЯБ и Варвара Павловна сосредоточили свои усилия на кухне. Помню доносившиеся из кухни громкий голос ЯБ, предлагавшего усовершенствования, и увещевания ВП.
Все было прекрасно, по вечерам были даже семинары с неизвестно откуда взявшейся маленькой доской, и вдруг — все оборвалось: пришло известие о внезапной смерти И. В. Курчатова. Выехать сразу же потрясенному и опечаленному ЯБ не удалось из-за лавин. Помню, мы долго сидели на почте, дожидаясь соединения с Москвой. Потом я рассказывал ВП свои впечатления о нашей беседе с телеграфисткой и каких-то ее мыслях. ЯБ слушает и подтверждает. ВП: «Да бросьте! Я ее видела, — в лагере все ели вместе, — хорошенькая бойкая девчонка. Если бы не это, черта с два вы бы вообще стали ее слушать, а тем более — вспоминать тот вздор, который она несла».
В день перед отъездом ВП сказала, проснувшись: «О, Боже, сейчас нас будут пытать лыжами». У ЯБ были две ковбойские рубахи, одна зеленая, другая — красная. Они назывались «рубаха первого рода» и «рубаха второго рода» и надевались на лыжные тренировки поочередно. ВП и ЯБ заспорили, которой сегодня очередь. Занятий пропускать не разрешалось никому и не разрешалось пропускать спуски с горы. Однажды я пропустил свой спуск, спрятавшись за деревом; этот случай долго служил предметом веселого оживления в доме Зельдовичей.
Последняя наша совместная поездка была летом 1983 г. на Симпозиум по синергетике в Пущино. Мы снова жили в одном номере, на этот раз гораздо большем. На симпозиуме было немало интересных людей из-за границы, среди них — И. Р. Пригожин и Хакен; руководил дискуссией Б. Б. Кадомцев. По поводу синергетики ЯБ чертыхался: никогда не думал, что всю жизнь говорил прозой. Мне, наоборот, казалось, что такое объединение вполне полезно — междисциплинарный единый подход, выработка общего стиля мышления. Впоследствии, хотя ЯБ нередко и пользовался термином «синергетика», но в этом всегда сквозила доля иронии, по крайней мере, в разговорах со мной. {222}
Атмосферу в доме Зельдовичей определяло удивительное сочетание ЯБ и Варвары Павловны. До 1964 г. ЯБ появлялся в Москве наездами, вначале при нем даже были «секретари», влиявшие на распорядок. Секретари были разные, помню одного — элегантного молчаливого молодого человека. У него были очень большие зубы» и всякий раз, видя его, я вспоминал Красную Шапочку. Никогда, ни в то время, ни после наши разговоры не касались занятий ЯБ в другом городе.
ЯБ тогда назначал встречи на раннее время, обычно в половине седьмого, в семь утра; дальнейшее расписание было заполнено по минутам. Осень 1957 г., я докладываю в большой комнате. Телефонный звонок, ЯБ с некоторым любопытством и удивлением: «Вас!». Так я узнал о рождении моей старшей дочери Нади.
В другой раз, прощаясь у выхода по завершении дел, ЯБ сказал мне с улыбкой: «Чуть не забыл. Послезавтра Ваша первая лекция на Физтехе. Курс называется «Математическая теория горения». Детали — у Франка» (Д. А. Франк-Каменецкий, в то время — декан факультета МФТИ). «Как? Что?» — я рванулся назад к ЯБ. «Секретарь», любезно улыбаясь, назад не пустил (это явно было согласовано, «секретари» такой власти обычно не имели). Среди слушателей этого первого курса были А. Г. Истратов и ныне уже ушедший из жизни В. Б. Либрович, в дальнейшем наши с ЯБ общие ученики. Впоследствии они сделали замечательные работы по теории горения, в частности, разрешили принципиальный парадокс, связанный с неустойчивостью пламен по Ландау.
В 1964 г. ЯБ возвратился в Москву, основным местом его работы стал Институт прикладной математики АН СССР. По-моему, это было ошибкой, — надо было выждать немного и договориться все же с Н. Н. Семеновым о возвращении в Институт химической физики. ЯБ смущало явное смещение его интересов в сторону астрофизики. Но Институт химической физики был для ЯБ родным домом, и там признали бы его любые занятия. А в ИПМ ЯБ был в целом чужим, хотя, безусловно, там было несколько человек» ему симпатичных (среди них К. И. Бабенко, О. В. Локуциевский, К. В. Брушлинский, Д. Е. Охоцимский, Т. М. Энеев). Он это чувствовал. Поэтому без малейших колебаний принял предложение П. Л. Капицы перейти в Институт физических проблем на должность заведующего теоретическим отделом после смерти И. М. Лифшица.
Однажды, придя к ЯБ ранним утром, я увидел кого-то спящим на диване в большой комнате; мы прошли через большую комнату на цыпочках и занимались в комнате ЯБ. «Кто это?», — спросил я у Оли. — «Дядя Боря». Так я впервые увидел Б. П. Константинова. Его памяти ЯБ посвятил статью, вошедшую во второй том Собрания трудов. БП, директор ленинградского Физтеха, в надежде сделать больше для Физтеха и Академии в целом, не отказался от должности вице-президента АН СССР и переезда в Москву. Его влияние при этом упало, а не возросло. (Я помню разговор в доме Зельдовичей: кто имеет большее влияние — директор единственного в стране {223} Уралмаша или заместитель министра соответствующего машиностроения?) Дальше — тяжелая зависимость, даже в мелочах, по существу, бесправие и бессилие внешне могущественного человека. Это отразилось на сердце, с детства больном, как у всех Константиновых. Как потом и М. Д. Миллионщиков, он рано сошел в могилу, и немало общего было в их внешне блестящих, а по существу, трагических судьбах. Максимум — не всегда оптимум.
ЯБ был человеком априори доброжелательным. У него было немало друзей, несколько — близких, хотя он всегда «держал» дистанцию. Вместе с тем, он имел врагов, не противников в дискуссиях или научных взглядах — в таких случаях отношения с ЯБ не осложнялись, а именно врагов по зависти, антисемитизму и т.д. Отношение ЯБ к врагам не было ни христианским всепрощением} ни ветхозаветным «око за око, зуб за зуб», ни промежуточным. Было желание выбросить их из своей жизни, нежелание тратить на них время и силы, когда столько хорошего еще остается несделанным. С отвращением отвечал на недобросовестную критику, когда это становилось необходимым. Особенно памятен один такой ответ, на критику книги ЯБ по высшей математике для начинающих. ЯБ написал эту книгу, когда увидел, как противоестественно, по его словам, учат в старших классах математике его детей. Он хотел показать в этой книге, что на самом деле математика — естественно-научная дисциплина. ЯБ ориентировался, как он сам писал, не на упирающегося читателя, а на читателя, который сам тянется вперед, на читателя, которого не надо «подталкивать», с которым можно идти рядом и дружески беседовать. Характерно, что широко признанный американский математик и преподаватель математики Липман Берс в предисловии к своему курсу анализа назвал книгу ЯБ одной из двух, оказавших на его педагогические воззрения наибольшее влияние.
Недавно я прочел о Феллини. В итальянской газете после нового фильма критическая статья: «Феллини как художник — умер». Глупо, грубо, а главное — вопиюще несправедливо. Что делает Феллини, как он отвечает? Никак, — никого не спрашивая, делает новый фильм. Во всяком случае, не идет с жалобой в ЦК христианско-демократической партии. Но ЯБ был не в Италии (в Италию он съездил потом на несколько дней; был принят Папой, у меня хранится прекрасная фотография: святой отец держит под локтем первый том Собрания трудов; ЯБ явно взволнован); Книгу переиздавать не разрешили — был период глубокого застоя. С трудом дали ответить на критическую статью. Кто выиграл? Никто. Кто проиграл — наш школьник, который не может получить книгу ЯБ. И это ЯБ, с его славой и звездами...
Хорошо помню, как я впервые увидел ЯБ воочию. Это было весной 1952 г., я в ту пору был аспирантом А.Н. Колмогорова. К АН пришли Н. Н. Семенов и А. С. Компанеец. Они просили АН о заступничестве — предстояла публичная дискуссия с Н. С. Акуловым о цепных реакциях. Всем была хорошо памятна сессия ВАСХНИЛ 1948 г.; во многих областях {224} появились свои добровольцы-претенденты на роль Лысенко, нуждавшиеся в авторитетных в науке жертвах1).
Колмогоров был немногословен. Он сухо пообещал прийти и, если ему покажется целесообразным, выступить. Поэтому я пошел на дискуссию. Помню выступление сотрудника химического факультета В. П. Лебедева, он показывал на эпидиаскопе статью В. И. Гольданского. Все обратили внимание на номера, проставленные на страницах красным карандашом. Что это? «А это, — торжественно сказал докладчик, — я показываю, сколько раз Гольданский, любимый и ближайший ученик Н Н. Семенова (неявно подразумевалось, и зять!) цитирует Хиншельвуда». Это через четыре года сэр Сирил Хиншельвуд, впоследствии президент Лондонского королевского общества, разделит с Н. Н. Семеновым Нобелевскую премию по химии. А тогда — разгар борьбы с космополитизмом и преклонением перед иностранщиной...
На трибуне появился ЯБ. На груди звезда, тон очень серьезен. «Не вижу дискуссии двух направлений, — сказал он. — С одной стороны, действительно научное направление, блестящие теоретические изыскания, эксперименты, новое развитие теории. С другой стороны, только абстрактные рассуждения сомнительной правильности о кинетических уравнениях». Сразу после ЯБ — А. Н. Колмогоров. Надо было знать Андрея Николаевича, чтобы оценить его убийственную иронию. Он начал с того, что не согласен с предыдущим выступавшим. Напротив, он видит здесь отчетливое новое направление, причем не только в физической химии, но и в математике; предлагаемые Н. С. Акуловым решения достаточно ясных уравнений приводят к результатам, явно не укладывающимся в традиционные представления сегодняшней математики. Представители нового направления могут обратиться на кафедру математики, все же существующую на физфаке, и он надеется, он даже просто уверен, что там смогут разъяснить существующие на этот счет в обычной математике подходы, может быть, даже просто покажут, как эти уравнения решать... и т.д.
АН не учел, что его речь, будучи записанной (при записи акценты исчезают), даже при небольших по объему изъятиях может оказаться похвалой «новому направлению». Он был расстроен, узнав от меня, что так и произошло; запись его речи появилась в стенгазете физфака. Но на самой дискуссии позиция Колмогорова сомнений не вызывала, и он оказал Семенову существенную поддержку. {228}
Я хорошо запомнил день, когда мы с ЯБ последний раз долго сидели на балконе его дома: 10 июня 1987 г. Он подарил мне оттиск, поставил на нем дату, и даже, чего раньше никогда не было, указал место: «балкон д. №6». Против обыкновения, мы что-то выпили. Он и я тщательно избегали отклонения разговора от вещей, действительно важных для нас обоих. То, что он говорил, останется со мной навсегда. Потом мы много раз виделись, но как-то на бегу: у него дома, на работе. Говорили по телефону. С женой Инной Юрьевной ЯБ пришел ко мне на день рождения. Вместе выступали на похоронах В. Б. Либровича — противоестественное дело хоронить ученика. 26 ноября в Институте проблем механики А. Ю. Ишлинского был семинар. Я докладывал о микромеханике — новом направлении в механике сплошных сред. Выступали с докладами мои ученики, семинар длился целый день. ЯБ должен был быть, это само собой подразумевалось. Утром он позвонил: «Вы не обидитесь, если мы с Инной не придем?» — «Что Вы, Яков Борисович, готов повторить доклад для Вас одного, когда захотите!» Какая-то тревога закралась, но я ее отогнал. Вечером ЯБ позвонил, — спрашивал, как прошло, интересовался деталями. Еще раз позвонил... Больше я его живым не видел и не слышал.
Яков Борисович умер на лету. Он не хотел быть старым, быть в тягость, терять силу и класс постепенно. В памяти тех, кто его знал, он останется навсегда на взлете, бегущим и стремящимся к высоким и видным немногим вершинам. Я перечитываю конец его автобиографического послесловия к Собранию трудов: «В середине 80-х годов в тугой узел сплетаются самые трудные и самые принципиальные вопросы естествознания. Нет у меня желания более сильного, чем дождаться ответа и понять его». Горько читать это — не сбылось. Но, если вдуматься, — все, как он хотел. Самый короткий путь от вершины к вершине — по прямой, так говорил Заратустра. Для этого надо иметь длинные ноги, ЯБ их имел. Со взятой вершины открываются новые — этому нет конца. Он не хотел дожить до того часа, когда дальнейшее движение перестанет его интересовать. Сейчас ЯБ ушел — в вечность. Быстро исчезнут из нашей памяти маленькие слабости. Навсегда останутся его влияние, сделавшее нас другими людьми, и постоянное чувство благодарности судьбе, подарившей близость к великому человеку и дружбу с ним.
Обычно Яков Борисович звонил мне в семь утра. «Не кажется ли Вам...», — говорил он, и далее следовало что-нибудь парадоксальное. Последний такой звонок был за две недели до его смерти. Он рассказал о странном, «хаотическом» поведении решений уравнений Риккати с периодическими {226} коэффициентами1). Эта (совместная с соавтором, фамилию которого я забыл) работа осталась ненаписанной, и я скажу о ней немного подробнее.
Уравнение Риккати — это дифференциальное уравнение, правая часть которого — многочлен второй степени относительно зависимой переменной. Решениям этого уравнения свойственно убегать на бесконечность за конечное время. При традиционном подходе в рамках обычной теории дифференциальных уравнений никакого хаоса тут быть не может. Хаос, о котором говорил Яков Борисович, возникает, если свернуть ось зависимой переменной в окружность» добавив одну бесконечно удаленную точку.
Периодичность коэффициентов позволяет свернуть в окружность и ось времени (ось независимой переменной). Получается динамическая система на замкнутом многообразии — на поверхности тора. Свойства таких систем изучал еще А. Пуанкаре, который обнаружил, что они сильно зависят от того, иррационально или рационально «число вращения» — средний по времени наклон траекторий. Если число вращения рационально («резонанс»), то некоторые (а для уравнений Риккати обычно все) траектории замкнуты. В иррациональном же («общем») случае траектория плотно покрывает тор и возвращается бесконечно много раз в любую окрестность начальной точки, никогда не повторяясь точно. Причем временное среднее любой функции вдоль траектории совпадает с ее средним на поверхности тора («эргодичность», т.е. первая ступень «хаоса»).
Речь шла, таким образом, о переоткрытии важного раздела современной математической теории динамических систем. Применения теории Пуанкаре к уравнению Риккати должны бы были входить в учебники, но, насколько я понимаю, никто из математиков их не заметил. Психологическая трудность здесь — изменение топологии фазового пространства (переход от аффинной прямой к проективной) — сродни описанию решения Шварцшильда при помощи топологии черной дыры. Преодоление подобных трудностей — деятельность, по сути дела, математическая, но большинство математиков медленнее преодолевает стереотипы мышления в рамках точно поставленной задачи и неохотно идет на кардинальные изменения точки зрения.
Яков Борисович, напротив, всегда был готов к изменению точки зрения. Помнится, когда он первый раз позвал меня к себе на Воробьевское шоссе в начале 70-х и я рассказывал ему о недавних тогда достижениях теории динамических систем (непредсказуемость, хаотичность, турбулентность, странные аттракторы, инвариантные торы и т.д.), Яков Борисович некоторое время пытался упорствовать — держался за старые догмы. К счастью, я не поддался ни на запугивание авторитарным тоном, ни на ссылки на Ландау, и (робко) сказал: «Но, Яков Борисович, на это можно взглянуть с другой точки зрения».
«Да?» — ответил Яков Борисович и немедленно сделал стойку на голове. Несколько минут он смотрел на доску, исписанную мелом, снизу вверх» потом перевернулся и стал обсуждать, на каких физических задачах следует немедленно пробовать новые математические теории. {227}
Будучи прежде всего физиком1), Яков Борисович имел о математике свое собственное представление, резко отличное и от представления большинства математиков его поколения, воспитанных на аксиоматико-дедуктивной теоретико-множественной концепции, восходящей к Гильберту и Бурбаки, и от представления большинства физиков о том, что полезна в математике только аналитическая техника, своего рода продолжение арифметического счетного мастерства. Точка зрения Якова Борисовича ближе к позиции более молодого поколения математиков и физиков-теоретиков (Л. Д. Фаддеев, А.М. Поляков, С. П. Новиков), для которых качественная, геометрическая, концептуальная математика сливается с теоретической физикой. Математика понятий и идей, а вовсе не одних только вычислений, была его стихией.
Но и в техническом отношении некоторые достижения Якова Борисовича предвосхитили математические исследования, иногда на десятки лет. Особенно это относится к теории особенностей, бифуркаций и катастроф — той области математики, которая описывает возникновение дискретных структур и всевозможных скачков и разрывов из плавных, гладких изменений.
Так, в работах ЯБ 1941 г. о реакциях в струе фактически построена теория бифуркаций кривой равновесий в произведении фазового пространства на ось параметра — теория рождения и умирания новых «островков» этой кривой. В современной математической теории уравнений с малым параметром эти явления изучены лишь в конце 70-х годов (в работах французских математиков по так называемому «нестандартному анализу» и «теории уток»). Когда эти работы появились, ЯБ сразу узнал в них небольшое обобщение своей старой теории. Замечательным свойством этой теории было то, что, хотя исследовалась конкретная система, заданная явными формулами, качественный характер результатов не зависел от деталей этих формул и оставался тем же для широкого класса систем «общего положения». Строгое математическое доказательство того, что системы, ведущие себя иначе, — исключение, получено математиками лишь недавно. Но сам характер явления был открыт ЯБ пятьдесят лет назад, и универсальность его была ему, конечно, ясна.
Такая же универсальность и независимость от конкретных деталей характерна для исследований ЯБ по объяснению крупномасштабной структуры Вселенной малыми и плавными неоднородностями первоначального поля скоростей пылевидной среды.
Возникновение особенностей на каустиках впервые обнаружили в этой задаче Е.М. Лифшиц, И. М. Халатников и В. В. Судаков. Построенная Яковом Борисовичем «теория блинов», в сущности, эквивалентна теории простейших, так называемых лагранжевых, особенностей в симплектической геометрии — особенностей проекций лагранжевых многообразий (на которых обращается в нуль инвариант Пуанкаре) из фазового пространства на конфигурационное. {228}
Эта же теория дает описание типичных особенностей каустик и их перестроек при изменении параметра в оптике. Ее математические трудности так велики, что многие вопросы остаются до сих пор нерешенными, а достигнутые (уже в последние годы) результаты были получены лишь вследствие осмысления ряда экспериментов лазерной оптики и компьютерного моделирования. Тем больше заслуга ЯБ, сразу почувствовавшего важность своей «гидродинамики Вселенной» как общематематической теории.
Переход от локально-аналитического исследования к анализу глобально топологических и статистически-перколяционных свойств возникающих структур в работах ЯБ также не может не вызвать восхищения математиков. В этих работах, скорее, физика становится служанкой математики, чем наоборот.
Подобно всем математикам, ЯБ любил выделить в физической проблеме точно сформулированный математический вопрос. Он верил, что стоит точно сформулировать задачу математически — и математики, «которые умеют, как мухи, ходить по потолку», найдут решение! Особенное возмущение вызывала у него неспособность современной математики решить вопросы о вмороженном магнитном поле минимальной энергии и о быстром магнитном динамо.
Я помню обсуждение первого вопроса во время своего доклада об асимптотическом инварианте Хопфа1 на семинаре ЯБ в ИПМ (вероятно, в 1973 г.): ЯБ и А. Д. Сахаров наперебой, размахивая руками, объясняли, как зацепленность силовых линий не позволяет уменьшить до нуля энергию вмороженного поля.
Математически вопрос ЯБ ставится так: среди всех полей дивергенции нуль на трехмерном многообразии, получаемых из данного сохраняющими элементы объема диффеоморфизмами многообразия, найти поле с минимальным интегралом квадрата (это минимизирующее поле может иметь особенности).
Эта задача, не решенная и сегодня, моделирует вопрос об эволюции магнитного поля звезды в пренебрежении магнитной вязкостью (омической диссипацией или перезамыканием силовых линий). Предполагается, что пока энергия не минимальна, поле будет порождать силу Лоренца, которая будет двигатьереду, вследствие чего избыток энергии будет диссипироваться гидродинамической вязкостью, пока среда не остановится, а поле не минимизируется.
ЯБ и АД утверждали, что, например, энергию аксиально симметричного поля в шаре (зацепление отсутствует) можно сделать сколь угодно малой посредством подходящего диффеоморфизма (это, кажется, и сегодня аккуратно не доказано). Вопрос о топологии минимизирующего поля в общем случае — также нерешенная, насколько я знаю, задача (даже в простейшей двумерной модели, где требуется минимизировать интеграл квадрата градиента гладкой функции в круге, имеющей более одного максимума и равной нулю на границе, посредством сохраняющего элементы площади преобразования круга в себя). {229}
Другая точно поставленная ЯБ задача о быстром стационарном кинематическом динамо формулируется так: существует ли бездивергентное» стационарное по времени и периодическое по пространству векторное поле скоростей v, для которого уравнение индукции
|
∂B ∂t |
+ {υ, B} = εΔB, divB = 0, |
где {υ, B} = rot(υ × В) — скобка Пуассона, имеет растущее по времени, периодическое по пространству решение В = еλt В0(x, y, z) с инкрементом Reλ > 0, не стремящимся к нулю при уменьшении до нуля магнитной вязкости ε?
Растяжение магнитных линий потоком с экспоненциальным растяжением частиц приводит к экспоненциальному росту поля (ЯБ наглядно объяснял этот эффект так: окрестность замкнутой магнитной линии растягивается вдвое и вкладывается на свое место, подобно аптечной резинке).
Но при этом растущее поле получается изрезанным, и вязкий член может загасить начавшийся рост. Вопрос о том, какой из этих двух эффектов — растяжение частиц (вызывающее хаотичность поля скоростей) или малая диффузия — победит, в конечном итоге остается открытым.
Численные эксперименты с «ABC-полем» Бельтрами,
υ = (Acos y + Bsin z) |
∂ ∂x |
+ (циклические перестановки), |
указывают, например, при А = В = С = 1, на динамо-эффект (Reλ > 0) при магнитном числе Рейнольдса 1/ε в интервалах от 10 до 20 и от 30 до 100 (Фриш, Галловей). Для чисел Рейнольдса от 50 до 100 инкремент мало меняется и близок к (эмпирическому) показателю растяжения частиц потоком. Почему-то ЯБ склонялся к гипотезе, что при дальнейшем увеличении числа Рейнольдса (до 400?) динамо-эффект прекратится (мода начнет затухать), чтобы, быть может, в дальнейшем снова возникать и исчезать.
Теория этих явлений не разработана, а численный эксперимент требует вычисления собственных чисел матриц, порядок которых много больше миллиона, и пока кажется практически неосуществимым.
ЯБ считал здесь надежно установленным существование периодического по времени быстрого кинематического магнитного динамо (υ — периодическое по времени и по пространству бездивергентное поле скоростей, В — также периодическое по пространству). Насколько я знаю, эта теорема ЯБ современной математикой еще не переварена.
В последнее десятилетие жизни ЯБ я имел счастье довольно много с ним работать. Чаще всего мне предоставлялась роль слушателя или читателя (обычный размер писем ЯБ — восемь страниц, по письму в неделю).
«Вы можете выбросить это письмо, не читая. Дело в том, что писание Вам для меня стало психотерапевтическим актом, способом проверить себя, уяснить что-то до конца. Я пишу — и вижу Ваш скептический взгляд («глаза майора Пронина»), и рука не поворачивается написать сомнительное... Много ли Вам пишут психи? Мне — очень часто. {230}
Итак, то, что мы знаем относительно особенностей, это верно, но это — локально. Между тем есть некоторые глобальные свойства системы, которые...»
«Кажется, Дубровский писал Маше Троекуровой: «Сладкая привычка обращаться к Вам ежедневно, не ожидая ответа на письмо, стала для меня законом» (в период, когда они общались через дупло).
Итак, насколько я знаю, заметка...»
Одним из последних совместных наших мероприятий было комментирование «трудов» ЯБ. «Пишу, — позвонил мне ЯБ — некрологическое сочинение. Грустно, конечно, но нужно, по-моему. Как сказал О. Уайльд, «у каждого есть ученики, но биографию непременно пишет Иуда». Пожалуйста, напишите о математике».
Перечитав тогда «Высшую математику для начинающих», я увидел, как много из того, что математики моего поколения (с трудом и преодолевая огромное сопротивление) пытаются внести в выхолощенное и омертвевшее преподавание нашей науки, уже содержалось в первом же издании учебника ЯБ.
Книга начиналась с эпатирующего определения производной как отношения приращений «в предположении, что они достаточно малы». Это кощунственное с точки зрения ортодоксальной математики определение «физически», конечно, совершенно оправдано, ибо приращения физической величины меньше, чем, скажем, 10–100, являются чистейшей фикцией — структура пространства и времени в таких масштабах может оказаться весьма далекой от математического континуума.
Но это простое соображение уничтожает столь значительную часть современных математических исследований, что упоминать о нем даже здесь опасно. Тогдашние цензоры математических книг, тополог Л. С. Понтрягин и механик Л. И. Седов, обрушили на ЯБ поток обвинений, которые ЯБ (с его несколько мальчишеским честолюбием) переживал более болезненно, чем они того заслуживали. Я думаю, что борьба с этими, непонятно почему столь могущественными цензорами и со сплоченной группой их малокомпетентных союзников за переиздание очевидно необходимой книги, борьба, которую ЯБ вел, как всегда, с полным напряжением сил и перипетии которой он переживал очень эмоционально, сократила ему жизнь.
Закончилась эта борьба полной победой ЯБ. Л. С. Понтрягин в своем изложении анализа для школьников (1980) пишет: «Многие физики считают, что так называемое строгое определение производных и интегралов не нужно для хорошего понимания дифференциального и интегрального исчисления. Я разделяю их точку зрения».
Возвращение преподавания математики от схоластики формально-языковых вычислительных упражнений (будь то ∂k/∂nk — язык Лейбница, ε-δ — язык теории множеств, Ext-Tor — язык гомологической алгебры или IF-GOTO — язык программирования) к содержательной математике идей и понятий Ньютона, Римана и Пуанкаре — шаг абсолютно необходимый. ЯБ был первым, кто нашел мужество открыто об этом сказать и вовремя это осуществить.
Время ЯБ было расписано по минутам. Плутарх пишет, что Фемистокл назначал всем своим клиентам одно и то же время, чтобы каждый из них, увидев остальных и ожидая своей очереди, проникался ощущением {231} значительности патрона. Яков Борисович, напротив, назначал каждому свое время, но зато не мог затянуть разговор ни на одну лишнюю минуту. Привыкши к унижающим человеческое достоинство манерам, обычным среди математиков, особенно по отношению к младшим1, я был приятно удивлен корректностью и своеобразной деликатностью ЯБ, явно противоречившей его естественному буйному темпераменту. «Ты, Зин, на грубость нарываешься», — было у него выражением крайнего гнева. ЯБ, хоть и называл себя учеником Ландау, следовал ему не во всем.
Готовя комментарии к трудам ЯБ, я заглянул в «Science Citation Index» и нашел, помнится, около семи тысяч ссылок на его работы в год (второе, кажется, место после Ландау). Если учесть, что «Index» приписывает все совместные работы первому по алфавиту автору и что латинская транскрипция фамилии ЯБ начинается с Z, то истинное число ссылок значительно вырастет. Не знаю, сколько ссылок на него сейчас, но ясно, что влияние ЯБ и на физику, и на математику остается совершенно исключительным.
Первое мое знакомство с Я. Б. Зельдовичем было мимолетным и, хотя могло полностью изменить мою судьбу, сейчас почти выветрилось из памяти. В 1947 г., когда я работал на кафедре высшей математики Всесоюзной военно-инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, я был рекомендован (по-моему, И. Г. Петровским — моим тогдашним научным шефом) ЯБ в качестве возможного сотрудника. Встреча с ЯБ была очень короткой; насколько помню, он сказал только, что мне придется заниматься приложениями математики, причем за пределами Москвы. Результатом этой беседы было то, что в конце 1947 г., когда я уже работал в Риге во вновь организованном Высшем военном училище, меня, инженера-капитана, вдруг вызвал главком ВВС авиации К. А. Вершинин; помню ночной переполох по этому поводу. Однако Вершинин коротко расспросил; меня об обстановке в училище и велел ехать обратно. Позже мне кто-то сказал, что из училища была послана большая телеграмма с просьбой оставить меня там, и главком из двух кандидатур, запрошенных ЯБ, утвердил только одну: это был Е. И. Забабахин, будущий академик, с которым я учился в ВВИА на одном отделении.
Прошло более десяти лет. Постоянное занятие как «чистой» математикой, так и ее приложениями, преподавание различных разделов математики как математикам, так и прикладникам, постепенно приводили меня к мысли об относительности понятия строгости, о законности одновременного сосуществования различных уровней строгости, со всеми вытекающими отсюда {232} последствиями1). Я задался целью написать большой курс математики для инженеров на свойственном им уровне строгости, по возможности освобождаясь, без ущерба для основных идей, от неработающего материала и развивая прикладное математическое мышление. Почти все мои друзья-математики не разделяли этой идеи, некоторые даже резко возражали, но в начале 1959 г. И. Г. Петровский, не высказывая своей точки зрения на этот вопрос, сообщил мне, что ЯБ, исходя из аналогичных соображений, написал вводный курс высшей математики на физическом уровне строгости. Петровский сказал и ЯБ о моем существовании.
Имя ЯБ в моих глазах всегда было окружено неким ореолом. Все же я написал ему из Харькова, где тогда жил, о моих взглядах, о начатом курсе и о возможности сотрудничества. Вскоре я получил ответ, написанный ЯБ 2.02.592); приведу выдержки из него: «Глубокоуважаемый т. Мышкис!.. Я действительно написал некий курс высшей математики. Надо сказать, что в процессе писания он получился гораздо больше, чем был задуман. (Следует краткое описание содержания, включая часть VIII «Математические дополнения», которая в этот курс не вошла. — А. М.). Сейчас это все мной написано, ч. I—III уже проредактированы, остальные напечатаны по первому разу. Это — математика + главы физики, как их надо излагать, если известна математика. Сперва предполагалось это все для школы. Но сейчас объем (30–40 листов) вышел за все рамки... Я был бы очень рад какой-то кооперации и могу только пожалеть, что не получил Ваше предложение раньше... Априори, несмотря на сходные установки, я думаю, что различие наших биографий — Вы математик, а я физик — неизбежно приведет к такому различию книги Вашей и моей, которое оправдает раздельное их существование... Более всего мне бы хотелось радикально переработать мою — только написав ее, я понял, как надо было. Но по балансу времени это для меня самого невозможно. Приезжайте, мне бы очень хотелось, чтобы Вы почитали и покритиковали написанное мною.» (Подпись, домашние телефон и адрес. — A.M.)
Так начались мои многолетние контакты с ЯБ, которые почти полностью определялись деловой ситуацией и потому то чрезвычайно усиливались, то пропадали. Он был одним из самых ярких людей (если не самым ярким), которых я когда-либо знал. Постоянное ощущение этого всегда несколько сковывало меня в отношениях с ЯБ, мешало задавать интересующие меня, но не относящиеся к нашим занятиям вопросы и т.п. Боюсь, это сказалось и на настоящих заметках.
21 и 23 мая того же года я впервые побывал у ЯБ и предварительно познакомился с рукописью его выдающейся книги «Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике» (далее — ВМН). Думаю, эта уникальная книга, несмотря на свои пять русских изданий и несколько переводов, должным образом не оценена. Некоторые читатели математического склада ума, знакомые с современным изложением математических дисциплин, сосредоточили внимание на мелких погрешностях и очевидных математических {233} нестрогостях, «не приметив слона». В основе такой критики обычно лежала распространенная наивная вера в объективное существование некой «абсолютной» строгости, которая непременно должна присутствовать в математических рассуждениях. При этом не учитывается, что всякая строгость относительна, она подчинена области и цели рассуждений: то, что не строго для математика, может быть вполне строгим для физика или инженера, особенно на начальной стадии обучения. И, самое главное, не учитывается, что читатель ВМН не только знакомится со смыслом основных математических понятий (а такое ознакомление для прикладника важнее формальных доказательств), но и учится эти понятия применять к решению реальных — именно реальных, а не подобранных задач из задачника. По-существу, ЯБ написал вводный курс математического моделирования, первый в мировой литературе. Читатель учится не только решать уравнения, но и, что еще существеннее, составлять их и извлекать выводы из решения, уточнять область применимости тех или иных утверждений; анализировать размерности и порядки величин; составлять приближенные формулы и асимптотические выражения и т. п. По всем этим поводам автор высказывает большое число соображений, делающих книгу полезной не только школьникам и студентам, но, думаю, и начинающим исследователям. Отмечу еще живой стиль изложения, имеющий характер разговора с читателем и вообще свойственный ЯБ, чуравшемуся любого занудства1).
31.07.59 ЯБ отправил мне второе письмо: «Глубокоуважаемый Анатолий Данилович!.. Сейчас у меня на руках в Москве экземпляр книги полный... В целом, конечно, заметно менять книгу сейчас мне не хочется. Я очень заинтересован в том, чтобы как-нибудь использовать то, что в книгу не вошло (комплексное [переменное], суммирование] рядов, численн[ое] J, теория вероятностей] [и т.д.]). М[ожет] б[ыть], здесь возможен контакт с Вашей книгой? Но этого у меня еще нет...»
12.10.59 ЯБ выслал мне полную рукопись ВМН, отредактированную в Физматлите, написав при этом: «Надеюсь до конца 59 г. напечатать куски, не вошедшие в книгу (теория вероятностей, численные методы и др.) и послать Вам экземпляр...». Я сразу же начал читать рукопись. Вскоре пришло еще одно письмо от ЯБ (отправлено 21.10.59): «Дорогой Анатолий Дмитриевич!... Напишите мне про общее Ваше впечатление, много ли замечаний... Следующие главы сейчас печатаются на машинке. Знаю, что надо бы написать ряд Фурье, интеграл Фурье, — и руки пока не доходят».
О моем общем впечатлении от ВМН написано выше, а частных замечаний было довольно много; впрочем, они никогда не имели целью наведение математического лоска, чуждого стилю ЯБ. В конце октября я отправил рукопись ВМН ЯБ с замечаниями и соображениями о дальнейших контактах, и 12.11.59 он написал мне: «Дорогой Анатолий Дмитриевич! (Я в ужасном {234} недоумении: Дмитриевич или Данилович? Мне очень совестно, но я прошу Вашего разъяснения.) Спасибо за Ваш отзыв и замечания. Я использую их скоро, когда буду править рукопись уже после Норкина (редактор ВМН. — A.M.) и издательства... Серьезный разговор у нас должен быть уже по следующей книге. Сейчас я могу послать Вам только ее план. В нем отмечено то, что уже написано, и отмечено, чего не хватает. За ближайшие 2–3 месяца написанное будет напечатано на машинке, и я пришлю Вам экземпляр. Вот тогда и надо будет встретиться и обдумать окончательный объем, что Вы возьмете писать и в каком разрезе. Я разбирал вопрос о собственных] ф[унк]циях ур[авне]ния с неэрмитовыми гран[ичными] условиями. Интересует ли Вас это?..» К письму приложен план, состоящий из наименований уже написанных шести глав, разбитых на параграфы, и трех «беспризорных» параграфов.
Вскоре все эти вопросы я обсуждал с ЯБ у него дома. Я, между прочим, спросил его, для кого он писал ВМН. Я полагал, что ЯБ укажет тот или иной контингент учащихся, но он уверенно сказал: «Для моего сына»; как известно, сын ЯБ — Борис — сейчас известный физик. Обсуждая с ЯБ его работу о собственных функциях, я обратил его внимание на то, что с позиций «чистой» математики утверждение, в котором коэффициенты какого-либо разложения выводятся в предположении возможности такого разложения, само по себе не может считаться ее обоснованием. Это, видимо, понравилось ЯБ, и он со свойственной ему стремительностью предложил мне переходить к нему работать, правда, добавив через некоторое время: «Впрочем, я пока не даю анкеты»...
Перепечатка материалов к продолжению ВМН задерживалась. В августе 1960 г. ЯБ прислал мне экземпляр только что вышедшей ВМН с надписью: «Глубокоуважаемому А. Д. Мышкису от автора и единомышленника. — Жду конкретн[ых] замечаний! Звоните!». Лишь 21.08.61 он отправил мне письмо: «Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич! У меня последние полгода был очень трудный период, я появлялся в Москве всего на пару дней, и это еще будет продолжаться да ноября. Рукопись Вам может дать Семендяев... Извините!..».
В середине октября 1961 г. я начал редактировать материалы, написанные ЯБ для ВМН, но которые не вошли туда и теперь должны были составить существенную часть новой книги; ее первоначальное рабочее название было «Введение в математическую физику», но постепенно оно превратилось в «Элементы прикладной математики» (далее — ЭПМ). Также я начал писать мелкие и крупные добавления. Работа потребовала большего времени, чем первоначально предполагалось (пришлось даже продлить срок подачи рукописи, указанный в договоре), и продолжалась с некоторыми перерывами до середины ноября 1963 г. и даже позже.
ЯБ активно участвовал в подготовке материалов. Он вновь и вновь перечитывал собственные и написанные мной тексты, исписывая замечаниями отдельные листки и целые тетради (в том числе общую тетрадь №43 — видимо, ЯБ писал и хранил некоторые из своих черновиков в определенном порядке). Замечания имели стремительный и темпераментный характер: «Сумбур!», «Не дать ли обобщение скалярного произведения на n-мерное {235} пространство?», «Векторное произведение в связи с вращением и трехмерием. Нотабене: [про] четность трепануться (имелся в виду закон сохранения четности. — A.M.)» и т.д. Во всех случаях, где возможно, ЯБ старался отталкиваться от физики, а не от математики и идти от частного к общему. Некоторые отрывки физического характера он быстро писал сам; естественно, я старался в максимальной степени сохранять его текст и удовлетворять его пожелания, даже когда мне казалось, что тот или иной фрагмент можно более гладко изложить по-иному. (Например именно по этой причине интегральное преобразование Фурье в книге предшествует ряду Фурье, тогда как в математических книгах всегда применяется обратный порядок.) Готовые тексты приходилось снова перепечатывать, так как при новом чтении у ЯБ обнаруживались новые замечания и добавления. Сохранившиеся черновики показывают, что такая проработка текста от начала до конца проводилась по крайней мере три раза. Обычно ЯБ читал текст и писал замечания в удобное ему время, после чего мы встречались и подробно обсуждали их; затем я по этим замечаниям и своим заметкам писал новый текст, либо редактировал текст ЯБ и т.д.; для новых встреч ЯБ сообщал мне, когда он будет в Москве. Несколько дней я провел у него дома с утра до позднего вечера, а перед окончанием всей работы, для более непосредственного контакта, ЯБ просто поселил меня в своей квартире, где я прожил с I по 4 ноября 1963 г. Мы занимались весь день, делая перерывы для еды, а также для разминки, во время которой мы на лестничном пролете — один вверху, другой внизу — по очереди кидали друг другу тяжелый мяч.
Работа сопровождалась перепиской. Так, в письме от 29.03.62 ЯБ продолжает дискуссию об условиях применимости равенства
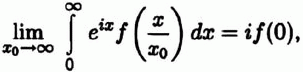
предлагая заключить пари «на отруб любой части тела» у проигравшего. Письмо вместо подписи заканчивается вполне узнаваемым изображением ЯБ с сыном, бросающих мне перчатку; для подтверждения идентификации рядом со мной изображены мышь и кошка. В письме от 3.03.63 он сообщает: «... [В] ближайшие дни выходит 2-е изд[ание] «ВМ для младенцев», — высказывает отдельные предложения по ЭПМ, типа «Занудное решение (линейного дифференциального уравнения. — А. М.) вариацией произвольной] постоянной] надо заменить ф[унк]цией Грина» и т.п. Эти предложения развиваются в письме от 31.03.63, а 6.04.63 я получил экземпляр новой ВМН с надписью: «Дорогому Анатолию Дмитриевичу, соратнику по очеловечиванию математики». Тираж книги возрос с 75000 до 150000, что свидетельствовало о ее успехе. Дальнейшие замечания ЯБ по ЭПМ (в частности, о «философии» собственных значений) содержатся в письме, полученном мной 15.06.63. Оно заканчивалось так: «Пора распутаться с книгой... Извините за неряшливость. У меня масса научных неприятностей». В последнем письме этого цикла (24.07.63) ЯБ пишет о необходимости официально отсрочить подачу рукописи с 1.09.63 до 1.01.64, что и было мной сделано. {236}
После середины ноября 1963 г., когда весь текст был уже согласован, я полагал, что рукопись готова. Но в письме от 16.12.63 я прочитал: «...Позавчера я сдал, сильно переделав [преобразование] Фурье... Хорошо бы добавить в вариационное... У нас упражнений нет?!... Все вспоминают Ваше веселое заключение на кухне. Пианино настроив...». (По поводу двух последних фраз: большая семья ЯБ жила в «удвоенной» квартире, и меня поселили в неиспользуемой кухне; уставая, я иногда выходил в столовую и пытался играть на расстроенном пианино.) Пришлось это учесть при проверке текста, перепечатанного в Физматлите. И еще раз пришлось все проверять, когда в апреле 1964 г. пришла весьма обстоятельная рецензия на рукопись ЭПМ К. А. Семендяева. Всю эту работу я проводил уже без ЯБ и окончил лишь в августе.
За время моих «бдений» у ЯБ я до какой-то степени сблизился с его семьей и с удовольствием принимал участие в живых общих беседах за обеденным столом. Однажды я попал на довольно необычное мероприятие — семейный физический семинар. (Вся семья ЯБ, кроме малолетних внуков, состояла из физиков — он сам, его жена, обе дочери и их мужья, а также сын, который, правда, был тогда студентом-старшекурсником.) Я присутствовал на занятии этого семинара с докладом БЯ; ЯБ участвовал в дискуссии самым активным образом на протяжении всего доклада. Помню, как меня поразила его способность делать правильные выводы из формул, бессмысленных с позиции «чистой» математики...
10.11.64 ЯБ написал мне: «... 1. Наша книга фактически застряла: изд[ательст]во никак не найдет редактора... М[ожет] б[ыть], у Вас есть знакомые или идеи? ... 2. Готовится 3-е издание Высш[ей] математики для начинающих]. Я воспользовался предисловием для рекламы нашей с Вами книжки. Всадил в предисловие прекрасную цитату из Куранта — о соотношении догматических аксиом, с одной стороны, и метода нашего «от общего к частному» — с другой. (Очевидная описка, надо «от частного к общему», как сказано и у Куранта. — А. М.) Это из популярного журнала «Scientific American», октябрь 1964 [г.], целиком посвященного математике. Любопытно — посмотрите. 3. В 3-е издание я всадил главу о δ-ф[унк]ции в конце, в виде приложения. Отчасти она перекрывается с нашей главой, но я думаю, это не беда. Надеюсь, что Вы не против? Написал я ее наново, с разным трепом... 4. Главу о δ[-функции] для ВМ[Н] издательство хочет направить Вам на просмотр — редактирование. Буду благодарен за все замечания — направьте их параллельно в редакцию и мне. Если Вы определенно сочтете, что вообще такое добавление в ВМ[Н] неуместно, по разным причинам, в том числе имея в виду нашу книгу — давайте это сперва обсудим вместе, не привлекая изд[ательст]во..». Конечно, я тут же написал о согласии, и 21.12.64 ЯБ ответил: «... Ваше письмо в той части, где Вы согласны на перекрытие δ-ф[унк]ции в ВМ[Н] и Элементах сняло с моей души камень. Спасибо...».
В конце апреля 1965 г. стала поступать мне из Физматлита рукопись ЭПМ для окончательной проверки, а в августе того же года — корректура. ЯБ также прислали экземпляр верстки, он и в нее внес некоторые уточнения. Лишь в январе 1966 г. ЭПМ вышла в свет, и 30.01.66 ЯБ написал мне: «...Позвольте поздравить Вас с выходом в свет нашей книги. Она уже {237} поступила в продажу. Несколько «хозяйственных» вопросов. Мы получили 10 шт[ук] авторских + мне купят 20 экземпляров] в магазине. Сколько прислать Вам? Или Вы заедете возьмете — приберечь их дома? Хватит ли нам 30? Кому Вы хотите передать в Москве? (Мои наметки: Петровский, Колмогоров, Келдыш, Тихонов, Самарский, Семендяев, Яглом Исаак, Маркушевич.) С какими надписями? Подделать Вашу подпись или подождать Вас? (Я уезжать никуда не собираюсь до мая.) Нам переведут по 50% оставшихся 50% гонорара. Но мне кажется, что Вы и работали больше, и много потратили на перепечатку и оформление, и по справедливости я Вам должен буду вернуть часть суммы. Сколько? (Этого не понадобилось. — A.M.) Акиву Яглома просили написать рецензию на нашу [книгу] + ВМ[Н], но что-то он не телится (хотя и мычит). Нет ли у Вас идей, кто еще мог бы и захотел бы? В Баку мне предлагают при минимальной нашей переделке издать и по-азербайдж[ански] и по-русски. Не возьметесь ли Вы, скажем, разделить на математику и физику? Тут дело не в моей общей жадности — вдохновение не продается, но почему не продать рукопись при минимальной затрате труда?..» (Это издание не было осуществлено. — A.M.)
Вопрос о 3-м издании ЭПМ был поднят в начале сентября 1970 г., и после довольно активной работы, включающей три дня работы непосредственно с ЯБ, я в середине октября отдал в Физматлит текст изменений и дополнений. Их было существенно больше, чем ко 2-му изданию. По совету А. Н. Тихонова была добавлена глава, посвященная применению ЭВМ. Но и в старые главы было сделано много добавлений, причем некоторые из них написал полностью ЯБ, как всегда, весьма нестандартно для математических курсов. В июле-августе следующего года стала поступать верстка, мне и ЯБ, он и в нее вносил различные усовершенствования. Книга вышла в марте 1972 г., и в конце вновь написанного предисловия было сказано: «В настоящее время авторы заканчивают работу над книгой «Среда из невзаимодействующих частиц», которая непосредственно примыкает к настоящей книге и составляет первую часть курса математической физики».
Возможное содержание этой новой книги ЯБ отчетливо представил себе уже к концу 1968 г. Он написал мне: «... В первых строках поздравляю Вас с наступающим 1969 годом. Пусть этот год увидит рукопись матфизики. Конкретно: я предлагаю Вам в качестве 1-й главы, для запевки, главу «Совокупность невзаимодействующих частиц». Такого, по-моему, ни в одном учебнике еще не было! Поначалу даже не динамика (х'' = f(х, t)), а кинематика. Пусть для отдельной частицы задано х'' = F(х, t) (потом можно [ввести] еще более частные [случаи]: F(х) или F(t)). Как описать одновременное движение большой совокупности частиц? Вводим понятие плотности n(х, t), естественно, возникают ур[авне]ние в частных производных, понятие потока частиц, дивергенция потока, стационарные решения, здесь или позже — метод Фурье. Совершенно новые концепции! Вместе с тем, мы помним, что в основе-то невзаимодействующие частицы с отдельными траекториями. И это шило вылезает из мешка, колет читателя в зад и пробуждает его: мы строим уравнение характеристик для решения ур[авне]ния в частн[ых] производн[ых] — [и] эти мистические (в обычных курсах) характеристики оказываются просто траекториями!! Ничто не забыто, не пропало. {238} Формальные выверты: n(х, 0) = δ(x – x0) — движение δ-функции как траектория; формально — функция Грина. Дальше, наверное, надо [рассмотреть] х'' = f(х, t) → перейти к (х, р) — фазовому пространству, 2 ур[авне]ния первого порядка и n(х, p, t). Здесь — теорема Лиувилля, условие стационарности, некие основы статистической механики. Другое ответвление: случайные перемещения и переход к уравнению диффузии для n(х, t) (частично это было в рыбах в Элементах) (имеется в Виду случайное распределение выловленных рыб по весу, рассмотренное в ЭПМ. — A.M.). Линейное уравнение. Техника функций Грина, понятие суперпозиции решений. Случайные толчки и трение в импульсном пространстве дадут [распределение] Максвелла-Больцмана для стационарного решения. Понятие осмотического давления, эйнштейновские соотношения между диффузией и подвижностью (если не знаете — расскажу при встрече). Задачи на первое прохождение, порождающие граничные условия. Вместе с обычными задачами диффузии: п = 1/r, ехр(–r2/t), цилиндр, у поверхности — в целом, отличный томик, целиком посвященный математическому] описанию движения невзаимодействующих] частиц. Это должно необычайно облегчить усвоение тома II — взаимодействующие частицы: линейное [взаимодействие] — звук, нелинейн[ое] — ударн[ые] волны. Том III — электромагнитное поле. Начинайте писать, давайте Ваши предложения. Приезжайте, поселю на кухне... Все увеличивающееся семейство шлет Вам привет».
Этот план дважды подробно обсуждался, и с середины августа 1969 г. я начал писать текст, отдавая его главами ЯБ по мере готовности. По разным причинам работа шла с большими перерывами, так что основная моя работа началась лишь в октябре следующего года. Как и с ЭПМ, отдельные места, после обсуждения с ЯБ, приходилось переписывать, иногда по нескольку раз. В связи с работой над этой книгой мы встречались около 20 раз, причем ЯБ либо делал замечания к моему тексту, либо сам быстро писал отдельные фрагменты, которые я потом редактировал и переписывал. Кроме того, ЯБ передавал мне различные замечания к тексту и соответствующие предложения, написанные им между встречами. Наиболее активно работа проходила в мае и июне 1971 г., когда мы по нескольку дней подряд с утра до позднего вечера обсуждали текст — страницу за страницей. После встречи 13 июня я 25 июня отдал в Физматлит рукопись книги «Элементы математической физики» (в дальнейшем, ЭМФ) с подзаголовком «Среда из невзаимодействующих частиц». Однако, как и при написании ЭПМ, на этом работа далеко не закончилась! Вскоре самому ЯБ стали приходить в голову новые соображения; к тому же различные полезные замечания высказали Г. И. Баренблатт и А.Н. Тихонов, ознакомившиеся с рукописью, а также А. А. Овчинников, ставший редактором книги. После двух обсуждений с ЯБ этих замечаний я в декабре внес соответствующие изменения и вновь отдал рукопись в Физматлит. В марте-мае 1972 г. мы опять вернулись к этой работе в связи с рецензией B.C. Владимирова, да и, как всегда, у ЯБ возникли различные идеи об улучшении текста. Теперь уже потребовались четыре встречи с ЯБ, и лишь в начале мая текст был окончен.
Сохранившиеся черновики ЯБ с планами отдельных частей, замечаниями к моему тексту, отдельными фрагментами носят яркий отпечаток его {239} личности. Видно, как рука, несмотря на всю стремительность, сокращения слов и т.п., едва поспевала за мыслью; многочисленные восклицательные и вопросительные знаки показывают не только темперамент ЯБ, но и его глубоко личное отношение к материалу. По-моему, отдельные места из этих черновиков более поучительны, чем окончательно отредактированный развернутый текст, из-за крайней концентрации внимания на самом главном. Я думаю, что они заслуживают самостоятельного изучения.
ЯБ всегда старался не только сообщить глубокие идейные соображения по поводу излагаемого материала, но и сделать текст более живым, интересным, привести запоминающиеся сравнения и т.п. Он не упускал возможности пошутить. Приведу как пример изложение задачи о случайном блуждании по прямой. В первоначальном тексте мы, следуя традиции, рассматривали пьяного, который у каждого фонаря падает, забывая направление, по которому шел. Рецензент предложил изменить модель, чтобы «лишний раз не напоминать о распространенном пороке». Поэтому мы заменили пьяного на даму, которая в страшном волнении бегает по магазинам в поисках французского зонтика; однако ЯБ с явным удовольствием включил сноску: обычно здесь говорят о пьяном, но мы, чтобы лишний раз не напоминать о распространенном пороке, и т. д. В дальнейшем говорилось о множестве из большого числа невзаимодействующих дам, блуждающих по оси и именуемых частицами...
В начале сентября 1973 г. ЯБ написал мне: «...Поздравляю (с выходом ЭМФ. — A.M.). Приступил к раздаче, подделывая Вашу подпись: Тихонову, Овчинникову, Баренблатту, Колмогорову, Капице, Питаевскому, Лифшицу И.М., Компанейцу А. С. (я не предвижу возражений — ария Онегина)... Массы ищут секрет в «Лишь полноте»... Опомнимся и подумаем (о дальнейшей работе. — A.M.)». По поводу «полноты» требуется разъяснение. Дело в том, что незадолго перед этим в «УФН» появилась обзорная статья ЯБ, в одной из сносок к которой было помещено двустишие, якобы принадлежащее В. Хлебникову, с примечанием ЯБ: «разыскание мое». Первые буквы составляли непочтительное выражение по адресу друга ЯБ; как сказал мне ЯБ, «тот первый меня так назвал». Правда, в окончательном тексте одна буква заменена (как объяснил ЯБ, друг взял свои слова обратно), но догадаться, что там было, не составляет труда. Этот эпизод получил широкую известность: ЯБ говорил, что даже кто-то из литературоведов выразил ему свое порицание. Поэтому, приведя в предисловии к ЭМФ подлинные строки Шиллера, ЯБ добавил: «разыскание и стихотворный перевод Я. Б. Зельдовича», с удовольствием рассчитывая на неадекватную реакцию читателей.
Приведу отрывок из предисловия к ЭМФ, в котором говорится о специфической особенности книги: «Наиболее распространенный способ изложения математической физики таков: исходный материал подсказывается физическими соображениями, после чего все изучение осуществляется чисто математическими средствами... Мы хотим в этой книге пойти по иному пути. Концентрируя изложение вокруг задач, допускающих наглядную физическую интерпретацию, мы хотим показать, как математические понятия и методы естественно вытекают из наглядных соображений, возможно более полно проследить связи между математическим и физическим подходами, указать {240} наглядный смысл процедуры и промежуточных этапов математического решения... Мы не стремились к общности, а старались показать основные идеи на как можно более простом материале. Математические выкладки и логические доказательства играют в книге подчиненную роль, на первом плане лежит стремление к тому» чтобы читатель правильно понимал взаимосвязи и аналогии».
В том же предисловии говорится: «... На горизонте уже виднеются аналогичные независимые друг от друга книги по математическим вопросам гидродинамики, теории электромагнитного поля и квантовой механики (по этому поводу я сказал ЯБ: «Я ведь почти не знаю квантовой механики!», на что он ответил: «Тем свежее будет изложение». — А.М.), которые вместе и составили бы элементы математической физики, «офизиченные» в том смысле, как было сказано выше. Трудно сказать, удастся ли осуществить эти планы; правда, когда мы кончали ЭПМ, у нас тоже не было уверенности, что наша работа будет продолжена...».
Увы, работа продолжена не была, хотя определенные наметки были. Так, в начале февраля 1974 г. я получил от ЯБ оттиск вместе с письмом: «... На днях попробую набросать 1-е приближение плана следующей части ЭМФ и пошлю Вам отдельно...». 26.08.74 он написал: «... Наконец, я подал заявку на 2-й том матфизики, подделав Вашу подпись. Гидродинамика, акустика, тепловые процессы, включая распространение пламени Т = T(x – ut) с определением u как собственного числа. Уточним, когда (и если) [заявка] пройдет редсовет... P. S. Утонул Компанеец, я в большом горе. P. P. S. Видели ли Вы в «Правде» (от 23.08.74 — A.M.) упоминание о наших книгах? Днепропетровцы Моссаковский и еще один (Леонов. — А. М.), я им послал ответы». Но заявка утверждена не была. Возникла прискорбная дискуссия вокруг ВМН между ЯБ и группой академиков, занимавших, в частности, ключевые позиции в Физматлите, вызванная, по-моему, отнюдь не научными причинами, и вся математическая деятельность ЯБ была прикрыта. Монополизм, нетерпимость, свойственные нашему обществу, сыграли и здесь губительную роль, и уникальный замысел ЯБ оказался нереализованным. Не могу себе простить, что, если бы я, отложив другие дела, занимался только этим, то, может быть, мы успели бы...
С начала 1974 г. наша совместная работа прекратилась и потому контакты стали стремительно затухать. Конечно, порой возникали дела иного характера, но их становилось все меньше и меньше. (Я уже написал, что всегда несколько стеснялся ЯБ и к тому же ясно представлял себе его крайнюю занятость; в частности, поэтому я всегда уклонялся от выполнения просьб различных людей свести их с ЯБ, дать ему прочитать то или иное сочинение и т.п.) Так, в начале 1973 г., когда я подыскивал себе место работы, ЯБ предложил поступить в организацию, из которой он только что ушел или вот-вот собирался уйти. Он назвал нескольких крупных ученых, сотрудничающих там, впрочем, добавив: «Забудьте эти имена». Свой уход он объяснил усталостью от долгой работы в задаваемом извне, а не определяемом им самим ритме. Я этим предложением не воспользовался. Кстати, я по естественным причинам никогда не заговаривал с ЯБ о его основной работе; но те или иные детали, в основном, курьезного характера, время от {241} времени всплывали. Так, однажды речь зашла о судьбе политической литературы периода культа личности, и ЯБ сообщил, что в книжном магазине «города Эн» продаются сочинения И. В. Сталина по 1 копейке за том. В другой раз, когда при обсуждении ЭПМ мы дошли до формулы еπi = –1, ЯБ рассказал, что как-то ему пришлось проводить вручную большие вычисления. Из-за ответственности они дублировались, ответы сверялись, и каждая ошибка на порядок каралась некоторой (не помню, какой) единицей штрафа, который шел на общие расходы. Возник вопрос, как надо штрафовать ошибку в знаке. На основании указанной формулы было решено, что штраф должен составлять |πi · lg e| = 1,36 единицы.
Были еще редкие встречи. В 1974 г. 8-го марта мы с женой днем зашли к ЯБ поздравить его с 60-летием. Он выпил с нами по рюмке вина и уговаривал прийти вечером, смешно разыгрывая роль соблазнителя: «Мы Мышкиса напоим, а сами будем танцевать»; но вечером мы уезжали. В том же году я встретил ЯБ в Черноголовке, где он участвовал в какой-то конференции и жил в квартире для приезжающих. Он с удовольствием рассказал, что в этой квартире находится большой барабан от эстрадного оркестра и он перемежает научные занятия с игрой на барабане; ЯБ повел меня в квартиру, чтобы я посмотрел этот барабан и услышал его звук. В 1976 г. 8-го мая я видел ЯБ на вечере в узком кругу у его друзей Шуваловых (с ныне покойной Э. З. Шуваловой я работал на одной кафедре). ЯБ выглядел уставшим и лишенным обычного энтузиазма.
Следующая наша встреча произошла уже только 23.09.80, когда я, будучи в Алма-Ате, узнал о проходящем там VI Всесоюзном симпозиуме по горению и взрыву и об участии в нем ЯБ. Я пошел на заседание и увидел, как ЯБ активно выступает не только почти после каждого доклада, но и в процессе докладов. Однако, когда я высказал ЯБ комплимент по поводу его хорошей формы, он произнес только: «Азохен вей» — внешность обманчива. Вечером мы были в театре на пантомиме, где я в первый (впрочем, и в последний) раз увидел его вторую жену, Анжелику Яковлевну. ЯБ вовлек меня в розыгрыш: сделать вид, что я угадываю ее имя и отчество по внешности, но это ей не очень понравилось. Возможно, что у нее было дурное настроение. Позже, когда в ответ на мое недоумение по поводу того, что каждое из нескольких представлений пантомимы названо премьерой, ЯБ привел несколько вольное сравнение, АЯ в довольно резкой форме сделала ему замечание. Некоторые части пантомимы имели эксцентричный характер, и ЯБ, сравнив ее с «Вампукой», ушел с АЯ после первого действия. Эта встреча произвела на меня тягостное впечатление.
Последние контакты относятся к 1986 г. В начале мая ЯБ позвонил и попросил зайти к нему в Институт физических проблем. 6 мая я пришел туда. ЯБ шутливо, но с явным удовольствием сообщил, что теперь он может считаться маршалом, так как ему, после смерти И.М. Лифшица, поручили руководить знаменитым семинаром Ландау. А просил он меня зайти в связи с тем, что возникла возможность издать ВМН на эстонском языке, но он хотел бы несколько расширить ее за счет ЭПМ, так вот, не возьмусь ли я и т.д. К тому же, с одним из западных издательств (я забыл, с каким) обсуждался вопрос об издании на английском языке книги, объединяющей новую ВМН {242} (последняя книга, значительно переработанная и дополненная И. М. Ягломом и отчасти самим ЯБ, вышла в 1982 г. в издательстве «Наука») и ЭПМ, конечно, модернизированных; этот вопрос надлежало обсудить с И. М. Ягломом. На прощание ЯБ подарил мне оттиск с надписью: «... с надеждой на восстановл[ение] контактов, хотя бы Москва-Таллин-Москва».
11 мая я вновь зашел в ИФП с планом расширения ВМН. Но ЯБ словно подменили. Издание ВМН по-эстонски он счел нецелесообразным из-за узости круга читателей, для которых оно было бы необходимо. Что же касается издания объединенного ВМН-ЭПМ, то он сказал, что физика и математика сейчас стали другими, чем, скажем, 30 лет назад, и появление его фамилии над столь элементарным текстом могло бы быть неправильно понято. (Возможно, я не совсем точно передаю его мысль, так как он ее не выразил прямо.) ЯБ даже предложил, чтобы я и Яглом опубликовали такую объединенную книгу от своего имени, а он в предисловии даст ей рекомендацию. На этом мы и попрощались. Больше я ЯБ не видел. И. М. Яглом еще пытался некоторое время убедить его изменить свою позицию, но безуспешно.
В заключение — несколько воспоминаний, относящихся к различным временам.
Как известно, в 60-е годы был широко распространен сбор подписей под различными протестами. Как-то в беседе я сказал ЯБ о сложном положении человека, к которому обращаются с просьбой подписать протест в связи с судебным процессом, о котором этот человек недостаточно осведомлен. ЯБ сказал, что он был в таком положении и, подписывая протест, там же написал, что он относится не столько к данному конкретному процессу, сколько вообще к необходимости гласности в процессах подобного рода.
Как-то зашла речь о еврейской проблеме, и ЯБ рассказах о группе молодых людей, которые пытаются возродить еврейские национальные обычаи, вплоть до одежды, субботы и т. д. Я выразил сомнение в разумности этого, но ЯБ уверенно сказал о праве людей на такое поведение. Вообще, он с вниманием относился к национальным чувствам. Так, когда при рассмотрении в ЭПМ задач на минимакс я написал о тропе в горах, ведущей из одного кишлака в другой, ЯБ счел это источником возможной обиды (наподобие «Пусть два еврея и т.д.», — сказал он), и в окончательном варианте речь идет о двух деревнях в холмистой местности.
Как-то я спросил у ЯБ, мешало ли ему в жизни отсутствие диплома о высшем образовании. Он ответил, что да, мешало, пока он не стал академиком.
О конфликте, связанном с профессором А. А. Тяпкиным. Впервые я увидел эту фамилию, снабженную весьма нелестными характеристиками, в тексте о преобразованиях Лоренца, написанном ЯБ для ЭМФ. (Впоследствии я узнал, что это физик, получивший широкую известность своими сомнительными методологическими выступлениями.) Однако после обсуждения мы решили, что в такой книге подобное упоминание вряд ли уместно. Позже ЯБ рассказал мне, что из-за Тяпкина он вышел из редакции «УФН». Дело в том, что тот подал в журнал статью, в которой шла речь об интерпретации специальной теории относительности. Судя по рассказу ЯБ, редакция, решившая, что {243} статью под предлогом свободы дискуссий все равно заставят опубликовать, решила ее напечатать, снабдив «контрстатьей» с подробным опровержением, в котором говорилось, что А. А. Тяпкин либо недостаточно полно знаком с литературой, либо тенденциозен в ее освещении. ЯБ негодовал («Их еще и не собираются пороть, а они уже штаны снимают»), решительно возражая против публикации статьи Тяпкина.
Вспоминается эпизод, относящийся к встрече в Алма-Ате. Как известно, один из основных упреков, предъявляемых к ВМН со стороны некоторых математиков, состоял в том, что основные понятия математического анализа там вводятся без изложения теории пределов. Но незадолго до упомянутой встречи вышла книжка академика Л. С. Понтрягина (одного из активистов борьбы с ВМН), посвященная введению в математический анализ, в предисловии к которой было сказано: «Некоторые физики (читай — Я.Б. Зельдович, — A.M.) считают, что производную можно излагать без теории пределов. Я согласен с ними». Мы с ЯБ обсуждали, не послать ли приветственную телеграмму Понтрягину по этому поводу.
Я заканчиваю. Конечно, многое из того, что здесь написано, при жизни ЯБ никак не следовало бы публиковать, оно и не было рассчитано на публикацию. Возможно, кое-что представляет интерес только для меня. Но думаю, сейчас, когда стало особенно ясно, какая выдающаяся личность жила среди нас, любые подробности о ней нужны и значительны.
Глубокоуважаемый Мстислав Всеволодович!
Как Вам известно, вопрос о переиздании моей книги «Высшая математика для начинающих» вызвал бурную реакцию со стороны Л. И. Седова и Л. С. Понтрягина.
Ни один самый наивный человек не поверит, что они в данном случае заботятся о качестве изданий.
Происходит неприкрытая травля. В самом деле: ранее Л. И. Седов поместил в реферативном (!) журнале оскорбительную рецензию на мою с Баренблаттом работу и не поместил наш ответ. Затем он пытался опорочить нас в глазах американских ученых и помешать публикации статьи в США. Было задержано на год издание моей книги с Новиковым по космологии; если бы не вмешался П.Н. Федосеев, задержка продолжалась бы. В мой адрес распространяется клевета по вопросу приоритета в теории детонации.
Известно ли Вам, что в связи с коротким упоминанием общей теории относительности в книге мои рецензенты пишут о «религиозно-культовых эмоциях» и о «террористических притязаниях»?
В другом месте говорится о «полном невежестве автора в вопросах гидродинамического сопротивления тел». Считаете ли Вы такие высказывания допустимыми? {244}
Вернусь к переизданию книги «Высшая математика». В этом вопросе одно решение секции отменяло другое. Решение пленума РИСО отменено. Назначена комиссия.
Но книгу еще в 1968 г. подробно рассмотрел ученый совет Института прикладной математики. За Вашей подписью вынесено положительное решение. В нормальных условиях это полностью решало бы вопрос о переиздании. Злобная рецензия Л. С. Понтрягина оскорбляет не только меня, но и Совет Института прикладной математики.
Если Вы считаете, что выявились обстоятельства, в силу которых Вы отказываетесь от своей подписи, то я прошу поставить вопрос снова на Ученом совете Института прикладной математики. Вопрос о переиздании книги, разошедшейся тиражом более 500000 экз. и переведенной на многие языки, меня мало волнует (хотя я по-прежнему убежден, что читателям она нужна).
Но это не значит, что мне безразлична злобная клеветническая деятельность Л. И. Седова. Она заставляет тратить время, силы, нервы, отвлекает меня и других от дела.
Но более всего меня волнует Ваша позиция. Л. И. Седову поручено руководство реферативным журналом «Механика», он является зам. главного редактора «ДАН» и председателем Секции физ.мат. литературы. При таком положении деятельность Л. И. Седова перестает быть его личным делом, она компрометирует тех, кто его поддерживает, и Академию в целом.
Я искренне надеюсь, что Вы, Мстислав Всеволодович, дадите должную оценку происходящему, оградите меня от преследований и восстановите объективность в издательской деятельности Академии наук, президентом которой Вы являетесь.
С искренним уважением
25.XI–1975 |
Я. Б. Зельдович |
В пятьдесят шестом году, оканчивая среднюю школу, я, как и многие мои сверстники, бредил физикой (и лишь отчасти — математикой). В кругу моих друзей известные отечественные физики были кумирами. Среди них Яков Борисович Зельдович был личностью особенно легендарной. Подумать только: в тридцать два года — член-корр. и сколько-то уже раз Герой и Лауреат; лаборант, не окончивший университета и прыгнувший прямо в кандидаты наук. Это про него, а не про Сахарова, который был тогда гораздо менее известен» говорили: «отец нашей бомбы». При том толком никто ничего не знал, и говорили только со своими, вполголоса и с оглядкой. Сталин умер совсем недавно, и обсуждать подобные темы с кем попало было небезопасно. Увы, однажды я имел возможность в этом убедиться. Но это — предмет для совсем другого разговора. {245}
В 1958 г. я стал учеником Р.З. Сагдеева, тогда еще кандидата наук, но подающего большие надежды. Первое, что он велел мне сделать — прочесть монографию Я. Б. Зельдовича об ударных волнах. Я сделал это довольно быстро и с удовольствием. Книга оказалась написанной ясно и увлекательно. Она на всю жизнь привила мне любовь к гидродинамике и во многом повлияла на мои научные вкусы. Так что я позволяю себе считать Якова Борисовича одним из моих заочных научных учителей.
Судьба моя складывалась извилисто. Летом 1960 г. я оказался в Институте Атомной Энергии, в отделе Будкера, в качестве лаборанта пятого разряда. Звание было невысокое, но пример Зельдовича меня вдохновлял. К тому же платили мне совсем неплохо, я думаю лучше, чем в свое время ЯБ, и еще освобождали от армии. Через год я вслед за Сагдеевым переехал в Новосибирский Академгородок, где был принят на четвертый курс физического факультета, на очное отделение. При этом до окончания университета за мной сохранялось место лаборанта в Институте Ядерной Физики (ныне имени Будкера). Такое было возможно только в том месте и в те времена. Этот текст не о Будкере и Сагдееве, но я просто не могу не вспомнить их добрым словом за то, что они тогда для меня сделали.
Итак, я полностью и надолго погрузился в мир профессиональных физиков. В этом мире Зельдович был не просто почитаем — он был любим. Между собой его называли «ЯБ» и «Зельд». Его любили не только за талант, эрудицию и неслыханную энергию, но и за безупречную человеческую позицию и особенно — за доброжелательность к младшим. Как и про всех знаменитых людей, про него рассказывали анекдоты. Говорили, что когда он был лаборантом, один завлаб выменял его у другого на вакуумный насос, и это решило его судьбу. (Имея сам опыт лаборантской жизни, могу сказать, что такое вполне возможно.) Рассказывали еще, что однажды он надел все свои три звезды Героя, чтобы щегольнуть перед актрисами на Мосфильме, но его туда не пустили, приняв настоящие звезды за бутафорию. Вообще, успех у дам он имел огромный и без звезд, что вызывало у всех нас завистливое одобрение. Его любили еще и за остроумие, за его яркую речь, сочную, иногда просто соленую, при этом блещущую литературной эрудицией. Я прошу прощения у читателя, но вот характерный эпизод.
У доски идет дискуссия. Некто утверждает нечто и со всем жаром доказывает, что прав. Наконец, восклицает:
— Как говорит ЯБ — член даю на отруб!
Или вот еще. Об одном талантливом математике, который, желая сделать карьеру, флиртовал с партийными бонзами, ЯБ сказал:
— Долго он еще будет поросячьими духами прыскаться? «Поросячьи духи» — это из Салтыкова-Щедрина, из «Истории одного города».
Впервые я увидел Якова Борисовича «in person» зимой 1961–62 гг. в Академгородке. Зима там длинная, и более точное время вспомнить трудно. Роальд Сагдеев защищал докторскую диссертацию, и ЯБ, уже три года полный академик, был его официальным оппонентом. Защита как таковая стерлась из памяти совершенно, но банкет я отлично запомнил благодаря ЯБ. {246}
Он вышел на середину зала, невысокий, крепкий, в круглых очках человек средних лет, бодрый и энергичный. И произнес следующий тост:
— Были два вора, молодой и старый. Они устроили соревнование: нужно было залезть на дерево и обокрасть воронье гнездо, да так, чтобы ворониха, сидящая на яйцах, ничего не заметила. Молодой вор полез как был — в пиджаке и сапогах. Ворониха его заметила и подняла крик. Старый вор сказал: «Эх ты! Смотри как нужно!» Снял сапоги, снял пиджак, залез на дерево, украл яйца. Опустился — ни пиджака, ни сапог, ни молодого вора нет. Итак, выпьем за молодое поколение ученых!
В тот приезд Зельдовича в Академгородок я ему представлен не был. Я был совсем начинающий, еще студент, «никто, ничто и звать никак». Знакомство состоялось во время его следующего визита в Городок, где-то в конце шестидесятых. ЯБ сказал мне тогда: «Я много о Вас слышал, не хотите ли заниматься следующими задачами...», — и последовал целый веер предложений. В ответ я стал рассказывать ему о своих работах, о солитонах, о волновых коллапсах. Он заинтересовался, стал очень внимательно слушать, задавал глубокие вопросы. Он понял, что у меня достаточно своих задач и отнесся к этому факту с полным уважением. Впрочем, впоследствии он не раз формулировал мне важные нерешенные задачи. Я хочу упомянуть две из них.
Однажды Сагдеев сказал:
— ЯБ хочет, чтобы мы построили нелинейную теорию джинсовской неустойчивости Вселенной. Тогда будет понятно, как объяснить распределение галактик по их массам.
Насколько я понимаю, эту задачу ЯБ считал для себя одной из самых главных. Впоследствии он в этой задаче далеко продвинулся, объяснив формирование плоских галактик возникновением каустик за счет пересечения траекторий невзаимодействующей космической пыли. С качественной точки зрения это объяснение безупречно. Но, мне кажется, что до построения количественной теории, удовлетворительно описывающей наблюдаемый спектр галактик, еще далеко. На самом деле, это задача из теории волновых коллапсов (если смотреть с точки зрения физика) или задача из теории катастроф, если подходить к ней математически.
Вторую проблему ЯБ сформулировал мне лично:
— Вот тут ходят слухи, — сказал он, — что уравнения Навье-Стокса не имеют глобальных решений, а описывают формирование особенностей. Я считаю, что это вредная ерунда, но с этим следует разобраться.
ЯБ имел в виду работы Ольги Александровны Ладыженской, знаменитого ныне математика, академика, красавицы в свои восемьдесят лет, бывшей близкой приятельницей Анны Ахматовой. Это она впервые заронила сомнение в полной состоятельности уравнений Навье-Стокса, которыми человечество пользуется уже полтора века. И это сомнение настолько серьезно, что четыре года назад один частный фонд в США объявил, что выплатит миллион долларов тому, кто данное сомнение разрешит. Что я могу сказать — я продолжаю работу над этой проблемой. Это ведь тоже задача из теории коллапсов. Решение ее пока не найдено и, может быть, ЯБ был прав!
Конец шестидесятых годов — это было время, интересное во многих отношениях. Тогда был расцвет нашего диссидентского движения. Сейчас, {247} когда все хотят задним числом записаться в диссиденты, мало кто помнит, что диссидентское движение начиналось с писем ученых. Первым было очень сдержанное, но неслыханное в те времена по дерзости письмо Капицы. Потом было письмо математиков в защиту посаженного в психушку Есенина-Вольпина и наше академгородковское письмо в защиту Гинзбурга, Галанскова и Добровольского. Потом уже, как залп осадной артиллерии, выстрелил меморандум А. Д. Сахарова. Я принимал в диссидентском движении самое активное участие и в 1968 г., после оккупации Чехословакии, был уверен, что меня посадят. Как я выяснил много позже, меня спасли тогда Будкер и еще «The Committee of Concerned Scientists».
ЯБ в правозащитном движении прямо участия не принимал, но всем было ясно, на чьей он стороне. ЯБ прекратил тогда свои закрытые работы и отказался от высоких постов, которые ему предлагали. «Зельдович — пижон!» — говорил мне тогда один известный организатор науки. Вместо этого ЯБ начал читать лекции по космологии в Московском университете, которые стали знаменитыми.
В конце шестидесятых произошло еще одно знаменательное событие. После многих десятилетий разделения физика и математика снова кинулись друг другу в объятия. Крупнейшие математики, среди них С. Новиков и Я. Синай, стали заниматься физическими проблемами. В Институте теоретической физики имени Ландау был открыт отдел математики. Сам ЯБ стал заведующим отдела в Институте прикладной математики. Там он стал создавать свою научную школу в области астрофизики и космологии. Успехи этой школы составили ему новую славу.
В те же годы ЯБ написал новый, совершенно неканонический учебник высшей математики «Высшая математика для начинающих». Как всегда, будучи бесконечно талантливым человеком, он предвосхитил время. Сейчас подобные учебники пишутся в США, но получаются они намного хуже. В учебнике ЯБ нет строгих теорем. Важнейшие математические факты излагаются в нем на примерах и на основании «здравого смысла». Это — замечательная книга, которая является прекрасным дополнением к стандартным математическим учебникам.
Увы, многие математики встретили книгу Зельдовича «в штыки». Особенно было раздражено руководство Математического института им. Стеклова. Эти люди — академики И. Виноградов, Л. Понтрягин и другие — были известны не только своим закоренелым политическим консерватизмом, но и явным, агрессивным антисемитизмом. При этом они имели несомненные, и даже очень крупные, научные заслуги. Объяснить, как такое может совмещаться — это задача философов и психологов. Может быть, они нам скажут, будут ли подобные вещи происходить в будущем. В настоящей же жизни состоялась острая дискуссия между ЯБ и академиком Л. Седовым, доставившая Зельдовичу, как я думаю, немалые огорчения.
Благодаря всем этим коллизиям, а также благодаря общему преклонению перед физиками, принявшему одно время характер национального культа, ЯБ стал на время общественной фигурой. Не думаю, чтобы он этого хотел и чтобы это пошло ему на пользу. В гуманитарных кругах уже зрело раздражение доминирующей ролью физиков. Стихи Слуцкого: {248}
«Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне,
Дело не в простом просчете,
Дело в мировом законе.»
стали для многих руководством к действии. Малообразованные люди, считающие себя гуманитариями, но не знающие даже английского языка, заразились банальной наукофобией. Я помню, как на одном вечере у Фазиля Искандера жена литературного критика Б. Сарнова по имени Слава высказывала гневные проклятия в адрес всех нас — физиков. Особенно в адрес ЯБ, которого она считала нашим апостолом. Вот так ЯБ стал подвергаться атакам с двух сторон сразу.
В конце шестидесятых мои научные интересы стали сильно уклоняться от ортодоксии, принятой в Институте ядерной физики. Солитоны и волновые коллапсы сильно тянули меня в сторону математики. Это не осталось без внимания Будкера, который предложил мне дилемму: заняться всерьез лазерами на свободных электронах или уходить. Я выбрал второе. У меня уже была довольно большая группа учеников, но состоялся цивилизованный развод — группа ушла в Институт автоматики к Нестерихину, а я уехал в Черноголовку, где возглавил сектор в Институте теоретической физики им. Ландау. Это составило предмет гордости для Будкера — вот каких людей мы готовим! А мой тренд в математику продолжался и зашел настолько далеко, что в 1974 г. я был выдвинут в члены-корреспонденты Академии наук не по физике, а по математике!
В этот момент я обратился к ЯБ, и он немедленно предложил мне свою дополнительную рекомендацию. При этом откровенно сказал: «Не знаю, будет ли это Вам на пользу или во вред». Результат голосования был неплохим, я прошел во второй тур. Конечно, это была игра без надежды на успех, и в члены-корреспонденты я прошел все же по физию, в 1984 г., опять же при большой поддержке со стороны ЯБ. Его первую рекомендацию, написанную от руки, при мне, на подоконнике физического факультета МГУ, я храню как самую дорогую реликвию.
В середине семидесятых стало ясно, что научное направление, которое мы создавали все эти годы — физика нелинейных явлений — это самостоятельная область науки со своими задачами и методами, со своим, уже сложившимся международным сообществом. Начали проводиться международные конгрессы по нелинейным наукам. Поскольку многие из нас, включая ЯБ, были людьми невыездными, мы проводили эти конгрессы в СССР. Четыре международные конференции, в 1979, 83, 87 и 89 гг. были проведены в Киеве. Все они прошли весьма удачно, привлекли множество известных ученых со всего мира. Их труды были впоследствии изданы в виде объемистых сборников.
Новые ученики Якова Борисовича, занимавшиеся астрофизикой, магнитной гидродинамикой и космологией, принимали участие в этих конгрессах. Я дружил и дружу со многими из них, прежде всего с Рашидом Сюняевым. Сам ЯБ присутствовал на двух — в 1983 и 1987 гг., — но особенно мне запомнился конгресс 1983 г. Он проходил в октябре в трудное и тревожное время. Только что был сбит корейский самолет, и холодная война достигла {249} апогея. Одного из участников конгресса, известнейшего американского ученого Нормана Забуского, насильственно выслали из страны за посещение домашнего семинара евреев-отказников. КГБэшный надзор был всеобъемлющим, но мы демонстративно не замечали присутствия наших стражей. На этом фоне происходил некий «пир во время чумы»: читались лекции, непрерывно шли семинары, а по вечерам происходило столь же непрерывное застолье.
Над всем этим ЯБ просто царил. Его лекция об образовании галактик из каустик космической пыли была блестяща и созвала огромную аудиторию. Его остроумие во время вечерних «неформальных контактов» было неистощимо. Его прекрасно дополняла его вторая жена, веселая и компанейская женщина.
Следующий конгресс» проведенный в апреле 1987 г., был как-то менее ярок. Супруга ЯБ к тому времени умерла, и сам он был молчаливее и тише обычного. Вероятно, сказывалась уже болезнь. 2 декабря того же года мы узнали, что Якова Борисовича не стало. На его похороны собралось множество народу, и не только из Москвы.
По нынешним меркам жизнь, которую он прожил, была не очень долгой — 73 года. Но какая это была яркая, насыщенная и главное — абсолютно цельная жизнь! ЯБ был лидером великой науки в стране, которая хотя бы потому была великой, что имела такую науку. Грех, конечно, так думать, но иногда я ловлю себя вот на какой мысли. Хорошо, что он не дожил до наших дней и не увидел, как сознательные или бессознательные желания наших наукофобов превращаются в реальность. Как быстро и, может быть, необратимо распадается столь любимая им российская наука.
Таково название одного из замечательных рассказов И. С. Тургенева о любви. У меня было три полных смысла встречи с Яковом Борисовичем Зельдовичем, которые некоторым образом дополняют то, что уже написано в книге воспоминаний о нем, опубликованной в 1993 г. на русском языке.
Впервые я услышал о ЯБ от моего руководителя по диплому Кирилла Петровича Станюковича, который появился на физическом факультете МГУ осенью 1955 г. по приглашению академика Михаила Александровича Леонтовича. Станюк, как его звали друзья, но, конечно, не мы — студенты четвертого курса — начал читать совершенно изумительный курс по гидрогазодинамике. Сначала я пришел слушать этот спецкурс в основном из любопытства, но затем остался делать курсовую работу, а потом и дипломную.
В течение шести лет я регулярно посещал Кирилла Петровича на его квартире, а он любил гостей. Однажды он весело рассказал мне, как он накануне был в гостях у ЯБ. Так он звал Зельдовича, который тогда был все еще членом-корреспондентом АН СССР, но незадолго до того получил третью звезду Героя Социалистического Труда. Группа друзей заказала его бюст одному известному скульптору того времени (этот бюст несколько раз упоминается {250} в других статьях книги) в Москве. Во время «открытия» бюста ЯБ был зачитан «Указ Верховного Совета СССР», декларировавший установку бюста на квартире Героя. Это имитировало советский закон устанавливать бюсты дважды Героев Советского Союза или дважды Героев Социалистического Труда в местах их рождения (это тоже упоминается у других авторов этой книги). Были и другие забавные детали празднества в пересказе Кирилла Петровича» но я их точно не помню.
После окончания физфака МГУ по рекомендации Михаила Александровича Леонтовича, следившего за моей работой по магнитной гидродинамике, я Оказался в начале 1958 г. в недавно организованном Институте физики атмосферы АН СССР. Однако Кирилл Петрович еще в течение ряда лет продолжал часто звать меня к себе домой. В начале июня 1958 г. он сказал мне, что ЯБ просит через него, чтобы я позвонил Зельдовичу на следующий день в 5.30 утра. Я буквально не смог сразу поверить, что ЯБ сам попросил меня позвонить ему домой. Я уже слыхал от других, что Зельдович очень рано начинает работать. Кирилл Петрович объяснил мне, что ЯБ сообщил ему о своей работе над структурой ударной волны в магнитном поле в среде с конечной проводимостью. На это К. П. Станюкович сказал ему, что статья на эту тему выходит в ближайшем номере ЖЭТФ и ее автор — его студент Гога Голицын. Тогда ЯБ и решил, что он хочет меня видеть, чтобы понять, сделал ли я все, что можно и нужно.
В тот вечер накануне звонка ЯБ я лег пораньше и завел будильник на 5.15. Недалеко от дома, где я тогда жил, было два телефона-автомата. Еще вечером я проверил, что они оба работали и запасся несколькими 15-копеечными монетами. Точно в 5.30 я набрал номер ЯБ, данный мне К. П. Станюковичем. Бодрым и деловым тоном ЯБ предложил мне прийти к нему домой в 10.00 и объяснил мне, как найти его квартиру. Наш разговор у него дома длился не более 15 минут. Первые несколько минут он просматривал мою машинописную рукопись. Затем он сказал мне, что получил тот же результат, но более красивым способом, тем не менее, он доволен тем, что все сделано как надо. Затем минут 10 он спрашивал меня, что я сделал в магнитной гидродинамике. Он одобрительно отозвался об изомагнитном скачке на ударной волне в плохо проводящей среде в магнитном поле, который я ввел по аналогии с изотермическим скачком, описанным в книге Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица «Механика сплошных сред». В моем случае слабые ударные волны не формируют фронта разрыва, и все параметры волны меняются главным образом на масштабе, определяемом магнитной вязкостью и скоростью звука. В сильных ударных волнах происходит разрыв термодинамических параметров, но магнитное поле остается непрерывным и распространяется впереди разрыва, ведя фронт на масштабе, как в случае слабых волн. Расспросив меня, что я делаю в Институте у А. М. Обухова (тогда тоже члена-корреспондента), ЯБ отпустил меня.
И лишь 20 лет спустя, когда я уже был членом-корреспондентом, Кирилл Петрович рассказал мне, как долго и неоднократно он убеждал ЯБ не брать меня на «объект». Я наивно сказал, что у меня уже было распределение, и я уже работал в институте Академии наук. К. П. Станюкович заявил мне, {251} что ЯБ достаточно было сказать лишь слово, и на следующий день я был бы уже в «Конторе–400», мифическом месте тогда для меня.
В 1997 г. мой сосед по даче Гурий Иванович Марчук, бывший президент АН СССР в 1986–1991 гг., рассказал мне следующую историю. В 1951 г. его, свежезащищенного кандидата наук, однажды вечером посетили дома два человека и сказали, чтобы он через полчаса с необходимыми вещами был у подъезда в машине, предупредили, чтобы он не беспокоился о семье, и что все будет в порядке. Эти двое не отвечали на вопросы Гурия Ивановича в течение последующей двухчасовой поездки на машине. И только на следующий день Марчук узнал, что он будет работать в отделе Евграфа Сергеевича Кузнецова на «объекте», директором которого был Дмитрий Иванович Блохинцев; имена обоих людей он хорошо знал. «Объект» потом стал называться Физико-энергетический институт. Спустя три года там был запущен ядерный реактор мощностью в 5 МВт, впервые в мире вырабатывавший электрическую энергию, а город стал известен под названием Обнинск Калужской области.
Наша следующая встреча произошла почти 13 лет спустя в Государственном Астрономическом институте им. Штернберга в январе 1971 г. В ГАИШ я должен был защищать мою докторскую диссертацию по динамике планетных атмосфер. В связи с посадками автоматических межпланетных станций на поверхность Венеры и Марса задача приобрела и практический интерес. Мне удалось оценить скорости ветра, используя соображения теории подобия и размерности. Моя защита, первоначально намеченная на декабрь 1970 г., была сдвинута на январь 1971 г. Однако в январе мой официальный оппонент Андрей Сергеевич Монин должен был отправиться в океанскую экспедицию. Мне срочно был нужен новый оппонент. Мой директор, Александр Михайлович Обухов, сказал мне, что он попытается уговорить Якова Борисовича Зельдовича.
Так я позвонил ЯБ домой во второй раз, уже в более спокойное время. Встреча была назначена пополудни в ГАИШе. ЯБ и не взглянул на мою 200-страничную диссертацию, сразу взялся за ее автореферат, внимательно прочтя первые несколько страниц, и довольно быстро пролистал его середину и конец. Это заняло у него около десяти минут. Последующие пять-семь минут я отвечал на его конкретные вопросы. Затем он спросил, что я считал бы сам наиболее важным результатом. После этого он попросил у меня чистые листы бумаги и сел писать отзыв. Он заполнил четыре листа своим быстрым почерком. Когда ЯБ кончил писать, он сказал мне, что сам организует печатание отзыва, что мне об этом не надо беспокоиться, и мы расстались. Вся процедура ознакомления с диссертацией и написания отзыва официального оппонента заняла времени у ЯБ меньше сорока минут! С тех пор, когда кто-нибудь говорит мне, что у него нет времени знакомиться с диссертацией и писать на нее отзыв, я всегда привожу в пример Якова Борисовича Зельдовича.
Я всегда помню, как на самой защите ЯБ характеризовал теорию подобия, будучи сам мастером в ее использовании. Его слова были примерно следующие: «Некоторые говорят, что теория подобия — это подобие теории. При учете всех обстоятельств это, конечно, не так. В то же время, однако, умение ее использовать правильно — это ближе к искусству, чем к науке, {252} а результаты, получаемые при этом, кажутся возникающими практически из ничего!»
Наша третья встреча произошла где-то в середине 1980-х годов опять в ГАИШе. В это время ученики ЯБ Саша Рузмайкин и Анвар Шукуров время от времени встречались со мной, чтобы обсудить проблемы, связанные с турбулентностью, конвекцией и т.п. Для меня 1980-е годы были годами занятий конвекцией во вращающейся жидкости (с коллегами из своего и других институтов я также был занят теорией климата, особенно последствиями ядерной войны). Опять методы теории подобия и размерности, вместе с другими соображениями, позволили получить оценки конвективных скоростей с учетом вращения. Я проверил эти оценки дома, используя подручные средства и ртутный термометр. Позднее Борис Бубнов, коллега из нашего Института, и я разработали целую программу экспериментальных и теоретических работ. В конце 1980-х годов, после наших первых публикаций, подобные исследования были начаты в США, затем в Австралии, Канаде, Германии.
Рузмайкин и Шукуров рассказали о наших работах Якову Борисовичу, и тот позвал нас на семинар с рассказом о результатах и их приложениях к разным природным явлениям. Как всегда, ЯБ внимательно слушал, задавал вопросы. После доклада ЯБ встал и отметил реальные эксперименты, проводимые теоретиками, особенно отмечая три скорости вращения, использованные мною: 33, 45 и 78 оборотов в минуту1).
Конечно, я много раз видел ЯБ на семинарах, на собраниях Академии, но это было на расстоянии, хотя и при этом у меня было два случая наблюдения за его поведением, поучительных и характерных для него. Весенним семестром 1959 г. Л. Д. Ландау начал на физфаке МГУ читать курс квантовой электродинамики. Большая физическая аудитория была переполнена и надо было появляться задолго до начала лекции, чтобы занять место. ЯБ всегда сидел в первом ряду.
Второй пример ассоциируется с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Это было в конце 1970-х до его ссылки в Горький. АД выступал на семинаре ЯБ в ГАИШ. Когда доклад закончился, Виталий Лазаревич Гинзбург начал задавать острые вопросы, проникнутые явной иронией. ЯБ с характерной для него иногда твердостью негромко сказал: «Витя, не надо». Далее дискуссия пошла нормально и конструктивно.
Эти три встречи, описанные выше, показывают очень характерные особенности ЯБ как ученого и как человека. Хочется думать, что они дополняют информацию о Якове Борисовиче Зельдовиче, представленную другими авторами в этой книге.
| {253} |
В своем прощальном слове А. Д. Сахаров назвал Я. Б. Зельдовича человеком универсальных интересов. По календарной хронологии Зельдович прожил одну человеческую жизнь обычной продолжительности. Но она вместила несколько научных биографий огромной емкости и непреходящего значения. Получилось так, что он занимался взрывами нарастающей мощности (детонации) и взрывами химических взрывчатых веществ, цепными реакциями и ядерными взрывами, а также Большим взрывом, 15 млрд лет назад образовавшим нашу Вселенную.
Вопросы горения и детонации были первой и непреходящей любовью Якова Борисовича, которой он оставался верен до последних дней.
Начало его «второй биографии» обозначено тремя статьями, написанными вместе с Ю. Б. Харитоном, о развитии цепных реакций в уране. Эти работы, показавшие принципиальную возможность освобождения атомной энергии, были опубликованы в преддверии второй мировой войны. В атомном проекте России оба автора участвовали с момента его официального зарождения1 весной 1943 г. Позже в русло этой глобальной проблемы было вовлечено множество ученых, и среди них заведующий рентгеновской лабораторией Института машиноведения АН СССР В. А. Цукерман и я, бывший его сотрудником.
Друзья со школьной скамьи (с двухлетним перерывом, когда я был призван в армию) — мы проработали вместе около 15 лет. От армии и фронта В. А. Цукерман был освобожден из-за прогрессирующей потери зрения, завершившейся через несколько лет полной слепотой. От многих научных сотрудников нас отличала большая и, по мнению окружающих, несколько чрезмерная активность. Мы вели себя часто как конкистадоры науки, которым предстояло открыть еще неизвестные ее материки. Бережно храню я монографию Зельдовича, подаренную нам в 1953 г. с многозначительной надписью: «Братьям-разбойникам, Альтшулеру и Цукерману, от автора, который не стал их жертвой».
В Казани Цукерман устанавливал в госпиталях рентгеновские аппараты, разработал бутылкомет для бросания бутылок с горючей смесью на большие расстояния и, по несчастному стечению обстоятельств, при государственных испытаниях бутылкомета сам оказался в роли горящего танка. После госпиталя, вернувшись в Казань, он занялся реализацией своей главной идеи — мгновенного фотографирования в рентгеновских лучах процессов, происходивших в миллионные доли секунды в зарядах взрывчатых веществ. Этот новый метод позволил понять казавшийся почти мистическим механизм действия «бронепрожигающих» фауст-патронов, примененных немцами против наших танков. В многочисленных обсуждениях этой и других родственных {254} проблем у него зародилось перешедшее скоро в дружбу знакомство с Юлием Борисовичем Харитоном» а также с Яковом Борисовичем Зельдовичем.
В 1946 г. Харитон в довольно туманных выражениях обратился к Вениамину Ароновичу с вопросом, смогли ли бы мы оба принять участие в работе над одной очень интересной и сложной проблемой: «Начать работу вы можете в Москве, но для ее завершения вам нужно будет на полтора-два года уехать из нее». Срок этот растянулся для нас на десятилетия. Формальности отъезда были преодолены быстро, поскольку мы оба были включены в правительственное постановление.
Встречи с Зельдовичем начались у меня еще в Москве, в Институте химической физики АН СССР. Обсуждения велись в небольшой комнате у доски, к которой была прибита рваная галоша для мела и тряпки. Тон обсуждений был самый непринужденный, и часто употреблялись термины, не принятые в научных публикациях. Меня это немного удивило, но не покоробило. В дальнейшем многие ученые, когда это необходимо, пользовались подобным «слэнгом», лаконичным и выразительным, особенно часто на полигонах, в преддверии испытаний. Мне рассказывали, что с водителями машин, прикрепленных к научным работникам, был проведен специальной инструктаж — в целях сохранения государственной тайны им запрещалось повторять слова и фразы, услышанные от своих ученых пассажиров. Результат оказался неожиданным: водители перестали материться.
Во время одной из встреч в Институте химической физики Яков Борисович, предельно упростив варианты получения сверхкритических состояний, предложил мне аналитически их проанализировать и по простейшему критерию сравнить их преимущества. Вывод в пользу одного из них оказался очевидным. Осуществить его удалось в 1951 г., и он потребовал больших творческих усилий и напряженной работы нескольких научных коллективов. Первая, более примитивная конструкции «изделия» была испытана, как известно, в августе 1949 г. Для ее завершения в начале 1947 г. вне Москвы, на территории бывшего Саровского монастыря был образован большой институт, отгороженный от внешнего мира колючей проволокой. Это был один из многочисленных островов «белого архипелага», где в обстановке глубокой секретности осуществлялся атомный проект России. Чтобы в финале своей деятельности получить вспышку «ярче тысячи солнц»1), надо было изучить свойства материи при высоких и сверхвысоких температурах и давлениях, создать и развить новую научную дисциплину — физику высоких плотностей энергии2). Яркие главы вписали в нее Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, Д. А. Франк-Каменецкий и экспериментаторы «объекта».
Обстановка для жизни и работы научных сотрудников была создана замечательная, особенно для экспериментаторов. В кратчайшие сроки оказалось возможным на заводах и в мастерских подготавливать опыты и затем {255} проводить их на лесных площадках. Быстрое продвижение в решении поставленных задач было связано также с почти безграничным доверием молодых специалистов к руководителям, возраст которых не превышал 30–35 лет. Очень важен был также тесный, почти повседневный контакт с теоретиками. В первые годы их было очень немного. Кроме Якова Борисовича, больше всего экспериментаторам приходилось общаться с Евгением Ивановичем Забабахиным и Григорием Михайловичем Гандельманом. В конце 1947 г. Забабахин был адъюнктом Военно-воздушной академии и закончил диссертацию, посвященную сходящимся детонационным волнам. Диссертация попала на отзыв в Институт химической физики, очень заинтересовала Зельдовича и еще больше — работников режимного отдела. «Где вы храните свои черновики и рукописи?» — строго спросили они у Евгения Ивановича. «В ящике своего комода», — простодушно ответил он. Наступило тревожное молчание, молчание перед штормом, который разразился и перенес Евгения Ивановича вместе с его диссертацией в теоретический отдел нашей «святой обители». Это было счастливое приобретение и для объекта, и для всего атомного проекта в целом.
Почти два года ведущие научные коллективы объекта определяли давление детонации мощных взрывчатых веществ. В создаваемых конструкциях образующиеся при детонации газообразные продукты взрыва играли ту же роль «рабочего тела», что и водяной пар в турбинах и других тепловых машинах. Давление их и другие свойства определяли работоспособность разрабатываемых изделий. Однозначных ответов на эти вопросы теории того времени не давали. По оценкам немецких ученых, давление детонации тротила составляло 120 тыс. атм., а по оценкам Ландау и Станюковича — 180 тыс. Чтобы установить истину, сначала были проведены опыты в лаборатории Цукермана. Там были получены мгновенные рентгенограммы распространяющейся детонации и расположенных за ее фронтом миллиметровых стальных шариков, к общему изумлению остававшихся неподвижными. У Н. Н. Семенова, будущего лауреата Нобелевской премии, посетившего в тот момент объект, этот результат вызвал бурную реакцию: «Если ваша методика не регистрирует массовой скорости продуктов взрыва, это только означает, что она ни к черту не годится». В своей основе, однако, методика была очень эффективной. Нужно было только увеличить размеры заряда и заменить шарики тонкими фольгами, после чего были получены результаты, близкие к прогнозам Ландау и Станюковича.
В моем научном коллективе давления детонации находились по скорости, которую приобретали при взрыве пластинки из разных металлов, приставленные к торцам цилиндрических зарядов. И снова первые опыты были обескураживающими и отвечали низким давлениям. Я сообщил о них в декабре 1947 г. поздно вечером Харитону и Зельдовичу. Все разошлись огорченные. Но уже в 8 час. утра Яков Борисович позвонил мне и попросил зайти к нему в гостиницу (замечу, что это была гостиница, построенная в начале ХХ-го века по случаю приезда в Саровскую пустынь Государя). То ли наяву, то ли во сне, Яков Борисович понял в эту ночь, что в наших опытах образуется расходящаяся детонационная волна с «бесконечно тонким» пиком давлений, быстро затухающих в приставленных пластинках. Чтобы расширить фронт {256} волны и получить правильные результаты, он потребовал проводить опыты на длинных, метровых, зарядах. Все мы, и даже Юлий Борисович, удивились этой рекомендации и отнеслись к ней недоверчиво, даже насмешливо. Но опыты по предложенной схеме были проведены и полностью подтвердили правоту Зельдовича. Казалось, все стало ясно.
Неожиданно обоснованность проекта была вновь поставлена под сомнение. Это произошло в начале 1949 г., когда работавший на объекте крупный советский физик Е.К. Завойский сообщил о своих последних результатах. По его методу заряд помещался в однородное магнитное поле, а измеряемой величиной была электродвижущая сила во вложенных в заряд проводниках, пропорциональная их скорости. В своей основе метод был безупречным, впрочем, так же, как и два других, о которых говорилось выше. Попытки прийти к согласованным выводам в сформированной для этой цели комиссии оказались безуспешными.
В двух лабораториях, «противостоящих» Завойскому, пришлось воспроизвести довольно сложную аппаратуру электромагнитной методики. В короткий срок была обнаружена небольшая методическая погрешность, занижавшая скорость продуктов взрыва. Зеленый свет испытанию первого заряда был дан.
Однако считать мнение Якова Борисовича всегда непреложным, чем-то вроде одного из законов термодинамики, все же не следует. Долго не верил он в открытую экспериментаторами проводимость продуктов взрыва и даже неосмотрительно заключил на эту тему пари на несколько бутылок коньяка. Пари им было проиграно, коньяк в дружеской обстановке выпит, и статья Бриша, Тарасова и Цукермана о проводимости опубликована. До сих пор эта пионерская работа является предметом многочисленных ссылок.
Наши дискуссии не всегда велись вполне корректно. Один из сотрудников Завойского, ныне здравствующий, утверждал, например, что на объекте почти не слышно русской речи, а опыты Цукермана противоречат марксистской диалектике. В ответ на это наши чертежи заводу неизменно шли под кодом СЗ, что означало «смерть Завойскому». Когда дискуссия была уже почти завершена в нашу пользу, в перерыве одного высокого совещания в присутствии Курчатова и заместителя Харитона К. И. Щёлкина, Яков Борисович почему-то стал рассказывать сказку, как дети играли в автомобиль. Старший из них говорил: «Ты будешь изображать правое колесо, ты — левое, ты — мотор, ты — руль». «А я?» — плачущим голосом спросил младший. «А ты будешь бежать сзади и портить воздух бензином». «Кто же это по-твоему портит воздух?» — мрачно насупившись, спросил Щёлкин. Ответ ЯБ был для всех понятным: «Во всяком случае, не Альтшулер и Цукерман». На этом, собственно, научные споры и закончились. Нужно отметить для восстановления исторической справедливости, что в чуть измененном виде электромагнитный метод Завойского и в СССР, и за рубежом стал одним из основных методов изучения детонации и ее развития в переходных режимах.
Таким же актуальным, как и изучение взрывчатых веществ, стало изучение свойств металлов при мультимегабарных давлениях. Необходимо было знать для них реальные уравнения состояния, позволяющие по плотности и температуре вычислять давление. Эти зависимости в то время были {267} совершенно неизвестны, и поэтому расчеты конструкций выполнялись в двух произвольных вариантах — жестком «К» и мягком «Д». Даже на высоких совещаниях о них говорили так:
Вариант К взят с потолка,
Вариант Д найден в бороде.
(Бородой тогда немного фамильярно называли И. В. Курчатова.)
Физическим инструментом, позволяющим получать и изучать экстремальные состояния материи, являлись сильные ударные волны. Поэтому в первую очередь нужно было измерить давления и плотности в ударных волнах разной амплитуды. Как сказал нам в 1948 г. Щёлкин, коллективу нашей лаборатории надо было «переселиться» в мегабарную область и передать оттуда информацию о сжимаемости металлов при давлениях, не меньших, чем 3 Мбара. Задание это экспериментаторами было перевыполнено, и потолком измерений стали давления в 10 Мбар. В статьях 1958–1963 гг. полученные результаты были опубликованы1. В 1988 г. американские ученые писали, что достигнуты они были на установках, нигде не описанных, а полученные результаты никем не превзойдены2).
Главную роль в этих достижениях сыграли аборигены наших отделов: К. К. Крупников, А. А. Баканова, М. И. Бражник и «примкнувший» к ним Р. Ф. Трунин. Теоретические расчеты сжатия металлов по заданию Зельдовича были выполнены Г. М. Гандельманом. Постоянное общение с ним позволило правильно понять открытые в опытах особенности сжатия переходных и редкоземельных металлов. Много позже на основании новых сложных концепций американские ученые провели свои расчеты, получили те же результаты и, проявив, на мой взгляд, бестактность, написали: свои результаты мы считаем правильными, а результаты Гандельмана — случайными. Бедный Григорий Михайлович очень обиделся и жалел, что живет не во времена Д'Артаньяна, когда можно было свое достоинство отстоять в поединке на шпагах, Якову Борисовичу стоило больших усилий его успокоить.
Кроме Зельдовича, в те далекие годы мало кто представлял, что для понимания свойств металлов в экстремальных состояниях знания одной ударной адиабаты совершенно недостаточно. На фазовой диаграмме ударную адиабату можно уподобить тропинке, окруженной неизведанными джунглями. По обширной программе, намеченной Зельдовичем в 1948 г. и опубликованной в 1957 г.3), усилия советских исследователей многие годы были направлены на получение дополнительной информации. С этой целью в группе С. Б. Кормера были измерены скорости звука за фронтом сильных ударных волн. Другим новаторским направлением стало изучение в коллективах Крупникова и Кормера ударной сжимаемости порошкообразных металлов. Много позже была реализована совместно с лабораторией В. Е. Фортова еще одна экспериментальная идея Зельдовича — регистрация изоэнтроп расширения металлов. {258}
1956 год ознаменовался реорганизацией нашей лаборатории. Несколько сотрудников наивысшей квалификации из моего отдела стали руководителями новых лабораторий. Все они были моложе и меня, и Якова Борисовича. И, как он мне говорил, общение с ними напрямую стало для него проще и «комфортнее». Это никак не отразилось на наших дружеских отношениях.
Особенно тесные контакты сложились у него с С.Б. Кормером. По предложению Зельдовича в лаборатории Кормера впервые были измерены температуры ударного сжатия ионных кристаллов, коэффициенты их преломления, оценены гладкости ударных фронтов. Часами обсуждал он с экспериментаторами результаты опытов.
Продолжались его контакты и с нашим отделом, когда ему, Ю. М. Стяжкину и мне пришла идея нового метода определения «плавной» сжимаемости металлов при сверхвысоких давлениях, порядка 100 Мбар. К сожалению, Яков Борисович не дождался звездного часа публикации результатов этих интересных и трудоемких исследований.
В течение долгих лет Яков Борисович вместе с А. Д. Сахаровым были душой и мозгом нашего объекта. Сейчас, после неожиданного ухода Якова Борисовича из жизни, его часто упрекают в конформизме, в нежелании принимать участие в борьбе с уродливыми общественными явлениями. Яков Борисович был убежден, что человек, посвятивший себя науке, сделавший ее главным делом своей жизни, не должен, не вправе раздваиваться, растрачивать свою энергию. Диссидентство ученых, по его мнению, было бесполезной борьбой с ветряными мельницами. Более важным считал он конкретную, персонифицированную помощь отдельным лицам в вовлечении их в науку. Во многом в этом помог он и мне. В официальных кампаниях осуждения Сахарова, в отличие от ряда других академиков, Яков Борисович участия не принимал. Он относился к Сахарову как к уникальному во всех отношениях феномену природы.
В мемуарах В. А. Цукермана и 3. М. Азарх к великанам духа отнесены Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров и Я. Б. Зельдович1), Своей сверхценной задачей Юлий Борисович всегда считал создание «ядерного щита» для нашей страны. Андрей Дмитриевич, крупнейший ученый и духовный лидер нашего времени, подобно пушкинскому пророку, «глаголом жег сердца людей». Величие Якова Борисовича заключалось в его огромном научном потенциале и абсолютной преданности науке. На десятилетия вперед он наметил цели и пути в изучении особых состояний материи. В этой области знания он навечно останется лидером.
Кто-то из классиков естествознания, кажется Л. Д. Ландау, сказал, что если ученого и его работы помнят спустя 10 лет после смерти — это выдающийся ученый. {259}
Вот уже 20 лет мы живем без ЯБ, но такое ощущение, что он где-то рядом, так как его идеи, предложения, советы и сегодня составляют основу современных исследований по детонации и динамической физике высоких давлений. Работы в этой области уже давно ведутся при других параметрах, иными методами, на других установках людьми, никогда не видевшими Якова Борисовича, но, по существу, являющимися его учениками в третьем и четвертом поколениях. Учениками, потому что учились и учатся по «библии ударных волн» — замечательной книге Зельдовича и Райзера — «Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений», учатся у прямых учеников ЯБ. И развивают то новое, что было заложено трудами ЯБ.
Ударные и детонационные волны были, пожалуй, первой и самой глубокой любовью ЯБ, а его путь в науке был последовательным изучением взрывных явлений разной физической природы, от взрывов химических к взрывам ядерного и космического масштабов.
Он внес основополагающий вклад во многие научные направления; в последние годы был всецело поглощен космологией, но он всегда испытывал «особую слабость» к мощным ударным и детонационным волнам, называя эту тему «вечнозеленой», был в курсе, собирал материал для новой монографии по ударным волнам. Он живо и неформально интересовался происходящими здесь событиями и новостями, был вполне на профессиональном уровне в этой области.
Мне посчастливилось познакомиться с ЯБ и быть свидетелем как раз этого — «ренессансного» — периода его ударно-волнового творчества. Меня до сих пор поражает мощь и продуктивность интеллекта, абсолютная преданность науке и обаяние этой выдающейся личности, определившей облик, состояние и перспективы науки об ударных волнах на многие годы вперед.
Нашей стране повезло с Яковом Борисовичем. «Отец» американской водородной бомбы Э. Теллер неоднократно говорил при встречах (и даже написал это в предисловии к книге по физике высоких плотностей энергии1), что для России удачей было то, что к моменту работ по ядерной бомбе у нее были такие выдающиеся ученые, как Я. Б. Зельдович и Л. В. Альтшулер. А вот американскому ядерному проекту таких людей очень не хватало. Там были первоклассные специалисты по ядерной физике, но не было сильных «газодинамиков», в особенности тех, кто знает и ядерные, и газодинамические проблемы одновременно. Ту же мысль высказал мне профессор X. Бете, считая самой серьезной проблемой в создании американской ядерной бомбы именно газодинамическую часть и отсутствие соответствующих специалистов-газодинамиков.
Любопытно, что ЯБ создал свою знаменитую теорию детонации более чем вовремя — как раз в тридцатые годы, к открытию в 1939 г. О. Ганном и Р. Штрассманом деления ядер урана под действием нейтронов.
Мое знакомство с ЯБ состоялось заочно где-то в середине 60-х годов, когда нам — студентам аэрофизического факультета МФТИ читали секретный курс физической газодинамики, имея в виду подготовку специалистов для {260} работы над ядерными и плазменными ракетными двигателями, а также над гиперзвуковой аэродинамикой входа в атмосферу боеголовок и космических кораблей. Так вот, добрая половина необходимого нам материала содержалась в только что вышедшей книге Я. Б. Зельдовича и Ю. П. Райзера, которой широко пользовались наши преподаватели и которую я видел на рабочих столах разработчиков ракетной техники в сверхсекретном тогда НИИ–1 (ныне ГНЦ им. Келдыша).
Именно работы по физике ударных волн привели к нашему скорому личному знакомству. Дело в том, что для создания ядерного ракетного двигателя с плазменным реактором необходимы сведения об уравнении состояния и составе плазмы урана, водорода, лития в области высоких давлений и температур. Проблема оказалась трудной и вполне фундаментальной, а наш руководитель проекта член-корреспондент АН СССР В. М. Иевлев, обладая большой широтой взглядов и физической интуицией, поставил в Минобщема-ше масштабные исследования фундаментальных свойств неидеальной плазмы.
В одной из созданных тогда установок ударные волны применялись не только для сжатия и разогрева плазмы цезия, но и одновременно для измерений параметров уравнений состояния ударно-сжатой плазмы. Данные получались в термодинамически не полном виде, так как не содержали температуру и энтропию. Темой моего диплома, а затем и кандидатской диссертации стало построение термодинамически полного уравнения состояния по данным ударно-волновых измерений, получившее впоследствии название «проблема Ферми-Зельдовича». Сделав эту задачу в достаточно общем виде, и применив этот формализм к неидеальной плазме цезия и других металлов, я опубликовал результаты в ЖЭТФ и, закончив аспирантуру, был вынужден кардинально сменить тематику.
Отсутствие московской прописки и более чем туманные перспективы с жильем привели к распределению во Владивостокский институт автоматики. Был куплен билет и получены подъемные. Оставалась последняя формальность — сделать двадцатиминутный доклад на Симпозиуме по горению и взрыву в Ленинграде и покончить с ударноволновой тематикой, как казалось, навсегда.
В маленькой аудитории было полно народу, а в первом ряду в одиночестве сидел плотный подвижный человек средних лет, который, перебивая докладчика вполне раскованно, вел дискуссию с элементами агрессивности и нажима. Досталось и мне, но, не зная, что это «сам Зельдович», я тоже не был вполне политкорректен. Словом, сильно поспорили, а когда мне сказали, кто был мой оппонент, я лишился дара речи. После моего доклада и пикировки ЯБ вполне спокойно и доброжелательно продолжил дискуссию в коридоре, предложив ряд новых содержательных задач в развитие доклада. Я с извинениями стал отказываться, ссылаясь на отъезд и смену тематики. «Сейчас я все устрою», — сказал ЯБ и тут же в фойе конференции подвел меня к академику Н.Н. Семенову и члену-корреспонденту АН СССР Ф.И. Дубовицкому, которые пригласили меня в Черноголовку, что я считаю большой своей жизненной удачей и за что всю жизнь буду благодарен ЯБ. Большой удачей я считаю и то, что таким образом я попал на «орбиту Зельдовича» и имел счастье {261} многие годы общаться, работать и учиться у этого феноменального человека.
Кстати, в том же разговоре он обратил внимание на свою короткую заметку в ЖЭТФе (1962, т. 2, с. 675–685), в которой он развивал похожие идеи и на которую я не сослался. Мое незнание этой работы ЯБ резко осудил, продемонстрировав особую щепетильность людей этого круга (Л. В. Альтшулер, Г.М. Гендельман, С.Б. Кормер) к приоритетным делам. За этим, мне кажется, стоит не только естественное желание застолбить свои результаты, но, что много важнее, — большое уважение к труду и результатам коллег и, конечно, к своему собственному, необходимость справедливой оценки результата, корректность и Внутренняя культура человеческих взаимоотношений в науке.
Все это сейчас как-то теряется и уходит и у нас, и за границей. Люди увлекаются самоцитированием и стараются не замечать сделанного другими. Наверное, это издержки системы грантов, основанной на особой технике подготовки бумаг для референтов.
Однажды, на одной из Гордоновских конференций по высоким давлениям, развязав дискуссию на тему нецитирования одной из работ ЯБ по пористым адиабатам, я получил в ответ вполне откровенное признание одного американца: «Что же делать? Придумаешь что-то стоящее, а оказывается, это уже сделал и опубликовал Зельдович!» Так или иначе, но вот уже третье поколение открывает для себя обширное творчество ЯБ, к сожалению, не везде известное за рубежом. Хотя во многих лабораториях книга Я. Б. Зельдовича и Ю. П. Райзера и юбилейный двухтомник работ ЯБ лежат на самом видном месте. Но, тем не менее, влияние ЯБ на ударно-волновую науку на западе исключительно велико и плодотворно. Об этом прекрасно написал профессор Р. Н. Киилер в статье «Размышления американского ученого о работе академика Я. Б. Зельдовича в области динамической физики высоких давлений», УФН, 1995, №51).
ЯБ очень много и продуктивно работал сам и требовал того же от других. Обсуждения кончались предложением доделать что-то и завтра — послезавтра принести результаты. Поражала его ответственность и обязательность в научных делах.
Его обзорные доклады на симпозиумах по горению и взрыву были яркими и глубокими с большой ориентацией на перспективу. А не на дела дней минувших, как это любят делать наши научные генералы. При этом ЯБ тщательно готовил свои выступления и доклады, советовался с широким кругом специалистов, просматривал литературу и будоражил коллег новыми идеями и предложениями. Он остро чувствовал свою ответственность за состояние науки о горении и взрыве в стране, всячески возбуждал активность и искал новые задачи, подходы. ЯБ создал и возглавил в Академии сильный и многопрофильный Совет по горению.
Одним из первых ЯБ оценил возможности импульсных лазеров и пучков заряженных частиц для генерации ударных волн и активно призывал этим {262} заниматься. Сегодня это вылилось в одно из наиболее ярких направлений в физике высоких плотностей энергии с массой новых и неожиданных эффектов и приложений. Также он продвигал работы по физике неидеальной плазмы, считая, что именно там есть много интересного и неожиданного и что именно мощные ударные волны наиболее подходящий инструмент для изучения этих экзотических состояний вещества. Он сразу же оценил возможности мощных ЭВМ и активно участвовал в работах по математическому моделированию динамики плазмы, релей-тейлоровской неустойчивости, по расчетам нестационарных явлений в детонации и по моделированию критического диаметра направленного взрыва конденсированных ВВ. Его феноменальная интуиция здесь была неоценима.
Начав свою научную работу экспериментатором, ЯБ очень тонко понимал эксперимент, много и с удовольствием работал с экспериментаторами, и эта работа была крайне продуктивна. Обладая громадным опытом прикладных и инженерных работ, он в полной мере понимал специфику ограничения теоретических и экспериментальных методов, говоря: «Теоретики на 100% верят экспериментальным данным, а экспериментаторы считают теоретический результат стопроцентной истиной. Но те и другие не знают, что жизнь где-то посередине».
Приезжая к нам на взрывные стенды в Черноголовку, он часами обсуждал постановки и результаты опытов, вникал, казалось бы, в мелкие детали и всегда предлагал остроумные подходы, часто выводившие из тупика. Но главное — это его способность интерпретировать экспериментальные данные, часто даже без оценок, благодаря удивительной своей интуиции и большому опыту спецработ.
В начале 70-х годов, в эпоху расцвета импульсного термояда, возникла идея использовать конические мишени для квазисферического ударно-волнового сжатия термоядерной плазмы. Идея показалась привлекательной. Собралась большая кооперация: ИАЭ использовал релятивистские электронные пучки, ИОФАН — лазеры, ФИХФ — химические ВВ и электровзрыв фолы. Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау взялся за теорию. Организовали кооперацию быстро, без типичной для нашего времени волокиты, уймы бумаг и формализма. В первых же выстрелах получили 103—107 термоядерных DD-нейтронов. Приехало большое начальство — Н. Н. Семенов, A.M. Прохоров, Ю.Б. Харитон, проверили все еще раз — нейтроны подтвердились. Возникла интересная перспектива приложений, связанная с благоприятным скейлингом по размеру мишени. ЯБ внимательно ознакомился с данными, предложил ряд новых постановок, которые показали определяющую роль кумулятивных эффектов, нарушающих скейлинг, но удивительно хорошо описывающих практически все опытные данные.
Работая над этой задачей, он призывал шире использовать технику химического ВВ для получения горячей плазмы, как термоядерной, так и неидеальной. Кстати, одна из похожих взрывных термоядерных идей в комбинации с электродинамическим преднагревом получила сейчас неожиданное и перспективное развитие.
ЯБ дал путевку в жизнь и другим направлениям работ, основанным на применении ударных волн в физике неидеальной плазмы. Хорошо известен {263} его основополагающий вклад в динамическую физику высоких давлений, когда ЯБ вместе со своими коллегами (Л.В. Альтшулером, СБ. Кормером, В. В. Крупниковым, А. А. Банановой) провели пионерские эксперименты по ударно-волновому сжатию веществ до мегабарных давлений. Эти опыты настолько опередили свое время, что американские коллеги, не зная деталей генерации, полагали даже, что эти ультравысокие давления получены при столкновении баллистических ракет. Эти замечательные работы 60-х годов относились к металлам и диэлектрикам, в то время как плазменные состояния были вне сферы действия динамической техники высоких давлений.
Как всегда помог случай. В начале 70-х годов, попав с легкой руки ЯБ в Черноголовку, я пошел на межинститутский семинар, который вел тогда академик Н. Н. Семенов, и где собирались ученые всех институтов центра. Обсуждался вопрос о плазме полупроводников и ее неидеальности. По ходу докладов выяснилось, что очень мало известно о физических свойствах плотной плазмы с сильным межчастичным взаимодействием, о ее фазовом составе и термодинамике. Возникла острая дискуссия, и мы предложили провести динамические эксперименты в этой области, отметив, между прочим, что известны параметры критических точек только у 3-х из всех этих металлов, составляющих 80% всех элементов периодической системы. Академик Н. Н. Семенов, который до этого спокойно следил за дискуссией, попивая крепкий чай, не на шутку встревожился: «Это полное безобразие! Не может такого быть! Вы что-то путаете. Мы еще до войны говорили с Зельдовичем об измерениях критических точек металлов. Неужели с тех пор ничего не сделано? Я пошел ему звонить!» Минут через двадцать Николай Николаевич вернулся в аудиторию еще более расстроенный и сказал, что Зельдович подтвердил отсутствие данных по околокритическим параметрам. ЯБ ему сказал, что это интересная и трудная область и он даже предсказывал вместе с Ландау (ЖЭТФ, 1942 г.) фазовые переходы в околокритической плазме, в связи с ее металлизацией. Тогда Зельдович даже придумал соответствующий эксперимент, «хотел стрелять в цезий из винтовки», но в то время ничего путного не вышло. Н. Н. Семенов, посетовав на судьбу и неповоротливость своих сотрудников, дал «зеленый свет» нашим работам по физике динамической плазмы, снабдив ее своей неформальной поддержкой до конца своих дней, а на замечание из зала, что в плане института такой темы нет, резонно заметил, что «и вас когда-то не было».
Этот эпизод, как и многие эпизоды такого рода, мне кажется, вполне передает дух научной свободы и демократизма, который царил в нашей академии тех лет и который так отличается от сегодняшнего смутного времени, когда во главу угла вместо живого дела ставят «концепции», «приоритеты» и «лоты». А реальное научное дело годами барахтается в бюрократическом болоте и, конечно, благополучно глохнет в безответственности и бестолковщине толпы околонаучных начальников.
Работы по критической точке металлов в результате «телефонного» импульса Зельдовича получили энергичное развитие. Возник метод адиабат разгрузки, позволивший достигнуть околокритических состояний у многих металлов и измерить параметры высокотемпературной части их кривых кипения именно в той области, которую Ландау и Зельдович считали наиболее {264} интересной с точки зрения металлизации и рельефного проявления эффектов неидеальности. Жаль, что ЯБ не увидел эти результаты, как и недавние результаты проявления плазменного фазового перехода и ионизации давлением плазмы при мегабарах.
Будучи человеком, азартно увлеченным наукой, переполненным идеями, он находил и притягивал к себе способных людей и плодотворно с ними работал, мало обращая внимание на формальности, чинопочитание и субординацию. Чем, как мне кажется, раздражал некоторых начальников, для которых он не находил несколько минут (в основном для обсуждения личных выборных дел), в то время как мы проводили с ЯБ многочасовые дискуссии и писали совместно статьи. Мне не известны реальные мотивы, но я убежден, что если бы ЯБ после «исхода» из Арзамаса оказался в родном ему Институте химической физики, польза нашему делу была бы громадная. Б особенности в связи с наступившим в 80-х годах для него и нас «ренессансом» горения и взрыва.
ЯБ был естественным и жизнерадостным человеком, любил шутки, подначки, анекдоты. Помню, после разговора в его теоркабинете в Капичнике он предложил заехать в ФИАН и по дороге продолжить разговор. Сидя за рулем своей Волги, перед воротами ФИАНа он вдруг обнаружил отсутствие пропуска. Было только удостоверение академика. И у меня тоже. «Ну ладно, попробуем проехать по академическому удостоверению. Заодно, узнаем, кто мы — академики или хрены собачьи!» Я подумал о чем-то другом и машинально спросил: «А почему Вы считаете, что одно исключает другое?» После чего ЯБ долго острил, что эксперимент в ФИАНе показал (нас пропустили по академическим удостоверениям), что высокое звание члена Академии наук вполне совместимо с причинным органом такого благородного животного, каким является собака.
По-моему, П. Л. Капице принадлежат слова, что науку надо делать весело и легко — ведь это часть жизни. Мне кажется, ЯБ обладал большим талантом быть естественным во всех проявлениях многогранной своей жизни — в науке, в дружбе, в юморе — везде! Он был радостен, пронзительно талантлив, естественно ярок, многоцветен и ослепителен — как Луи Армстронг с его неожиданными экспромтами, такими разными неповторимыми блюзами, и глубокими спиричуэле.
Заключая эти эклектические заметки и остро чувствуя пустоту, которую оставил его уход, я бесконечно благодарен ЯБ за то многое, что он дал нам всем в науке и в жизни. За этот пример безукоризненного поведения в трудных и сложных ситуациях и за ту (потерянную навсегда!) возможность просто позвонить ему и рассказать о новом — уж он-то оценит!
Впервые на «международную арену» мы, газодинамики нашего института, «прорвались» в 1963 году. Именно тогда в институте Химической Физики АН было организовано первое в стране широкое совещание по физике высоких {265} давлений, полученных, в частности, с использованием сильных ударных волн. Кто задумал это совещание, с какой целью, и кто разрешил его проведение — я не знаю до сих пор, но на совещании впервые открыто были рассказаны широкой научной общественности наши достижения (данные ВНИИЭФ) по широкому кругу изучаемых в те времена открытых вопросов. А их было немало. Это вопросы ударного сжатия веществ, определение в этих условиях скоростей звука, изучение электропроводности диэлектриков, упруго-пластических течений, электрических явлений и т.п.
Очень может быть, что одна из целей этой конференции (с нашей стороны) состояла в том, чтобы показать институтам Большой Земли, в той или иной мере соприкасающимся по своей тематике с нами, возможности экспериментальных исследований в нашем институте и подчеркнуть тем самым наши преимущества перед ними.
Нельзя исключить и того, что Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон, Л. В. Альтшулер, С. Б. Кормер и другие наши ученые хотели тем самым подчеркнуть свое право на лидерство и научное руководство конкретными направлениями исследований. Кстати, большинство из них присутствовали на конференции и выступали со своими обзорными докладами. Конкретные же, небольшие сообщения по результатам исследований, на основе которых и проводились обзоры, делали сотрудники нашего института.
Было много различных докладов и от «открытых» московских и ленинградских институтов, но, как мне казалось, преобладали на конференции все же наши доклады. К тому же изложенные в них результаты были по многим параметрам пионерскими. Если при этом иметь в виду» что об этих результатах открыто было сказано впервые, то понятно впечатление, которое они произвели на участников конференции. Помню, как сотрудники Института Физики Земли после сообщения о сжатии кварца давлениями 2 миллиона атмосфер в кулуарах буквально засыпали меня вопросами о возможностях исследования других минералов и горных пород, представляющих для них интерес. Кстати, после этой конференции исследования в этом направлении были осуществлены именно на предоставленных нам образцах минералов и горных пород сотрудниками этого института.
Но это, так сказать, присказка. Я же хочу рассказать о конфузе, произошедшем со вшой на конференции. А дело было так.
К своим сообщениям мы все готовились очень тщательно. Иллюстрации, тексты выступлений, даже возможные вопросы (и ответы, конечно) были заранее отрепетированы на специальных семинарах, организованных Альт-шулером и Кормером. Помню, что нам в те времена нельзя было рассказывать о схемах наших полусферических измерительных устройств. А многие рекордные результаты были получены именно на этих устройствах. Как быть? Сообща придумали такой ответ интересующимся этим вопросом: «мы не можем пока рассказать вам об этих устройствах, поскольку материалы по ним в настоящее время находятся в Комитете по изобретениям, и до его решения мы не имеем права говорить о них». Вопрос этот попал, помню, М.В.Синицину, который четко, как и договаривались, ответил на него.
У меня было два коротких сообщения: об ударном сжатии двух минералов (сейчас уже не помню точно каких) и об упомянутом сжатии кварца. {266} Накануне докладов я приехал к Альтшулеру, на его московскую квартиру, где в окончательном варианте была одобрена моя завтрашняя речь.
Поясню читателю, что при исследовании кварца мы подтвердили данные американцев по его превращению под действием давлений ударных волн в наиболее плотную (по сравнению с исходной) фазу. «Заодно» мы существенно (более чем в два раза) превысили полученные американцами давления. Но еще задолго до этого эта фаза была открыта (впервые в мире!) в Институте Высоких давлений АН СССР на статической установке (мощном прессе) аспирантом Стишовым и инженером Поповой. Директором института был академик Верещагин. По первым слогам этих трех фамилий у нас называли новую модификацию СТИПОВЕРИТ. За рубежом, однако, ее окрестили иначе — СТИШО-ВИТ. Было такое разночтение. Мы, в СССР, — стиповерит, они, за рубежом, стишовнт. Причем в мировой печати к тому времени уже начало закрепляться их название. Нам (по крайней мере, мне и, видимо, Альтшулеру) было обидно, что название открытой у нас в стране фазы (а в те, да и в теперешние времена, подобных важнейших для геофизики открытий в мире было крайне мало), дают зарубежные ученые, а не наши.
Вот при обсуждении моего доклада у Альтшулера он и предложил мне обратить на это внимание конференции: ты, мол, скажи где-нибудь, что в открытии стиповерита принимали участие трое, а в названии фазы остался лишь один! Как-то несправедливо, мол, получается, товарищи геофизики! А уж если Альтшулер советует, то... В своем сообщении я и сказал, что пора, мол, геофизикам договориться о названии новой фазы. И поскольку в ее создании есть вклад троих исследователей, то и назвать ее надо — СТИПОВЕРИТ. Вот так. Ну, сказал, мол, и сказал. Подумаешь, какое дело. Но... все оказалось не так просто.
На докладе было много слушателей. Среди них была большая группа и геофизиков, в том числе маститых ученых. Мне-то было все равно — я не знал ни простых, ни заслуженных. Но присутствующий Я. Б. Зельдович уж, по крайней мере, маститых ученых знал.
В перерыве, когда мы в сторонке обсуждали с Альтшулером закончившиеся доклады, он неожиданно подошел к нам и, мельком взглянув на меня, обратился к Альтшулеру: «Лев Владимирович! Что это позволяют себе ваши сотрудники! Вы что? В геофизики, что ли, записались? — и ко мне. — Кто вам дал право давать советы людям, которые годятся вам в отцы! Уж они, как-нибудь, и без вас разберутся с этим самым...как там его...стишовитом! Вы хоть понимаете, что залезли не в свое дело! Вы занимаетесь, как я понимаю, уравнениями состояний? Вот и занимайтесь ими, а не лезьте не в свои дела!»
Я стоял как побитый, не зная, что и как возразить академику. Вроде бы я предложил это без серьезных намерений, а так, скорее, в шутку, для оживления доклада. Но вот такой неожиданный поворот получило мое «предложение». Альтшулер пытался как-то поддержать меня, но его тут же оборвал Зельдович:
«Уж тебе-то, Лев, я думаю не надо пояснять нетактичность таких предложений!» {267}
Я очень расстроился. Ничего себе! Получить нагоняй от самого Зельдовича! И зачем я полез в эту самую «геофизическую политику»? Ну ладно, я действительно не понимал в этих делах. Но Альтшулер-то? Он что, тоже не понимал? Да и вообще, вроде я ничего уж такого крамольного и не сказал! Что же так раздосадовало Зельдовича?
И вот что я понял. Он был руководителем Конференции и, кроме того, фактическим главой нашей фирмы (Харитон в последний момент не приехал). И как ее глава он в определенном смысле отвечал за нас. Поэтому, когда кто-нибудь из его сотрудников (в данном случае — я) поступал, по мнению Зельдовича, не корректно по отношению к его коллегам, он нес некую моральную ответственность за это.
А может, кто из академиков-геофизиков прямо выразил ему свое неудовольствие по поводу моего «предложения»? Может быть и так. Вот он и поучил меня элементам корректности.
Наверное, есть и другие варианты объяснений, но мне ближе этот. Такой вот случай. И такой урок. Я запомнил его.
Прошло много лет (уж никак не меньше десяти). Была конференции по быстропротекающим процессам то ли в Алма-Ате, то ли в Ташкенте. Случайно я столкнулся с ЯБ (так все называли у нас Зельдовича). Как говорится «лоб в лоб». В обед, около столовой. Поздоровался. И вдруг в ответ:
— Подождите... Так как сейчас называют ваш плотный кремнезем-то?
— Стишовит, — ответил я.
— Ну вот, а вы, помнится, предлагали назвать его...стипо...
— Стиповеритом, — подсказал я,
— Да-да, стиповеритом! Значит, не послушались вас геофизики! Ну что ж, не огорчайтесь!
И мы разошлись, каждый в свою сторону. А я все думал: как же мог Зельдович запомнить тот, скорее всего, рядовой для него случай в Институте химфизики? Ведь столько лет прошло!
Нет сомнения, что академик Я. Б. Зельдович был самым талантливым ученым в области динамической физики высоких давлений. В этой области, пожалуй, ему не было равных, кроме Нобелевского лауреата П. В. Бриджмена. В самом деле, выдающееся наследство представлено сегодня в работах его коллег и учеников — профессора Л. В. Альтшулера, члена-корреспондента РАН СБ. Кормера и академика В.Е. Фортова. Необходимо отметить, что работы этих исследователей значительно превосходят работы американских исследователей в той же области как в качестве, так и в количестве достигнутых результатов. В этой статье я буду говорить о применении динамических {268} методов в проблемах, которые лежали в области интересов академика Я. Б. Зельдовича: физика твердого тела, химическая физика и геофизика. Хотя прикладная физика ударных волн представляла значительный интерес для Я. Б. Зельдовича, это не было для него основным научным делом, поэтому я этого вопроса коснусь мимоходом.
За долгий период «холодной войны», которая теперь позади, нам не хватало того свободного духа научного содружества, который у нас есть сейчас. Не хватало этого и Я. Б. Зельдовичу, как и всем, кто был лишен опыта изучения его работ и встреч с ним лично. В этой статье мне хотелось бы кратко описать две встречи с Я. Б. Зельдовичем. А закончить я хотел бы историческими перспективами американо-советской программы по динамической физике высоких давлений.
Те из нас, кто работал над военными программами, начинали с математической работы Куранта и Фридрихса, но нашими основными учебниками были двухтомник Я. Б. Зельдовича и Райзера, американская работа Ватсона, Бонда и Велча, различные обзорные статьи Альтшулера и Кормера, а в области детонации — работа Зельдовича и Компанейца.
На конференции Международной ассоциации развития исследований по физике и технике высоких давлений (МАРИВД), организованной покойным академиком Л.Ф. Верещагиным в Москве в 1975 г., Л. В. Альтшулер, С.Б. Кормер, А.И. Павловский и другие ученые из Арзамаса–16 впервые встретились с коллегами из США. Но только на конференции COSPAR в Будапеште в 1980 г. я впервые имел счастье встретиться с академиком Я. Б. Зельдовичем. К этому времени Я. Б. Зельдович был целиком захвачен астрофизикой. Это был период большого возбуждения в обществе в связи с открытиями пульсаров, взрывов сверхновых, черных дыр, нейтронных звезд и других экзотических объектов, и происходили они чуть ли не ежедневно. Когда представлялся доклад по этим темам, Я. Б. Зельдович брал свои фломастеры и готовил транспаранты. По окончании выступления быстро выходил на подиум и давал пояснения или подводил итог работы, часто указывая возможные пути для будущих исследователей. Особенно внимателен он был к молодым исследователям, только входящим в эту восхитительную новую область науки.
Я. Б. Зельдович не присутствовал на заседаниях секции геофизики высоких давлений, но я имел возможность побеседовать с ним однажды вечером в советском посольстве. Я был судьей в футбольной встрече российской и венгерской команд, где с российской стороны выступал академик Р.З. Сагдеев, который пригласил меня на прием в честь советской делегации в тот вечер в посольстве. На приеме я опять столкнулся с Я. Б. Зельдовичем. «Ах, профессор Киилер, — сказал он, протягивая руку в направлении главной улицы Будапешта. — Вон там гимназия, где учились Теллер, Винер, фон Карман, Сцилард и фон Нейманн. Какая гимназия!» Я. Б. Зельдович знал, что в то время я был сотрудником известного ученого — атомщика Эдварда Теллера и прекрасно знал работы всех этих великих людей, а он был лишен возможности встречаться с ними.
Во второй и последний раз я встречался с Я. Б. Зельдовичем в Москве, в его кабинете в Институте Л. Д. Ландау. Эту встречу организовал В. Е. Фортов {269} в июне 1986 года, и я был в Москве проездом из Киева, где как президент МАРИВД я участвовал в подготовке конференции 1987 г. Мы обсудили несколько вопросов, касающихся физики высоких давлений и детонаций, включая пути проверки гипотезы Чепмена-Жуге, и понижения температуры вещества при прохождении сильной ударной волны в молекулярном азоте.
Работа в области высоких динамических давлений начиналась с изучения развития детонации конденсированных взравчатых веществ (ВВ) и их применений. Закономерности, описывающие поведение сильных ударных волн, были впервые установлены X. Гюгонио в 1870 г., и краткое изложение основных исследований по общепринятым военным приложениям обсуждалось в отличном сборнике, изданном Бурком и Вейссом.
Первой и наиболее значительной теоретической публикацией в США по ударным и детонационным волнам: была публикация в Лос-Аламосе Ханса Бете, которая теперь существует как рассекреченный лос-аламосский отчет. Он вымостил дорогу к началу нашего понимания, как использовать детонационные и ударные волны для физических исследований. Немного позже Я. Б. Зельдович и Л. В. Альтшулер начали применять технику ударных волн для определения уравнения состояния. Большая часть этих работ началась в Арзамасе–16 в 1948 г.
Поскольку в США работы по достижению высоких давлений последовательным нагружением или с помощью ядерных взрывов были чрезвычайно ограничены и большей частью не опубликованы, я оставляю эту тему для обзора моим коллегам — академикам Аврорину и Фортову.
Вспоминается, что Я. Б. Зельдович возвращался к исследованию высоких динамических давлений дважды в своей карьере: в первый раз для того, чтобы прояснить явление электромагнитных эффектов в ударных волнах, и в другой раз, чтобы обеспечить своим коллегам решение проблемы некоторых аномальных измерений температур в ударных волнах. Было бы прекрасно, если бы Я. Б. Зельдович мог предложить коллегам из Ливермора некоторую помощь, которой они могли бы руководствоваться, используя эти сложные оптические приборы в своих экспериментах.
Советская программа была всегда чрезвычайно сильной и исключительно хорошо продуманной. Сразу после Второй мировой войны Л. В. Альтшулер взял на себя лидерство в программе Арзамаса–16, а вскоре стал активно работать СБ. Кормер, ученик академика Я.Б. Зельдовича. Их интересы были взаимодополняемы; Л. Б. Альтшулер исследовал прямые ударные волны, отраженные ударные волны, достижение экстремально высокого давления ступенчатым нагружением; также у них было несколько работ по проводимости, а С. Б. Кормер занимался исследованием оптических эффектов. Альтшулер выполнил первую работу по высокому давлению, используя систему сферических сходящихся волн высокого давления, и применение ядерных взрывов для достижения давлений в диапазоне десятков Мб. Кормер был первым, кто применил пористые вещества для получения высоких температур в большом диапазоне, — метод, впервые предложенный Я. Б. Зельдовичем. Работа на пористых материалах проводилась в то время на установках исследования высоких динамических давлений в Черноголовке. В 1966 г. Альтшулер оставил Арзамас–16, но продолжал исследования в ударных волнах. {270} Эксперименты Кормера, проводившиеся до его смерти в 1980 г., включали большое число оптических экспериментов, многие из которых проводились совместно с академиком Я. Б. Зельдовичем. Он владел этими методами в совершенстве и был способен измерить температуры плавления щелочных металлов. В этих экспериментах ему удалось показать, используя оптические методы, что промежуток диапазона уменьшения, представленный американскими учеными на основании измерения проводимости, был неверным и вызван ударным возбуждением электронов и дислокациями, порожденными прохождением ударной волны.
Большая часть работ по ударным волнам в России проводится сегодня в Черноголовке одним из учеников Я. Б. Зельдовича — академиком В. Е. Фортовым и его талантливыми коллегами. В.Е. Фортов уникален, чем-то аналогичен П. В. Бриджмену в создании совершенно новой области физики — динамической физики плотной плазмы. В течение многих лет существовало мнение, что некоторые состояния плазмы не могут быть получены экспериментально; это были экстремально плотные состояния, вплоть до состояния критической плотности и температуры до нескольких электронвольт. Используя методы ударно-волнового сжатия посредством высокоскоростных ударников для детального изучения изэнтроп расширения путем регистрации давления в сочетании с измерениями электропроводности и спектроскопическими методами, а также экспериментами в районе сотен Мб, используя ядерные взрывы, В. Е. Фортов открыл обширную перспективу PV-пространства, прежде неисследованного, и обеспечил новое поколение теоретиков результатами экспериментов, о которых они ранее и не мечтали. Один известный в США ученый в области ударных волн сказал, что «он опередил исследования в области ударных волн на ближайшие 10 лет».
Неужели исследования в области ударных волн насыщаются? Судя по работам, продолжающимся появляться в России, вовсе нет. Но рассмотрим другие возможные работы — работы на границах науки, которые пока не могут быть выполнены методом алмазных наковален, широко применяемых сейчас. Одна из нерешенных пока проблем — это доказательство гипотезы Чепмена-Жуге. Это требует непосредственного измерения скорости звука в продуктах детонации. А относительно фазовой диаграммы углерода? Работа над этой проблемой, начавшаяся вплотную в Лос-Аламосе в 1980-е годы и показавшая, что линия плавления алмаза имеет положительный наклон на Р-T-диаграмме (открытие, которое полностью изменило наш взгляд в этом вопросе), уже несколько лет как прекращена. Является ли жидкая фаза, находящаяся в равновесии с алмазом, проводящей или изолирующей? И если она может быть и тем, и другим, то является ли фазовый переход между двумя этими жидкими состояниями переходом первого рода? Линия плавления железа была определена, но только по принципу Гюгонио. Определение наклона этой линии могло бы помочь установить существование (или отсутствие) тройной точки ε-железо, γ-железо, жидкость. Этот вопрос изучается сейчас с помощью «динамических» экспериментов, проводящихся на алмазных наковальнях. Аммоний и вода были преобразованы в полностью ионизованные плотные жидкости. Когда они переходят в металлическое состояние? Остроумные эксперименты Шанера на взрывающихся проволоках {271} могут определить поверхностное натяжение и вязкость в тугоплавких металлах. Вязкость сильно сжатых жидкостей и плазм также может быть определена. Многие геофизические измерения также могут быть проведены. Это только некоторые из областей, подлежащих исследованию.
В Соединенных Штатах сужаются возможности проведения экспериментов такого типа. Ведущие ученые уходят, нет научного руководства, лаборатории сокращают работы этого типа и делается акцент на конверсионные проблемы. В заключение я хочу отметить, что в богатом наследстве академика Я. Б. Зельдовича — сильная и продуктивная исследовательская программа по физике высоких динамических давлений в России. А я жду нового лидерства и будущего возвращения США к активной программе в этой области.
| {272} |
«Если хочешь быть счастливым — будь им!» — это изречение Козьмы Пруткова у меня прочно ассоциируется с образом ЯБ. Встречаясь с ним в течение 27 лет, я не мог припомнить ЯБ в подавленном настроении. Ему, как мне кажется, всегда сопутствовала атмосфера удачи, успеха, счастья. Вспоминаются постоянная активная деятельность, обсуждение научных проблем — своих (чаще) или чужих, обсуждение планов, перспектив. Появление ЯБ в отделе немедленно приводило в движение всех окружающих. Постоянное активное общение с сотрудниками и коллегами, стремительный и часто неожиданный переход от одного дела к другому, от работы к отдыху и наоборот — эти особенности стиля ЯБ позволили ему интенсивно и с успехом заниматься научной работой до последних дней.
Я пришел работать к ЯБ в Институт прикладной математики АН СССР в тот период, когда он только начал заниматься релятивистской астрофизикой (этот термин появился намного позже) и теорией сильных гравитационных полей. Этот круг проблем был для него совершенно новым. Тем интереснее было наблюдать, как эффективно осваивал ЯБ специфические задачи астрофизики, как стремительно становился научным лидером и создавал мощную школу в этой области науки.
Необычайно высокий и стабильный творческий потенциал ЯБ гарантировал свободу обсуждений (по современной терминологии — гласность) и его доброжелательное отношение к критическим замечаниям. В памяти остались 27 лет непрерывных споров, и не только по научным вопросам... Я до сих {273} пор удивляюсь, почему наша совместная работа (и споры) не прекратились гораздо раньше!
Можно много говорить об особенностях подхода ЯБ и к научным, и к бытовым проблемам, вспоминать его многочисленные и всегда афористичные высказывания как по существу вопросов, так и по методам их решения. Это неисчерпаемая тема, лишь в малой степени отраженная в его статьях, книгах и выступлениях. Но сейчас мне хочется привести лишь два примера, на мой взгляд, наиболее ярких.
В один из дней 1969 г. ЯБ рассказывал в отделе свои новые результаты — приближенную нелинейную теорию гравитационной неустойчивости. К этому времени проблема стала актуальнейшей, многие пытались такую теорию построить. В научных журналах были опубликованы решения некоторых частных задач, построено несколько феноменологических моделей (среди них были очень полезные), была прекрасно разработана и детально изучена линейная теория, но дальше...
И вот нам предлагалась новая теория, в которой гравитация играет второстепенную роль, а выводы настолько далеки от ожидаемых, что в новую теорию трудно поверить. Да, ее математическая часть бесспорна, но какое отношение все это имеет к гравитации? Казалось невероятным, что на нелинейном этапе гравитация не играет заметной роли и неоднородности развиваются в кинематическом режиме!
Почти год мы в отделе с разных сторон рассматривали новую теорию, привыкали к ней, выясняли ее возможности и учились использовать их в приложениях. За рубежом эту работу ЯБ признали лишь через 7 лет, в 1977 г., когда предсказанная, по-существу, еще в первой работе ЯБ и подтвержденная позже в численных моделях крупномасштабная структура Вселенной была обнаружена в наблюдаемом распределении галактик. В дальнейшем теория ЯБ послужила отправной точкой для разработки теории лагранжевых отображений (части теории катастроф) и теории инерционной устойчивости, а сегодня лежит в основе всех теорий образования структуры Вселенной.
Неоднократно слушая доклады ЯБ по различным вопросам, связанным с его теорией, я пришел к выводу, что в ее разработке большую роль играла красивая аналогия с задачей движения свободных частиц (эта простая задача позже оказалась полезной и в теории инерционной неустойчивости). Но я так и не собрался спросить у ЯБ, из каких же соображений он написал свое знаменитое уравнение движения частиц, описывающее развитие гравитационной неустойчивости и в линейном, и в нелинейном режиме. А ведь он уже в 1970 г. отчетливо понимал все основные физические предположения, лежащие в основе этой теории!
Второй качественный сдвиг в космологии, связанный в моей памяти с именем ЯБ, произошел весной 1980 г. К этому времени сложилась напряженная ситуация: наблюдательные оценки флуктуации температуры реликтового излучения оказались заметно ниже существующих теоретических предсказаний. Многочисленные обсуждения проблемы и теоретиками, и наблюдателями зашли в тупик. Казалось, под угрозой основы космологии. Необходимо было срочно дополнять космологические модели и модернизировать развитую ЯБ теорию, которая давала хорошее описание многих {274} нетривиальных наблюдений, но не могла объяснить, почему радиоастрономы не видят предсказанных флуктуации реликтового излучения. Трудности можно было преодолеть, включив различные гипотетические процессы, но все они казались весьма экзотическими...
Весной 1980 г. в Институте теоретической и экспериментальной физики группа В. А. Любимова закончила первую серию экспериментов по измерению массы нейтрино. Вернувшись с семинара в ИТЭФ, где были доложены результаты этих измерений, ЯБ сказал, что обнаружена масса электронного нейтрино, равная примерно 30 эВ, что это может быть существенным для космологии и это надо просчитать. Я не буду останавливаться на научных последствиях высказанного ЯБ предположения (модели были просчитаны, потом усовершенствованы, и сейчас, через 14 лет, работа все еще продолжается). Мне хочется на этом примере проследить некоторые особенности психологии научного творчества и эволюции мировоззрения большого ученого.
К 1980 г. все физики твердо «знали», что нейтрино — безмассовая частица, для такого заключения есть серьезные экспериментальные и, более того, теоретические аргументы: что такая «ересь», как массивное нейтрино, противоречит всему на свете и не имеет шансов на успех и т.д... Проблема была не столько в физике, сколько в человеческой психике.
Введение в космологию «скрытой массы» в форме слабовзаимодействующих массивных частиц — не только новая модель Вселенной, но и серьезное изменение взглядов на физику микромира (теперь вопросы связи космологии и микрофизики изучает космомикрофизика). Я так и не узнал, почему в 1980 г. ЯБ счел нужным заняться космологией с массивным нейтрино. Ведь в 1972 г. он (при мне) от такой возможности недвусмысленно отказался в дискуссии с американским физиком С. А. Бладменом. Вероятно, в 1980 г. ситуация и в физике, и в астрофизике уже была другой: отчетливо ощущалась необходимость и неизбежность кардинальных решений, новые идеи носились в воздухе, и семинар в ИТЭФ сыграл роль детонатора. Так или иначе, ЯБ решил попробовать сделать «маленькую» задачку — учесть в космологии массу нейтрино. В результате появилась «нейтринная» модель расширяющейся Вселенной, сразу получившая международное признание и сильно повлиявшая на современную космологию.
После краткого периода эйфории началась тяжелая психологическая перестройка. Если прежде ЯБ стоял на позициях «бритвы Оккама» (не вводи лишних сущностей: запрещено все, что не является абсолютно необходимым), то теперь велись, и не только на семинарах, долгие разговоры о правомерности и необходимости введения тех или иных «экзотических» гипотез, о соотношении между «разрешенным» и «запрещенным», оправданным и избыточным... Шла серьезная работа по либерализации принципов подхода к физике, к методам построения физической теории, к науке вообще. Эта работа с большей или меньшей интенсивностью продолжалась и позже и, вероятно, во многом способствовала успехам ЯБ в создании теории «рождения» Вселенной (в которой нет недостатка в новых гипотезах). Кое-что ЯБ пишет об этом в автобиографическом послесловии ко второму тому своих избранных трудов. Для меня же в этой истории было в высшей степени поучительно наблюдать работу ЯБ над собой. Ведь в то время он приближался к семидесятилетию {275} и, как принято считать, имел уже установившиеся взгляды. Тем не менее, он резко меняет точку зрения, что требует немало душевных сил.
В постоянном общении с физиками масштаба ЯБ часто смещаются критерии и оценки, и многие неординарные события воспринимаются как повседневность. Только время восстанавливает их истинное значение. После перехода ЯБ в Институт физических проблем АН СССР наши контакты стали эпизодическими, и я вдруг осознал ставшую привычной потребность в его присутствии. Но оставалась ценная возможность поговорить с ним о тех или иных проблемах (не только научных). Теперь такой возможности нет...
Мы встречались несколько раз в год до самого последнего времени. ЯБ интересовался результатами, планами, перспективами, критиковал, помогал в конкретных вопросах. В последние два года он успешно занимался организацией работ по космомикрофизике. Активная научная и организаторская работа велась до последнего дня. Конец наступил неожиданно...
В памяти осталось неповторимое обаяние своеобразной личности ЯБ и ощущение энергии, успеха, счастья.
Яков Борисович, по моему убеждению, был не просто большим ученым, он был явлением в физике. Насколько я знаю, все, кому довелось общаться с ним в науке, считали это необыкновенным счастьем. Почему? Что в нем, как ученом, было необыкновенного?
Можно перечислить многое — и фундаментальное знание самых разных областей физики, а после того, как он начал интересоваться астрофизикой, — и знание этой науки, его легендарная физическая интуиция, математическая техника, совершенно нестандартные идеи в рассмотрении буквально каждого вопроса, к которому он обращался, наконец, абсолютная надежность его
заключений.
«В наш научный и технологический век Я. Б. Зельдович является одной из тех редких ценностей, которые стремится заполучить каждый университет и исследовательское учреждение: великий физик, чувствующий себя как дома и в дискуссиях в лабораторной экспериментальной технике, и в изысканной атмосфере теории атомного ядра и элементарных частиц, и в сугубо технологичных исследованиях ударных волн и взрывных явлений. Во все эти и многие другие дисциплины Зельдович внес фундаментальный вклад», — писали известные американские астрофизики К. С. Торн и В. Д. Арнетт1). Но, наверное, наиболее характерной его чертой была безграничная детская влюбленность в физику.
Можно сформулировать и совсем коротко: в науке он был Мастером. {276}
Наша первая встреча осенью 1962 г. была не совсем обычной. Я только что закончил аспирантуру Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга при МГУ (ГАИШ) под руководством А. Л. Зельманова и приступил там к работе. Моей специальностью была общая теория относительности (ОТО) и ее применения в астрономии. Тогда это была редкая специальность, ибо еще не были известны астрономические объекты, в которых поле тяготения очень сильное и надо пользоваться теорией Эйнштейна вместо ньютоновской. Не были еще открыты ни пульсары, ни черные дыры, ни квазары, без которых сейчас даже трудно представить астрономию. Только космология — наука о всей Вселенной — требовала применения ОТО.
На конференции в Тарту моя жена — Элеонора Коток (тоже астроном) услышала рассказ Якова Борисовича об эффектах ОТО при катастрофическом сжатии тел. Зная о скептическом отношении некоторых астрономов к ОТО и особенно — к перспективам ее применения в астрономии, Нора решила расспросить Якова Борисовича, стоит ли мужу заниматься столь экзотической областью. В разговоре она упомянула о моей кандидатской диссертации, где я рассмотрел возможность существования так называемого «полузамкнутого мира» — огромного сгустка вещества, которое своим тяготением сильно искривляет пространство внутри себя, почти замыкаясь в закрытый «кокон», и этот «мир» через узкую пространственную горловину соединяется с внешней Вселенной. Так случилось, что Яков Борисович в то время тоже сделал работу о возможности полузамкнутого мира. Он спросил Элеонору, как меня найти, и по приезде в Москву немедленно пришел в ГАИШ. Первый разговор был долгим, захватывающим для меня. Я увидел, что мой собеседник сразу все понимает до конца (до этого, да и после, я с подобным не встречался). До нашей встречи я лишь несколько раз слышал о Якове Борисовиче. Он незадолго до этого обратился к астрофизике, как будущему объекту научных интересов. Прежде Яков Борисович работал на закрытом объекте, и вполне естественно, что мы — молодые астрономы, о нем ничего не знали. Наверное поэтому у меня заранее не возникло робости перед знаменитостью. После же начала обсуждения никакого страха или неловкости вообще не могло возникнуть, так как Якова Борисовича интересовала истина, наука и ни о каком «неравенстве» собеседников не могло быть и речи.
В этот же первый раз я обратил внимание на его знаменитую интуицию — поразительную способность заранее, до проведения сложных расчетов или доказательств, знать совершенно нетривиальный результат. Если у него были веские физические аргументы в пользу какого-то вывода, он часто опускал строгое математическое доказательство результата. Так, чтобы показать, как полузамкнутый мир через горловину соединяется с нашей Вселенной, я строил точное довольно громоздкое решение, предполагая заполненность горловины веществом переменной плотности. Яков Борисович решил проблему, как говорится, одним росчерком пера — «сшил» два известных решения для пустого пространства. На мой вопрос о доказательстве того, что это действительно горловина, а не двойной проход одного и того же пространства в противоположных направлениях, он ответил: «Это же очевидно». Но мне это не было очевидно, и Яков Борисович спросил: «А как поступили Вы?» Я рассказал о веществе, заполняющем горловину. Секунду подумав, он сказал: {277} «Это разумно, я буду официальным оппонентом на вашей кандидатской диссертации». И в заключение предложил работать в его вновь создаваемой астрофизической группе в Институте прикладной математики, возглавляемом М. В. Келдышем — тогдашним президентом АН СССР.
В тот момент я еще не осознал кардинального поворота в моей жизни. Переходить на работу к Якову Борисовичу представлялось мне невозможным, ибо я уже работал в ГАИШе, который считал своим домом, чувствовал себя обязанным моему учителю — А. Л. Зельманову.
Но Яков Борисович настаивал. Он повел меня в институт Келдыша и после семинара представил президенту: «Это тот самый молодой человек, о котором я Вам говорил. Я хотел бы взять его в мою группу.
— В чем же дело, берите, — ответил Мстислав Всеволодович.
— Трудность в том, что он распределен в ГАИШ1.
— Так позвоните Ивану Георгиевичу (И. Г. Петровский — тогдашний ректор МГУ. — И. Н.) и договоритесь».
Тут Яков Борисович в несколько грубоватой манере сказал словами известного анекдота: «Мстислав Всеволодович, как говорится, папа может, да бык лучше...»
Президент рассмеялся и в тон ему ответил:
— Знаете, Яков Борисович, если использовать быка по всякому случаю, его ненадолго хватит. Ну, что с Вами делать, я ведь обещал Вам поговорить с Иваном Георгиевичем. Пойдемте ко мне.
Из кабинета Мстислав Всеволодович позвонил по «вертушке» Ивану Георгиевичу, тот велел мне сразу приехать и тут же написал распоряжение о моем переводе в институт Келдыша. Так начался шестнадцатилетний период моей работы под руководством Якова Борисовича.
Первым поразительным фактом, с которым я сразу столкнулся, было следующее. Яков Борисович, как я уже упоминал, только незадолго перед этим обратился к ОТО и астрофизике. По его словам, он знакомился с ОТО по знаменитому учебнику Л. Д. Ландау и Е.М. Лифшица, который считал непревзойденной классикой. По этому учебнику постигали ОТО многие студенты, в том числе и я. Премудрости этой науки казались мне незыблемыми. Но Яков Борисович в ходе «знакомства» сделал несколько работ, сразу же ставших классическими. Так было неоднократно и впоследствии: часто «знакомство» с новой областью, по-существу, было получением новых важных результатов. Обычно работы Якова Борисовича сразу до конца и весьма оригинальным способом решали проблему. Но бывали случаи, когда истина устанавливалась им после исследований, предпринятых в разных направлениях. Так, одной из интересных астрофизических работ Якова Борисовича того раннего периода было исследование возможности холодного начала развития Вселенной. В первой половине 60-х годов было не ясно, начиналось ли расширение сверхплотной материи Вселенной при низкой, практически нулевой температуре (холодная Вселенная) или же, как это считал Георгий Гамов, температура была вначале огромной (горячая Вселенная). Главным {278} препятствием для теории холодной Вселенной считалось то, что расширение сверхплотной холодной плазмы, состоящей из протонов и электронов, ведет к образованию нейтронов, а затем, в результате ядерных реакций, неизбежно превращение всего вещества в гелий. Но ведь сегодняшняя Вселенная главным образом состоит из водорода!
Для устранения возникшего противоречия Яков Борисович предположил, что в начале, кроме протонов и электронов, были еще нейтрино. При наличии нейтрино реакции протонов с электронами в плотном веществе с образованием нейтронов невозможны, а значит, не будет образовываться и гелий. Никто до Якова Борисовича гипотезу холодной Вселенной с нейтрино не рассматривал. Психологически это объясняется, вероятно, тем, что нейтрино совершенно свободно уходят из любого плотного сгустка материи. Таким образом, в сгустках холодного вещества конечных размеров так стабилизировать протоны нельзя. Но из Вселенной нейтрино уйти не могут! Такая стабилизация возможна — в этом была «простая» (как все по-настоящему интересное) идея Якова Борисовича.
Гипотеза Зельдовича позволяла наметить пути и для решения других трудностей в космологии. Е. М. Лифшиц справедливо назвал ее исключительно остроумной.
После этой работы стало ясным (по крайней мере, нам, работавшим с Яковом Борисовичем), что для выяснения того, какая из гипотез справедлива — горячей или холодной Вселенной, надо попытаться найти реликтовое излучение, слабое электромагнитное излучение на сантиметровых и миллиметровых волнах, оставшееся от горячего начала и остывшее при расширении Вселенной.
В то время наша группа состояла всего из трех человек — нашего руководителя, А. Г. Дорошкевича и меня. Яков Борисович всячески призывал нас к активной работе в космологии. Мы были еще совсем неопытны и часто не могли сказать ни «да», ни «нет», ни вообще что-нибудь вразумительное на многие предположения и результаты, которые практически ежедневно выдавал нам руководитель. Мы пытались разобраться в одном каком-нибудь вопросе, а он выкладывал нам следующий, затем еще один и т.д. во все ускоряющемся темпе. Темперамент у него был поразительный. Яков Борисович не мог себе представить, что кто-то из его окружения не может работать так же быстро и так же много, как он сам. Он требовал от нас немедленного критического обсуждения новых идей: «Либо согласитесь со мной, либо критикуйте».
Еще до прихода к Зельдовичу я начал рассчитывать спектр электромагнитного излучения от всех источников во Вселенной. Позже вместе с А. Г. Дорошкевичем мы продолжили эту работу. О теории «горячей Вселенной» мы впервые узнали от нашего руководителя и в расчетах выяснили, можно ли это излучение обнаружить на фоне излучения известных источников. Оказалось, что в миллиметровом и сантиметровом диапазонах это возможно. Яков Борисович всячески поддерживал эту работу и рекомендовал ее в журал «Доклады АН СССР». На предложение искать реликтовое излучение никто ни у нас в стране, ни за рубежом не обратил внимания. Никто, кроме нашего руководителя, а ведь реликтовое излучение противоречило его {279} гипотезе. Через год после нашей публикации реликтовое излучение было случайно открыто американцами. Яков Борисович сразу оценил значение этого открытия и в последующие годы стал одним из создателей современной астрофизики горячей Вселенной.
Помню один случай, характеризующий отношение Якова Борисовича к молодым ученым. Как-то мы все вместе прочитали в нашей группе работу американца В. Фаулера о равновесии сверхмассивных звезд. Яков Борисович с недоверием отнесся к ряду его заключений. Но А. Г. Дорошкевич, один из самых больших скептиков, которых мне приходилось встречать, и очень дотошный в науке человек, скрупулезно проделал все вычисления и пришел к тем же результатам, что и Фаулер. Он сказал об этом Якову Борисовичу. Тот поначалу даже с некоторой иронией отмахнулся от него, но на следующий день пришел и первым делом поднял руку Дорошкевича в знак его правоты. И тут же наш руководитель объяснил, в чем заключалась тонкость, которая сначала не позволила ему принять результат. Польза от этого для нас была огромной.
В те годы научные интересы Якова Борисовича почти целиком лежали в области астрофизики. Он близко познакомил нас, начинающих ученых, с известнейшими физиками, чьи работы так или иначе касались астрофизики. Мне памятны встречи с В. Л. Гинзбургом, Е.М. Лифшицем, М.А. Марковым, И.М. Халатниковым. Особенно примечательны были дискуссии с А. Д. Сахаровым. В конце 60-х годов он часто бывал в нашей группе, обсуждая новые космологические идеи. Логика рассуждений Андрея Дмитриевича была совсем непохожа на стиль Якова Борисовича — более абстрактна, отвлеченна, формальна. Якову Борисовичу были ближе конкретные физические проблемы. Надо сказать, часто я тоже тяготел к более абстрактным вопросам — таким, как «другие вселенные», время после «абсолютно будущего» и т.д. Я испытывал большое удовлетворение от того, что, например, гипотеза Сахарова о так называемой многолистной модели Вселенной, как он писал, «основана на идеях И. Д. Новикова»1). По предложению Якова Борисовича Сахаров в 1971 г. был оппонентом моей докторской диссертации.
Яков Борисович приучил нас непрерывно следить за научной литературой и старался, чтобы мы работали в самых разных направлениях создаваемой им науки — релятивистской астрофизики. Он был нетерпелив, когда новые идеи приходили ему в голову. Случалось, мог позвонить ранним утром (существенно раньше шести), возбужденно восклицая: «Есть идея, немедленно приезжайте». Какое это было счастье — работать с ним!
Первая наша совместная статья была посвящена анализу движения тел в окрестности черной дыры и опубликована в 1964 г. После этого нами напечатано 48 совместных работ: среди них несколько книг. Яков Борисович не терпел ни мгновенья благодушия, самоуспокоенности. Даже во время отдыха писал нам с юга взволнованные письма, требующие критического осмысливания состояния дел, высказывал новые идеи. {280}
Я коротко коснулся в этих заметках только нескольких эпизодов, характеризующих в какой-то степени Якова Борисовича — как ученого и учителя в годы нашей совместной работы. Наш коллектив очень долго после создания оставался необычайно дружным и счастливым. Все делалось сообща и с общего согласия. Постепенно приходили к нам новые люди.
В первые годы мы совершенно свободно обсуждали с нашим руководителем многие вопросы, в том числе и не научные. Но в конце 70-х годов, когда возникло противоречие по одному (не научному) вопросу, Яков Борисович решил, что всем несогласным (всем членам группы, за исключением одного) надо уйти. Разрыв был трагичным для нас и, насколько я знаю, для Якова Борисовича.
Много лет спустя мы беседовали с ним, сидя вдвоем в саду Римского университета во время заграничной командировки. Яков Борисович расспрашивал о моих детях как о совсем юных, хотя они за прошедшие годы уже выросли.
В 1987 г. жизнь этого необыкновенного человека, приведшего нас в большую науку, оборвалась.
В 1963 г. вместе с моим другом В.М. Чечеткиным мы решили заняться астрофизикой. Учились мы тогда на последнем курсе аэромеханического факультета Московского физико-технического института (МФТИ) и ездили на базу в Подлипки — очень далеко; по имени знали только одного астрофизика, С. Б. Пикельнера, к которому, по предложению Валерия, мы и приехали в Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ).
«Я сейчас не очень хорошо себя чувствую, — сказал деликатнейший Соломон Борисович, — поэтому не могу вас взять в аспирантуру. Но в ИПМ набирает новую группу академик Зельдович, я вас с ним постараюсь свести».
Получив через неделю телефон, мы звоним И. Д. Новикову и А. Г. Дорошкевичу, приезжаем в ИПМ и примерно через 9 месяцев становимся аспирантами Якова Борисовича Зельдовича. Началась моя совместная работа с ЯБ, продолжавшаяся почти 15 лет до нашего печального расхождения в 1979 г.
Впервые я увидел ЯБ на одном из тех семинаров в ГАИШе, который вскоре стал знаменитым и получил название ОАС (Объединенный астрофизический семинар). Он говорил своим глуховатым голосом о расширяющейся Вселенной, нейтрино, кварках, застывших звездах — все это было мне совершенно не известно. Более того, я не представлял себе, как это можно изучить за одну жизнь. Меня, получившего очень прикладное образование, {281} особенно потрясали цифры: 1033 г, 1047 эрг/с (тогда только что были открыты квазары) т.д. Разговаривая как-то с Дорошкевичем, я спросил:
— Андрей, как же работать в таких условиях? Ведь можно напридумать что угодно — пойди, проверь.
— Не бойся, не очень-то разгуляешься, — ответил суровый Андрей. — Достаточно показать шефу, и он тут же выведет тебя на чистую воду.
— Он что, все знает? — недоверчиво спросил я.
— Да, он знает все, что ты можешь только вообразить.
Примерно так сказал Андрей, работавший к тому времени с ЯБ уже около 5 лет. В последующие 15 лет, приходя постоянно к ЯБ с различными идеями, я много раз слышал нетерпеливое: «отогнал». Это означало, что идея сырая, требует доработки и вообще не проходит. Часто так и оказывалось.
Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности «Свойства вещества при больших температурах и плотностях» по «Статистической физике» Ландау и Лифшица. Комиссия: председатель Я. Б. Зельдович; члены комиссии И. Д. Новиков и А. Г. Дорошкевич.
Дополнительный вопрос: чему равен показатель адиабаты нерелятивистского электронного газа? Повернувшись лицом к доске, я в течение 15 минут, исписав всю доску несколько раз, получаю ответ — 5/3. Лицо ЯБ не светлеет. Он задает следующий вопрос: чему равен показатель адиабаты газа с релятивистскими электронами? Опять повернувшись лицом к доске и сэкономив за счет опыта минут пять, получаю ответ: 4/3. Лицо ЯБ вытягивается еще больше. В чем дело, недоумевал я, вроде правильно отвечаю...
«Да, пять я поставить не могу», — говорит ЯБ; тут мое лицо вытягивается, а сам я превращаюсь в немой вопросительный знак. — «Эти вещи нужно знать наизусть», — заключает он. Я открываю рот, пытаясь что-то сказать, но не успеваю. Вмешивается другой член комиссии, Новиков: «Яков Борисович, зачем мы будем ставить ему 4, ведь мы его берем?» — полувопросительно произносит он. «Да, вообще-то, наверное», — неуверенно отвечает ЯБ. «Тогда поставим ему «отлично» и не будем создавать трудностей при поступлении». «Вы так думаете? Хорошо, поставим, но только авансом, имейте в виду (уже обращаясь ко мне), все основные вещи нужно знать наизусть».
С тех пор я многое выучил наизусть, но список основных вещей у каждого свой. У ЯБ он был очень велик. Я, например, не видел, чтобы он смотрел в записную книжку, когда звонил кому-нибудь.
Начало второго курса аспирантуры. Я немного освоился и начинаю спорить с ЯБ; в первый раз дело касается получения решения для модели стационарно истекающей звезды. ЯБ пишет решение, а я в него не верю. Он терпеливо мне объясняет, раз, другой, но напрасно. Мне кажется, что я понимаю лучше. Вот и Новиков меня поддерживает: «Давайте послушаем, он, вроде, говорит разумно», — взывает Игорь. ЯБ несколько шокирован. «Спорим на бутылку, — говорит он. — Я Вам бутылку коньяка, Вы мне — {282} минеральной воды, но с наклейкой, за что проиграли». «Хорошо», — соглашаюсь я, предвкушая победу.
Первый вопрос ЯБ на следующее утро: где бутылка? «А я считаю, что прав я», — нагло заявляю я, утвердив себя длительными подсчетами и добившись равенства числа уравнений числу неизвестных. «Ну, знаете,» — не находит слов ЯБ и уходит в свой кабинет. Внимательно изучив в очередной раз рукопись ЯБ, я начинаю ощущать легкое дрожание в коленях, и моя наглость постепенно испаряется, уступая место отчаянию. Зайдя в комнату через некоторое время, ЯБ серьезно говорит: «Если будете продолжать в том же духе, Вы сильно упадете в моих глазах; подумайте, сможем ли мы так вместе работать дальше». «Я и так уже ушел на дно,» — говорю я. «Нет, — отвечает ЯБ, — падение вниз — это пропасть без дна, так что всегда имеет смысл остановиться».
На следующий день я все понял и принес бутылку. Это была моя первая бутылка; стало ясно, что с ЯБ спорить по науке лучше не надо: вероятность твоей правоты ничтожна, еще раз хорошо подумать гораздо полезнее. Бутылки воды с наклейками от разных людей постепенно заполнили целую полку в шкафу нашей комнаты.
1967 г., Международный съезд астрономов в Праге накануне «пражской весны». ЯБ рассказывает об излучении нейтронной звезды при аккреции (замечательная работа вместе с Н. И. Шакуров, ставшая Колиным дипломом). Вскоре после этого в Москве я знакомлюсь с А. Фридманом, занимающимся плазмой в Новосибирске. Мы решаем дополнить задачу Зельдовича-Шакуры и придать нейтронной звезде магнитное поле. Сделав оценки, указывающие на важность влияния поля, пишем заметку и к концу года приносим ЯБ. Он слушает, но ему не все нравится.
«Зачем нейтронной звезде такое магнитное поле,» — спрашивает он. «Но ведь даже если сжимать Солнце, из сохранения потока будет очень большое магнитное поле,» — убеждаю я. «Хорошо, может быть, но структура бесстолкновительной ударной волны у Вас совершенно неубедительна, поэтому и спектр недостоверен» (мы рассматривали синхротронное излучение электронов с релятивистским максвелловским распределением). Сделать серьезные расчеты по структуре бесстолкновительной ударной волны с релятивистскими скоростями мы действительно не могли, но, насколько я знаю, и сейчас в этой проблеме не все ясно. Попытки убедить ЯБ в том, что работа заслуживает публикации хотя бы из-за идеи замагниченной нейтронной звезды и грубых оценок картины аккреции на нее, не увенчались успехом. Так она пролежала до весны, когда в «Nature» появилось сообщение об открытии пульсаров с упоминанием о маленьких зеленых человечках. И опять ЯБ сначала не принял идею о замагниченной нейтронной звезде, исходя из принципа максимальной простоты, а построил теорию излучения пульсара на основе реально колеблющегося белого карлика. Кажется, только после открытия пульсара в Крабовидной туманности он окончательно отказался от этой идеи. {283}
Когда я подошел к нему с нашей заметкой, он велел публиковать немедленно. Этот случай я использовал впоследствии несколько раз» как свой последний козырь в наших спорах. Когда я был в чем-то очень уверен, а ЯБ выражал сомнения, я говорил: «А помните, Вы не верили в магнитные поля нейтронных звезд». После этого ЯБ обычно смягчался и отвечал: «Да, действительно, я был тогда не прав. Ладно, если хотите, публикуйте». Впрочем, это случилось два-три раза за все время нашей совместной работы.
В конце 1978 — начале 1979 г. наша группа, созданная ЯБ и состоящая в основном из его учеников, неожиданно распалась: почти все его сотрудники, работавшие в Институте космических исследований (ИКИ) были вынуждены перейти в другое подразделение. Помню, что для меня (да и для всех нас) это было как удар грома среди ясного неба. Действительно» между ЯБ и основной частью группы возник спор по одной околонаучной проблеме, но никому из нас и в страшном сне не виделось, что все может так окончиться.
Мои личные отношения с ЯБ, несмотря на все это, сохранились, и я никогда не ощущал неприязни с его стороны. Хотя обсуждение научных вопросов практически прекратилось, в некоторых житейских и других проблемах я мог рассчитывать на его помощь. Например, в августе 1987 г. ему удалось «протолкнуть» меня на исключительно интересную конференцию в ФРГ, посвященную полугоду со времени вспышки Сверхновой 1987А в Большом Магеллановом Облаке, хотя с момента получения приглашения до поездки оставалось не больше месяца. В то время из-за бюрократических сложностей без помощи ЯБ такая поездка состояться бы не могла.
Начиная с 1986 г. стали иногда возобновляться наши научные контакты. Воспоминания о событиях зимы 1978–79 гг. всегда приводили ЯБ в грустное состояние. «Я был тогда не совсем прав, — сказал он мне на одной из наших последних встреч, — потому что неправильно оценил тогда мотивы поведения спорщиков. Мне казалось тогда, что все делают выбор между мной и еще кем-то, но сейчас думаю, что это было не так». Я заверил его, что это действительно было совершенно не так и если бы мы знали, что он так это воспримет, никто бы не затевал этого спора. Теперь ясно, что ошибался не только он, — поведение других участников спора, его сотрудников, могло бы быть более тактичным.
ЯБ предложил мне возобновить совместную работу, на что я с радостью согласился. Он подготовил мой переход в другое подразделение ИКИ, но практическая реализация этого затянулась. Этот переход я сделал только после его безвременной кончины.
Отчетливо помню день 20 марта 1965 г. Я — студент пятого курса Физтеха, живущий мечтой о теоретической физике. Оля Зельдович — светлое пятно {284} в группе Л. Г. Ландсберга в лаборатории А. И. Алиханова, куда я попал по воле зав. кафедрой К. А. Тер-Мартиросяна, — говорит мне: «Что ты мучаешься, позвони папе, он набирает группу теоретиков, ты ему понравишься». Благодарностью ко всем упомянутым людям, а также к учившим меня в ИТЭФе Л. Б. Окуню, Г. А. Лексину, Н.А. Бургову, В. И. Ефременко и многим, многим другим проникаюсь каждый раз, проходя через проходную ИТЭФ, где в общаге для студентов и аспирантов Физтеха, в библиотеке, в экспериментальном зале ускорителя прошли, может быть, самые беззаботные годы моей жизни. Там, в ИТЭФе, мне почему-то жал руку на семинарах И. А. Померанчук, я видел В. Б. Берестецкого, одного из соавторов «Квантовой электродинамики», ставшей с тех пор моей настольной книгой. Но главное — этот день. Я верил Оле — она была единственным человеком, кто не прятал инструменты и паяльники от студентов, кто и тогда, в общем-то, по нашим понятиям, в нетрудные времена, был по-человечески добр и приветлив. Поэтому не спрашивая ее, кто это такой, ее папа, и не подозревая, что этот день изменит всю мою судьбу, я позвонил по телефону, который она мне дала, и на следующий день в назначенное время стоял у входа в здание на Миуссах, где не было еще тогда никакой вывески и где, как мне потом объяснили, помещался Отдел прикладной математики, руководимый самим Келдышем. Помню, пропуск мне вынесла гибкая Нора Коток, я поднялся на второй этаж. Полный допрос с меня снял важный человек в очках (кто родители, откуда, и вся биография), которого я принял тогда за крупного чекиста и решил, что место вполне серьезное (впоследствии он оказался вполне безобидным младшим научным сотрудником, просто как всегда собирающим всю доступную ему информацию).
В ходе допроса в комнату влетел улыбающийся человек в рубашке с галстуком, пуговицы на животе были расстегнуты и оттуда виднелась могучая растительность. По виду «чекиста» было понятно, что появилась еще более важная птица. Он посмотрел на меня и сказал: «Пойдем, поговорим». Разговор состоялся в шикарном, по моим тогдашним понятиям, кабинете (впоследствии выяснилось, что это был кабинет И.М. Гельфанда). Мне были даны три задачи, и через месяц положительно был решен вопрос о том, чтобы я стал дипломником этого в общем-то довольно странного, неспособного и трех минут провести спокойно человека. Через несколько лет я узнал от него, что меня не очень-то отпускали, что он звонил Л. Б. Окуню и спрашивал, стоит ли настаивать. Я благодарен ЛБ, что он не дал тогда отрицательного ответа, хотя прекрасно понимаю теперь колоссальную разницу между нами и в характере, и в стиле восприятия мира.
Я столь отчетливо помню тот день, потому что он полностью изменил мою судьбу. До этого для меня главным авторитетом в жизни был мой отец — Али Сюняев — человек очень непростой судьбы, которого я безмерно любил и память о котором священна для меня. Встреча с Яковом Борисовичем Зельдовичем полностью изменила мою жизнь. Со дня встречи с ним и до семидесятого года моя жизнь была практически сплошным праздником. Почти каждый день он звонил мне утром (или я звонил ему, когда ночевал в Долгопрудном) и назначал время встречи. До сих пор мне трудно приходить по приглашению его дочерей в дом на бывшем Воробьевском шоссе, {285} в комнату, где он работал и куда он приглашал всех, и где я был несколько тысяч раз, на кухню, где меня, мальчишку из общежития, кормила Варвара Павловна, или он сам варил для двоих сосиски, или где уже потом мы пили чай с Анжеликой Яковлевной, или где уже в бытность член-корром меня принимала Инна Юрьевна.
Но главное было совсем не в том, что меня, мальчишку из Ташкента, принимали в доме как человека, что мне, сове от рождения, в течение почти четверти века почти каждое утро звонил человек — жаворонок по своей сути, и абсолютно несоизмеримый по положению и абсолюту. Главным был громадный интерес к жизни, жажда нового, поиск истины и сути, живой интерес ко всему необычному и колоссальная работоспособность, умноженная на до сих пор удивляющую меня потребность учить и побуждать работать других, удивительная готовность признать правомочность чужой точки зрения, временами казавшаяся показной радость за чужие результаты, за то, что кто-то сумел сделать важное раньше и лучше. Поражало, что он терпел в общем-то беспочвенную критику на семинарах. Когда я спрашивал его, почему он терпит, что на семинаре вслух и громко говорят, что его теория блинов погибнет, как динозавры, он года двадцать два назад успокаивал меня, рвущегося в бой, говоря, что боится расправить плечи, так как не знает до конца, насколько больно он заденет при этом критикующих. Этим его свойством умел пользоваться, может быть, ярчайший человек из его астрономического окружения — И. С. Шкловский, доставлявший ему немало горьких минут. Меня всегда поражало, как активность, постоянная готовность к обучению и талант к восприятию нового, отсутствие страха признать, что он чего-нибудь не знает, и мгновенное овладение материалом пугали признанных мэтров. Соломон Борисович Пикельнер, Абрам Леонидович Зельманов и Дмитрий Яковлевич Мартынов были, пожалуй, немногими исключениями из этого правила.
Я пришел к ЯБ в счастливое для него, да и для всей астрономии, время. Многие помнят семинары в ГАИШе в 1965–68 годах, когда ими руководили совместно ЯБ, В. Л. Гинзбург и И. С. Шкловский, когда в любую минуту был готов выйти и объяснить непонятное физикам Соломон Борисович Пикельнер, когда почти на каждом семинаре в первых рядах сидели: Д. Я. Мартынов, С.И. Сыроватский, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Б.В. Кукаркин, Н.Н. Парийский, Я. А. Смородинский, П. Н. Холопов, А. Л. Зельманов, А. Г. Масевич, М.У. Сагитов. Иногда приезжал из Горького С. А. Каплан. Активно вели себя молодые Л.М. Озерной, И.Д. Новиков, Н.С. Кардашев, B.C. Имшенник, В. Г. Курт, Ю. Н. Ефремов, В. Ф. Шварцман, А. М. Черепащук, изредка появлялись Е. М. Лифшиц, И.М. Халатников или А. Д. Сахаров. И вспоминается конференц-зал ГАИШа, битком набитый, с открытыми с двух сторон дверями, за которыми толпились опоздавшие — им уже не было места. И множество молодых, ставших потом цветом нашей астрофизики.
Помню первые семинары после открытия реликтового излучения, когда ЯБ, как о чем-то очевидном, говорил о дипольной компоненте, как способе измерения скорости Земли, и о наличии выделенной этим излучением системы координат; как я впервые услышал от него на этих семинарах о квадрупольной компоненте в случае анизотропии Вселенной и о неизбежности {286} существования угловых флуктуации фона. Только через несколько месяцев, читая свежие «Nature», «Physical Review Letters» и «Astrophysical Journal Letters», я осознал, что есть уровень, начиная с которого это было очевидно, и космологи соответствующего уровня в Кембридже, Принстоне и Москве обязаны были уловить это одновременно. И я впервые тогда четко осознал, что быть рядом с ЯБ — значит быть, как минимум, на мировом уровне.
Вспоминаю и то, как ЯБ каялся на семинарах в том, что придерживался до открытия реликта холодной модели Вселенной. Поражало, как он сразу признал справедливость точки зрения Г. А. Гамова, восторженно отзывался о нем, что было не так уж просто в то время. Вообще ЯБ немало сделал, чтобы имена А. А. Фридмана и Г. А. Гамова и их гигантский вклад в космологию были должным образом отражены в научной литературе. Громко заявил он и о своей ошибке, когда попытался объяснить (и опубликовал работу) феномен только что открытых радиопульсаров процессами на белых карликах.
Мне он сказал тогда, что эта ошибка — результат многолетней работы над созданием оружия: надо было иногда за одну ночь принимать решение, что делать завтра. Вариант должен был быть один, и он должен был быть реальным, простым, надежным и наиболее экономичным. Ошибиться было нельзя. Природа же, как он убеждался раз за разом, могла позволить себе казавшиеся тогда абсолютно неожиданными или маловероятными, но, с точки зрения физики, вполне естественные решения. И он был рад, когда на лету воспринимал идеи Т. Голда и Ф. Пачини о природе пульсаров и конкретные статьи малоизвестных еще тогда П. Голдрайха, В. Джулиана, Дж. Ганна и Дж. Острайкера. С большим вниманием и уважением воспринимал он тогда работы В. Л. Гинзбурга и В. В. Железнякова по механизмам радиоизлучения пульсаров. В последние годы жизни он, человек, абсолютно уверенный в том, что у нейтрино должна быть нулевая масса, радикально изменил точку зрения и часто повторял: разрешено все, что не запрещено. Не каждый может пережить такую ломку представлений и начать работать, придерживаясь новой философии.
Да, время тогда было другое. Вплоть до 1973 г. доклады ЯБ на сессиях Отделения общей физики и астрономии АН СССР в ФИАНе собирали полный конференц-зал; бывало, сотни людей стояли в проходах. Слова — черные дыры, нейтронные звезды, аккреция, рентгеновские источники, сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик и квазарах — завораживали воображение физиков, его обзоры в «УФН» и книги по релятивистской астрофизике с И. Д. Новиковым пользовались колоссальной популярностью. Казалось бы, с приходом подтверждений теории аккреции данными спутника «УХУРУ», он должен был заняться детализацией теории. Он же оставляет поле ученикам, а сам уходит целиком в новое — в задачу отбора энергии от вращающихся черных дыр — вместе с одним из самых любимых и талантливых своих учеников Алешей Старобинским (все могут прочесть в книге С. Хокинга, что эта работа в «ЖЭТФ» сподвигнула английского гиганта на вывод о возможности испарения черных дыр), в работы по магнитному динамо в астрофизике с Сашей Рузмайкиным и Димой Соколовым, и в то, что стало главной задачей последних 20 лет его жизни, — в решение вопроса о происхождении {287} крупномасштабной структуры Вселенной или, как это любят называть многие, в теорию образования галактик. Больше всего он работал по этой теме с Андреем Дорошкевичем и Сергеем Шандариным.
Расскажу об одном тяжелом для меня разговоре с ним. В 1982 г. встал вопрос об организации в ИКИ экспериментального отдела астрофизики высоких энергий. Могущественный и авторитетный ИХ. Шкловский предложил на роль заведующего отделом мою кандидатуру. После разговора с Р. З. Сагдеевым, к которому ЯБ очень хорошо относился (и не только по причине старой дружбы с Д. А. Франк-Каменецким), он вызвал меня и стал уговаривать, приговаривая при этом, что отказ директору автоматически предполагает уход из института, и спрашивая, что я выбираю — ГАИШ или Институт прикладной математики. Я отчетливо понимал, что принятие этого предложения означает для меня уход из теоретической астрофизики, где, как мне тогда казалось, дела мои шли неплохо, что руководитель коллектива, а тем более менеджер, из меня никудышный, что как экспериментатор я не имею никакого опыта. Все было абсолютно ясно, и я категорически отказывался браться за новое и явно неблагодарное дело.
Тогда ЯБ стал рассказывать о себе, и ради этого рассказа я привел выше всю эту не слишком приятную для меня историю, вновь полностью изменившую мою судьбу. Он сказал, что много раз и радикально менял не только тематику исследований, но практически и специальность: был почти химиком, а в итоге стал почти астрономом. И в этом были виноваты не только превратности судьбы.
По его словам, трудно, но интересно освоить десять процентов информации и специфических методов в любой области естественных наук, что необходимо для того, чтобы начать самостоятельно работать, либо хотя бы спокойно ориентироваться в ней. Дальше путь от десяти- до девяностопроцентного понимания — это одно удовольствие и истинное творчество. А вот пройти следующие девять процентов — бесконечно тяжело и далеко не каждому под силу. Последний процент — безнадежен. Разумнее вовремя взяться за новое дело и иметь радость непрерывного созидания. Не знаю, так ли он действительно думал, или просто принял такой метод уговоров, но разговор запомнился. Многие из историй, которыми он меня воспитывал, были на удивление прагматичными. По-видимому, ему казалось, что они сильнее на меня действуют. Создавалось впечатление, что к каждому из близких учеников он применял индивидуальный метод воспитания, в соответствии со сложившимся у него в самом начале представлением о человеке.
Потом он сказал, что уже «продал» меня и дал за меня согласие, но обещал помогать. И слово держал до конца своей жизни. Получил у тогдашнего министра Средмаша Е. П. Славского десять ставок, ездил со мной в учреждения во Фрунзе, Ленинграде и Москве, поставляющие и разрабатывающие аппаратуру, звонил начальству в разные министерства, выбивал, что надо, встречался с руководителями зарубежной кооперации и с руководителями предприятий, разрабатывающих спутники. Его вмешательство почти всегда помогало, имя его знали все. Только после его смерти я полностью осознал, что значит готовить космический эксперимент, не имея мощного прикрытия. {288}
И сегодня, когда за спиной есть определенный успех орбитальных обсерваторий на модуле «Квант» и спутнике «Гранат», можно сказать, что без ЯБ не было бы в нашей стране современной экспериментальной рентгеновской астрономии. Счастье, что он успел увидеть, как приходили данные с «Кванта» о жестком рентгеновском излучении Сверхновой в Большом Магеллановом Облаке, возникающем вследствие радиоактивного распада кобальта, превращающегося в железо. Это его живо интересовало. И он ни разу не сказал мне, что факт обнаружения предсказанных им и О. X. Гусейновым нейтрино от этой сверхновой гораздо важнее. Хотя я прекрасно понимал это и сам. Он был первым, кто сказал мне, что наверняка в оболочке работает рэлей-тейлоровская неустойчивость, перемешивающая радиоактивный кобальт.
Мало кто знает, как много сделал он для успеха спутника «Гранат», открывшего и локализовавшего источник аннигиляционного излучения электронно-позитронной плазмы в Новой созвездия Мухи и детально исследовавшего центральную область нашей Галактики, о его участии в зарождении перспективного проекта «Спектр-Рентген-Гамма», предназначенного для решения задач космологии и внегалактической астрономии и способного стать первой в нашей стране национальной обсерваторией в космосе, данные которой станут (должны стать, как это принято на Западе) доступными всем обсерваториям, институтам и университетам страны.
Он помогал становлению эксперимента «Реликт» по измерению крупномасштабной анизотропии реликтового излучения, проведенного И. А. Струковым и Д. П. Скулачевым со спутника «Прогноз», сделал все, чтобы первый в нашей стране первоклассный космический эксперимент в области космологии получил широчайшее и заслуженное международное признание.
Как и многие студенты Физтеха, я прочитывал всю появлявшуюся переводную литературу о создании американской атомной бомбы, о мучительных раздумьях Р. Оппенгеймера, о том, как впоследствии сошел с ума летчик, сбросивший на японский город одну из первых ядерных бомб. О наших физиках писалось иначе: они понимали, зачем работали, и вообще были предельно идейно подкованы. Никто с ума не сходил.
Спрашивать прямо было неудобно. Сам он об этом молчал. В крайнем случае отшучивался или рассказывал анекдотические случаи о милиционере, перевешивающем дорожные знаки в закрытом городе по замечанию физика (читай ЯБ), нарушившего правила движения.
Несколько раз ои говорил мне, что советует сыну выучить наизусть некий набор бытовых анекдотов, который дает возможность молодому человеку не молчать в компании и в то же время не выступать с комментариями на волнующие всех темы. (Надо будет спросить у Б. Я. Зельдовича, давал ли он ему подобные советы.) Уверен, что подобные косвенные замечания рождались у него после очередных безуспешных попыток пробить меня на какую-либо конференцию за границу.
Как невыездной человек он долго был уверен, что если ему удастся попасть на большую конференцию на Запад, произойдет что-то важное. Но в течение почти 20 лет у него была, как он сам говорил, лишь первая космическая скорость. Ему разрешалось ездить лишь в страны Восточной Европы, тогда уверенно строившие социализм. {289}
В 1967 г. он пробил меня — своего аспиранта — в группу молодежного научного туризма на Генеральную ассамблею Международного астрономического союза в Праге. Больше до сих пор ни на одной ассамблее MAC мне побывать не удалось. Да и вообще это была моя первая и предпоследняя поездка за рубеж перед более чем десятилетним запретом на выезды. Естественно, она хорошо запомнилась. Запомнился непривычный для нас, стоящий в воздухе настрой людей, явно предвещавший пражскую весну. Но запомнился и ЯБ, занятый сто процентов времени, водивший за собой на встречи со знаменитостями (а они были расписаны у него одна за другой) свиту из нескольких своих учеников. Я впервые увидел тогда на этих встречах Эдвина Салпитера, Маргарет и Джеффри Бербиджей, Герберта Фридмана, молодого
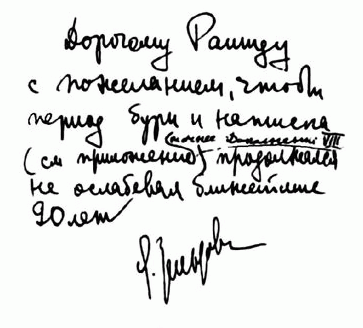 |
Надпись Я. Б. Зельдовича на книге «Релятивистская астрофизика» (М.: Наука, 1967), подаренной Р.А. Сюняеву. |
Удивительно, но в Москве он вел себя практически так же: не опаздывал на назначенные встречи, которых было множество каждый день, регулярно ходил на лыжах или гулял, писал в школьных тетрадках почти каждую свободную минуту. Все написанное тут же старался отдать для включения в книгу, в статью или просто для размышлений тому, для кого писал. Иногда это был готовый текст, иногда лишь формулы или оценки с вопросами между ними. У меня осталось множество таких листков. Но он быстро понял, что я «неписучий» и крайне неорганизованный. В итоге мне доставались в основном вопросы и формулы.
Поражало, что он умел мгновенно сосредотачиваться, усаживаться поудобнее, замолкать и быстро писать. Абсолютно неожиданно он выходил из этого состояния и начинал разговор на новую тему. Если листки не отдавал тут же, они предназначались другому, чаще всего для книг.
Мне трудно понять, как он умудрялся находить время, чтобы присутствовать на днях рождения, защитах, свадьбах, новосельях своих учеников. Ведь {290} занят он был всегда очень сильно. Видимо, когда-то раз и навсегда он решил, что эти социальные явления очень важны.
С другой стороны, мало кто делал так много для того, чтобы помогать с устройством на работу и даже с пропиской. Все знают, что пробить прописку в Москве молодому выпускнику аспирантуры всегда было почти безнадежным делом. Кем были тогда для него приехавший в МГУ из белорусской деревни Коля Шакура, студент Физтеха из Средней Азии Саша Рузмайкин или его жена и однокурсница Тома из Мелитополя, киевлянин Володя Липунов и многие другие, не имевшие тогда иной поддержки, но получившие сегодня международное признание каждый в своей области? Кем был для него я — студент-татарин из Ташкента, не имевший в Москве ни родственников, ни знакомых, кроме друзей по общежитию, и упорно старавшийся объяснить ему при первой встрече, что астрономия меня совершенно не интересует и заниматься я хочу непременно теорией элементарных частиц?
Какая сила заставляла его ходить просить о ставках для нас, о прописке, заниматься выбиванием комнат в коммуналках, а потом и отдельных квартир, плясать на наших свадьбах, радоваться рождению наших детей? Думаю, мало кто из нас отдает себе полный отчет в том, что все это было не так легко. Но делалось как-то очень просто и естественно. И редко кто сам просил его о помощи. Чаще всего он сообщал о первом неудачном своем походе по какому-либо поводу и просил напомнить о необходимости следующей попытки через несколько дней.
За двадцать семь лет активной работы в астрофизике и космологии ЯБ вырастил по меньшей мере дюжину блестящих докторов наук — теоретиков, имена которых широко известны. Многие из них долгие годы работали полностью самостоятельно и практически без прямой связи с ним. В то же время, думаю, сегодня практически все они признают, что лучшие и наиболее «ссылаемые» их работы выполнены либо совместно с ЯБ, либо под его влиянием. А он был щедр, делился идеями, новостями, просил включаться в новые задачи, никогда не скрывал того, что у него получалось, всегда признавал право других на приоритет.
Как он находил время на всех нас? Каждому — задачу по складу характера и интересу, каждого проверить и воодушевить, записать на листочки ссылки на новые статьи по его теме, каждый день — микросеминар с новостями, короткий разговор, который обязательно был настолько емким, что его не обидно было ждать иногда часами, и работа, работа, работа.
Пожалуй, здесь самое время прерваться и рассказать об одном из разговоров с ним. Меня удивляло, когда некоторые его ученики переставали работать с ним, отходили, а иногда вели себя далеко не лучшим, с моей точки зрения, образом. Однажды он ответил мне на неприятный, по-видимому, для него вопрос, что на любого студента или аспиранта нужно затратить года два, пока от него пойдет отдача, потом года два или три этот человек помогает работать, и есть возможность расширить фронт исследований. Затем часть людей устает ежедневно работать в таком темпе, часть теряет интерес, а часть становится полностью самостоятельными и сильными людьми. Важно {291} почувствовать этот момент и вовремя полностью освободить их от опеки. И вообще, учить молодых — и святая обязанность, и радость, и громадная польза для себя. Боюсь, я не совсем дословно передал смысл сказанного тогда ЯБ. Помню лишь оставшееся у меня чувство, что я был, может, слишком назойлив со своим вопросом и то, что его мягкий и спокойный ответ был ответом уставшего и огорченного человека и в нем не было ни капли цинизма, который невольно мог закрасться в мой пересказ.
Как он «воспитывал» меня за то, что я не торопился писать о казавшихся мне тогда недоступными для экспериментальной проверки идеях о будущем (через 1030 лет) Вселенной с распадающимися протонами и о взрывах «худеющих» при этом нейтронных звезд. Его привела в восторг сама возможность взрыва нейтронной звезды, теряющей массу по какой-либо причине. Отчаявшись заставить меня опубликовать эту работу, он упомянул саму идею в своих дополнениях редактора к русскому переводу замечательной книги Стивена Вайнберга «Первые три минуты». Но сколько я выслушал при этом. Самым почетным было обвинение в «гейзенберговской болезни». По словам ЯБ, самое страшное происходит с человеком, когда, опубликовав одну работу высокого класса, затем он стесняется печатать что-либо не столь совершенное, по его собственной оценке. ЯБ считал, что отнюдь не стыдно печатать в любом возрасте «студенческие работы». И приводил при этом пример Л. Д. Ландау (бесспорный авторитет), активно печатавшегося и продолжавшего набирать «интеграл» всю жизнь.
Почему-то эти аргументы и особенно упоминание великих имен тогда на меня практически не действовали. Но сейчас, по прошествии более десяти лет, мне кажется, что и в этом он был прав. Дело не в том, что идею взрыва нейтронных звезд «оседлали» и по ней опубликован ряд вполне интересных детальных расчетов. Дело во внутренней дисциплине — важно доводить разумное дело до конца, печатать и быстро переходить к следующей задаче. Это был его стиль. Раздумья (стоит-не стоит) приносят мало пользы. В то же время без собственных критериев жить тоже нельзя. Несколько лет назад, подбирая статьи для двухтомника его избранных трудов, я поразился, что практически невозможно найти ни одной статьи, которая не нашла бы развития затем в работах других авторов и у нас, и за рубежом. Времени зря на неперспективные задачи он не переводил.
Удивляло, какое громадное значение он придавал экспериментальным данным и как радовали его работы учеников, предсказывавшие четкие экспериментальные тесты.
А может, он воспринимал тогда любую проблему иначе, чем мы, молодые. Ведь за его спиной был громадный опыт, прекрасное знание методов, разработанных за многие десятилетия в широчайших областях науки — от задач распространения пламени до физики элементарных частиц, отточенное чутье самостоятельного исследователя, не раз познавшего успех решения задач, которые никто до него даже не пытался ставить и которые впоследствии стали общепризнанными результатами.
| {292} |
8 марта 1965 г. в день рождения Зельдовича немногочисленные и совсем молодые сотрудники Якова Борисовича в ИПМ, к которым на время стажировки присоединился тогда и я, в веселом поздравлении пожелали ему еще до конца года покончить с проблемой образования галактик, а заодно и раскрыть загадку квазаров. Обе темы, как известно, глубоко занимали Зельдовича. Квазары были открыты в 1963 г.; проблема происхождения галактик ждала своего решения с середины 20-х годов, когда была установлена природа внегалактических туманностей как гигантских звездных систем. В нашем пожелании шутливыми и несерьезными были, пожалуй, только сроки, а по существу оно точно соответствовало устремлениям именинника и в дальнейшем сбылось. Зельдович оказался среди первых, кто указал на черную дыру как генератор энергии в ядре квазара. Сегодня мало кто сомневается, что так оно в действительности и есть. И самый крупный вклад в современную космогонию галактик принадлежит Зельдовичу — это его знаменитая теория «блинов».
«Блины» начались с короткой заметки, которую еще в рукописи ЯБ показывал летом 1969 г. В ней было дано точное нелинейное ньютоновское решение, описывающее развитие гравитационной неустойчивости в расширяющемся мире. Решение одномерное и плоское (для возмущения), частное (одна произвольная функция одной декартовой переменной). Общего четырехмерного решения найти ие удалось и до сих пор. А тогда Зельдович сделал смелое предположение: временнбе поведение возмущений по всем трем направлениям такое же, как в точном решении. Соответствующую трехмерную формулу, написанную «от руки», Зельдович назвал приближенным решением.
Когда он рассказывал об этом на ОАС (Объединенном астрофизическом семинаре) в заполненном до отказа, как всегда на его докладах, актовом зале ГАИШа, я спросил: «Если решение приближенное, то к чему оно приближено?»
«К истине», — был мгновенный ответ.
И притом абсолютно точный: это выяснилось лишь позднее, когда численные расчеты, проделанные сначала А. Г. Дорошкевичем, а затем и многими другими, доказали, что приближенное решение (может быть, его вернее назвать «анзац Зельдовича») дает не только правильную качественную картину нелинейного трехмерного процесса, но и количественно оказывается близким «к истине».
Как мог он это угадать? А считается, что человеческая интуиция способна действовать только в линейных задачах...
Возвращаясь в те далекие, но незабываемые 60-е, оживляя по свойству памяти лучшее и светлое, радуешься (и удивляешься), как много было вдохновенья, задора, веселья, а также и мягкости, уюта вокруг Зельдовича, в атмосфере, которую он с терпеньем и тактом создавал. Трогало, как, например, {293} всякий раз он заботился, чтобы совсем зеленого м.н.с., которого академическое начальство, как мы говорили, в упор не видит (нынешним академическим нравам это соответствует в еще большей степени), устроили в гостиницу: звонил каким-то важным чиновникам в Академии, солидно с ними по этому поводу говорил. Была тут и непосредственная чуткость по отношению к наивной и очарованной им молодежи, а вместе с тем, как мне кажется, и определенная педагогическая система.
Мягкое обращение ЯБ произвело на меня немалое впечатление в первый приезд к нему. Вернувшись потом в Ленинград, я сказал моему учителю Л.Э. Гуревичу (ЯБ не раз говорил и писал, что считает Льва Эммануило-вича одним из своих первых учителей), что Зельдович показался мне даже застенчивым. Лев Эммануилович оставил это высказывание без внимания, что всегда делал, когда слышал чушь.
Пишущий воспоминания поневоле не может не говорить о себе; к оправданиям и извинительным словам, сказанным на этот счет мемуаристами почище моего, добавлю лишь близкое физикам: пишущий, «как прибор», без которого не обойтись при изучении «объекта». «Это красиво, и это нужно подать элегантно, — сказал Зельдович, — садитесь и пишите». И продиктовал от начала до конца мою первую научную работу, соавтором которой не был. В ней сообщалось новое точное решение для фридмановской космологической модели, учитывающее как вещество, так и излучение. Зельдович увлекся тогда космологией с холодным началом, и под излучением мы понимали изотропный фон ультрарелятивистских нейтрино и, возможно, гравитонов. На этот счет уже имелись работы ЯБ — одна совместная с Я. А. Смородинским, другая — с С. С. Герштейном. О горячем начале в «моем» тексте не упоминалось; считалось, что теория Гамова надежно закрыта только что вышедшей работой двух сотрудников Зельдовича, А. Г. Дорошкевича и И. Д. Новикова. ЯБ поставил доклад по моей работе и на семинаре Ландау; три года, как семинар собирался без Льва Давидовича. Это было зимой 1965 г.
А в сентябре получаю в Ленинграде письмо ЯБ: «Кажется, холодная модель была ошибкой. Пока слухи, не в печати». Открытие предсказанного Гамовым излучения (которое сразу же с легкой руки И. С. Шкловского стали называть реликтовым) стало самым крупным событием за всю историю космологии со времен Фридмана и Хаббла. Вскоре ЯБ в переполненных аудиториях с увлечением и темпераментом читал лекции о реликтовом излучении горячей Вселенной. Холодная модель с легкостью была отпущена в историю науки или, может быть, поставлена на «запасной путь»; однажды, лет 15 спустя, Зельдович снова ненадолго вернулся к ней, но уже на совсем других основаниях.
Вместе с ЯБ и Б. В. Комбергом весной 1966 г. мы ездили на Долгопрудную, в московский Физтех, где его лекция вызвала необычайное возбуждение. Проходя по коридору в актовый зал, мы слышали, как студенты, спешившие занять места, громко переговаривались: «Зельдович приехал! Будет читать про реликт! Да, все идут!»
Ехали туда, помнится, в просторной черной машине, ЗИМе; у какого-то сельпо, уже вне Москвы, ЯБ попросил шофера остановиться, купил буханку черного хлеба, и по дороге мы ее как-то быстро и весело съели. {294}
В космологии ощущался тогда настоящий взлет. Казалось, все только начинается (это было верно лишь отчасти), а самое главное должно вот-вот произойти (что тоже подтвердилось не вполне).
Ощущение подъема было не только у молодых и начинающих (кстати, во всей нашей стране молодых, приступавших к занятиям космологией, было тогда всего несколько человек, и никто не подозревал, что лет через 15–20 наступит то, что Шкловский назовет «самовытаптыванием в релятивистской астрофизике»). Зельдовичу самому было как-никак за 50, но по энергии и страсти к науке он был моложе молодых. И молодые безмерно и безраздельно обожали его.
Его шутки, анекдоты «про Зельдовича» многократно пересказывались в обеих столицах, он был человеком-легендой. Например, вдруг приезжает в ИПМ при всех «звездах» на груди: «Гаишник отобрал права, надо ехать выручать».
Эта история имела продолжение. Войдя в комнату, где мы его ждали, он повесил пиджак на спинку стула и ненадолго вышел; а самый бойкий из нас успел моментально примерить «геройский» пиджак на себя!
В его подходе к молодым само собой разумелось, что от них ожидается продукция на уровне, как говорится, лучших мировых стандартов. Эта требовательность воспринималась как естественная: чем, собственно, мы хуже? — такого вопроса даже и не возникало. В том деле, которое мы сами делаем, мы, может быть, и лучше. Да, в этом не было нарочитого напряжения, и высокие критерии сочетались с непринужденностью.
Приезжая к Зельдовичу с очередной новой работой, я либо рассказывал ее с мелом в руках у доски в домашнем кабинете ЯБ, либо, что потом чаще, передавал уже предварительный текст (черновик черновика, как он говорил), который не позже, чем назавтра получал обратно с устными или письменными замечаниями, после обдумывания которых можно было в короткой или более продолжительной беседе задать вопросы, все обсудить, а, бывало, и согласовать окончательный текст со ссылками (последним придавалось немалое значение). Жалею, что так немного сохранилось этих записок с замечаниями ЯБ — обычно на листках из ученической тетрадки. В них редко вопросы, чаще утверждения — точные, краткие. Иногда не без иронии или шутки. Например:
«Ох, сколько будет дискуссий. Мы — лебедь, рак и щука!
Привет! ЯБ 1/IV (Симптоматично)» Это по поводу книги «Гидродинамика Вселенной», затеянной ЯБ, Дорошкевичем и мной. «Черновик черновика», кажется, уже был тогда составлен, а книга так и не получилась.
Почти каждый разговор с Зельдовичем создавал чуть ли не физическое ощущение «подскока» в понимании науки. И не только науки.
«Давайте без наивности», — сказал он совсем молодому человеку, серьезно глядя прямо в глаза. И как-то толчком немного раздвинулось поле зрения.
И в давние годы, и позже замечал возникавшую иногда особенную ясность и полную жизни и тепла глубину его глаз — как на некоторых портретах Рембрандта. Этого не забыть...
Мы восхищались научной проницательностью Зельдовича, яркими вспышками его физической фантазии и интуиции, которые посчастливилось наблюдать {295} вблизи. Казалось, для таланта такого масштаба не должно быть неподдающихся проблем, скрытое от других — для него явно. Так чаще всего и было, он был впереди всех. Хотя случались и исключения. Совсем немного, на какие-то, думаю, месяцы его опередил Хокинг с квантовым испарением черных дыр. За инфляцию он взялся, увы, после Гуса, а ведь в этом случае были известны более ранние работы ленинградцев, И. П. Дымниковой и Л. Э. Гуревича, в которых уже имелись зачатки того, что выросло позднее в инфляционную теорию. Ленинградские работы ЯБ сначала резко отвергал; позднее говорил нам, что «в свое время недооценил их».
Как сам он в действительности смотрел на все это? Его самооценка в любом случае должна быть по справедливости очень высокой. Позволю себе высказать также предположение, что и в его отношении к званиям и наградам не было небрежности, безразличия, а тем более иронии. Он знал, за что получил их.
«Русский солдат спас нас». За этими словами, которые я не раз слышал от него, определенно стояли нелегкие размышления и переживания. Возможно, это была компактная формула, найденная для обозначения сложного соединения этических, поведенческих и политических установок. Или, быть может, как бы заклинание в надежде увязать, привести в согласие высшие ориентиры, как он их понимал, собственный жизненный опыт, позиции людей, с которыми считался.
Могущество и силу государства, как и вес облеченных властью личностей, он глубоко чувствовал и чтил. Его самого называли государственным человеком — он не возражал.
У памятника Курчатову в Москве (наиболее бросающейся в глаза деталью которого является, естественно, борода) я спросил, был ли тот действительно так внушителен. После паузы ЯБ ответил серьезно: «Он сразу говорил генералам «ты».
Когда-то давным-давно веселой шуткой показался вопрос Зельдовича: «Ну, как ваш новый начальник? Работать не мешает?»
И в самом деле, что может по-настоящему помешать теоретику, кроме собственного невежества, глупости и лени? — но лишь до поры до времени.
ЯБ случалось знавать больших начальников, бывать и самому «начальником над людьми». Каким он был в этой роли, мне узнать не пришлось. Мой переход в ИПМ, предложенный им в 1966 г., почему-то не состоялся; позднее я оценил и преимущества дистанции в 650 км. В письмах ЯБ были научные новости, критика моих работ, отзывы и соображения об идеях и результатах, которые привлекали его внимание. Изредка речь шла не только о физике.
В одном письме — не в славные 60-е, а совсем в другую эпоху, в начале 80-х — он писал: «...Мудрое и благожелательное спокойствие! Это очень редкое нынче качество; я очень ценю его в моих старых друзьях: Овсее Лей-пунском, покойном Давиде Альбертовиче Франк-Каменецком... Мне мудрого спокойствия не хватает.., тем более ценю его в других...».
Спокойствие было для него невозможно; энергичное кипение, управляемое, а иногда и не очень, было его стилем, способом его существования в жизни и науке. Какое, однако, здоровье для этого нужно... {296}
Очень сильно, чрезмерно сильно волновала его тема, нашедшая отражение в его последней работе, которая вышла в «УФН» уже без него, летом 1988 г. Почему бы не отнестись к этому с «мудрым» спокойствием? Но нет, он кипел, негодовал. Раскаты его грома доносились и до Ленинграда. Поздней осенью его последнего года звонит, говорит громко, твердо, резко; он зол, ответов не воспринимает. Слушаю, удивляюсь (а еще поговаривали, что с годами он стал не так крут), все пытаюсь возразить и, в общем, не уступаю. Разговор вышел нехороший. Вскоре в Физтехе побывал Р. А. Сюняев и согласился передать ЯБ мои разъяснения. ЯБ позвонил снова, недоразумение легко рассеялось, и этот разговор, который (кто бы мог подумать тогда) оказался последним, кончился на теплой ноте: ЯБ приглашал приехать, что-то пообсуждать и т.д...
На другой день после Новодевичьего кладбища Рашид сказал мне, что мое имя с восклицательным знаком, написанное рукой ЯБ, осталось в углу так хорошо знакомой многим доски на стене его рабочей комнаты. Чтобы не забыть еще что-то сказать или написать? Что-нибудь серьезное или пустяковое дело, кто знает.
О современной космологии можно сказать, что это наука по-преимуществу ленинградская. В Петербурге-Петрограде-Ленинграде родился, жил, работал и умер создатель теории расширяющейся Вселенной Александр Александрович Фридман. Учеником Фридмана по Ленинградскому университету, воспринявшим космологию из его рук, был Георгий Антонович Гамов, автор теории горячей Вселенной.
Зельдович родился в Минск, там и поставлен его бронзовый бюст. Но по научному происхождению он, конечно, ленинградец. Здесь он учился физике, в ленинградском Физтехе нашел первых наставников и товарищей в науке, которым — и это хорошо известно — всегда хранил верность. Многое связывало его с Ленинградом и тогда, когда он жил и работал в Москве: лучшие москвичи — это ленинградцы, как было сказано кем-то на одном из физтеховских юбилеев, на котором присутствовал и Зельдович.
Рядом с Фридманом и Гамовым завоевал своими трудами место в науке о Вселенной Яков Борисович Зельдович. На этих трех «китах» и стоит сейчас космология.
Мне посчастливилось около 20 лет вместе с Яковом Борисовичем заниматься космическим магнетизмом. Но «замагнитил» он меня еще раньше, когда появился в Московском физико-техническом институте в обыкновенном свитере и как-то просто и сильно объяснил, что расширяющаяся Вселенная должна быть горячей. Впрочем, первое, что я услышал от него, было решительное: «Я не обязан Вас брать», и после паузы — «Хотите задачу?»
Так что сначала была задача. Мне кажется, с ним нельзя было общаться иначе, чем решая задачи. Сам он решал задачу с большой увлеченностью, полностью концентрируясь на ней. Я не встречал другого такого человека, {297} который бы «у тебя на глазах» умел разобраться и решить задачу, над которой ты тщетно бился пару месяцев.
Яков Борисович обладал редким рефлексом нового. Стоит рассказать о его реакции на работу, появившуюся в одном английском журнале. Короткая заметка Зельдовича, о которой пойдет речь, породила глубокий интерес к вопросу о росте магнитного поля в турбулентной среде и связанных с ним задач о происхождении магнитных полей планет, Солнца и других небесных тел.
Известно, что запах духов пропадает в воздухе, как дым, как нагретое пятно. Это дамоклов меч принципа максимума, который губит любую скалярную величину, попавшую в турбулентное движение. В 1950 г. английский гидромеханик Дж. Бэтчелор заявил, что магнитное поле (вектор, не скаляр) не только выживает в турбулентности, но и способно самоусиливаться. Авторитет Бэтчелора был столь высох, что его нестрогие соображения преодолели «порог Ландау» и были опубликованы в «Электродинамике сплошных сред» Л. Д. Ландау и Е.М. Лифшица (издание 1957 г.). Правда, с небольшим примечанием, что изложенная аргументация при всей убедительности не является все же вполне доказательной, ибо Я. Б. Зельдович недавно доказал, что она неприемлема в случае двумерной турбулентности.
Выпад против такого эксперта в теории турбулентности, каким и по сей день остается Дж. Бэтчелор, замечателен сам по себе. Но в короткой заменю Зельдовича содержалась и гроздь новых результатов, отмечен временный рост поля, показано, что турбулентность действует, подобно диамагиетику.
Другим качеством Якова Борисовича была поразительная образность окончательного результата. Многое стало предельно ясным, например, в сложной задаче турбулентного гидромагнитного динамо после появления так называемой «восьмерки Зельдовича». История «восьмерки» такова.
На международном симпозиуме по механике жидкостей, который проходил в 1971 г., кто-то заявил, что самоусиление магнитного поля в хорошо проводящей жидкости невозможно, ибо «вмороженность» магнитных линий в несжимаемую жидкость означает сохранение магнитного потока. ЯБ попросил скептика снять ремень и на глазах у поддерживающего штаны свернул ремень в кольцо, перекрутил кольцо в восьмерку в затем сложил кольца друг с другом, продемонстрировав усиление магнитного потока через сечения кольца вдвое. Теперь этот топологический трюк считается лучшей иллюстрацией процесса усиления магнитного поля движениями электропроводящей среды, так называемого быстрого динамо.
Вообще ему была ближе физическая электродинамика Фарадея, чем математическая электродинамика Максвелла. Как-то Яков Борисович рассказывал о споре И.Е. Тамма, физика-теоретика, с электротехником В.Ф. Миткевичем. Миткевич вслед за Фарадеем представлял себе магнитные линии в виде реальных ниток, или веревок. Тамм доказывал ему, что при Лоренц-преобразованиях магнитное поле может перейти в электрическое, и поэтому, если для одного наблюдателя две точки соединены магнитной линией, то для другого это не так. Вопрос о том, соединяет ли магнитная линия две частицы — остроумно пояснил Тамм — подобен вопросу о том, какого цвета московский меридиан, красного или зеленого. В этом рассказе {298} чувствовалось, что ЯБ уважает строгость Тамма, но защищает «фарадеевость» Миткевича. Тамм совершенно прав в вакууме, говорил ЯБ, но в плазме магнитные линии вполне реальны.
Якова Борисовича трудно сравнивать с кем-то, подгонять под какие-то, пусть очень высокие, стандарты. Скажем, сейчас у нас активно пропагандируется труд Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». В качестве одного из двенадцати способов склонять людей к своей точке зрения Карнеги рекомендует избегать спора. Между тем, ЯБ притягивал людей именно умением спорить! Он спорил при личном общении, письменно (особенно из дома отдыха, куда он, казалось бы, к радости противника в споре, уезжал) и по телефону. Телефонный контакт с ЯБ не имел ничего общего с обычным телефонным разговором. Поднявший трубку замыкал цепь, источником сильного тока которой служил ЯБ. Он умел вкладывать в телефон какой-то особый стресс, лишних слов не было, каждое несло большой заряд. Звонил чаще всего утром, в последние годы — иногда вечером. Думаю, каждый говоривший с Яковом Борисовичем навсегда возненавидел пустую телефонную болтовню. В спорах с ним выросло много людей, еще больше получено нетривиальных научных результатов. Может быть, советы Карнеги хороши для деловых людей. Но наука отличается от бизнеса...
Запомнились споры с ЯБ «на бутылку». Ставил он коньяк против минеральной. Спор был чисто научным. Но проигравший обязан был написать остроумную наклейку (почти всегда на бутылке с минеральной). За много лет в Институте прикладной математики, где мы тогда работали, набрался целый шкаф этих бутылок. ЯБ проиграл, кажется, всего один раз и немедленно принес бутылку лучшего коньяка.
Он все делал сам. Вносил большой вклад в совместные работы: идеей, спором, пером. Даже такие, казалось бы, не слишком существенные дела, как написание рецензий и отзывов на диссертации делал только сам. «Я не инвалид», — отвечал ЯБ тому, кто пытался подсунуть ему на подпись что-либо, написанное «за него». Отзывы писал очень быстро, размашисто, а выходило точно и глубоко.
Многие встречали Якова Борисовича на катке, он катался на лыжах, неплохо плавал, водил машину. Но расслабляться с ним даже на прогулке было рискованно. Помню, во время Европейского физического конгресса мы гуляли с ним в окрестности Праги. ЯБ спросил, куда течет Влтава. Я не задумываясь указал направление. На следующее утро ЯБ, выполнив нехитрый эксперимент, торжествующе уличил меня в обмане.
Магнетизм Зельдовича зависел от расстояния до него. Он был уступчив, вежлив и мягок по отношению к более далеким от него людям. Те же, кто приближался к нему на рабочее расстояние, ощущали необыкновенную упругость, критичность, силу его ударов, очищающих от безделья, важности, самоуспокоенности и т. п. А максимум, который он не сглаживал, а обострял, приходился на него самого.
| {299} |
Есть много людей, которые работали с Яковом Борисовичем дольше, чем я, и знали его ближе. Но почему-то хочется выговориться, рассказать о том, каким он запомнился. Возможно, другие сделают это лучше. Нет нужды подчеркивать, что эти заметки носят глубоко субъективный характер и относятся только к отдельным граням его жизни и творчества.
По-моему, Яков Борисович жил и умер молодым. Я не видел его старым, потухшим, беспомощным. Он любил свою работу до последнего дня. Трудно поверить, что все, сделанное им в астрофизике, создавалось в сравнительно коротком 27-летнем интервале, причем он впервые занялся астрофизикой в возрасте 50 лет.
В научной работе важны и содержание работы, и ее стиль. Научное содержание живет независимо от автора, в его профессиональных публикациях. Стиль лучше узнается из общения с самим автором, или из свидетельств его соавторов и очевидцев. Я расскажу о некоторых работах, в которых принимал участие. Они относятся к космологии, гравитации, включают методические публикации.
Мне кажется, сила Якова Борисовича была в широте охвата проблемы, глубокой физической интуиции, понимании всей картины происходящих событий. Он хорошо владел математической техникой, но не умилялся по поводу длинных и сложных вычислений. Помню, когда увидел 50 листов вычислений по одной моей работе, то сказал, что ее давно пора публиковать. Я неоднократно поражался его способности задавать точные и глубокие вопросы о вычислениях, с деталями которых он не был знаком.
Один из первых наших серьезных разговоров касался моей аспирантской работы о сингулярности в общем решении уравнений Эйнштейна для пылевидной среды (среды без давления). Каково было мое радостное изумление, когда я обнаружил, что в этом переплетении формул посторонний человек тоже может ориентироваться. Речь шла о том, насколько общими являются решения, обладающие сингулярностью. Вопрос о сингулярностях — бесконечных значениях плотности вещества, инвариантов тензора кривизны и других физических величин — тогда широко обсуждался. Важные результаты были получены в работах Е.М. Лифшица, И.М. Халатникова и их сотрудников. К тому времени было известно, что сингулярности типа каустик возникают в частном случае невращающейся пылевидной среды. В этом случае можно выбрать систему отсчета, которая одновременно является синхронной и сопутствующей движению среды. Тогда, в силу теоремы об обязательном обращении в нуль метрического определителя синхронной системы отсчета, рано или поздно обращается в нуль элемент сопутствующего объема, а, следовательно, плотность вещества обращается в бесконечность. В духе надежд на то, что сингулярность не есть общее свойство решений, предполагалось, что включение в начальные данные всех степеней свободы, т.е. добавление вращения, приведет к исчезновению сингулярности. Однако мною было показано, {300} что и в общем случае, т.е. в решении, допускающем максимальный набор произвольных функций, описывающих начальные данные, сингулярность для пылевидной среды все-таки имеет место. Характер ее тот же — образование каустики. При движении элементов среды расстояние между частицами вещества вдоль одного из направлений (локальной оси вращения, если вращение присутствует) уменьшается до нуля, и элемент объема превращается в «блин» с бесконечными значениями кривизны и плотности вещества.
Я почувствовал себя окрыленным, когда обнаружил, что Яков Борисович понял и оценил этот результат. В беседе с А. Л. Зельмановым и мной он сказал, что тем самым опровергнуты надежды, что сингулярность не есть общее свойство решений уравнений гравитации. Конечно, в то время меня волновала неизбежность сингулярности и общность этого решения, ни о каких конкретных астрофизических приложениях я и не помышлял. Не знаю, оказала ли эта работа какое-либо влияние на последующую деятельность Якова Борисовича — нелинейная теория роста возмущений в «блинной» теории образования крупномасштабной структуры во Вселенной в послерекомбинационный период. Не исключено, что неизбежность каустик он учитывал.
Яков Борисович жил наукой и непрерывно думал о работе. Ни один интересный вопрос не откладывался в долгий ящик. Со спортивным азартом он стремился первым дать правильный ответ. В некоторых случаях у его молодого окружения возникали несогласия по конкретным утверждениям. Если каждый стоял на своем, Яков Борисович предлагал поспорить на «бутылку». В подавляющем большинстве случаев он же и выигрывал, и тогда проигравший покупал бутылку минеральной воды и приклеивал к ней записку, в которой разъяснял суть спора и каялся в грехах. Были, разумеется, такие траты и у меня. Полезная сторона этих споров состояла в том, что они заставляли тщательно анализировать всю аргументацию, мобилизовать все ресурсы. В некоторых случаях это способствовало появлению неплохих работ.
Одна из первых наших совместных статей с Яковом Борисовичем тоже начиналась с разногласия. У меня получалось, что, опираясь на некоторые данные наблюдений, можно делать выводы о строении Вселенной даже в масштабах, превышающих хаббловский радиус (т. е. в масштабах, непосредственно не наблюдаемых). Яков Борисович приводил аргументы против такой точки зрения. В результате обсуждений была достигнута полная ясность. В статье мы показали, что наблюдаемая изотропия температуры реликтового излучения накладывает жесткие ограничения на возможные отклонения от однородности и изотропии даже в масштабах, в 50–100 раз превышающих хаббловский радиус. Правда, предполагалось, что возможные возмущения случайны, а не специально скоррелированны. О масштабах еще больших, чем упомянутые, мало что можно сказать на основе наблюдений, так как есть типы возмущений, которые могут быть значительными, и это не противоречит изотропии температуры реликтового излучения. Через много лет Яков Борисович вернулся к этой работе и хвалил ее. В то время выяснилось, что Вселенная, испытавшая инфляционное расширение, может быть очень большой и сложной, и ее строение в масштабах, превышающих современный хаббловский радиус, имеет не просто академический интерес. {301}
Яков Борисович работал легко и быстро. Если его что-то задевало, работа сразу доводилась до конца. Буквально по телефону мы согласовали основные результаты статьи о гравитационной неустойчивости в многокомпонентной среде. Интуиция не подвела Якова Борисовича. Как он и предсказывал, в данном случае существует только одна неустойчивая мода. Я опирался на аналогию со связанными осцилляторами и какое-то время думал, что неустойчивых ветвей может быть несколько. Вообще говоря, это правильно, но не в данном случае, где рассматривались покоящиеся компоненты среды, связанные только гравитационными силами. Потом я с радостью обнаружил, что подобные задачи встречаются в самых разных областях физики.
Как подчеркивал сам Яков Борисович, с годами он стал терпимее относиться к «необязательным» гипотезам. Он говорил, что несколько изменилось отношение к этим вопросам в целом в науке. Если раньше правилом хорошего тона было стремление сохранять теоретическую схему вплоть до последней возможности, то впоследствии стало допустимым «делать все, что не запрещено законом». (Этот термин Яков Борисович применял в науке еще до того, как он стал популярен в связи с хозяйственной деятельностью.) Помню, в одной нашей давней совместной работе Яков Борисович предлагал везде заменить слово «Метагалактика» на «Вселенная». Я осторожно писал Метагалактика, имея в виду наблюдаемую часть Вселенной, и, тем самым, как бы не желая связываться со сложным понятием Вселенная. Яков Борисович высказывал подозрение, что это — страх перед философами и уступка им. Он предлагал не бояться сразу говорить о Вселенной. Отчасти это отражало наше конкретное понимание того, как устроен мир. Казалось самым простым и естественным, что он везде таков, каким мы его видим в нашей области. Тогда и характерный размер мира (радиус его пространственной кривизны) мог быть не намного больше хаббловского радиуса. А через несколько лет мы написали работу о «новой» Вселенной, т.е. о том, какие возникают вопросы, если Вселенная действительно очень большая, неоднородная и замкнутая, в пользу чего появилось много аргументов. На первый взгляд, возникает непреодолимое противоречие. В нашей окрестности Вселенная однородна и, скорее всего, пространственно-открытая или пространственно-плоская, как о том свидетельствуют данные наблюдений. Тогда динамическая судьба этой области Метагалактики — неограниченное расширение. Как же совместить его с предполагаемой замкнутостью Вселенной в целом, с необходимостью того, что рано или поздно она должна сжиматься? Оказывается, неизбежно возникают уже знакомые каустики. В рассматриваемую локальную область обязательно проникают частицы из «внешних» областей Вселенной, которые в состоянии изменить динамический характер поведения этой области. Видимо, этот пример — хорошая иллюстрация к тому, как постепенно изменяются и уточняются космологические взгляды.
Идейное влияние Якова Борисовича на развитие тех направлений, которыми он занимался, — огромно. Пожалуй, в особенности это относится к астрофизике и космологии. Свое значение в этом вопросе Яков Борисович понимал. В юбилейные дни в связи с его 70-летием он говорил, что сам себе напоминает персонажа из какого-то (по-моему, немецкого) произведения. Вместе с товарищами этот персонаж занимался перевозкой земли в тачках. {302} Роль героя состояла в том, что время от времени он не боялся перевернуть тачку, взобраться на нее и обратиться к товарищам со страстной речью, как жить и работать дальше. В близкой мне гравитационной области я вижу, по крайней мере, три глубочайших сюжета, где энтузиазм и первые работы самого Якова Борисовича и работы с его участием существенно повлияли на развитие этих направлений и превращение их в «модные». Я имею в виду рождение частиц в гравитационном поле, происхождение и величина космологического Λ-члена, квантовое рождение Вселенной.
Судьба первых, особенно качественных, работ бывает не очень завидной. Хотя в них преодолеваются важные психологические барьеры, но математических подробностей там обычно не много. К новым идеям довольно быстро привыкают и начинают считать их само собой разумеющимися. Затем работы формализуются другими авторами, добавляется много конкретных результатов, на первые работы два-три раза ссылаются как на «ранние» или «наивные», а затем они и вовсе исчезают из списков литературы. Помню, на одной из конференций в Америке Р. Фейнман говорил об этом с юмором, но и с плохо скрываемой горечью. Поводом послужило то, что молодые и энергичные изобретатели асимптотической свободы в квантовой хромодинамике сослались на одну из работ Р. Фейнмана, использовав термин «наивная» (naive). Что касается Якова Борисовича, то он, по-моему, предпочитал знать все и участвовать во всем, пусть иногда на качественном уровне, чем скрупулезно и методично разрабатывать до конца какую-то одну область и связывать свое имя только с ней.
Квантовому рождению Вселенной из «ничего» Яков Борисович придавал в последние годы огромное значение. Он считал, что релятивистская астрофизика и классическая космология уже устоялись и живут самостоятельной жизнью, они обойдутся и без него. А здесь он чувствовал величайшую загадку, и ему не терпелось получить хотя бы предварительные результаты. Это желание сосредоточиться на самом главном проявлялось и в других обстоятельствах. Когда он внимательно выслушивал сообщение о каком-нибудь новом экспериментальном проекте и обнаруживал, что его реализация может потребовать 10–15 лет, то с некоторой грустью говорил, что это уже, видимо, не для него. Однажды он меня попросил (возможно, в шутку) мешать ему писать обзоры и популярные статьи, так как они отвлекают от главного.
Нет нужды говорить, что вопрос о квантовом рождении Вселенной — дело новое и чрезвычайно сложное» адекватные понятия и математический аппарат только вырабатываются, сопоставляются методы обычной гравитации с теорией суперструн и т. д. Я даже чувствовал, что в паре наших совместных работ на эту тему, в одну и ту же фразу мы могли вкладывать не совсем одинаковый смысл. Но тем не менее Яков Борисович радовался тому, что намечается возможность построения «полной» космологической теории, включающей описание как современной, так и квантово-гравитационной стадии развития Вселенной. Нам казалось привлекательным, что не видно препятствий к тому, чтобы Вселенная могла спонтанно родиться в виде «шарика» планковских параметров, а затем быть подхваченной инфляционным расширением. Предполагается, что отклонения от однородного и изотропного решения, в том числе наблюдаемая сегодня структура, могли развиться {303} в дальнейшем из неизбежных квантовых флуктуации полей на фоне инфляционного расширения. Сейчас это направление исследований превращается в разветвленную «индустрию». Обсуждается не только рождение нашей большой Вселенной, но и множественное рождение маленьких микровселенных. Второй подход в данный момент особенно популярен. Вычисляется вклад в физические процессы, происходящие в нашей Вселенной, за счет того, что от нее могут туннельным образом отделяться и к ней присоединяться микровселенные планковских масштабов. Жаль, что развитие этих исследований, отчасти стимулированных Яковом Борисовичем, происходит уже без него.
Яков Борисович никогда не преуменьшал заслуг других людей, а наоборот, восхищался яркими личностями, приводил их в пример, старался выдвинуть на первый план. Еще 20 лет назад, при подготовке 5-й Международной конференции по гравитации в Тбилиси он многократно напоминал нам, чтобы не забыли пригласить молодого и тогда еще мало известного американского физика К. Торна. Яков Борисович никогда не видел его, но прочел и оценил несколько его первых работ. Фамилия Торна была у нас в картотеке, но в решающий момент о нем все забыли. Яков Борисович сильно расстроился и не оставил этого без последствий. Мне, едва закончившему тогда аспирантуру, это врезалось в память. Яков Борисович очень ценил английского физика С. Хокинга, призывал у него учиться. Однажды сказал мне с шутливым упреком: «Вот видите, Хокинг уже стал членом Лондонского королевского общества». Многократно Яков Борисович одобрительно высказывался о работах А. А. Старобинского, А. Д. Линде и других.
Любопытное замечание он сделал однажды по поводу моей ссылки на чужую работу, в которой рассматривались близкие вещи, хотя и под другим углом зрения и в значительно меньшем объеме. Он сказал, что недостаточно просто сослаться на работу, а если хотите, чтобы автору было приятно и он к Вам хорошо относился, надо ссылку перенести на более почетное место — в начало статьи. Пришлось так и сделать.
В совместных работах Яков Борисович был честным партнером. Характер его участия мог быть разным, но у соавтора не было чувства, что его обделили. Во всяком случае, таков мой опыт. Писал он четко и ясно, практически сразу. Меня это восхищало, но и огорчало, так как над своими фразами я долго мучился, но все равно они получались многословными и корявыми.
Для Якова Борисовича истина была важнее всего, здесь он не допускал компромиссов. А в человеческих отношениях был, по-моему, довольно мягким и уравновешенным, с хорошим чувством юмора. Его даже иногда упрекали в конформизме, стремлении избежать конфликта, особенно, если было замешано начальство. Не знаю, может, так и было, но мне кажется, что в этих вопросах он просто проявлял более глубокую мудрость. Высказаться четко и определенно по научному разногласию он считал необходимым, а хлесткие фразы не находил обязательными, видимо, не был безразличен к самолюбию оппонента. Нам пришлось написать с ним несколько статей по принципиальным основам общей теории относительности. С научной точки зрения вопрос был абсолютно прозрачен, но дело осложнялось обвинениями в его и мой адрес в «ошибках», «непонимании», в том, что «все рассуждения по данному вопросу в этой работе... не имеют ни физического, ни {304} математического смысла» и т.д. Яков Борисович не считал нужным отвечать в том же духе, он шутил, что уж если Эйнштейн и математик Клейн обвиняются в математических ошибках, то нам грех жаловаться, мы попали в хорошую компанию. Юмор присутствовал и в деловых разговорах на эту тему. Когда мы обсуждали стародавний вопрос о том, что вместо псевдотензора энергии-импульса гравитационного поля можно ввести тензор, но калибровочно-неинвариантный, Яков Борисович мгновенно описал это украинской поговоркой: «Не вмер Данила, його болячка задавила». Правда, в опубликованном тексте это было заменено более поэтическим: «...гони природу в дверь, она войдет в окно...»
Он был искренним и твердым в оценке поступков других людей, но всегда сохранял порядочность. В доверительных разговорах о ситуациях, где, как минимум, были возможны взаимные претензии, я никогда не слышал от него столь же резких высказываний об оппоненте, как те, которые позволялись в его адрес. Прискорбно было читать в одном материале о каком-то якобы «неблаговидном поступке Зельдовича». Уверен, это — плод недоразумения, Яков Борисович не был на такое способен.
Мне кажется, Яков Борисович проявил себя глубоко порядочным человеком и в трудные для А. Д. Сахарова годы. Известно, что он относился к Сахарову с огромным уважением и почтением. Присутствуя еще на семинарах группы Зельдовича в ИПМ, я видел, как он бросал все и всех и бежал в другую комнату к телефону, если звонил Сахаров. Об уважительном отношении к Сахарову можно судить и по деталям научных публикаций Якова Борисовича. Своими мыслями на темы, связанные с общественной активностью Сахарова, Яков Борисович не особенно делился, возможно, у него даже было другое мнение на этот счет, но было видно, что он старался как-то поддержать Сахарова. В частности, рассказывал историю о том, как писал предисловие к русскому переводу книги С. Вайнберга «Первые три минуты», в котором отмечал научные достижения Сахарова. Конечно, всякое упоминание этой фамилии поначалу выбросили без всякого согласования с Яковом Борисовичем, и ему пришлось надевать парадный «фрак» со всеми звездами и ездить для серьезных разговоров. Только тогда первоначальный текст был восстановлен. Известно также, что Яков Борисович скрывался и уезжал из Москвы, когда хотели заполучить его подпись под гневно-осуждающими письмами. Можно себе представить, насколько его подпись была желанна для организаторов.
Хорошо, что в последние годы у Андрея Дмитриевича было много друзей, всем лестно было находиться с ним рядом. Но чтобы правильно судить о сегодняшних событиях, надо знать события и атмосферу тех лет. Имею и собственный опыт на сей счет. Вначале мне пришлось отстаивать необходимость ссылки на научную(!) статью Сахарова (на которую ссылался весь мир) в одной своей научной работе. (Кстати, в том варианте моей статьи, который читал Яков Борисович, этой ссылки не было, на что он и обратил мое внимание.) А затем ссылка не осталась незамеченной, и со мной имели тягостную нравоучительную беседу. Последующие неприятности не замедлили сказаться. {305}
Позиция и поведение каждого познаются в сравнении. Молва приписывает Якову Борисовичу шутливую самооценку, относящуюся к событиям тех лет, смысл которой в том, что он «не Сальери»...
Яков Борисович был не только нашим лидером и учителем, но и прямым начальником, — около шести лет возглавлял отдел теоретической астрофизики ГАИШа. Как начальник он никогда не стремился регламентировать работу сотрудников, но проявлял известную требовательность, особенно в таких делах, как посещение научных семинаров. Формулировал интересные и большие задачи, поначалу, правда, казавшиеся нереальными. Любил приглашать время от времени на свои лекции, которые он читал для студентов. Во время лекции потерять коэффициент 1/2 не было для него исключительным явлением. Но на лекциях всегда было живо и интересно. О новых и трудных вещах он всегда рассказывал популярно, доходчиво, но не поверхностно. Потом я его неоднократно сравнивал с другими выступавшими и писавшими на сходные темы. Часто у них стремление к понятности сводилось к упрощенным оборотам и патетическим интонациям, посредством чего иллюзия простоты создавалась, но точности и глубины не было. Огромное значение для воспитания молодежи имели многочисленные обзоры Якова Борисовича и научно-популярные статьи.
Пожалуй, самым характерным свойством Якова Борисовича было то, что с ним всегда было приятно общаться, — и на работе, и в быту. Демократизм и простота общения привлекали людей. К нему постоянно обращались с вопросами, за консультациями, советами. Невозможно представить Якова Борисовича отгороженным от людей, этаким важным хозяином шикарного кабинета. К своим высоким наградам он относился небезразлично, но специально их не выпячивал, они никогда не были барьером в разговоре. Мне очень нравилась большая скромность и естественность его дома, теплые отношения с детьми. Он хорошо знал художественную литературу, стихи, любил шутку. А вот по поводу телевидения говорил, что не может себе представить Эйнштейна, сидящего перед телевизором.
Мне приходилось наблюдать Якова Борисовича за рулем автомобиля. Не могу сказать, чтобы он скрупулезно соблюдал правила движения. Пару раз я был свидетелем того, как его останавливали за нарушения. Яков Борисович с виноватым видом вместе с правами невзначай подсовывал удостоверение Героя Социалистического Труда, после чего его отпускали с миром.
Известно, что Яков Борисович уважал спорт. Время от времени дома он предлагал для разминки побросать тяжелый мяч или звал на балкон поупражняться на шведской стенке. Помню, мне с заметным трудом удавалось выполнить те упражнения, что делал он.
Яков Борисович умел сохранять достоинство даже в неприятных житейских обстоятельствах. Однажды я был у него в санатории в Узком. Нам предстояло прогуляться до Профсоюзной улицы и в том числе зайти в магазин за водкой. (Сам Яков Борисович практически не пил, но для гостей держал.) Обстановку в винных отделах и кого там можно встретить, каждый знает. Не избежали «контактов» и мы. Я уже готовился к выяснению отношений, но Яков Борисович несколькими словами и с большим достоинством все уладил. Для меня это был поучительный урок. {306}
К нему часто обращались за помощью. В некоторых случаях он доставал свой бланк, где были перечислены все его титулы, и прямо от руки писал письма важным официальным лицам. Пару раз это касалось меня, — срабатывало безотказно.
Как и многие другие, я относился к Якову Борисовичу с огромным уважением и любовью. Тем не менее, с некоторым стыдом вспоминаю, что с моей стороны были и действия, достойные сожаления — опоздания, заставлявшие Якова Борисовича ждать, слишком большое упрямство в спорах, недопустимая забывчивость и т.д. За них можно было бы выразить и более серьезное недовольство, чем грустный взгляд и два-три слова, которыми он это сопровождал. Однако я чувствую, что подобным отношением он многому меня научил, за что я ему глубоко благодарен.
Сейчас, когда он ушел навсегда, почему-то больше всего недостает его ранних телефонных звонков.
Прочитал написанное и задумался: нет ли здесь чего-нибудь такого, что я изложил бы несколько иначе в разговоре с самим Яковом Борисовичем? — Думаю, нет.
Я был знаком с Яковом Борисовичем более 20 лет, был его дипломником, аспирантом, сотрудником. Любая попытка сколько-нибудь объективно восстановить на бумаге его многогранный и противоречивый образ, мне кажется, заведомо обречена на провал. Во-первых, велика опасность субъективных оценок. Во-вторых, 20 лет — слишком большой срок, за который любой человек может сильно измениться. В-третьих, очень трудно отделить влияние обстоятельств и эпохи на поведение человека от его натуры. Поэтому я даже не пытаюсь изложить здесь все свои воспоминания о нем, тем более, что время расставляет свои акценты в памяти. Самые яркие мои воспоминания о Якове Борисовиче связаны с ним как с учителем, чей талант и обаяние определили всю мою жизнь, за что я ему буду всегда бесконечно благодарен.
Это был 1967 г. Переполненная аудитория. Студенты Физтеха как завороженные смотрят на доску — Яков Борисович читает лекцию по релятивистской астрофизике. И мне, студенту 2-го курса, временами кажется, что до Вселенной можно дотронуться рукой.
Для нескольких студентов, присутствовавших на той лекции, это был день, определивший их судьбу, день, когда был сделан выбор.
1971 г. «Вы можете заниматься, чем хотите, но ответственность будете нести за гравитационные волны», — слова ЯБ, после которых последовала формулировка задачи, ставшей в конце концов темой моей дипломной работы. Видимо, цитируя кого-то из классиков, Яков Борисович не раз говорил, что учитель не может ничему научить своего ученика, его задача — создать ту среду и атмосферу, в которой ученик может многому научиться сам. Многим, {307} очень многим ученикам выпала удача попасть в ту среду и ощутить ту самую атмосферу, пронизанную энергией, научной интуицией и умопомрачительной широтой познаний и интересов Якова Борисовича (тех качеств, которые человек получает непосредственно от Бога).
Теперь, когда мне самому приходится работать со студентами, я каждый раз возвращаюсь памятью к неповторимым беседам с Учителем, чувствую, что мне выпал счастливый лотерейный билет, который уже никогда не выпадет моим студентам.
1972 г. Поступая в аспирантуру, мне пришлось убедиться, что проблема пятого пункта не всегда допускает простые решения. Несмотря на все необходимые рекомендации и выполнение всех формальных и неформальных условий, я с унынием не обнаружил себя в списке выпускников Физтеха, допущенных к вступительным экзаменам в аспирантуру. Узнав об этом, Яков Борисович отдал мне приказ (он так и сказал что это приказ) — держать его в курсе дела вплоть до мельчайших деталей всех возможных разговоров в деканате и аспирантуре Физтеха. Что я и делал на протяжении целого ряда перипетий, включающих беседы с замдекана по аспирантуре. Яков Борисович мгновенно реагировал телефонными звонками, в том числе и ректору. Кончилось тем, что на своем именном бланке он был вынужден гарантировать чиновникам мою защиту диссертации ч устройство на работу. По тем временам это казалось полным нонсенсом. Наверное, поэтому после того, как все закончилось благополучно и я все-таки в аспирантуру поступил, Яков Борисович с грустью улыбнулся и сказал, что я чемпион по поступлению в аспирантуру 1972 г. «В каком смысле?» — спросил я. Он ответил коротко и уже без улыбки: «В самом плохом».
Несмотря на «гарантии», вырванные у ЯБ чиновниками, позднее я получил от него медаль, изготовленную им лично из картона и фольги. На медали был изображен козел и вручалась она тому, про кого можно было в тот или иной момент сказать; «от него пользы, как от козла молока». Единственным утешением было то, что медаль была переходящей. Где она сейчас, мне неизвестно.
Теперь, когда надо помочь выпускникам, аспирантам, я опять-таки возвращаюсь памятью к аспирантуре у ЯБ и молча про себя думаю, глядя на своих и многих других аспирантов: «Как жаль, что вам не повезло так, как повезло мне».
Многое вспоминается, когда думаешь о Якове Борисовиче, и вспоминаются, увы, не только светлые мгновения. Но чем больше проходит времени с того момента, как его не стало, тем явственнее ощущается та ни с чем не сравнимая пустота, когда уходит человек, знавший почти все и интересовавшийся еще в десять раз более широким кругом задач, и к которому в силу этого его дара тянулись люди, в поисках объективности научного мнения. Ошибался и он, но время представляется мне тем фильтром, которое оставит в этом мире от ушедшего человека то, чем он этот мир обогатил. От ЯБ останется в этом мире и в науке так много, что его имя будет связано (и в этом я уверен) с выбором пути еще для многих и многих поколений ученых.
| {308} |
Мне посчастливилось работать с Яковом Борисовичем над книгой, озаглавленной «Космология ранней Вселенной». Она была закончена незадолго до смерти ЯБ. Еще в сентябре 1987 г. он вносил последние исправления в корректуру. Хочу рассказать об этой работе.
Вначале книга была задумана как конспект лекций Зельдовича для студентов 4–5-х курсов физического факультета МГУ. Курс был небольшой, всего полгода, и был посвящен новой космологической теории — инфляционной Вселенной. Появление термина «инфляционная теория» датируется 15 января 1981 г. Редкий случай в истории науки, когда рождение новой ее области можно указать с точностью до одного дня. Так была озаглавлена статья А. Гуса, появившаяся в журнале «Physical Review». ЯБ сразу осознал фундаментальную ценность этого направления для космологии в целом, возможности создания теперь единой космологической картины — от сингулярности до наших дней — и активно развивал идеи инфляции в дальнейшем (отмечу, что многие принципиальные идеи инфляционной космологии ЯБ и его ученики высказали до работы Гуса; признанием этого факта явилось обильное цитирование работ ЯБ как в первой пионерской работе Гуса, так и в многочисленных последующих статьях по теории инфляции). Поэтому ЯБ счел необходимым уже через год после появления теории начать чтение лекций для студентов с изложением ее основных идей и результатов.
Конспекты составлялись быстро. Фактически, к началу следующей лекции уже были готовы конспекты предыдущей. Однако скоро стало ясно, что таким небольшим материалом не обойтись. Связано это было с двумя причинами. Во-первых, теория очень быстро развивалась, каждую неделю приходили препринты с новыми результатами. Их необходимо было осмыслить и включить в книгу. Во-вторых, ЯБ тщательно искал (и находил) ясность в изложении уже освоенного материала. Было видно, как он включал все новый и новый материал, как на глазах сырой конспект превращался в простой и доступный текст, как связывались и приобретали новое звучание прежде разобщенные абзацы, параграфы, главы.
Для меня многое в его манере было внове. С одной стороны, нужно было добиваться полной ясности и простоты изложения (так, чтобы было понятно «человеку с улицы»), а это невольно уводило в сторону за счет пояснений, отступлений и прочего, и, с другой стороны, должна была четко прослеживаться жесткая главная мысль, которую, как новогоднюю елку, обвешивали фактами, доказательствами, примерами.
Поражала удивительная работоспособность ЯБ. Перед моими глазами лежит один из первых машинописных вариантов второй главы с его замечаниями. Их много. Смотрю на них, и в глазах рябит. Он читал и работал над каждой фразой. Но это было не недоверие к соавторам, а стремление во всем разобраться самому, все написать, чтобы не осталось неясных, темных {309} мест. Тут стоит добавить, что параллельно с написанием книги он активно продолжал работать и создавать новые теоретические статьи.
Он был требовательным и к нам, и к самому себе. Даже когда пришла корректура, он начал активно править и улучшать текст. Такая самокритичность проявлялась не только в работе над книгой.
Во время лекции он рассказывал студентам о тех трудностях, которые встречаются в работе каждого исследователя, хотя не каждый решается в них признаться даже самому себе. Они связаны с невоплощенными идеями, замыслами, статьями. Кто-то обогнал, кто-то напечатал работы раньше. При современной насыщенности науки это не удивительно. Идеи, как иногда говорят, «носятся в воздухе». Он рассказывал о тех психологических трудностях, которые встречались на его пути, — это была живая история науки. Два таких эпизода особенно запомнились мне: один из них связан с работами Хокиига, второй — с работами Гуса.
Примерно двадцать лет назад ЯБ с учениками разрабатывал вопросы рождения частиц в гравитационном поле, особенно в приложении к нестационарному полю ранней Вселенной. Это направление стимулировало многие работы, в частности, работы Хокинга по испарению черных дыр. Об этом же предполагал написать и ЯБ, хотя и не успел. Похожая ситуация сложилась и с работами Гуса: ЯБ и его ученики очень близко подошли к подобным вдеям, но оформить их так, как это сделал Гус, им не удалось. Поэтому ЯБ призывал студентов не откладывать публикацию хороших идей, которые появятся в их будущей работе.
Подобное отношение к себе, к своему творчеству вдохновляло студентов значительно сильнее, чем регалии и должности иных более «маститых» ученых. Именно поэтому вокруг ЯБ всегда была молодежь. Ей нравилась его простота и полное отсутствие высокомерия.
Эти строки пишутся через год с небольшим после неожиданной кончины Якове Борисовича. Только сейчас начинаешь понимать размеры утраты. Возникают новые проблемы, встают новые вопросы — зачастую они «повисают в воздухе». К ЯБ можно было подойти с любым затруднением — от научного до житейского. С научными проблемами справлялись его интуиция и глубокая эрудиция, находить правильные решения в море житейских проблем ему помогало чувство человечности.
От нас ушел не только замечательный человек, от нас ушла целая эпоха в астрофизике.
Творчество Я. Б. Зельдовича определило судьбу многих молодых ученых. Мне посчастливилось в самом начале пути в астрономию познакомиться с его работами по физике звезд, а затем неоднократно встречаться и обсуждать эту проблему. {310}
Он обладал удивительным и редким талантом — освещать новым светом классические области науки. С его приходом в астрономию физика звезд и звездных систем получила качественно новое развитие. Поздние стадии эволюции звезд, предсказание излучения нейтрино при коллапсе звезды, теория нейтронных звезд и черных дыр, аккреция вещества на релятивистские объекты как источник гигантского выделения энергии, физика тесных двойных звездных систем с релятивистскими компонентами и многие другие идеи и результаты, полученные Зельдовичем в 60-х годах в преддверии эры рентгеновской астрономии» определили уровень понимания природы тех принципиально новых объектов, которые были открыты в последующие годы с борта космических аппаратов. Его работы положили начало новой науке — релятивистской астрофизике и были столь захватывающи, интересны и новы, что на всю жизнь определили для меня выбор главного направления исследований — физика тесных двойных систем на поздних стадиях эволюции.
Зельдович появился в ГАИШе МГУ в конце 50-х-начале 60-х гг. В то время мы — студенты астрономического отделения физического факультета МГУ — еще не подозревали, что наступает новая эра в астрономии, названная впоследствии второй революцией. Правда, уже был запущен первый советский спутник Земли и космонавт Юрий Гагарин побывал в космосе. В ГАИШе уже активно работал отдел радиоастрономии И. С. Шкловского, а в лекциях Г. Н. Дубошина по небесной механике мы часто слышали слово «спутник». Тем не менее, многие из нас в то время еще не отдавали себе отчета, что наступает «золотой» век астрономии.
Под руководством моего учителя, Д. Я. Мартынова, я занимался тогда исследованием тесных двойных звезд, в частности, двойных систем с компонентами — звездами Вольфа-Райе. Нас интересовала задача извлечения максимума информации о массах, радиусах и температурах пекулярных звезд из данных оптических наблюдений затменных двойных звездных систем. Совместно с А. В. Гончарским и А. Г. Яголой, студентами кафедры математики физического факультета, мы увлеченно работали над решением этой обратной и, вообще говоря, некорректной задачи. Нам удалось «победить» некорректность, введя априорную информацию о монотонности искомых функций распределения яркости по дискам звезд и построить регуляризирующий по А. Н. Тихонову алгоритм.
Тогда, в конце 60-х годов, мы с волнением слушали доклады Зельдовича и его учеников на Объединенном астрофизическом семинаре (ОАС) и читали его статьи. Надо сказать, что появление Зельдовича в ГАИШе неразрывно связано с созданием и работой ОАС. Каждое заседание этого семинара для нас — студентов, аспирантов и молодых сотрудников — всегда было праздником, поскольку там докладывались самые интересные, актуальные, а часто и выдающиеся работы. На этот семинар съезжалась вся астрофизическая научная общественность Москвы, а иногда и страны. А сколько блестящих советских и зарубежных ученых активно участвовали в работе ОАС!
На меня особенно сильное впечатление произвели три работы Зельдовича, которые прошли апробацию на ОАС. Прежде всего — «Судьба звезды и выделение гравитационной энергии при аккреции», опубликованная им в 1964 г. В ней были заложены основы релятивистской астрофизики, предсказано {311} мощное выделение энергии в рентгеновском диапазоне при аккреции вещества на релятивистские звезды, указано на важную роль двойных звезд в изучении нейтронных звезд и черных дыр. Для меня эта работа была настоящим откровением, поскольку тема моей дипломной работы была как раз связана с изучением тесных двойных звездных систем с пекулярными компонентами.
Вторая работа (опубликована в 1966 г. совместно с О.Х. Гусейновым) «Коллапсировавшие звезды в составе двойных», где впервые сформулирована программа поиска нейтронных звезд и черных дыр в двойных системах. Как аспиранта, специализировавшегося на изучении тесных двойных звезд, меня эта статья очень взволновала. Со всей очевидностью стало ясно, что двойные звезды — мощный инструмент исследования не только обычных, но и релятивистских звезд.
Наконец, третья работа Зельдовича (совместно с И. Д. Новиковым, 1966 г.) «Физика релятивистского коллапса» — прямо указала на оптическую звезду в двойной системе как источник вещества, аккреция которого на релятивистский объект может приводить к мощному выделению энергии в рентгеновском диапазоне. Стало ясно, что нейтронные звезды и черные дыры в двойных системах можно непосредственно наблюдать по рентгеновскому ореолу вокруг них, и мы с волнением читали пока еще редкие (в основном, зарубежные) публикации об исследовании неба в рентгеновских лучах с борта ракет, в частности, об открытии рентгеновского источника Скорпион Х–1 и его отождествлении с голубой оптической звездой 12-й звездной величины.
Полностью все новые идеи и результаты были опубликованы в 1967 г. в знаменитой книге Зельдовича и Новикова «Релятивистская астрофизика». Она стала для нас настоящей энциклопедией по наиболее актуальным проблемам астрофизики. В те годы открытия в этой области следовали одно за другим. На заседаниях ОАС звучали все новые термины: квазары, реликтовое излучение, пульсары, космические источники мазерного радиоизлучения и т.п.
Завершая описание периода, предшествовавшего моим встречам с Я. Б. Зельдовичем, не могу не отметить три работы его учеников, вошедшие в золотой фонд науки:
• защита В. Ф. Шварцманом в 1971 г. кандидатской диссертации об аккреции вещества на одиночные нейтронные звезды и черные дыры;
• работа Н. И. Шакуры (1972г.) о дисковой аккреции вещества в двойных системах на релятивистские объекты;
• и, наконец, знаменитая работа Н. И. Шакуры и Р. А. Сюняева по теории аккреции вещества на релятивистские объекты в двойных системах (начало 1973 г.).
Они непосредственно предшествовали эре рентгеновской астрономии, которую обычно связывают с запуском в 1971 г. американского рентгеновского спутника «Ухуру», когда рентгеновская астрономия встала на прочную наблюдательную базу.
В 1972 г. появилась статья группы американских ученых под руководством Р. Джиаккони об открытии первого затменного рентгеновского источника Центавр Х–3 — рентгеновского пульсара с периодом вращения нейтронной звезды 4,8 с и орбитальным периодом затмений рентгеновского источника {312} оптической звездой около 2,1 дня. Несколькими месяцами позже эта же группа сообщила об открытии рентгеновских затмений у источника Геркулес Х–1 с периодом 1,7 дня при периоде рентгеновского пульсара в системе 1,24 с. Н.Е. Курочкин, используя коллекцию фотоснимков звездного неба из фототеки ГАИШ, отождествил систему Геркулес Х–1 с известной и считавшейся неправильной переменной звездой HZ Геркулеса. Период и фаза оптической переменности этой звезды совпали с периодом и фазой рентгеновских затмений и с периодом изменения лучевых скоростей рентгеновского пульсара Her Х–1. Независимо это отождествление было сделано американскими астрономами Дж. и Н. Бакалл. Комплекс рентгеновских и оптических данных об этом объекте, а также новые представления об аккреции вещества в тесных двойных системах привели нас к выводу, что главная причина оптической переменности этой системы — эффект отражения, т. е. прогрева поверхности оптической звезды мощным рентгеновским излучением аккрецирующей нейтронной звезды. В 1972 г. в международном бюллетене «IBVS» появилась статья А. М. Черепащука, Ю. Н. Ефремова, Н. Е. Курочкина, Н. И. Шакуры и Р. А. Сюняева, посвященная интерпретации оптической переменности системы HZ Геркулеса. Результаты были доложены на ОАСе весной 1972 г.
Это было мое первое выступление на знаменитом общемосковском семинаре и первая встреча и научная дискуссия с Зельдовичем. Во время доклада и последовавшего обсуждения в заветном для многих фойе перед конференц-залом ГАИШа он проявил исключительный интерес к нашим результатам и рекомендовал как можно быстрее опубликовать их. При содействии Б. В. Кукаркина удалось быстро, за два месяца, напечатать статью в «IBVS». Как выяснилось, Зельдович не зря нас торопил: примерно полгода спустя, в конце 1972 г. в американском журнале «Astrophysical Journal Letters» появилась статья Дж. и Н. Бакалл.
Вторая моя встреча с Зельдовичем произошла в ИПМ летом 1972 г., когда мы (вместе с Сюняевым и Лютым) доложили работу об интерпретации оптической переменности объекта Лебедь Х–1 — кандидата в черные дыры. Помню, как весной 1972 г. Лютый, приехав в ГАИШ с Крымской станции, показал результаты своих фотометрических наблюдений этого объекта, точнее, оптического компаньона рентгеновской двойной системы. По своим данным он пытался найти орбитальный период двойной системы, что было трудно из-за большой физической переменности и пока непродолжительных наблюдений. Буквально на следующий день, идя в библиотеку ГАИШ, я увидел свежий номер журнала «Nature», на обложке которого была приведена кривая лучевых скоростей оптической звезды в системе Лебедь Х–1 и написано: «Лебедь Х–1 — двойная система». Это были результаты знаменитой работы Л. Вебстер и П. Мардина об открытии у Лебедя Х–1 спектроскопического орбитального периода в 5,6 дня и определении функции масс. Я срочно сообщил эту информацию Лютому. Оказалось, что его данные прекрасно коррелировали с американскими.
Результаты интерпретации оптической кривой блеска системы Лебедь Х–1 как эффекта эллипсоидальности оптической звезды в гравитационном поле релятивистского объекта, а также оценка массы кандидата № 1 в черные дыры докладывались нами (совместно с Лютым и Сюняевым) летом 1972 г. {313} на астрофизическом семинаре Зельдовича в ИПМ, а осенью — на ОАС. Он решительно поддержал нашу работу, и она, при содействии СБ. Пикельнера, была опубликована вне очереди в начале 1973 г. в «Астрономическом журнале». Через год мы поместили там же работу, на качественном уровне завершившую интерпретацию всех видов оптической переменности рентгеновских двойных систем. Все эти исследования проводились нами в тесном контакте с Зельдовичем. Он поддерживал нас и помогал ценными советами. В 1974 г. по предложению Зельдовича мы сделали доклад на бюро Астросовета АН СССР об итогах и перспективах оптических исследований рентгеновских двойных систем, подготовили и разослали во все обсерватории страны программу координированных наблюдений всех известных к тому времени объектов этого типа. Так, под влиянием идей Зельдовича и при его непосредственной поддержке возникло новое направление в наземной астрономии — оптическая астрономия рентгеновских двойных систем.
Следует отметить и событие века — вспышку в 1987 г. Сверхновой в Большом Магеллановом Облаке и детектирование импульса нейтринного излучения от нее, в соответствии с теоретическим предсказанием Зельдовича и Гусейнова, сделанным в 1965 г. Рентгеновское излучение от этой Сверхновой впервые было зарегистрировано с борта советского орбитального комплекса «Мир» с помощью астрофизического модуля «Квант», созданного под руководством Сюняева.
Все последующие годы мне довелось неоднократно встречаться с Яковом Борисовичем и обсуждать различные научные проблемы. Большинство важнейших результатов, полученных по рентгеновским двойным системам, прошли апробацию на ОАС и первичную экспертизу Зельдовича. В начале 80-х годов в ГАИШе был образован отдел релятивистской астрофизики под руководством Зельдовича, и у меня появилась возможность посещать рабочие семинары отдела. Как правило, обсуждение какого-либо доклада заканчивалось рассказом Якова Борисовича о важнейших научных новостях, а непринужденность и неофициальность обстановки позволяла, не стесняясь, задавать самые наивные вопросы. Прекрасный педагог, Зельдович собрал вокруг себя плеяду молодых талантливых учеников, ставших со временем учеными с мировыми именами. В последние годы жизни он особенно увлеченно работал в области космологии и теории крупномасштабной структуры Вселенной. В 1984 г., уже будучи заведующим отделом звездной астрофизики ГАИШ, я прослушал семестровый курс его лекций по космологии для студентов старших курсов физфака. Вел он этот курс блестяще и иногда, прерывая изложение, задавал слушателям контрольные вопросы для проверки уровня понимания его лекций. На нескольких вопросах «попался» и я.
О встречах и беседах с Зельдовичем можно было бы писать очень много. Я остановлюсь лишь на двух эпизодах, особенно сильно врезавшихся в память.
В 1984 г. я попросил Якова Борисовича поставить на ОАС мой доклад «Поиск релятивистских объектов в нерентгеновских двойных системах». К тому времени накопилось много данных, что число нейтронных звезд {314} и черных дыр в двойных системах, находящихся в «мертвой», нерентгеновской стадии, должно в сотни раз превышать число релятивистских объектов в рентгеновских двойных системах. В нашем отделе был собран большой наблюдательный материал по исследованию таких «нерентгеновских» двойных систем. Их изучение проводилось методом, предложенным Зельдовичем в 1966 г., по движению оптической звезды в двойной системе. Для меня было большой честью услышать в конце доклада оценку нашей работы Зельдовичем: «Хорошо, что поиск нейтронных звезд и черных дыр поставлен в ГАИШе на индустриальную основу».
Последний разговор у меня с Яковом Борисовичем состоялся по телефону в конце ноября 1987 г., за две недели до его кончины. Он позвонил и предложил сделать доклад на ОАСе на тему «Тесные двойные системы на поздних стадиях эволюции». Я начал напряженно готовиться, однако мне не суждено было вновь встретиться с ним в научной дискуссии — через несколько дней он ушел из жизни. Доклад я сделал уже после его кончины на первом заседании Астрофизического семинара, которым руководит теперь коллективный оргкомитет. Семинар продолжает традиции ОАС и является научным памятником Я. Б. Зельдовичу.
К настоящему времени (апрель 2005 г.) открыто около трех сотен черных дыр. Из них 20 — черные дыры звездной массы в рентгеновских двойных системах (mч.д. = 4–15М☉) и свыше 250 — сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик (mч.д. = 106÷109М☉).
По эффектам гравитационного микролинзирования открыты три одиночные черные дыры звездной массы (mч.д. = 6–8М☉). Предложены методы поиска кротовых нор по эффектам гравитационного микролинзирования далеких звезд фона. Во многих случаях прямыми наблюдениями доказано, что размеры кандидатов в черные дыры, этих массивных и чрезвычайно компактных объектов, не превышают нескольких гравитационных радиусов. Ограничения на радиусы кандидатов в черные дыры получаются из исследования их быстрой переменности, из анализа профилей рентгеновской линии 24-кратно ионизованного железа, а также из прямых оценок размеров излучающей области методами радиоастрономии со сверхдлинной базой (в случае сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик). В центре нашей галактики по движению звезд измерена масса компактного объекта (mч.д. = 4 · 106М☉), а по переменности рентгеновского и инфракрасного излучения даны ограничения на размеры этого массивного темного тела и показано, что объект является единым телом с радиусом меньше нескольких гравитационных радиусов. По всем признакам — это сверхмассивная черная дыра.
Таким образом, открыто уже несколько сотен массивных и чрезвычайно компактных объектов, наблюдательные свойства которых очень похожи на свойства черных дыр, предсказываемые Общей теорией относительности (ОТО) А. Эйнштейна. Это сильно укрепляет нашу уверенность в реальном существовании черных дыр во Вселенной.
Успехи в поисках и исследованиях черных дыр столь велики, что в последние годы развивается новое направление в астрофизике — демография черных {315} дыр. В частности, обнаружена корреляция между массой сверхмассивной черной дыры в ядре галактики и массой балджа галактики (сферического сгущения старых звезд в центральной части галактики), а также между массой сверхмассивной черной дыры и дисперсией скоростей в галактическом балдже. Есть основания также предполагать наличие грубой корреляции между массой сверхмассивной черной дыры в центре галактики и массой галактического гало, состоящего из темной материи. Все эти обнаруженные закономерности накладывают ограничения на механизмы формирования сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Соответствующие теоретические исследования активно развиваются в последние годы как в России, так и за рубежом.
Все более выявляется тесная связь между формированием быстровращающихся, керровских черных дыр при коллапсах ядер массивных звезд и генерацией знаменитых и пока загадочных космических гамма-всплесков, когда за время в несколько секунд в гамма-диапазоне выделяется гигантская энергия, составляющая значительную долю от энергии, выделяемой при аннигиляции целой солнечной массы.
Оценки показывают, что с учетом эффектов наблюдательной селекции полное число черных дыр звездной массы в нашей Галактике должно составлять 107, что составляет ~0,1% от всей массы барионного вещества Галактики. Это немалая величина, поэтому можно говорить о новом состоянии вещества в Галактике — коллапсированном состоянии (наряду с газообразным, жидким, твердым и плазменным состояниями).
В течение ближайшего десятилетия планируются специальные эксперименты (космический рентгеновский интерферометр с угловым разрешением 10–7 секунды, гравитационно-волновые антенны и т.п.), которые позволят непосредственно наблюдать процессы падения вещества вблизи горизонта событий черной дыры. Это позволяет надеяться, что в скором времени будет окончательно доказано, что найденные кандидаты в черные дыры — это реальные черные дыры.
Таким образом, проблема поиска черных дыр в настоящее время поставлена на прочный наблюдательный базис, и ученым удалось вплотную приблизиться к окончательному открытию этих удивительных и экстремальных объектов.
Яков Борисович всегда был горячим сторонником ОТО. Он является создателем релятивистской астрофизики. Как жаль, что он не дожил до торжества своих идей и теоретических предсказаний.
Я всегда чувствовал себя в долгу перед Я. Б. Зельдовичем за то благотворное влияние, которое он оказал на мою жизнь, горжусь тем, что моя научная судьба соприкоснулась с творчеством такого выдающегося ученого. Вклад его в науку и, в особенности, в астрофизику, огромен, многие его цдеи и результаты еще ждут осмысления и признания, поскольку научное творчество Я. Б. Зельдовича часто намного опережало время.
| {316} |
Его гроб посреди заполненного до отказа зала в здании Президиума Академии наук, непокрытые, несмотря на 20-градусный мороз, головы на траурном митинге на Новодевичьем кладбище — все это было, но связать эти факты со смертью Якова Борисовича невозможно. Все равно ждешь его утренних звонков. Проходя мимо ворот Института физических проблем, невольно заглядываешь в окна его кабинета — на месте ли он. Безотчетно пытаешься найти его на научных семинарах и конференциях. Яркое, живое ощущение его присутствия сохраняется. Для всех, кто его знал, слова «смерть» и «Зельдович» несовместимы.
Он всегда жил наукой, и его жизнь в ней продолжается. Он казался в ней безграничным и всеохватывающим. ЧВАН — член всех академий наук — так он иногда аттестовывал себя. Он осознавал свой гений и величие, но озорство и задор снимали монументальность подобного самоощущения. Он не был на «Вы» с собой в науке. Он был на «Я» с наукой в себе. В его подходе к решению научных проблем привлекала яркая и целостная картина изучаемого явления, в котором формулы и выкладки казались лишь пояснением и обоснованием интуитивно уже «увиденного» решения. «Ведь он видит это», — такой отзыв о каком-нибудь ученом звучал в его устах одобрением, с налетом даже некоторой зависти, если у самого Зельдовича подобного «видения» в тот момент не было. Результаты, не сводимые к ясной физической картине, не объяснимые «на пальцах», от него (по его выражению) «отскакивали». Он не мог принять формально правильных, но физически не осмысленных сухих математических выводов. Такие работы вызывали у него скуку и откровенную зевоту.
Наша совместная научная работа относится к последнему десятилетию его жизни и творчества, к проблемам на стыке теории элементарных частиц и космологии, которые в «Автобиографическом послесловии» к его избранным научным трудам характеризуются так: «Жизнь продолжается, и космология углубляется в область, где физика далеко оторвалась от экспериментальной проверки. Новое поколение теоретиков говорит не о первых трех минутах или секундах, не о ядерных реакциях и плазме. Обсуждаются процессы на планковской длине, за планковское время, с планковской энергией... В теории поля рассматриваются 5-, 11- и 26-мерные пространства. В лабораторных условиях они обязательно будут имитировать наше обычное (3–11)-мерное пространство-время, лишние измерения спрячутся, свернутся, оставляя следы лишь в систематике частиц и полей. Приходят 20-летние ребята, сразу, без груза предыдущих работ и традиций берущиеся за новую тематику. Не выгляжу ли я среди них мастодонтом или архиоптериксом?
Человечество, как никогда, находится на пороге замечательных открытий. Все ярче выступает идея всеобъединяющей теории... Возможно, именно космология окажется пробным камнем для проверки новых теорий».
Он был в той группе лидеров, которая непосредственно направляла драматическое развитие естествознания последнего 50-летия, и его личное {317} восприятие этого развития наиболее полно выражалось в нашей совместной работе над книгой (которая носит автобиографические черты его личности) о драме идей в физике. Мы начали писать ее весной 1982 г. Непосредственным толчком послужила наша совместная работа (его в качестве редактора, моя — одного из авторов) над изданием энциклопедии «Физика космоса». Ряд фундаментальных вопросов теории элементарных частиц, непосредственно не относящихся к теме книги, но играющих важную роль в развитии современной теоретической астрофизики и космологии, вызывали желание проследить, как в истории физики понятия элементарной частицы, заряда, поля наполнялись по мере развития науки новым содержанием.
Несмотря на достаточно ясный общий план, работа над книгой растянулась на пять лет. Ее содержание в той или иной мере затрагивало практически все основные вопросы теоретической физики, и было трудно совместить доступность изложения с минимумом ущерба для научной строгости.
Неожиданную помощь оказало нам появление книги Л. Б. Окуня «α, β, γ... z». Задача упростилась — теперь не нужно было подробно описывать современные представления об элементарных частицах, и мы смогли сосредоточиться на эволюции этих представлений. Работая в этом ключе, мы поняли, что первоначальное название книги «Частицы, поля, заряды» может быть не более, чем подзаголовком к окончательному — «Драма идей в познании природы». Но здесь подстерегала другая трудность — необходимость оценки современных тенденций развития физики. Обращение к прошлому для осмысления сегодняшней ситуации было одним из стимулов работы над книгой. Было интересно «влезть в шкуру», скажем, современников Дирака и Ферми и кожей ощутить, каково им было принять идею античастицы, представление о возможности рождения и уничтожения элементарных частиц. В конце 80-х годов такое «вживание» в прошлое физики было психологически важно для осознания ее настоящего и перспектив будущего.
В работе над книгой на глазах оживала диалектика развития научных идей. Приведу один сюжет, рассказанный мне Яковом Борисовичем в связи с обсуждением силовых линий магнитного поля. Вопрос, имеет ли это удобное для электродинамики понятие физический смысл, стал в 30-е годы предметом острой дискуссии между И. Е. Таммом и специалистом по электротехнике Мицкевичем. Тамм, активно отрицавший физическую осмысленность подобного понятия, относил вопрос к бессмысленным, типа «Какого цвета меридиан?» На что утверждавший фундаментальное значение силовых линий Мицкевич ехидно отвечал: «Странно, что товарищ Тамм не знает о красном цвете нашего советского меридиана». «Можно было заключить, — завершал свой рассказ Зельдович, — что в этой дискуссии Тамм олицетворял чистоту и бескомпромиссность настоящей науки, а Мицкевич выступал в роли простого демагога. Но истина сложнее, потому что для магнитного поля, вмороженного в плазму, магнитные силовые линии имеют явный физический смысл».
В канун 1984 г. мы как-то заговорили с ним о книге Оруэлла «1984». Неожиданно для меня Яков Борисович без восторга отозвался об этой книге. «Почему?» — изумился я. «Больно убогая фантазия у этого автора — {318} социализм без очередей», — ответил Зельдович. Размышляя над этой оценкой, я поразился ее глубине; очереди — суть распределительной системы.
Другой пример относится к «Ревизору» Гоголя. «Я прикинул, — говорил мне Яков Борисович, — что отцы города по возрасту должны быть ветеранами Отечественной войны 1812 года. И рисковав жизнью за Родину, им не кажется теперь зазорным взять штуку сукна у купчишки, ради которого, в сущности, они рисковали жизнью. Хлестаков же по молодости в войне не участвовал и, принимая, как должное, плоды победы» не может понять элементарных для правящего класса ветеранов вещей». Поскольку Зельдович не раз упоминал эту трактовку, мне кажется, он ею немного гордился.
В начале 1985 г. Зельдович посетил выставку художницы Сельвинской, оставив в книге отзывов запись: «Жаль, что среди физиков нет такого поэта». Когда несколько дней спустя я зашел к нему домой, он встретил меня, окруженный экземплярами I тома его избранных научных трудов, переданными ему библиотекой какого-то НИИ. Льщу себя тщеславной надеждой, что, надписывая мне экземпляр, он мысленно корректировал запись в упомянутой книге отзывов: «Дорогому Максиму Юрьевичу, поэту (или драматургу) среди физиков... эту книгу с риском для жизни и репутации украденную в НИИ с надеждой на наш третий том от ЯЗ». «Потом сами сочините, как мы с Вами крали этот экземпляр из библиотеки. Вы стояли на стреме, а я тащил. Можете придумать какие-нибудь леденящие душу подробности — скрип половиц в коридоре в самый ответственный момент, или как нас чуть не накрыли, и т.д.» — сказал он, вручая мне надписанный экземпляр.
Упомянутый третий том — это наша с ним книга «Драма идей в познании природы», вышедшая уже после его смерти. Она действительно логически завершала собрание его трудов, как завершает том философских раздумий собрание сочинений каждого крупного ученого.
Гений Зельдовича бессмертен. Хрестоматийный глянец слетает с граней осколков живой памяти о нем. Он слишком жив в ней, и я никак не могу поверить, что его больше нет. «Он человеком был, человеком во всем, ему подобных мне уже не встретить».
Впервые мне довелось встретиться с Яковом Борисовичем где-то в конце 1961 г. или в начале 1962 г., когда я учился на пятом курсе МИФИ. На кафедре теоретической физики нам предписывалось в ближайший четверг на семинаре Ландау найти Зельдовича и представиться ему. На семинар мы прибыли втроем — С.П. Гореславский, С.С. Жихарев и я. Никто из нас Зельдовича в лицо не знал, но в перерыве мы его нашли и представились. Невысокого роста, очень подвижный и энергичный, с большими внимательными глазами за стеклами круглых очков — он поразил меня тогда, как всегда поражал потом своей энергией, деловитостью. Взглянув на нас, он коротко сказал: «Я все понял. Пойдемте». Завел в какую-то комнатку {319} рядом с конференц-залом и предложил нам на выбор несколько своих статей: «Изучите, приходите через недельку снова на семинар, побеседуем». Среди предложенных статей одна была о трудностях в квантово-механическом описании β-распада, ее выбрал Гореславский. Жихарев выбрал статью о возможности существования чисто нейтронных ядер. Мне нравилась газодинамика, и я выбрал работу Зельдовича с автомодельной задачей о коротком ударе. Так мы получили первое, далеко не полное представление о масштабах работы Зельдовича, и тем интереснее для нас были предстоящие встречи с ним. Беседуя с нами о прочитанном, Яков Борисович каких-то очень сложных вопросов, требующих длительных размышлений или длинных выкладок, не задавал. Экзамен мы выдержали, о чем нам тут же было сказано: «Я вас беру».
Приехав в город, мы тут же получили темы дипломных работ и руководителей. Не прошло и получаса после нашего появления в отделении, как я уже беседовал с Робертом Мееровичем Зайделем о целях моего дипломного проекта. Меня представили Зайделю коротко и ясно: «Роберт Меерович, к Вам на автомодельность».
Я работал в комнате Николая Александровича Дмитриева. Яков Борисович очень часто, порой несколько раз в день, забегал к Николаю Александровичу, и я был свидетелем многочисленных дискуссий, в которых рождались новые идеи будущих работ. Для меня это было очень важно.
Защита моего диплома не обошлась без участия Якова Борисовича. Вообще-то после 4,5 лет учебы в МИФИ полагались еще год на практику и полгода на диплом. Но Яков Борисович предложил мне не тратить время на практику, а сразу писать дипломную работу. Чувствуя к себе такое искреннее его внимание, я старался изо всех сил. Когда дипломная работа была, наконец, написана, Яков Борисович попросил Н. А. Попова составить на нее рецензию, но срок, названный Никитой Анатольевичем, его не устроил: «Ладно, я сам напишу Вам «похлопывающий» отзыв», — сказал Зельдович, обращаясь ко мне. Буквально через день состоялась защита. Зельдович был председателем комиссии. Задавали много вопросов, я довольно бодро отвечал, но главный вопрос, по самой сути дела, задал Яков Борисович: «Так все-таки растут или затухают возмущения в Вашем случае?» Я понял, что, докладывая работу, слишком увлекся формулами. Наспех ответил и, как выяснилось, невпопад. Яков Борисович улыбнулся и негромко поправил меня (как-никак защищается его «похлопанный» подопечный, а говорит такую ерунду). Смутившись, я поспешил согласиться с ним.
Такое значительное событие, как защита диплома, полагалось отметить. Я снова оказался в затруднительном положении: пригласить Якова Борисовича мне почему-то было неловко, но еще более неловко не приглашать... Конец моим страданиям положил Андрей Дорошкевич, изучавший гравитацию и астрофизику под руководством Зельдовича. Он сказал, что Яков Борисович — человек прямой, что я должен пригласить, а он мне просто ответит: да или нет. Я так и сделал. Яков Борисович, действительно, ответил просто и прямо; «Меня не ждите, но, может быть, приду», — и спросил адрес. Конечно, я решил, что это более чем деликатный ответ на столь нескромное приглашение, и успокоился. Торжество проходило в общежитии. {320} В самый разгар шумного и бесшабашного студенческого веселья в дверях комнаты вдруг показалась бутылка шампанского в вытянутой руке и вслед за вытянутой рукой показался Яков Борисович с лукавой улыбкой... Так легко и просто сочетались в нем маститый ученый и удивительно жизнелюбивый человек.
В те годы реликтовое излучение Вселенной еще не было обнаружено экспериментально, и в астрофизике шла дискуссия о состоянии материи на дозвездной стадии расширяющейся Вселенной. В противоположность «горячему» варианту Гамова Зельдович в 1962 г. предложил «холодный» вариант Вселенной с нулевой температурой в момент большого взрыва. Затравочный состав частиц предлагался очень простой: электроны, протоны и нейтрино (для стабилизации) в равных количествах, чтобы на звездной стадии получился холодный водород. Растрескивание твердого водорода на куски или распад жидкого водорода на большие капли при общем расширении рассматривались как процессы, ведущие затем к образованию звезд.
И вот на следующий день после защиты диплома Яков Борисович дал мне задачу: рассчитать, на сколько возрастет энтропия холодного вещества за счет медленных (вследствие слабого взаимодействия реакций в смеси), ферми-частиц. Действительно ли к моменту образования звезд водород будет твердым или хотя бы жидким? Слишком сильный нагрев в реакциях — и газообразный водород уже противоречил бы предполагаемому механизму образования звезд. Задача оказалась для меня трудной, нужные формулы я получал очень медленно.
Когда Яков Борисович спрашивал: «Как дела?» — мне долгое время нечего было ему ответить. Иногда он подбадривал меня: «Ну вот, уже формулы становятся похожими на то, что надо». Потом стал просто напоминать: «От Вас требуется одно число», — имелась в виду безразмерная энтропия, показывающая степень разогрева. Примерно через полгода работы я понял, что аналитически до конца задачу не решить, требуется численный счет — и засел за программирование. Узнав об этом, Яков Борисович разочарованно сказал: «Кто в машину залезает, тот не скоро из нее вылезает»...
Так или иначе, но только почти через год спустя после получения задачи я, наконец, «вылез из машины» и сообщил Якову Борисовичу требовавшееся от меня число. Однако Яков Борисович сказал, что радоваться рано и обратил мое внимание на то, что в ходе расширения в рассматриваемом веществе могут идти реакции с участием μ-мезонов и надо их учесть, поскольку они могут дать такой же, если не больший разогрев.
В связи с этими реакциями мне вспоминается такой эпизод: Яков Борисович, улетая в Москву, поинтересовался, как у меня дела с дополнительными реакциями. Я ему написал что-то на доске и, как вскоре сам же выяснил, в коэффициенте наврал на много-много порядков. Яков Борисович удивился и засомневался, а я так настаивал на своем, что он перестал убеждать, помолчал немного и сказал: «Ну ладно, посмотрим. Мне пора». И уехал. Остыв, я понял, что был не прав, мне стало очень неловко. Я приплелся к своему рабочему столу, а Николай Александрович Дмитриев сообщил мне, что с аэродрома звонил Зельдович, искал меня и сильно ругался. При этом {321} Николай Александрович так смеялся» не в силах сдержаться, что я понял, как примерно звучало заслуженное послание Якова Борисовича в мой адрес.
Тем не менее вскоре настал момент, когда задача была полностью решена и Яков Борисович велел писать по задаче статью. И хотя без помощи Якова Борисовича я никогда бы не довел эту работу до конца» он отказался от соавторства, предложил просто на него сослаться и, может быть, за что-нибудь поблагодарить.
Рабочий день Якова Борисовича начинался с раннего утра. В тихие утренние часы ему никто не мешал, и, как говорили, именно в эти часы он писал свои статьи. Потом решал срочные производственные вопросы, а ближе к полудню собирал молодежь на учебу. На этих занятиях поначалу не все было понятно, но всегда было интересно и можно было задать любой вопрос. Как правило, Яков Борисович, стоя у доски, не выводил нужные зависимости более или менее последовательно, формулу за формулой. Он любил сразу писать правильный ответ с точностью до численных коэффициентов. Он обладал огромными знаниями и, как никто, умел учить.
Об отношении Якова Борисовича к работе мне многое сказала одна фраза. Мы, молодые сотрудники, еще студенты, в предвкушении длинных летних каникул пришли к Якову Борисовичу с заявлениями на отпуск. Он подписал, а потом посмотрел на нас с отеческой мягкой укоризной и сказал: «Я в ваши годы столько не гулял...».
Яков Борисович обычно ездил на «Волге», но однажды выяснилось, что уважаемый академик в душе страстный мотоциклист. В жаркий день, затормозив у ворот нашей площадки и увидев меня на мотоцикле, он попросил мой ИЖ–56 прокатиться. Я завел мотоцикл. Я немного волновался за Якова Борисовича, но когда увидел, как он тронулся и лихо проехал до ближайшего перекрестка и обратно, успокоился: ясно, что человек не в первый раз сидит на мотоцикле. Вернулся он, как мне показалось, немного взволнованным и очень довольным.
Вскоре, к великому всеобщему сожалению, Яков Борисович переехал на постоянное место жительства в Москву. Об истинных причинах переезда, кроме разных ходивших тогда слухов, мне до сих пор достоверно ничего не известно. Первое время после переезда он довольно часто приезжал, обязательно собирал большой семинар и рассказывал о последних новостях в физике. Каждый в отделении мог позвонить ему в Москву. Хорошо известен был его легко запоминающийся домашний телефон: 137–38–39. Яков Борисович, напоминая этот номер, шутил, что цифра 137 в его номере, конечно, не случайна и связана с фундаментальной постоянной.
Лет через пять после переезда Якова Борисовича я однажды воспользовался этим номером. В это время Борис Дзюба и я выполнили работу по численному моделированию образования спиральных галактик на только что заработавшей в отделении БЭСМ–6. Написали и послали статью в «Астрономический журнал», но ее нам вернули, поскольку, как написал рецензент, такой же задачей «занимается кто-то в ящике». Получился замкнутый круг: «ящик», как мы догадались, имелся в виду наш, и эти кто-то были как раз мы. Тогда я и обратился за помощью к Якову Борисовичу как к члену редколлегии этого издания. Выслушав, он сказал: «Вижу одну {322} важную тонкость, защищайтесь», — и начал задавать вопросы. Как всегда, Яков Борисович сразу увидел главное: дело в том, что для моделирования с помощью тысячи гравитирующих частиц галактики с громадным количеством звезд необходима какая-то процедура сглаживания гравитационного поля, создаваемого частицами. Об этом сглаживании мы специально заботились, и я был вполне готов к вопросам. Раунд остался за мной, и статья вскоре была опубликована.
Последний раз я встречался с Яковом Борисовичем на Всесоюзной конференции по физике плазмы и термоядерному синтезу в Звенигороде. Было приятно видеть его таким же увлеченным рассказчиком, жизнерадостным, энергичным, так же легко поднимающимся по лестнице и почти так же легко вспрыгивающим на сцену перед докладом, как и двадцать лет назад... Я бесконечно благодарен судьбе за знакомство и возможность общения с Яковом Борисовичем.
Я впервые встретил Зельдовича в июне 1980 г. на конференции COSPAR в Будапеште. До того момента я мало обращал внимание на его имя, хотя знал, что он был автором известной «Релятивистской астрофизики», от формул которой я поначалу «отражался», пока не обнаружил их поразительную ясность. Его имя ассоциировалось у меня также с моим большим другом Р. А. Сюняевым в связи с известным эффектом Зельдовича-Сюняева. (Этот эффект позволяет, в принципе, определять расстояния до скоплений галактик из комбинации наблюдательных данных в рентгеновском и субмиллиметровом диапазонах спектра и, тем самым, однозначно находить постоянную Хаббла.)
У нас не было причин знать друг друга: он был известным теоретиком, а я провел большую часть научной жизни, играя с винтовыми передачами, дифракционными решетками, ртутными лампами и осциллографами. Однако, случайно мы познакомились на конференции COSPAR, оказавшись рядом, на одной скамье, наверху пыльной аудитории Будапештского университета, где мы слушали доклады о будущих космических проектах. В то время я был воодушевлен исследованиями по гелиосейсмологии, проводимыми из космоса; в некоторых докладах на конференции обсуждались последние результаты, полученные с Южного полюса, в частности, большая серия измерений фурье-спектров. Зельдович проявил большой интерес, когда во время перерыва я стал объяснять ему, как много гелиосейсмология может дать для изучения внутреннего строения Солнца; к тому же я добавил, что это один из способов решить проблему кажущегося дефицита солнечных нейтрино.
Я произнес магическое слово — нейтрино! В 1980 г. первые результаты экспериментов по нейтрино, проводимых в СССР, как будто подтвердили, что эти частицы имеют ненулевую массу покоя и существуют осцилляции {323} между тремя типами нейтрино. Это могло бы объяснить дефицит нейтрино. Зельдович тут же сделал краткий обзор этих экстраординарных результатов и загорелся энтузиазмом по поводу гелиосейсмологии. Наша беседа продолжалась, и вскоре мы оказались вовлечены в дискуссию по основополагающим вопросам физики Солнца — области, которая была мне наиболее знакома по прошлой работе. Я был счастлив найти собеседника, столь заинтересованного в акустическом и магнитном разогреве хромосферы и короны, распространении солнечного ветра и циклах активности. И в то же время я был изумлен, что столь известный специалист в области релятивистской теории — Зельдович — с интересом вникает в специальные вопроси физики Солнца.
Этот действительно приятный случай положил начало нашим последующим, хотя и коротким, но теплым отношениям. Примерно через три года, в апреле 1983 г., я был приглашен Э. Тренделенбургом и нашим общим другом Р. Сагдеевым в Самарканд, где советские ученые организовали самый невероятный прощальный прием, какой только можно вообразить, в честь Тренделенбурга, который оставлял пост директора Европейского космического агентства (ЕКА) после 20-летней активной работы. (Вероятно, это не совсем верные слова, когда речь идет о Тренделенбурге.) Я был избран преемником Тренделенбурга, и он любезно пригласил меня разделить с ним и его ближайшими коллегами моменты его чествования. Это было незабываемым во многих отношениях. Сагдеев заказал для нас отель местного обкома КПСС. Тренделенбурга возили на массивной черной официальной машине «Чайка», впереди которой шла машина ГАИ, а сзади — скорая помощь. Милиционеры стояли вдоль всего пути следования на каждом крупном перекрестке. За три дня мы получили неизгладимые, живейшие впечатления, чувствуя себя членами королевского кортежа, оказавшись гостями высших местных политических, а также научных лидеров. Яков Зельдович был одним из гостей Сагдеева вместе с Р. Сюняевым, Н. Кардашевым, В. Барсуковым и некоторыми другими.
Эти три дня непрерывных застолий, питья и танцев позволили ближе узнать Зельдовича. Мы снова оказались вместе на одной скамейке, на этот раз — в ухоженном и солнечном саду отеля обкома КПСС в Самарканде — и обсуждали последние достижения в гелиосейсмологии, физике нейтрино и... французской литературе. Я был восхищен тем, что Зельдович мог читать Золя и Гюго на французском, не говоря уже о Франсуазе Саган, от которой он был в восторге и которую мог цитировать без труда. (Его любимым произведением был роман «Здравствуй, грусть».) Мой интерес к космологии значительно возрос со времени нашей первой встречи, и я был счастлив узнать, что Зельдович готовит вечерний пленарный доклад о современной космологии на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза, которая должна была состояться в Патрасе через несколько месяцев. В блестящем объяснении Зельдовича тема доклада показалась мне кристалльно ясной. Я знал, что в должности директора ЕКА мне придется оставить активные исследования, и Зельдович искренне пожелал, чтобы у меня сохранилась возможность активно участвовать в космической науке, совет, которому я добросовестно пытался следовать на протяжении всех этих лет. {324}
Вечерами мы обычно забывали о науке, переключаясь на фантазии и танцы, он — с очаровательной женой, а я — с местной узбекской красавицей или наоборот... Ночи были слишком короткими, так же как и дни. В конце этих изнурительно бурных дней мы улетели в Москву, а затем я — в Париж. Он остался в Москве. Мы стали близкими друзьями.
Работая в ЕКА, я еще имел возможность встречаться с Зельдовичем во время моих регулярных визитов в ИКИ или, когда мы не могли встретиться там, он, зная о моем визите, никогда не упускал случая пригласить меня в свой кабинет в Институте физических проблем АН СССР (довольно запущенное место вблизи гигантского и безобразного монумента Гагарину на Ленинском проспекте). В институте он был главой теоретического отдела и занимал кабинет самого Ландау. В институт он был приглашен великим физиком П. Капицей в 80-х годах.
Я, конечно, не могу забыть наших дискуссий о космологии и нейтрино, в его очень маленьком, довольно пыльном кабинете, который, вероятно, сохранялся в таком виде в память о тех давних днях, когда этот кабинет по приглашению Капицы и его коллег посетил П. Дирак. На черной доске (одной из тех деревянных досок, на которых почти невозможно писать большими кусками русского мела) Дирак расписался, и его подпись бережно сохранена, покрытая куском плексигласа, чтобы ее случайно не стерли. Зельдович гордился тем, что он — хранитель столь ценного автографа.
Именно в этой комнате Зельдович рассказал мне о своем участии в разработках атомного оружия, и я узнал, что он способен не только заниматься теорией, но и быть одним из руководителей крупного технического проекта. Оказалось, что совсем ранние его работы относились к теории взрывов и детонации и некоторым другим областям химической физики. Я слышал от Сагдеева и Сюняева, что он участвовал и в разработке «Катюш» (знаменитых «сталинских органов»). Я захотел узнать об этом у него самого, и в пыльном кабинете Ландау Зельдович объяснил мне, что в первоначальном варианте «Катюши» были опасны, но не для врагов, а для тех, кто запускал снаряды. Нужно было изменить конструкцию, и Зельдович предложил такие механические усовершенствования, которые в конце концов сделали «Катюши» самым смертоносным оружием против фашистов.
В ноябре 1984 г. по случаю годовой встречи Консультативной группы Международного агентства (МАКГ) в Таллине, я снова встретился с Зельдовичем. Он был печальным и одиноким: незадолго до того умерла его жена, и мы вспоминали счастливое время в Самарканде. Лучшим способом отвлечься от скорби было усесться в маленькой комнате и попросить его объяснить последние достижения космологии. Никогда раньше не оказывались столь доступными моему пониманию такие понятия, как отрицательное давление, положительная плотность энергии, инфляционная теория, «блины», космические струны и многие другие составляющие космологии и квантовой физики. Порадовавшись Науке, мы присоединились к Сагдееву, Галееву и другим, пребывавшим в сауне при отеле (с пивом!).
Один памятный случай пролил новый свет на этот исключительный характер. Дело было в Риме 7 ноября 1986 г., как раз в день Октябрьской революции, но не об этом речь. Несколькими днями ранее МАКГ {325}
 |
Медаль им. П. Дирака за работы по теоретической физике. 1985 г. |
Последний раз я видел Зельдовича на форуме, организованном Сагдеевым в Москве 4 октября 1987 г. по поводу празднования 30-й годовщины запуска 1-го Советского искусственного спутника. Спустя два месяца телекс от Сюняева сообщил, что Зельдович внезапно умер от инфаркта.
Я не могу забыть этого небольшого роста человека — гиганта современной астрофизики. В своей большой статье, опубликованной в «Nature» в феврале 1988 г., А. Сахаров, близко работавший с ним в 1948–1968 гг., назвал Зельдовича «человеком универсальных интересов»2). Трудно более точно охарактеризовать этого выдающегося ученого. Мое короткое, слишком короткое, общение с Яковом Борисовичем Зельдовичем может лишь подтвердить это впечатление. Из статьи Сахарова я узнал, что Зельдович начинал карьеру лаборантом в возрасте 17 лет. Это еще больше поразило меня.
Его мозг был постоянно живым, готовым принять любой вызов, шла ли речь о науке, искусстве, ракетной технике, спорте или женщинах. Он был человеком вечной молодости, который мог легко общаться со всеми людьми. Это особенный знак его индивидуальности. Для меня он был хорошим другом, {326} который и сейчас, после многих лет, — в моей памяти, и преждевременную смерть которого я всегда ощущал как большую потерю. Не только мою, его друзей, его студентов, но и большую потерю для науки.
Эта статья представляет собой глубоко личное объяснение влияния Якова Борисовича на развитие нашего понимания крупномасштабной структуры Вселенной. Она отражает мое собственное видение и не претендует на исчерпывающий обзор.
Мое знакомство с моделями Якова Борисовича Зельдовича началось в 1980 г. В то время многие из нас были воодушевлены гипотезой о возможности существования у нейтрино массы покоя порядка 30 эВ, что могло бы объяснить большую часть невидимой Вселенной. Как и многие другие» я понимал, что в этом случае так называемая «теория блинов» была очень важна для образования структуры Вселенной. Интерес к этим вопросам привел меня к численным моделям образования структуры галактик. Из-за того, что научные публикации в наших странах часто задерживались, я начал работу, которая была, как потом выяснилось, почти тождественна работе А. Г. Дорошкевича и др. В ней показано, что ячеистая структура, а не изолированный «блин» (как многие полагали) — естественное следствие того сценария образования галактик, который был предложен Зельдовичем в 1970 г.
Помню, в то время в США ученые относились с большим скепсисом к реальности существования очень плоских структур в масштабах сверхскоплений. Господствовало мнение, что это связано со спецификой наблюдений. То, что такая структура возникает в моделях «блинов», не добавляло веры в предлагаемую теорию.
Я очень ясно помню, как известный астроном, указывая на картину распределения галактик в одном из наиболее полных каталогов, провозглашал: «Здесь нет никаких нитей». Думаю, большинство из нас сейчас признало существование «уплощенных» сверхскоплений, согласившись с тем, что это динамический эффект. Современное продолжение упомянутого каталога эффектно подтвердило существование больших пустот, окруженных «уплощенными» структурами.
Мне кажется, люди с большой неохотой отдают должное вкладу Якова Борисовича в решение этой проблемы. Он развил теорию, которая предсказала такого рода структуру, и делал это в то время, когда наблюдения давали лишь намек на существование «уплощенных» структур и не было никаких доказательств, вытекающих из данных больших каталогов красных смещений. А потом сложилась тенденция подчеркивать новый, неожиданный характер этих наблюдаемых структур — нитей, пузырей, великих стенок — но не признавать их как структуры, предсказанные теорией Зельдовича в 1970 г. {327} и подтвержденные в дальнейшем в численных моделях. Но все же я уверен, что со временем важность его предсказаний будет оценена.
Конец зимы и весну 1983 г. я провел в Москве. Хорошо помню одну из бесед с Зельдовичем. Это было обсуждение некоторых результатов численного моделирования, и я помню его настойчивое желание «увидеть» вывод. Возможно, уме не хватало понимания природы численного эксперимента. Мой визит был чрезвычайно полезным, хотя в политическом климате того времени мы были вынуждены весьма окольными путями устраивать неформальные встречи с членами его группы.
Эра гласности началась только в последние годы его жизни. Приходится сожалеть, что его личные контакты со специалистами на Западе были ограничены.
Постепенно стало все более очевидным, что процессы типа образования «блинов» имеют более широкое значение. Мы изучали численные модели холодного темного вещества и нашли, что они обладают перколяционными свойствами, весьма похожими на свойства моделей «блинов». Начали накапливаться наглядные доказательства того, что плоские структуры важны в моделях холодного темного вещества.
Недавно мы начали систематические исследования с целью определить, при каких начальных условиях важно образование «блинов» Зельдовича. Оказалось, что существует более или менее непрерывный переход между типами структур в зависимости от непрерывно изменяющейся формы начального спектра. «Блинообразные» структуры возникают не только, когда спектр обрезается на коротких волнах, но также и при наличии возмущений по всей шкале (при достаточно высокой интенсивности длинноволновых излучений).
Мы выполнили несколько статистических тестов, использующих кросс-корреляцию различных эволюционных моделей, в которых амплитуда возмущений различна, но фазы фурье-компонент возмущений сохранены. Было показано, что некоторые неотчетливые цепочки, возникающие в иерархических моделях, соответствуют структурам, видимым в аналогичных моделях «блинов». Амплитуда кросс-корреляции возрастает при увеличении амплитуды крупномасштабных возмущений в начальный момент времени. Это ясно показывает, что нити в иерархических моделях отражают мощность начальные возмущения и вовсе не являются случайными образованиями или следствием вычислений на сетке.
Видимо, «холодная война» в исследованиях крупномасштабной структуры Вселенной окончена. Двадцать лет назад картина иерархического скучивания и картина «блинов» выглядели как совершенно различные теории образования структуры нашей Вселенной. Теперь мы рассматриваем их как различные проявления процессов скучивания. Судя по наблюдательным данным, в нашей Вселенной произошло нечто промежуточное: в ней нет ни регулярных, резко определенных структур типа «блинов», ни изолированных несвязанных сгустков, типичных для иерархических моделей. Поэтому наша окончательная теория должна включать синтез того и другого.
Весной 1990 г. мы провели конференцию памяти Я. Б. Зельдовича у себя в Канзасском университете. Это была первая из такого рода конференций в рамках соглашения 1989 г. между Национальной академией наук США {328} и Академией наук СССР. Присутствовали тридцать два участника из пяти стран. Предполагается периодически (вероятно, раз в два года) проводить такие конференции по астрофизике и космологии.
Общей темой всех докладов было развитие каждым из нас работ Якова Борисовича. То, что так много различных проблем обсуждалось советскими, американскими и другими учеными, было данью широте его творческих интересов.
Во время вечернего банкета было рассказано много историй о Зельдовиче. Одна из них, особенно запомнившаяся мне, касалась его беседы с коллегой о физике. Коллега сообщил, что работает над теоретическими моделями, в которых время бежит в нескольких различных направлениях одновременно. Яков Борисович опустился перед ним на колени и умолял его «не работать над такими глупыми вещами».
У Якова Борисовича было прекрасное чувство того, что важно и физически разумно. Поэтому многие из нас до сих пор разрабатывают предложенные им идеи и захотели преодолеть большие расстояния, чтобы собраться и обсудить их.
Я впервые встретил Зельдовича в 1975 г. в Польше на одной из конференций по механике сред, которые проводятся раз в два года. На этот раз местом ее проведения был Беловеж, совсем недалеко от границы с СССР. Подобные встречи имели большое значение, обеспечивая возможность общения между Востоком и Западом, и эта конференция не была исключением. На Западе имя Зельдовича было уже легендарным, известна была необычайная широта его научных интересов. В частности, я знал о том, что он занимается теорией «динамо» и предложил в 1956 г. теорему «анти-динамо», и, кроме того, я познакомился с более новой обзорной статьей Зельдовича и С. И. Вайнштейна («УФН», 1972 г.).
Помню обсуждение с ним на этой конференции проблемы «быстрого динамо» как последовательности растяжений, закручиваний и складываний, которая позволяет удваивать интенсивность магнитного поля. Я спросил, знает ли он, как доказать, что такая последовательность в случае повторений будет обладать свойствами быстрого динамо. Наглядно изображая руками последовательность складок, растяжений и закручиваний, он спросил: «Разве это не достаточное доказательство?»
Хотя за последние годы было много написано о механизме быстрого динамо, мы все еще не приблизились к математическому доказательству результата, который Зельдович считал столь очевидным; при этом мало кто сомневался, что его интуиция в данном случае (как и во многих других), привела к верному результату.
Зельдович был человеком безграничной энергии, неукротимого любопытства и заразительного энтузиазма в науке; его знаменитые семинары в {329} Московском университете стали ярким выражением этого энтузиазма. В 1983 г. я сделал доклад по теории динамо и получил живой отклик аудитории, усиленный тем, что сам Зельдович выступал в роли переводчика и рецензента одновременно, суммируя каждый раздел моей лекции по-русски и добавляя свои неподражаемые комментарии. Во встречах с Зельдовичем, всегда активизирующих и стимулирующих, неизменно выявлялось его поразительное свойство — умение врезаться в суть труднейших проблем, сделать их более понятными, что помогало найти новые подходы к их решению. Его рассуждения были физическими, но физика уверенно вела его к соответствующей математике.
Яков Борисович Зельдович был избран почетным доктором Кембриджского университета, но, к сожалению, никогда не имел возможности посетить Кембридж для получения диплома.
Для меня слишком долго имя Якова Борисовича Зельдовича, математика, астрофизика и космолога, наряду с легендарными именами Льва Давидовича Ландау, Соломона Пикельнера, Виталия Гинзбурга, Иосифа Шкловского и другими ассоциировалось с группой чрезвычайно талантливых нематериальных голосов из-за «железного занавеса». В конце концов, мы впервые встретились во время Пражского Симпозиума IAU в 1967 г., а затем двумя годами позже на симпозиуме по динамике межзвездного газа, который проходил в Мисхоре, недалеко от Ялты, в Крыму. Даже после наступления «оттепели» бюрократия продолжала препятствовать его зарубежным поездкам, и наше последующее общение происходило по почте до тех пор, пока наши пути еще раз не пересеклись в 1982 г. на Симпозиуме IAU в Патрасе, и, наконец, в Сухуми и Москве в 1986 г. Мы всегда находили тему для разговора! и не в последнюю очередь о разнящихся судьбах наших семей — мои дедушка и бабушка эмигрировали из Украины в Англию, двоюродные родственники по линии деда — в США, а по линии бабушки — в Оттоманскую Империю.
Яков Борисович был настолько эрудирован, что большинство астрофизиков сказали бы, что диаграмма Венна его интересов; выглядела бы как ломтик хлеба с изюмом, в котором «Релятивистская Астрофизика» Зельдовича и Новикова сочетаются с физикой высоких энергий и космологией. Эффект Сюняева-Зельдовича стал подлинно золотой жилой. Я все еще с удовольствием вспоминаю устную характеристику, которую Яков Борисович дал моей совместной работе с Лином и Шу, назвав ее предвестником «блинной» картины галактик. Мы увлеченно занимались космическим магнетизмом во всех его проявлениях, и снова обратившись к книге Зельдовича, Рузмайкина и Соколова, я продолжил поиск новых подходов к проблеме «динамо». Наша самая первая дискуссия на совещании в Праге по звездному магнетизму была посвящена модели наклонно вращающихся остаточных полей для звезд на {330} ранних стадиях развития — не только не противоречащей, но и в достаточной степени дополняющей современную «динамо»-модель для солнцеподобных звезд и планет. Зельдович всегда мог добавить что-то оригинальное к любому сценарию, так, например, было и в Мисхоре, где он и Пикельнер указали на принципиальную важность кондуктивного теплопереноса между различными фазами в модели Филда-Пикельнера для межзвездной среды.
Дискуссии с Зельдовичем всегда были крайне полезны и являлись подлинно двусторонним потоком идей, независимо от того, касалось ли это науки или общества. Его интеллектуальное наследие для мира астрофизики неоспоримо. Он также навсегда останется в нашей памяти как обаятельный человек.
Мне говорили, что у Ландау было ощущение, что астрономы все время рассказывают ему разные вещи. Так это или нет, но здесь отражена реальная ситуация: если вы хотите заниматься астрофизикой, то вам придется научиться работать в таких условиях. Яков Зельдович, памяти которого также посвящена эта конференция, в совершенстве умел заниматься физикой на такой зыбкой почве. В последний раз мне довелось общаться с Зельдовичем на 130-м Симпозиуме Международного астрономического союза, посвященном крупномасштабной структуре Вселенной, в Балатонфюреде, в Венгрии, в июне 1987 г. Сразу бросалась в глаза одна его особенность — глубокое понимание жизни во всех ее проявлениях. Скоро становилось также ясно, что Зельдович — это человек, увлеченный наукой, щедрый в оказании помощи другим и выдающийся физик. В течение всей моей карьеры в астрофизике я всегда знал, что если Зельдович не наступает мне на пятки, то только потому, что он мчится далеко впереди.
Мое первое поверхностное знакомство с Зельдовичем состоялось в 1965 г., благодаря письму, в котором он поздравлял Боба Дике с открытием теплового микроволнового космического фонового излучения (CBR), так как имению Бобу Дике принадлежит ключевая роль в открытии этого излучения (далее — реликтовое излучение); Боб Дике организовал в Принстоне поиск этого эффекта и интерпретировал само открытие, сделанное Арно Пензиасом и Бобом Вильсоном в Лабораториях Белла.
Зельдович активно искал следы реликтового излучения. В том же году он опубликовал работу о поведении чернотельного излучения в расширяющейся Вселенной и о связи современной температуры излучения с производством гелия во время горячего Большого взрыва. Он знал, что холмдельский телескоп Лабораторий Белла был способен зарегистрировать такое излучение, если его температура составляла 1 Кельвин или больше. К сожалению, на основе опубликованных результатов показаний телескопа, он пришел к ошибочному выводу, что температура фона должна составлять не менее 1 К, хотя {331} в действительности телескоп обнаружил аномалию, вызванную внеземным излучением, как было убедительно показано Пензиасом и Вильсоном.
Открытие реликтового излучения и демонстрация того, что его спектр весьма близок к тепловому, ознаменовали начало современной эры космологии. Реликтовое излучение доказывает, что Вселенная действительно расширялась из состояния с гораздо большей плотностью, чем сейчас, так как, согласно наблюдениям, Вселенная оптически тонка для длин волн в радиодиапазоне и поэтому не могла позволить излучению из известных источников (звезды, радиоисточники) прийти в состояние, близкое к статистическому равновесию. Правда, все еще остается возможность, что наблюдаемое излучение — это излучение звезд, термализовавшееся на красном смещении «всего лишь» z ~ 100. Однако имеются настолько жесткие ограничения на источник энергии и стабильность пылинок, что более консервативное и, на мой взгляд, более разумное объяснение заключается в том, что наблюдаемое излучение уже существовало на чрезвычайно больших красных смещениях.
Так как Вселенная не является строго однородной и изотропной, то спектр реликтового излучения должен отличаться от строго изотропного спектра излучения черного тела, и эти отличия дают бесценную информацию о развитии структуры Вселенной.
Среди ведущих разработчиков теории, позволяющей связать наблюдения реликтового излучения с физическими процессами в ранней Вселенной, были Яков Зельдович и Рашид Сюняев. Я думаю, они первыми подчеркнули важность массовых движений плазмы в качестве источника мелкомасштабной анизотропии реликтового излучения. Этот эффект сейчас привлекает большое внимание для случая образования галактик на больших красных смещениях. Опираясь на результаты Рея Вей манна, они показали, что в результате рассеяния на горячих электронах фотоны реликтового излучения должны в среднем приобретать энергию, что приводит к уменьшению температуры фона в релей-джинсовской части спектра и к ее увеличению на более коротких длинах волн. Они также показали, как можно использовать этот эффект для диагностики состояния межгалактической среды на больших красных смещениях и для диагностики межгалактического газа в скоплениях галактик на малых красных смещениях. Эффект Сюняева-Зельдовича возможно был обнаружен при измерениях спектра реликтового излучения в совместном эксперименте Беркли-Нагойя.
Исследование спектральных отличий реликтового излучения от излучения абсолютно черного тела является частью более общей проблемы — проблемы происхождения крупномасштабной структуры Вселенной — галактик в группах, скоплениях и сверхскоплениях. Эти структуры должны были формироваться под действием гравитации, сил электромагнитного взаимодействия и, возможно, других значительных воздействий, из-за отклонений от однородного состояния, имевших место в очень ранней Вселенной при такой огромной плотности энергии, когда классическая космологическая модель Фридмана-Леметра не может быть подходящим приближением. Поиск главных факторов и основных идей сценария, согласно которому крупномасштабная структура развивалась, начиная с физической картины ранней Вселенной, и эволюционировала до эпох, доступных для наблюдений, остается одной {332} из основных задач современной космологии. И это было одной из основных целей исследований Зельдовича. Поэтому обзор успехов в понимании крупномасштабной структуры Вселенной, достигнутых за последние 25 лет, я посвящаю памяти Зельдовича.
а) Барионная адиабатическая модель. Когда было открыто реликтовое излучение, стало понятно, что оно должно играть главную роль в эволюции отклонений от модели идеально однородного расширяющегося мира, помогая зафиксировать размер Джинса для вещества и внося (на красных смещениях, z > 100) очень существенный вклад в давление. В большинстве ранних дискуссий предполагалось, как само собой разумеющееся, что другими претендентами на главные роли могут быть только барионы и их электромагнитные взаимодействия. Если бы это было так и если отклонения от однородности описывались бы теорией линейных возмущений, то состояние Вселенной внутри горизонта характеризовалось бы всего двумя функциями, описывающими флуктуации плотности вещества и излучения. Удобными комбинациями этих функций являются: адиабатическая мода, в которой локальная концентрация фотонов пропорциональна концентрации барионов, и изотермическая мода, в которой плотность излучения однородна, а плотность барионов флуктуирует. (Мне кажется, Зельдович первым, в 1967 г., ввел такие названия в данном контексте.)
Когда стали думать о флуктуациях плотности в очень ранней Вселенной, где представляющие астрофизический интерес масштабы длины должны быть больше горизонта, слово «изотермический» стало использоваться для описания ситуации, в которой полная массовая плотность ρ (усредненная на масштабе больше горизонта) однородна, а барионы кластеризованы. Я буду придерживаться более современного определения, называя эту ситуацию энтропийными (isocurvature) возмущениями. Как только коротковолновая часть энтропийного возмущения заходит под горизонт, она превращается в комбинацию адиабатической и изотермической мод; адиабатическая часть диссипирует в результате диффузии фотонов, и у нас остается только старомодная изотермическая мода.
Первые обсуждения формирования галактик с учетом реликтового излучения предполагали реализацию изотермической моды (и я так делал, так как это самый простой вариант). Позже стало понятно, что адиабатическая мода в некотором смысле естественна: если в какую-то раннюю эпоху имели место возмущения однородных концентраций барионов и фотонов, приводящие к независимым, но сравнимым величинам, то это должно привести к генерации комбинации адиабатической моды и энтропийной. А так как только первая может расти под действием гравитационной неустойчивости, она и станет доминирующей.
Коротковолновая часть барионного адиабатического возмущения диссипирует в результате диффузии фотонов, поэтому изначально широкая спектральная функция адиабатических возмущений плотности обрывается на вычисляемой длине когерентности в распределении массы в эпоху отделения вещества от излучения. В зависимости от формы начального спектра флуктуаций {333} плотности, заключенная в пределах длины когерентности масса может меняться в пределах от массы гигантской галактики до массы богатого скопления галактик. Как эволюционируют распределение масс и соответствующая длина когерентности по мере того, как амплитуда флуктуации плотности приближается к δρ/ρ ~ 1? Ответ был дан Зельдовичем: плоскостной коллапс приведет к появлению первого поколения сплющенных объектов — «блинов» Зельдовича, размер которых определяется длиной когерентности.
Какое рациональное предположение должно быть для спектральной функции первичных адиабатических флуктуации плотности? Простейший вариант — функция, не имеющая масштаба — степенной закон с показателем степени таким, чтобы связанные с флуктуациями плотности флуктуации кривизны пространства расходились бы только как логарифм масштаба длины. В этом случае среднеквадратичная амплитуда возникающих на горизонте флуктуации плотности не зависит от времени. Такой спектр по праву называется спектром Зельдовича, так как именно Зельдович наиболее последовательно подчеркивал его возможную значимость.
На основе этих идей, включая блинный коллапс адиабатических барионных возмущений с начальным спектром Зельдовича, можно было бы построить довольно детальную картину формирования галактик. Основная проблема, возникающая при этом, состоит в том, что если галактики формировались в реалистичную эпоху, то амплитуда первичных флуктуации плотности должна была бы нарушать ограничения, диктуемые крупномасштабными флуктуациями в распределении галактик и изотропией реликтового излучения. Эти проблемы, однако, никогда серьезно не обсуждались, возможно, потому, что возникла новая и, казалось бы, намного более обещающая идея — о Вселенной, в которой преобладают массивные нейтрино.
б) Массивные нейтрино. Рост популярности массивных нейтрино как основного компонента темной массы связан с четырьмя важными достижениями. Во-первых, было ясно, что в простейшем случае теория производства легких элементов в горячем Большом взрыве требует, чтобы параметр плотности Ω (отношение средней плотности вещества ρ к плотности массы в модели Эйнштейна-де Ситтера) в барионах был не больше, чем ΩB ~ 0,1.
Во-вторых, весьма распространенным было мнение, что единственной разумной космологической моделью является модель Эйнштейна-де Ситтера, в которой Ω = 1 (а трехмерные части, соответствующие постоянному мировому времени, являются плоскими, с пренебрежимо малой космологической постоянной Λ).
В-третьих, в 1980 г. В. Любимов с коллегами объявили о возможном обнаружении массы нейтрино примерно с тем значением, которое требуется, чтобы нейтрино восполнили разницу между барионной массовой плотностью, диктуемой нуклеосинтезом легких элементов, и плотностью, необходимой для модели Эйнштейна-де Ситтера.
И, наконец, в-четвертых, стало понятно, что небарионное вещество, такое как массивные нейтрино, могло бы разрешить проблему с чрезмерными возмущениями реликтового излучения, так как флуктуации плотности в распределении небарионной массы могли бы начать расти задолго до отделения барионов от излучения, уменьшая амплитуду первичных флуктуаций. {334}
Изобретение инфляционного сценария было непосредственной причиной роста популярности модели Эйнштейна-де Ситтера. Большим достоинством этого сценария является то, что он предлагает путь к пониманию поразительной крупномасштабной однородности Вселенной: расширение во время инфляции могло растянуть масштабы длин неоднородностей до ненаблюдаемо больших величин. Естественно предположить, что масштаб длины искривления пространства должен был также растянуться до ненаблюдаемо большой величины.
Существуют два аргумента против космологической постоянной. Разумное с точки зрения космологии значение Λ выглядит совершенно непонятным с точки зрения физики частиц; кроме того, в очень ранней Вселенной должны были сложиться совершенно особые начальные условия для того, чтобы эпоха, в которой как Λ, так и ρ вносили бы разумные вклады в темп расширения, совпала именно с эпохой жизни на Земле. (Кажется, еще 30 лет назад Боб Дике приводил мне этот аргумент, применимый не только к Λ-члену, но и к кривизне пространства.)
Герштейн и Зельдович показали, что нейтрино, обладающие массой покоя, могут вносить существенный вклад в плотность вещества Вселенной. На больших красных смещениях нейтрино приходят в состояние статистического равновесия с другими полями, причем концентрация нейтрино nγ оказывается сравнима с концентрацией фотонов nγ (в предположении, что сохраняющаяся концентрация лептонов мала по сравнению с nγ). Если при отделении от других частиц нейтрино остаются еще нерелятивистскими, то современная концентрация нейтрино электронного типа составляет примерно 100 см–3. Если масса нейтрино соответствует ~30 эВ, т. е. находится в диапазоне лабораторных оценок 1980 г., тогда средняя плотность вещества mνnν согласуется с плотностью в модели Эйнштейна-де Ситтера. Интересным совпадением является то, что с такой массой также согласуется граница фазового объема, отведенного под нейтрино в виде темной массы во внешних частях спиральных галактик.
Идея о том, что небарионное вещество могло бы объяснить различие между Ω = 1 и значением, диктуемым нуклеосинтезом легких элементов, обсуждалась многими авторами. Также обсуждалось и то, что учет небарионного вещества может быть полезен тем, что приведет к уменьшению амплитуды первичных флуктуации, так как мелкомасштабные флуктуации плотности вещества могут расти еще до того, как барионы освободятся от действия силы радиационного торможения. Кроме того, свободные движения нейтрино, пока они еще могут считаться релятивистскими, возможно подавляют мелкомасштабные флуктуации плотности вещества и способствуют появлению значения когерентной длины, сравнимого со значением, возникающим в барионном адиабатическом случае. Следовательно, нелинейные объекты первого поколения должны быть плоскими блинами Зельдовича. Предположение о том, что первичные адиабатические флуктуации плотности имеют масштабно-инвариантный спектр Зельдовича, подтверждалось признанием того, что квантовые флуктуации инфлатонного поля инфляции должны создавать флуктуации плотности практически точно со спектром Зельдовича. {335}
Сергей Шандарин, Андрей Дорошкевич и Яков Зельдович предложили детальную модель формирования галактик, основанную на изложенных выше идеях. Возможно, величайшим триумфом этой модели является предсказание того, что коллапс блинов должен привести к расположению галактик в плоских структурах. Это предсказание, сделанное в то время, когда не все из нас были убеждены в реальности эффекта, было затем блестяще подтверждено исследованиями красного смещения.
В модели с массивными нейтрино существуют две серьезные проблемы. Во-первых, аналитические аргументы и численные эксперименты, основанные на модели многих тел, указывают на то, что если бы галактики четко выполняли программу крупномасштабного распределения массы, то, чтобы описать их распределение с помощью спектра Зельдовича, нужно было выбрать нормировку первичного спектра флуктуации массы таким образом, чтобы галактики формировались на малых красных смещениях. А это, по-видимому, противоречит наблюдениям. (Наблюдательные ограничения на эпоху формирования галактик обсуждаются кратко в следующей части.) Проблема исчезает, если распределение галактик является смещенным индикатором распределения массы, т.е. масса кластеризуется сильнее, чем галактики. Однако, чтобы согласовать динамические оценки параметра плотности, Ω ~ 0,2, с предполагаемым значением (Ω = 1, обычно предполагают, что имеет место смещенность в противоположную сторону, т. е. галактики кластеризовались сильнее массы. Таким образом, при оценке средней массы, приходящейся на одну галактику, по динамике групп и скоплений происходит занижение истинного значения величины. Я пока не слышал предложений, как разрешить это противоречие. Другой способ разрешить проблему с поздним формированием галактик состоит в том, чтобы предположить, что нейтрино скапливаются около концентраций массы в рамках модели энтропийных возмущений.
Вторая проблема связана с давно стоящим вопросом о последовательности формирования: что возникло сначала, галактики или протоскопления? В модели с массивными нейтрино должно выполняться второе. Я же трактую наблюдения в пользу первого. Например, мы видим, как в настоящее время из старых галактик формируется Местное сверхскопление.
По существу эти проблемы пока еще адекватно не обсуждались, так как центр внимания вскоре переместился к другому кандидату в темное вещество — к небарионным частицам с пренебрежимо малыми первичными скоростями.
в) Холодная темная масса. Как только массивные нейтрино оказались приемлемыми и интересными кандидатами на роль темной массы, то специалисты в области физики частиц обрадовались и сразу предложили много других возможностей. Особый интерес представляет простой случай, когда первичные скорости частиц ничтожно малы, а первичные флуктуации плотности адиабатические и характеризуются масштабно-инвариантным спектром Зельдовича. Пока барионами можно пренебречь, эта картина определяется всего одним свободным параметром — амплитудой спектра первичных флуктуации массы, а эволюция модели описывается особенно простой физикой изначально холодного бесстолкновительного гравитирующего газа. {336}
Эта модель CDM (cold dark matter — холодная темная масса — термин, введенный Диком Бондом) объединяет многие из привлекательных черт модели массивных нейтрино. При этом, возможно, она теряет эффект блинов, который так естественно объясняет тенденцию галактик лежать в плоских слоях, но имеет очень важное преимущество — мелкомасштабные флуктуации выживают и могут формировать галактики еще до образования скоплений. Выдающиеся наблюдательные успехи экспериментов в рамках CDM-модели многих тел, выполненных группой, состоящей из Марка Дэвиса, Джорджа Ефстатиу, Карлоса Френка и Саймона Уайта, привели многих к заключению, что, наконец-то, возможно, появилась адекватная кандидатура на стандартную модель возникновения галактик.
В этой модели есть две серьезные проблемы. Во-первых, масштабно-инвариантный спектр Зельдовича подавляет крупномасштабные флуктуации (относительно белого шума). Согласуется ли это с наблюдениями крупномасштабных полей скоростей и структур в распределении галактик на очень больших масштабах, когда, согласно теории, флуктуации в распределении массы антикоррелированы? Дискуссия еще только началась, но проходит очень активно. Во-вторых, в этой модели эпоха формирования галактик оказывается слишком поздней. Реальная эпоха неизвестна, но является объектом активных исследований. Отметим здесь лишь несколько моментов. Имеются свидетельства мощных всплесков звездообразования на малых красных смещениях, но непонятно, то ли это формирование галактик, то ли быстрое превращение в звезды водорода, который уже присутствовал в галактике. Выяснить это можно, изучая природу и распространенность галактик на больших красных смещениях. Яркие галактики, наблюдаемые на красных смещениях, z ~ 1, обычно обладают спектрами, за голубую часть которых в основном отвечают молодое звезды, но это опять может быть заблуждением, так как за светимость в голубом диапазоне также могут отвечать массивные звезды, связанные с продолжающимся звездообразованием, которые вносят лишь небольшой вклад в полную массу. Инфракрасные спектры и светимости наблюдаемых при z ~ 1 галактик обычно выглядят как звездное население, сформированное на существенно больших красных смещениях, т. е. так, как если бы основная часть звезд в этих галактиках сформировалась при больших красных смещениях. С этим, вероятно, согласуется и то, что, согласно Лайман-а спектрам поглощения квазаров, на красных смещениях z ~ 4 межгалактическая среда уже существовала: между облаками Лаймана «леса» плотность нейтрального водорода не превышает значения примерно 10–13(1 + z) см–3. Согласно численным экспериментам в модели CDM, галактики, казалось бы, формируются при z < 1. Возможно, межгалактическая среда при z ~ 4 была ионизована звездными скоплениями, которые сформировались прежде галактик, но тогда трудно понять, как большинство этих звезд затем собрались в галактики. Можно указать также на то, что в этой модели некоторые галактики завершают формирование при z ~ 1, но при этом все равно трудно объяснить, почему так много галактик при z ~ 1 выглядят старыми и так сравнительно мало звездообразующих галактик при z < 1 выглядят молодыми. Здесь богатое поле деятельности, и дискуссии обещают быть поучительными. {337}
У меня сложилось мнение, что позднее формирование галактик является естественным следствием смещенности (biasing — концепция, предложенная Ником Кайзером). Чтобы согласовать динамические оценки средней плотности вещества, которые весьма последовательно приводят к значению Ω ~ 0,2, с предположением, что в действительности Ω = 1, нужно предположишь, что галактики группируются сильнее, чем масса (поэтому масса, приходящаяся на одну галактику в группах и скоплениях, занижает общее среднее значение). По-видимому, такую смещенность распределения галактик относительно массы достаточно легко получить при формировании галактик. Однако гравитационная неустойчивость расширяющейся Вселенной приводит к усилению кластеризации после того, как галактики сформировались, сближая одновременно и галактики, и темную массу и стремясь устранить смещенность на больших масштабах кластеризации. Это хорошо тем, что увеличивается ожидаемое крупномасштабное поле скоростей (этот путь выбрали Кайзер и другие), но в то же время проблематично в том смысле, что становится труднее понять низкие динамические оценки параметра Ω. Вот почему я полагаю, что эпоха формирования галактик — наиболее актуальная и интересная проблема, связанная с моделью CDM.
г) Космические струны. По мере успешного развития теории калибровочных взаимодействий элементарных частиц стало понятно, что она может иметь важные приложения к физике ранней Вселенной и что следы нарушений симметрии — стенки доменов, струны и монополи — могут иметь значительные наблюдательные следствия. Характерно, что Зельдович сделал один из первых шагов, показав, что стенки доменов, обладающие представляющей интерес массой на единицу площади, должны вызвать неприемлемо большие возмущения космологической модели. Том Киббл ввел классификацию таких следов ранней Вселенной. Зельдович отметил, что космические струны могут стать хорошими кандидатами на роль источников образования крупномасштабной структуры.
Алекс Виленкин решил задачу о том, как из космических струн могут формироваться галактики. Он ввел масштабный анзатц, согласно которому длина когерентности струны равна по порядку величины времени космического расширения, из чего следует, что относительный вклад струн в среднюю плотность массы составляет ρ/ρs ~ Gμ, где μ — масса струны на единицу длины. Он получил степенной закон для зависимости относительной концентрации струнных петель от массы петли ml:
dnl/dml ~ ml–5/2. (1)
Кроме того, он показал, что такие петли должны вести к образованию галактик с примерно правильной массой, если Gμ ~ 10–5, а это приблизительно то значение, которое ожидается, если струны образуются при энергии Большого объединения, что является интересным совпадением. Также привлекает внимание открытие Нейла Турока, согласно которому относительная концентрация больших петель должна быть достаточной для зарождения богатых скоплений галактик. Усовершенствования модели космических струн все еще активно обсуждаются. {338}
Какие есть проблемы? Я хочу обратить внимание на один аспект, где, на первый взгляд, модель струн не согласуется с систематическими свойствами галактик, как будет показано ниже. Пусть υc — скорость движения вещества по круговой орбите на фиксированном расстоянии rc ~ 10 кпс от центра галактики. Тогда масса в пределах этого радиуса Мс ~ υc2rс/G. Для ярких галактик υc обычно находится в диапазоне от 200 до 300 км/с, чему соответствует масса Мс ~ 1011М☉. Наибольшая скорость составляет υc = 500 км/с. Это говорит нам, что происходит нечто удивительное: Природа хорошо знает, как собрать 1011М☉ внутри объема радиусом rс, чтобы создать обычную яркую галактику, но сильно препятствует накоплению в том же объеме массы, в четыре раза большей.
В картине космических струн масса Мс должна расти с увеличением ml, а так как ml подчиняется степенному закону (1), то что-то должно подавлять накопление или светимость аккретирующей массы после того как ml превысит некоторое критическое значение. Разумно ожидать, что такой механизм подавления должен проявляться в морфологии переходных галактик, формирующихся из петель с примерно критической массой ml. Например, если бы концентрация массы подавлялась при больших значениях ml, то можно было бы ожидать, что галактики с большими скоростями υc будут иметь малые плотности вещества в центральной области. А если при больших значениях ml подавлялось бы формирование видимых звезд, то можно было бы ожидать аномально больших отношений массы к светимости у галактик с большими значениями υc. Ни тот, ни другой эффект не наблюдался. Профили поверхностной яркости гигантских эллиптических галактик и сверхгигантских cD-галактик очень похожи. Кроме того, существует сильная корреляция между величиной υc и светимостью. Насколько я знаю, эта связь распространяется и на случай самых ярких галактик и самых высоких значений υc. Таким образом, с какой бы причиной ни была связана ненаблюдаемость галактик, порожденных массивными петлями, с подавлением массы или света, это не должно сказываться на корреляции массы со светом, что представляет некоторые трудности.
Обобщая вышесказанное» мое понимание имеющихся фактов таково: наиболее массивные галактики выглядят так, как будто они были сформированы аналогично обычным ярким галактикам, только на большем масштабе. Если это правильное объяснение, то тем самым, по всей видимости, отвергается сценарий космических струн в вышеизложенном виде. Я надеюсь на активные обсуждения того, насколько верна эта интерпретация.
д) Взрывы. Во всех вышеизложенных моделях предполагалось, что галактики формировались под действием гравитационной неустойчивости, вызванной малыми начальными возмущениями плотности вещества (остатками квантовых флуктуации в инфляционную эпоху или космическими струнными петлями). Другое предположение, основанное на наблюдениях формирования звезд, состоит в том, что вещество было собрано взрывами в куски, которые затем сколлапсировали под действием гравитации и сформировали галактики. А сами взрывы должны были рождаться из первичных неоднородностей; важный новый аспект здесь состоит в том, что не требуется существования {339} простой связи между первичными флуктуациями массы и тем, что наблюдается сейчас.
Андрей Дорошкевич, Яков Зельдович и Игорь Новиков разработали первую взрывную модель формирования галактик и их скоплений. Эта же идея была предложена независимо Джерри Острайкером и другими. Согласно наиболее современной версии, источником энергии для взрывов являются намагниченные сверхпроводящие космические струны.
При этом несомненным успехом этой модели является то, что, как и в картине блинов, предсказывается тенденция галактик лежать в плоских структурах (в результате взрывов вещество укладывается складками, образуя гребни). Поскольку главным защитником этой модели является Острайкер, не удивительно, что у этой модели нет очевидных противоречий с данными наблюдений. Единственная возможная трудность» которую я вижу, связана с особенностью локального распределения галактик и их движений. Галактики с найденными по космологическим красным смещениям расстояниями HR < 800 км/с, в основном, лежат в плоском слое, вытянутом в направлении скопления Девы. Средняя скорость этого локального пласта относительно Местной группы галактик составляет не более 100 км/с. Дипольная анизотропия реликтового излучение говорит о том, что пекулярная скорость Местной группы составляет 600 км/с, причем в этом движении должен принимать участие весь локальный пласт. В сценарии с взрывами пласт должен быть остатком гребня, а движение — следствием взрыва или гравитационного отталкивания дыры, образованной взрывом. В любом из этих случаев следует ожидать, что локальные галактики, расположенные вне пласта, но в направлении его движения, не должны участвовать в этом движении. В действительности же наблюдаемые относительные движения на пласте и вне его совершенно аналогичны.
Пока слишком рано говорить, что это роковая ошибка модели. Например, такие наблюдаемые движения могут быть просто случайным совпадением. С другой стороны, естественное объяснение состоит в том, что дипольная анизотропия реликтового излучения вызвана пекулярным движением под действием пекулярного гравитационного поля с длиной когерентности достаточно большой, чтобы имело место сравнительно слабое влияние на локальный относительный хаббловский поток. Перехожу к обсуждению модели, которая опирается на такое объяснение.
е) Барионная энтропийная модель. Выше в п. а) было отмечено, что адиабатическая модель естественна в том смысле, что если концентрации барионов и фотонов испытали в какую-то эпоху в ранней Вселенной сравнимые, но независимые относительные возмущения, то адиабатическая часть вырастет до такой степени, что начнет преобладать. На основе инфляционного сценария появился независимый аргумент: так как барионы создаются после инфляции, разумно предположить, что сложившаяся в результате локальная концентрация барионов (а также плотности всех прочих сохраняющихся величин) будет составлять универсальную долю от локальной плотности энтропии. Это приведет к чисто адиабатической модели. Конечно, это не доказательства, а лишь хорошие аргументы, поэтому уместно рассмотреть последствия альтернативного {340} предположения» что структура развилась из первичных энтропийных флуктуации.
Барионное энтропийное возмущение предполагает пренебрежимо малое возмущение полной плотности вещества в ранней Вселенной, так что кривизна пространства не возмущена, а концентрация барионов распределена кластерным образом. При таком начальном условии распределение массы, усредненное по большим масштабам, когда силой радиационного давления можно пренебречь, эволюционирует так, что кривизна пространства остается невозмущенной. Это означает, что в современную эпоху преобладания барионов флуктуации массы стремятся к нулю на масштабах, больших по сравнению с длиной Джинса вещества-излучения λJ. На масштабах, много меньших λJ, флуктуации плотности появляются на горизонте в виде комбинации адиабатических и изотермических мод, причем адиабатическая часть диссипирует посредством диффузии фотонов, и у нас остается начальное барионное распределение в виде изотермического возмущения (см. п. а). Если бы барионное распределение характеризовалось плоским спектром, то мы должны были прийти к старой картине 1960-х годов, в которой галактики формируются при больших красных смещениях, z ~ 30. Как было отмечено в п. в) выше, наблюдательные ограничения на эпоху формирования галактик становятся предметом оживленных дискуссий. Если вывод таков, что галактики сформировались на больших красных смещениях, то описанный выше сценарий может объяснить такой вывод. Наконец, следует отметить, что эта модель согласуется с наблюдательными ограничениями на анизотропию реликтового излучения.
На длине волны порядка λJ адиабатическая часть энтропийного возмущения завершает только четверть осцилляции до того, как вещество отделится от излучения. Это приводит к увеличению амплитуды растущей моды и в результате к появлению выраженного максимума в спектральной функции на длине волны λ ~ λJ. Возможно, что именно этот эффект является причиной «блинного» коллапса в распределении галактик при λ ~ λJ, который мог бы объяснить наблюдаемые плоские структуры в распределении галактик. Возможно этот эффект мог бы объяснить и упомянутые в последней части наблюдения, которые указывают на то, что поле пекулярных скоростей галактик характеризуется длиной когерентности более чем ~ 30 Мпк.
Как укладывается в эту теорию темное вещество? Один вариант состоит в том, чтобы не учитывать ограничение, налагаемое нуклеосинтезом легких элементов, и предположить, что ΩB ~ 1. Другой вариант, который я склонен поддержать, это предположение, что ΩB ~ 0,1, и либо кривизна пространства, либо Λ-член вносят существенный вклад в современный темп расширения. Этот сценарий имеет недостаток — неизящность космологической модели, но он имеет преимущество — согласие с динамическими оценками Ω. Пока слишком рано говорить о том, насколько хорошо каждый из этих вариантов может соответствовать детальным результатам наблюдений.
ж) Заключение. Как я объяснял в предложенном выше обзоре, мне кажется, что ни одна картина формирования галактик пока не обоснована настолько, чтобы служить стандартной моделью. Однако есть ряд многообещающих кандидатов в стандартную модель, а также имеется большой и {341} растущий объем наблюдений для проверки кандидатов и стимулирования открытия новых моделей. Такое благоприятное состояние дел стало возможным благодаря большой работе многих людей. Глубокое впечатление производит то, что так много фундаментальных идей ведут свое происхождение от Якова Зельдовича.
За пятнадцать лет, прошедших с тех пор, как я написал предыдущие части, космология сделала огромные успехи, однако в некоторых разделах многое осталось без изменений. Космологические тесты стали намного строже: наконец-то у нас появилось серьезное эмпирическое доказательство в пользу релятивистской космологии Фридмана-Леметра. Однако нет прогресса в проблеме плотности энергии вакуума, не считая открытия, возможно ключевого, но пока еще очень загадочного: доказательства наличия в тензоре энергий-натяжений члена, который действует как космологическая постоянная Эйнштейна Λ и, возможно, как вакуумная энергия.
Пятнадцать лет назад мы обсуждали достоинства примерно полудюжины моделей формирования галактик. Одна из них — модель АСОМ — прошла жесткие проверки, показавшие, что она, вероятно, является подходящим приближением к тому, что происходило в действительности. Однако некоторые аспекты феноменологии галактик, которые мы обсуждали десятилетие назад, так и не получили объяснения и вызывают у меня вопрос: возможно, элементы других моделей формирования структуры, обсуждавшихся нами в 1980-х годах, представляют собой большее, чем только исторический интерес?
а) Космологическая модель и энергия вакуума. В 1980-х все свидетельствовало в пользу того, что спектр реликтового излучения существенно отличается от спектра излучения черного тела. Как я упоминал выше, считалось, что это могло означать, что при формировании галактик в реликтовое излучение выделилась существенная энергия. Зельдович и Сюняев стояли во главе исследования этих процессов. Думали также, что аномалия спектра представляет проблему для идеи о том, что реликтовое излучение является тепловым остатком горячего Большого Взрыва. В эксперименте СОВЕ (США) и эксперименте UBC в Канаде в 1990 году было показано, что на самом деле спектр очень близок к тепловому. Этот поразительный результат дает нам наиболее убедительное доказательство того, что Вселенная действительно расширяется и охлаждается: а как иначе реликтовое излучение могло приобрести свой характерный тепловой спектр? Исследования того, как формирование галактик могло бы исказить спектр, несомненно, все еще очень актуальны: они показывают нам, что процесс должен был протекать относительно спокойно, не производя большого количества горячей или быстро движущейся плазмы, которая могла бы вызвать аномалию Сюняева-Зельдовича в среднем спектре микроволнового фона.
До недавних пор картина релятивистским образом расширяющегося мира Александра Фридмана и Жоржа Леметра действительно была рабочей моделью, основанной на элегантной физике, но на слабом эмпирическом доказательстве. В 1980-х годах ни я, ни, как я думаю, Зельдович практически не обсуждали эту проблему, так как не было достаточного количества {342} фактов, с которыми можно было бы работать. Теперь же у нас есть хорошо проверенный набор космологических тестов, которые до сих пор прекрасно согласуются с предсказаниями Фридмана и Леметра. Это производит сильное впечатление.
Эйнштейн основал свою общую теорию относительности на лабораторной физике. Единственными его серьезными проверками на больших масштабах были ньютоновский предел и неньютоновская прецессия перигелия Меркурия. Когда Эйнштейн высказал предположение, что Вселенная однородна (в среднем, на больших масштабах), он даже не знал о существовании галактик и тем более о том, как они распределены. Однако теория и предположение об однородности прошли суровые проверки на масштабе хаббловской длины, что означает экстраполяцию на пятнадцать порядков от размера орбиты Меркурия. Иногда Природа соглашается с нашими представлениями об истине и красоте.
Но иногда Природа не соглашается: космологические тесты говорят о том, что современный темп расширения Вселенной в основном определяется космологической постоянной Эйнштейна Λ или же членом в тензоре энергий-натяжений, действие которого аналогично Λ. Это означает, что нам посчастливилось процветать в особую эпоху, близкую ко времени перехода от расширения, в котором доминирует вещество, к тому, в котором доминирует Λ-член. Такое совпадение кажется невероятным и ненужным — десять лет назад общепринятое (и разумное) мнение состояло в том, что Λ-член, несомненно, пренебрежимо мал. Если применить аналогичный аргумент к кривизне пространства, то мы придем к модели Эйнштейна-де Ситтера, в которой как Λ, так и кривизна пространства пренебрежимо малы. А темп расширения, соответственно, удовлетворяет выражению H02 = 8πGρ/3, где ρ — средняя массовая плотность, а H0 — коэффициент в законе Хаббла для скорости рецессии, υ = H0r на расстоянии r. Проблема была (и остается) в том, что согласно динамическим оценкам ρ составляет лишь 20 процентов от значения, соответствующего модели Эйнштейна-де Ситтера. По изложенным в предыдущем разделе причинам я не думал 15 лет назад, что способ решения этой проблемы состоит в смещенности, и поэтому склонялся к подозрению, что либо А, либо кривизна пространства вносит существенный вклад в H02, несмотря на аргумент о совпадении. Оба этих случая выглядят неприятными, но это именно то, что требуют измерения.
На Зельдовича аргумент о совпадении тоже не произвел особого впечатления: на его взгляд, «джин А выпущен из бутылки, и теперь будет не просто затолкать его обратно». Я подозреваю, что он подчеркивал это потому, что осознал ключевой момент: если бы тензор энергий-натяжений вакуума не зависел бы от скорости системы отсчета, в которой он измерялся, тогда в общей теории относительности гравитационное действие вакуума должно было быть таким же, как действие эйнштейновской постоянной Λ. Или более подробно: если вакуум не зависит от скорости, то плотность энергии вакуума ρΛ должна быть постоянна, а давление (диагональная пространственная часть тензора энергий-натяжений) должно равняться pΛ = –ρΛ. Для студентов будет хорошим упражнением проверить это с помощью преобразований Лоренца. Есть и менее строгий метод: можно отметить, что метрический тензор {343} gμν одинаков в любой инерциальной системе отсчета — это представление Минковского в декартовых координатах — поэтому, если свойства вакуума не зависят от скорости наблюдателя, то вакуумный тензор энергий-натяжений должен быть пропорционален метрическому тензору:
Tμν (вакуум) = gμν (вакуум). (2)
В уравнении поля Эйнштейна это выражение играет роль Λ-члена. Сравнивая эту форму уравнения с тензором энергий-натяжений идеальной жидкости, можно увидеть, что эффективное давление pΛ = –ρΛ. В те времена космологические тесты указывали на то, что Λ-член обнаружен. Зельдович спрашивал: не означает ли это, что мы обнаружили ненулевую плотность энергии вакуума? Когда в 1968 г. Зельдович высказал эти соображения, уже в течение полувека было известно, что сумма нулевых энергий мод электромагнитного поля на лабораторных длинах волн абсурдно велика по сравнению с тем, что допускается релятивистской космологией. Несколько позже 1968 года началась разработка теории фазовых переходов в рамках стандартной модели физики частиц. Любой переход первого рода изменяет тензор энергий-натяжений на величину, пропорциональную метрическому тензору, как в уравнении (2), с константами пропорциональности, которые опять же совершенно неприемлемы с точки зрения релятивистской космологии.
В своих мемуарах Сахаров приводит рассказ Зельдовича о реакции на его первый доклад на эту тему: «Теоретики заняли резко негативную позицию по отношению к идеям Зельдовича, которые шли наперекор установившейся традиции игнорировать нулевую энергию». Конечно, многие считали это общепризнанным, но прав оказался именно Зельдович. Как он подчеркивал, из эксперимента известно, что нулевые энергии атомов в кристалле вносят реальный измеряемый вклад в полную энергию. Стандартная теория, а теперь и точные эксперименты доказывают, что энергия стабильной системы определяет ее активную гравитационную массу. Кроме того, согласно стандартной теории, реальны также и нулевые энергии полей: они вносят вклад в массу Вселенной. Таким образом, в рамках стандартной физики абсурдно пренебрегать нулевой энергией электромагнитного поля на лабораторных длинах волн. Возможно ли, чтобы общая теория относительности не работала на космологических масштабах? Такую возможность, несомненно, имело смысл обсуждать в 1968 г. Но с тех пор общая теория относительности прошла необходимые проверки космологических тестов. Возможно, допустима тонкая настройка теории, но мы должны учитывать большое несоответствие между тем, что предлагает квантовая физика, и тем, что допустимо в общей теории относительности. Возможно ли, чтобы положительные и отрицательные нулевые энергии полей и частиц, добавленные к энергиям конденсатов при фазовых переходах, компенсировали друг друга с потрясающей точностью? Отмечалось, что от такого чудесного равновесия зависит само наше существование.
Эта такая же тайна, покрытая мраком, как в свое время «облака» Кельвина — равномерное распределение энергии и катастрофа светоносного эфира — в начале двадцатого века. Мы не можем сказать, чему научит {344} нас проблема с вакуумной энергией, но мы можем быть уверенными, что люди будут помнить утверждение Зельдовича: значение плотности вакуумной энергии, определенной как сумма конденсатов, нулевых энергий и, возможно, чего-нибудь еще, что однородно заполняет пространство, эмпирически ограничено космологическими тестами, и даже, возможно, было измерено. Это, несомненно, неоценимый, пусть даже все еще не до конца понятый ключ к разгадке.
б) Формирование галактик. За последние пять лет сообщество пришло к согласию по поводу стандартной модели образования структуры — модели ΛCDM. Это стало возможным благодаря удивительно успешному предсказанию спектра угловых флуктуации анизотропии температуры реликтового излучения (обсуждение этого достижения можно найти во многих недавних обзорах).
Как отмечалось в последнем разделе, в этой новой стандартной модели предполагается, что темное вещество — это газ небарионных невзаимодействующих частиц с пренебрежимо малой дисперсией первичных скоростей. Структура развивалась из первичных адиабатических флуктуации плотности; флуктуации плотности являются реализацией случайного гауссова процесса. И все это происходило в рамках космологии Фридмана-Леметра с плоскими космическими участками и с современным составом массы: ΩB = 0,05 в барионах, ΩDM = 0,2 в холодном небарионном веществе, ΩΛ = 0,75 в компоненте, который действует как Λ-член. Такой состав кажется странным: зачем нам нужна темная материя или Λ-член? Но сложно спорить с успехом: согласие с анизотропией реликтового излучения поразительное.
Хотя модель ΛCDM, несомненно, успешна, очевидно, что для описания формирования структуры требуется еще лучшее приближение. Некоторые из обсуждавшихся в предыдущем разделе проблем были разрешены. Например, уменьшение значения средней плотности вещества относительно значения в модели Эйнштейна-де Ситтера приводит к увеличению длины когерентности флуктуации массы, снимая отмеченную мной проблему с кластеризацией на больших масштабах. Положение с другими проблемами, такими как красное смещение при формировании больших галактик, не сильно изменилось. Но здесь нет необходимости в более подробном обсуждении; главное то, что эта тема стимулируется наблюдениями, из которых мы узнаем, действительно ли модель ΛCDM требует улучшения, и если так, то, вероятно, наблюдения подскажут нам, как подправить модель. Имеется несколько особенно плодотворных направлений исследований. Оптические и инфракрасные наблюдения далеких галактик демонстрируют нам популяции звезд в молодых галактиках, благодаря определенному времени распространения света. Гравитационное линзирование позволяет определять распределение массы в галактиках, правда, в основном на меньших расстояниях. А радионаблюдения эффекта обратного комптоновского рассеяния реликтового излучения горячей плазмой скоплений галактик являются мощным инструментом изучения эволюции крупномасштабной структуры, начиная с красного смещения формирования первых богатых скоплений. Имеет смысл обсудить здесь последнюю из этих тем. {345}
В начале 1970-х годов спутник UHURU обнаружил близкие скопления галактик — источники диффузного рентгеновского излучения. Это излучение было интерпретировано как тепловое тормозное излучение межгалактической плазмы с температурой, соответствующей дисперсии скоростей галактик. Теперь это точно установлено, благодаря детектированию эмиссионных линий ионов распространенных тяжелых элементов. Температура плазмы достаточно высока для того, чтобы фотон реликтового излучения при рассеянии на межгалактическом электроне в среднем приобретал энергию — при обратном комптоновском рассеянии — и тогда спектр искажается относительно исходной тепловой формы: интенсивность уменьшается на длинных волнах и увеличивается на длинах волн короче длины волны пика Вина. Этот эффект обсуждался в 1960-х годах: в Америке — Вейманом и мной, в Советском Союзе — Сюняевым и Зельдовичем. Его справедливо называют эффектом Сюняева-Зельдовича (СЗ): они пришли к цели первыми и сделали больше.
Пятнадцать лет назад имелись указания на присутствие значительного эффекта СЗ в среднем спектре микроволнового фона. Это не подтвердилось. Существовало также достаточно надежное доказательство обнаружения СЗ-эффекта в богатых скоплениях галактик. В настоящее время мы имеем не вызывающие сомнений и точные измерения эффекта. Возмущение спектра реликтового излучения вдоль луча зрения в направлении скопления не зависит от его красного смещения (при условии, что телескоп позволяет разрешить скопление), поэтому готовящиеся исследования СЗ-эффекта, в которых будут сканироваться целые поля (а не только направления на известные скопления), должны представить нам прекрасную картину эволюции больших скоплений.
В модели ACDM скопление формируется на месте редко встречающейся экстремальной положительной флуктуации в начальном гауссовом распределении массы, и чем больше красное смещение, тем реже встречаются флуктуации, вызывающие образование скопления. Это означает, что эволюция концентрации скоплений (после учета общего расширения) довольно чувствительна к значениям космологических параметров. Также важно, на мой взгляд, и то, что эта эволюция крайне чувствительна к предполагаемым начальным условиям, т.е. к тому, что начальные условия гауссовы и адиабатические. Например, если бы космические струнные петли играли значительную, хотя и не основную, роль в формировании структуры, то это должно было влиять на эволюцию галактик и скоплений галактик.
Будет чрезвычайно интересно увидеть, что расскажут нам об этом обзоры полей, основанные на СЗ-эффекте. Но каким бы ни был результат, люди будут помнить происхождение мощного инструмента космологии — эффекта Сюняева-Зельдовича.
Отправляясь в сентябре 1968 г. на год в Москву, я не предполагал, что мне доведется встретиться и работать с Яковом Борисовичем Зельдовичем. За год до этого я получил докторскую степень в Группе радиоастрономии {346} при Кавендишской лаборатории в Кембридже, где вместе с Мартином Райли и Питером Шойером работал над астрофизическими и космологическими проблемами внегалактических радиоисточников. В 1965 г. я принял участие в работе третьего Техасского симпозиума в Нью-Йорке, где впервые встретился с советскими астрофизиками. В то время (время «холодной войны») ученые из СССР были редкими гостями на Западе, но в этот раз Гинзбургу и Новикову разрешили выехать. В следующем году Гинзбург посетил Кембридж, и я был потрясен его энтузиазмом и глубоким пониманием процессов астрофизики высоких энергий. Москва уже тогда была главным центром теоретической астрофизики и космологии, и я поинтересовался у Гинзбурга, не желает ли он взять меня на исследовательскую работу в качестве «постдока» в Институт им. Лебедева, если мне удастся получить совместный грант Королевского общества и Академии наук СССР на поездку в Москву по научному обмену. Я хотел работать с Гинзбургом и его коллегами над выяснением влияния числа активных галактик на происхождение космических лучей и связанными с этим проблемами. Я также имел менее ясное представление о космологических исследованиях, которые проводились в Москве такими космологами, как Зельдович, Новиков и их коллеги. Представлялась прекрасная перспектива получить в Москве точную информацию из первых рук, — что же происходит в астрофизике и космологии. Моя заявка в Королевское общество была удовлетворена, и я провел восемь месяцев на языковых курсах в Кембридже, изучая русский язык в объеме, достаточном для ведения научных дискуссий на русском. Это было не самое удачное время для посещения Советского Союза — за два месяца до этого произошло вторжение в Чехословакию.
Первым «пробным камнем» стало участие в 5-й международной конференции по гравитации и теории относительности в Тбилиси. Я впервые встретился со многими ведущими учеными советской науки. Самыми яркими впечатлениями были встречи с Зельдовичем и его молодым коллегой Рашидом Сюняевым.
Как Рашид сказал мне позже, советские ученые были знакомы с моими статьями в Ежемесячных бюллетенях Королевского астрономического общества и предполагали увидеть бородатого старца Лонгейра, а не того молодого шотландца, который тогда еще имел весьма ограниченное понимание астрофизики и космологии. На конференции было немного времени для обсуждений, но когда я вернулся в Москву, мне позвонил Рашид и сказал, что Зельдович хочет поговорить со мной о космологической эволюции радиоисточников. А сам Рашид очень хотел обсудить со мной астрофизические проблемы, над которыми он работал.
Это может показаться читателю странным, но я очень слабо представлял себе, кем был Зельдович на самом деле. Посещая еженедельные семинары, которые он организовал в Астрономическом институте им. Штернберга, я понял, что Зельдович обладает огромным авторитетом во всех областях физики, космологии и астрофизики. Только гораздо позднее я получил полную информацию о его роли в разработке советских атомной и водородной бомб в 40-х и 50-х годах. Естественно, в то время в Москве я не мог это знать.
Зельдович хотел, чтобы я и Андрей Дорошкевич поработали над рядом моделей космологической эволюции популяции радиоисточников. При выполнении {347} космологических расчетов в Кембридже я использовал кэмбриджский компьютер EDSAC, наиболее мощный из компьютеров данного типа в то время. Зельдович очень хотел, чтобы я повторил свои вычисления в Москве, однако без использования подобного компьютера это было невозможно. Зельдович работал тогда в Институте прикладной математики, абсолютно закрытом для иностранцев. Я даже не знал, где именно он находится, поскольку, как мне намекнули, иностранцу нежелательно появляться даже в окрестности института. Но Зельдовичу удалось организовать использование советского компьютера для проведения этих вычислений. Мы работали следующим образом: я подробнейшим образом записывал на бумаге все необходимые вычисления, а Андрей занимался программированием и машинным счетом в Институте прикладной математики. Каждую неделю мы встречались, чтобы понять, как продвигаются вычисления, и обсудить, что необходимо делать дальше.
Однажды, когда дела с вычислениями продвигались весьма благополучно, Зельдович пригласил меня к себе домой. Он попросил меня прийти на завтрак к семи утра, чтобы потом мы могли обсудить результаты. Так уже случалось несколько раз. Потом мои московские друзья объяснили мне, что Зельдович начинал работать дома очень рано, и для них было обычным делом быть приглашенными к нему домой каждый раз, когда ему нужно было поговорить о науке, в любое время дня или ночи. Это были незабываемые завтраки.
После еды Зельдович предлагал заняться гимнастикой. Упражнения были весьма энергичными; наиболее потенциально опасное упражнение заключалось в том, что мы стояли спиной друг к другу, сцепив руки в локтях, и по очереди поднимали друг друга на спине в воздух. Зельдович был низкого роста, и я опасался нанести непоправимые повреждения одному из величайших ученых двадцатого века.
Во время этих обсуждений за завтраком становилось очевидным его очень глубокое понимание космологии и фундаментальной физики. Наряду с прочим, для меня был важен его подход к математической физике, когда он инстинктивно понимал, как упростить заведомо сложные вычисления до разумных пределов.
Наша работа с Зельдовичем и Дорошкевичем была закончена как раз перед моей годичной командировкой в Москву. И это было огромным и совершенно неожиданным подарком. Более того, мои советские коллеги уже знали меня по публикациям и были заинтересованы в сотрудничестве. Хотя формально я работал в группе Гинзбурга над проблемой происхождения космических лучей, получалось, что большая часть моей совместной работы происходила с Зельдовичем и его коллегами, чаще с Рашидом. Работа по интерпретации популяции радиоисточников, которую мы закончили с Зельдовичем и Дорошкевичем, инициировала ряд новых проектов, которые мы начали с Рашидом. Среди них были первые оценки флуктуации реликтового излучения Вселенной, обусловленного дискретными радиоисточниками в сантиметровом и миллиметровом диапазоне длин волн. Мы также работали над моделью происхождения мягкого и жесткого фоновых рентгеновских излучений, связанного с испусканием интенсивными инфракрасными источниками частиц высокой энергии. Как оказалось, эти разработки сильно опережали {348} свое время, но Зельдович и его группа были настроены следовать многообещающим теоретическим идеям вплоть до получения конкретных выводов, даже если эти идеи не могли быть немедленно проверены экспериментально.
Рашид и я очень интенсивно работали над этими проблемами в течение всего года либо в Институте им. Штернберга, либо в его комнате в квартире, которую он делил с еще одной семьей. Это было задолго до того времени, когда Рашиду разрешили выезжать за пределы СССР, и мы опасались, что наше научное сотрудничество, результатом которого стали пять совместных публикаций, может вызвать некую обеспокоенность у властей.
Зельдович оставался вдохновителем и руководителем нашей совместной работы. Атмосфера на различных семинарах была совершенно разная. Гинзбург проводил свои еженедельные семинары в институте им. Лебедева, и диапазон тем был очень широк. Гинзбург заявлял, что любая физика, за исключением физики элементарных частиц, может быть включена в программу семинара. На одном из этих семинаров мне представилась возможность рассказать о своей работе, касающейся происхождения космических лучей. Зельдович и Шкловский проводили свои семинары, чередуясь, раз в две недели, в Институте им. Штернберга, который был на удивление открытым и в котором я проводил бóльшую часть своих исследований. Семинары Зельдовича были в высшей степени захватывающие. Официальные копии Астрофизического журнала и ежемесячные бюллетени Королевского астрономического общества обычно приходили с большой задержкой, однако несколько персональных копий журнала отправлялись выдающимся астрономам, и эти копии сразу досконально изучались. Период с 1968 по 1969 гг. был временем замечательных открытий в астрономии и космологии, и о них немедленно докладывали на семинарах в Институте им. Штернберга. Они были поводом для горячих дискуссий. Зельдович демонстрировал выдающуюся виртуозность при разборе сложных проблем и развенчивании любого некомпетентного астронома или астрофизика. Царила атмосфера огромного интеллектуального возбуждения. Часто такие выдающиеся ученые, как Пикельнер и Кардашев, а также приезжавшие со всего Советского Союза ученые, принимали участие в оживленных астрономических дебатах. Случались и яростные споры, часто с участием Шкловского и других. Это была воодушевляющая атмосфера.
Зельдович был главной фигурой и по праву пользовался всеобщим уважением. Он не просто так гордился тремя Золотыми Звездами в дополнение к орденам Ленина, в то время как у Брежнева было только две.
Ко мне лично он был сердечно расположен, и как-то раз пригласил меня в столовую Академии. Я ясно помню, как он указал мне на пожилого человека в углу и шепнул: «Это Трофим Лысенко, биолог, который задержал развитие биологии в Советском Союзе как минимум на одно поколение».
Год пребывания в Москве для меня был действительно крайне важен, в научном и интеллектуальном плане. В частности, за все время работы с Зельдовичем и Рашидом я не только получил огромный объем знаний по астрофизике, но и тщательнейшим образом ознакомился с работой советских ученых. Большая часть их исследований была практически неизвестна за пределами СССР, а в ряде областей они обгоняли западных ученых. Я чувствовал себя послом, миссией которого было сделать их исследования {349} более известными на Западе. На Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (IAU), которая проводилась в 1970 г. в Брайтоне, я сделал обзор по работам Зельдовича и его коллег, а в следующем году на совещании по космологии в Оксфорде я представил, вероятно, первое детальное изложение работы Зельдовича и Сюняева, касающейся уравнения Компанейца и вынужденного комптоновского рассеяния. На брайтонском совещании IAU была создана комиссия №47, и Зельдович был избран ее первым президентом. Я был избран вице-президентом, в основном благодаря моим тесным контактам с Зельдовичем. Одним из результатов создания новой комиссии стал первый симпозиум IAU по космологии «Сопоставление космологических теорий с наблюдательными данными», который состоялся в Кракове, в 1973 г.
Из-за трудностей с контактами с Советским Союзом Зельдович попросил меня взять на себя организацию приглашений на совещание и планирование научной программы совещания, а также решение проблем въезда ученых из всех стран-участниц в Польшу. Конрад Рудницкий выполнил гигантскую работу, возглавив локальный оргкомитет. Совещание было огромным достижением, и многие западные ученые впервые получили возможность встретиться с Зельдовичем и его коллегами. Список участников был впечатляющим. Состоялись также встречи между советскими и западными специалистами в области теории относительности с участием Миснера, Пенроуза, Хокинга, Белинского, Халатникова и Лифшица. Брендон Картер представил свою фундаментальную работу об антропном космологическом принципе. Зельдович был в блестящей форме. Я вспоминаю его великолепную речь на открытии, в которой он напомнил нам о двух вещах. Во-первых, это то, что международным языком науки является «специфический исковерканный английский». Во-вторых, когда мы делаем доклады, мы должны помнить замечание Голсуорси — «Банальности надо произносить убедительно и ясно».
В 1975 г. я снова приехал в Москву. К тому времени астрофизики, с которыми работал Зельдович, перебрались в Институт космических исследований, где мы с Рашидом смогли продолжить нашу совместную работу. У меня появилась возможность раз в год приезжать в СССР для проведения совместных исследований. Однажды, когда Рашид узнал, что в Иркутске намечается симпозиум по плазменной астрофизике, то меня пригласили сделать доклад. Это была еще одна возможность встретиться с Зельдовичем и Рашидом. Одним из незабываемых моментов на этом совещании был «сибирский завтрак», на который Я.Б. Зельдовича пригласил A.M. Фридман, один из организаторов конференции. Зельдович спросил, можем ли мы с Рашидом присоединиться, и вот уже ранним утром мы прибыли на озеро Байкал, где Зельдович и Фридман сразу же искупались. Мы видели рядом рыбаков, которые таинственным образом исчезли вместе со своим уловом, пока Фридман организовывал великолепный завтрак с водкой, икрой и другими деликатесами. Затем, отойдя от озера, мы обнаружили этих рыбаков, которые на костре варили уху в огромном котелке. В котелок добавили картошку, различные овощи и травы. Это было восхитительно на вкус. Только спустя годы я узнал, что эта рыба была омулем, который живет только в озере Байкал и считается изысканным деликатесом, его ловля была запрещена {350} законом, но только не для Зельдовича и его компании! В конце трапезы Фридман шепнул мне: «Последний раз мы принимали так только Фиделя Кастро!»
Зельдовичу по-прежнему не разрешалось выезжать за пределы СССР, и было очень важно организовывать совещания IAU в странах восточного блока, куда могли бы быть приглашены астрономы всех стран. Ян Эйнасто согласился устроить главный симпозиум IAU по крупномасштабной структуре Вселенной в сентябре 1977. Меня попросили быть председателем научного организационного комитета и вместе с Эйнасто редактировать труды совещания. Это было еще одно удачное совещание, в большой степени благодаря титаническим усилиям Эйнасто. Это было первое совещание, на котором была полностью осознана важность крупномасштабной структуры Вселенной. Зельдович снова был в прекрасной форме.
К совещанию IAU в 1982 г. в Патрасе, Греция, Зельдовичу, наконец, разрешили выезжать за пределы СССР. Ему было уже 68 лет. Его энергия и воображение не потускнели; он выступил с одним из приглашенных докладов, озаглавленным «Замечания о структуре Вселенной». Это был отчет о его работе. Также с глубоким пониманием и проницательностью Зельдович сделал обзор работ своих коллег из Москвы. Невозможно выразить в нескольких словах, как я благодарен Зельдовичу. Работа с ним и его коллегами в Москве открыла мне абсолютно новые пути мышления в науке. Ясность его объяснений делала даже наиболее трудные задачи понятными. Его мышление всегда основывалось на твердой физической интуиции, сформированной абсолютной погруженностью в физику и теоретическую физику на протяжении всей его жизни. Кроме того, он обладал природными способностями вдохновенного учителя, который даже в простейшей задаче мог найти что-то интересное. Его пример и его вдохновение остались со мной навсегда.
Яков Борисович Зельдович был чрезвычайно яркой звездой на небосклоне советской и мировой физики и астрофизики. К областям его интересов также можно отнести физическую химию, или как иногда говорят, химическую физику. Широко известны его исследования в области катализа, фазовых переходов, гидродинамики, теории горения и взрыва, цепных ядерных реакций, ядерной физики, теории элементарных частиц и, наконец, общей теории относительности и космологии.
К семидесятилетию ЯБ были опубликованы два тома его «Избранных трудов» под названием «Химическая физика и гидродинамика» (Том I) и «Частицы, ядра и Вселенная» (Том II). Эти книги содержат полный список работ ЯБ. {361} Второй том завершается автобиографическим послесловием, датированным 3 марта 1984 г. Именно на основе двухтомника избранных трудов и написана эта статья.
В первом приближении жизнь ЯБ можно условно разделить на четыре периода: 1914–1930, детство и школьные годы; 1931–1947, Институт химической физики, работа, в основном, над физико-химическими проблемами; 1947–1963, работа над созданием новой технологии, проблемами ядерной физики и теории элементарных частиц; 1964–1987, в основном, работа в области астрономии, с упором на применение общей теории относительности в космологии. Этой хронологии, взятой из томов I и II его «Избранных трудов», мы будем придерживаться и здесь.
Яков Борисович Зельдович родился 8 марта 1914 г. в Минске (Белоруссия) в доме своего деда. В середине 1914 г. семья переехала в Санкт-Петербург.
В 1930 г. ЯБ окончил школу и поступил на курсы лаборантов при Институте механической обработки полезных ископаемых (Механобр), где он занимался изготовлением и исследованием срезов образцов добываемых горных пород.
В марте 1931 г. ЯБ вместе со своими коллегами по Механобру посетил отделение химической физики Ленинградского Физико-Технического Института (ЛФТИ)1, которое занималось проблемами кристаллизации нитроглицерина двух модификаций. Научные интересы молодого ЯБ значительно опережали его возраст, и это привлекло внимание сотрудников отделения. После завершения курсов лаборантов ему предоставили возможность поработать в свободное время в лаборатории ЛФТИ, возглавляемой С.З. Рогинским. Вскоре ЯБ представил доклад по орто-пара превращениям водорода на семинаре секции химической физики ЛФТИ (возглавляемой Н.Н. Семеновым). Очевидное усердие и способности ЯБ привели к тому, что в ЛФТИ решили взять его на постоянную работу, и 15 мая 1931 г., после преодоления бюрократических формальностей, семнадцатилетний ЯБ стал постоянным сотрудником независимого Института химической физики ИХФ при Академии наук СССР, который только что отделился от ЛФТИ (после войны институт был переведен в Москву, но его название сохранилось до сих пор).
ЯБ сразу же погрузился в исследования. С 1932 г. по 1934 г. ЯБ учился на заочном отделении физико-математического факультета Ленинградского университета, который не окончил. В 1934 г. директор ИХФ Н.Н. Семенов добился разрешения зачислить ЯБ в аспирантуру без документа об окончании ВУЗа. В 1936 г. ЯБ защитил кандидатскую диссертацию. Тремя годами позднее (в 1939 г.) он защитил докторскую диссертацию.
Но признание ЯБ было несомненным и ни в коей мере не зависело от защиты диссертаций. К 1939 г. двадцатипятилетний ЯБ был автором ряда {352} работ по химической физике (разницу между ней и физической химией я никогда не мог понять). Более того, благодаря своему исключительному таланту и энергии, ЯБ уже стал почти легендарной личностью. Я вспоминаю одну историю послевоенного периода. Когда Н.Н. Семенову, директору Института химической физики, говорили о проблемах создания теории ядерных сил, его известной реакцией было: «Ну что ж, тогда давайте поручим это Я. Б. Зельдовичу, и он все их решит за пару месяцев».
Стоит отметить, что на заре своей научной карьеры ЯБ работал и как экспериментатор, и как теоретик. Он всегда хорошо понимал и чувствовал эксперимент. Хотя центр тяжести его интересов позднее сместился в другие области, его ранние работы не были забыты. По словам В. И. Гольданского, буквально за день до смерти, ЯБ, обнаружив новый обзор по химии горения, проявил к нему большой интерес и намеревался его прочесть.
Открытие в 1939 г. деления ядер урана немедленно привлекло внимание Я. Б. Зельдовича и Ю.Б. Харитона, как новый способ получения цепной реакции — проблемы, близкой их интересам в области теории химических реакций. Поэтому было вполне естественным, что Харитон и Зельдович стали одними из первых ученых, призванных И. В. Курчатовым для решения «урановой проблемы» и основных аспектов ее использования. Многие годы ЯБ в основном работал за пределами Москвы, но в Москве он также занимался рядом чисто научных вопросов. Уже в 1965 г. он официально перешел в Институт прикладной математики при Академии наук СССР, который основал и возглавил М.В. Келдыш. Позднее, в 1983 г., он перевелся в Институт физических проблем при Академии наук СССР, где возглавил теоретический отдел, основанный Л. Д. Ландау.
Работы ЯБ получили широкое признание и в СССР, и за рубежом. В 1946 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1958 г. — действительным членом (академиком) Академии наук СССР. Яков Борисович Зельдович был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда, он был лауреатом Ленинской премии и четырежды лауреатом Государственной премии СССР. Также он получил ряд других медалей и премий. Он был избран иностранным членом Лондонского королевского общества, Национальной академии наук США и ряда других академий и обществ.
Наконец, настало время обратиться к описанию научного вклада Я. Б. Зельдовича. Этот вклад детально описан в его «Избранных трудах», здесь возможно только кратко охарактеризовать основные направления его деятельности.
Ранние работы ЯБ1) были посвящены катализу и адсорбции (первые три работы опубликованы в «Избранных трудах», т. I). Основным направлением исследований было создание теории адсорбционных изотерм (т.е. зависимости количества адсорбируемого вещества от давления газа или от {353} концентрации адсорбируемого вещества в растворе) с учетом негомогенности поверхности адсорбента.
Анализ течения химических реакций (в частности» катализ) и горения привел ЯБ к гидродинамике, теплопереносу и турбулентности. Его первая статья, относящаяся к этой тематике, появилась в 1937 г. и затрагивала вопросы асимптотических законов теплопереноса при малых скоростях жидкости и законы самоподобия свободно восходящих конвекционных потоков (статьи 4 и 5 в т. I).
Одной из черт ЯБ было свойство не пренебрегать накопленным ранее опытом, даже если он обращался к абсолютно новой области задач. Так, глубоко погрузившись в астрофизику, он занимался магнитогидродинамикой и ее приложениями при анализе генерации магнитного поля в движущейся проводящей жидкости (1956, 1972, 1979, 1980 и т.д.). Поскольку хронологический характер данного повествования уже был нарушен (да и как могло быть иначе, если ЯБ часто возвращался к задачам, которые интересовали его в далеком прошлом?), я упомяну здесь решение проблемы движения газа под действием кратковременного (импульсного) давления, опубликованное в 1956 г., и теорию образования нового фазового состояния, опубликованную в 1942 г. Эта последняя работа имела фундаментальное значение для кинетики фазовых переходов первого рода (в ней рассматривается флуктуационное образование и последующий рост пузырьков пара в жидкости при отрицательном давлении). Очень существенную часть научного наследия ЯБ составляют теория ударных волн, и, особенно, теория горения и взрыва (воспламенение, распространение пламени, горение пороха и окисление азота, которые трудно отделить друг от друга). В дополнение к 15 работам по этой тематике, включенным в т. I «Избранных трудов», существует ряд монографий.
Кинетика химических реакций (в частности, теория цепных реакций), распространение пламени как волн горения, влияние различных факторов (границ раздела сред» температуры и др.) охватывает огромную область, особенно если учесть различные побочные и прикладные задачи. Несмотря на мое искреннее желание прокомментировать результаты, полученные ЯБ в этой области, становится очевидным, что я не смогу уложиться в несколько страниц.
Чтобы сделать это, необходима если не монография, то, по крайней мере, большая обзорная статья. Поэтому, с большой неохотой я должен ограничить себя перечислением фактов и высказыванием определенных оценок. Насколько мне известно, вклад ЯБ в теорию горения и детонации намного превосходит вклад других ученых. Но если эта оценка является неизбежно субъективной, не должно быть и тени сомнения в том, что все эти исследования ЯБ гарантировали ему успех в работе над теорией горения пороха (1941–1942 гг.) и цепным делением урана (1939 г. и позже). Понимание характеристик горения пороха послужило основой для создания внутренней баллистики твердотопливных ракет (исследования проводились во время войны и были ориентированы на создание ракетной установки «Катюша»).
Открытие ядерного деления урана (1938–1939) немедленно привлекло внимание Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича. Как писал сам ЯБ: «Открытие деления урана и принципиальной возможности цепных реакций расщепления {354} предопределило судьбу столетия — и мою в том числе». Первая статья ЯБ по этой тематике (написанная совместно с Ю. Б. Харитоном) была направлена в редакцию «Журнала экспериментальной и теоретической физики» 7 октября 1939 г., вторая — 22 октября 1939 г., и третья — 7 марта 1940 г. Харитон и Зельдович даже опубликовали два обзора, посвященные расщеплению ядер и цепной реакции в уране. Вполне понятно, и для этого не требуется дальнейших комментариев, что вторая часть последнего из этих обзоров увидела свет только в 1983 г. Насколько мне известно, эти работы были единственными опубликованными статьями в мире по данной тематике до момента Женевской конференции, которая состоялась в 1955 г. К области курьезов можно отнести тот факт, что работа Харитона и Зельдовича по расщеплению урана считалась «внеплановой», и им приходилось заниматься ею после работы, а иногда и засиживаться до глубокой ночи.
Как уже отмечалось ранее, работа ЯБ над проблемами расщепления урана и цепных реакций в уране, а также теории детонации и ударных волн предопределила заинтересованность ЯБ урановой проблемой. К сожалению, все, что мы знаем официально об этой работе, — это то, что он был награжден (см. выше). После истечения более чем 50-летнего срока вся эта деятельность до сих пор считается «закрытой темой». Я хотел бы верить, что радикальные изменения, которые произошли в нашей стране, и, в частности, изменения, касающиеся гласности, положат конец этой анекдотической ситуации. На сегодняшний день, к тому, что уже было сказано, я, к сожалению, не могу добавить ничего более конкретного о работе ЯБ в области развития новых технологий (как это называется на официальном языке).
Исследования в области расщепления урана и связанные с этим задачи естественным образом привлекли внимание ЯБ к ядерной физике и теории элементарных частиц, или, как это называется сегодня, физике высоких энергий. (Трудно сказать, является ли эта терминология уместной здесь; большинство изучаемых частиц не являются элементарными, но исследование всех этих частиц и их взаимодействий также не является монополией физики высоких энергий.)
В области ядерной физики, помимо работ, напрямую связанных с расщеплением ядер, вспоминается метод удерживания: («хранения») очень медленных нейтронов, предложенный ЯБ в 1959 г. Суть заключается в полном внутреннем отражении нейтронов от конденсированных сред (например, графитовых блоков, образующих замкнутую полость). Идея ЯБ используется и сегодня, в частности, при измерении электрического дипольного момента нейтронов. В 1960 г. ЯБ исследовал возможность существования ядер с относительно большим временем жизни и большим изотопическим спином, а также границ стабильности легких ядер, связанных с ядерной эмиссией. Была продемонстрирована возможность наблюдения изотопа 8Не. (Вскоре этот изотоп был действительно открыт.) Результаты этих исследований, а также гипотезу о возможном существовании ядра (изомера) с квантовым вихрем вдоль оси ядра, можно найти во втором томе «Избранных трудов». {355}
В 1952 и 1953 гг. Зельдович анализировал законы сохранения барионного и лептонного зарядов. Как видно из комментариев к этим работам, аналогичные результаты были получены и другими авторами приблизительно в то же время и, естественно, независимо. Однако, это не меняет нашего вывода о том, что, будучи вовлеченным в физику элементарных частиц, ЯБ, как всегда, сразу же добился успеха в решении задач принципиальной важности и оказался в гуще событий. Во втором томе избранных трудов имеется 16 работ, посвященных теории элементарных частиц и связанным с нею задачам (в разделах, озаглавленных «Теория элементарных частиц» и «Атомная физика и излучение»). Ссылки включают 76 работ по данной тематике (некоторые, конечно, с соавторами). Для того, чтобы опубликовать все работы Я. Б. Зельдовича, потребуется множество томов. Достаточно сказать, что в избранных работах в первом томе имеются ссылки на 19 монографий (включая две диссертации) и 156 публикаций в журналах и собраниях статей, и т.д.; во втором томе — ссылки на 14 других монографий и учебников и еще 296 статей.
Весь этот материал, естественно, включает работы, тесно связанные по содержанию и предмету исследований. Еще одной характерной особенностью является разнообразие рассмотренных вопросов. Несомненно, что это в некотором роде отражает стиль ЯБ. Заинтересовавшись проблемой или услышав что-то интересное, ЯБ часто вносил свой собственный вклад, иногда писал короткую заметку, оставлял свой след и двигался дальше. Подобный стиль деятельности иногда вызывает критику в научных кругах. Маститых авторов часто обвиняют в таком грехе, как, например, попытке максимизировать число своих публикаций. Можно даже не говорить, что подобный упрек в адрес ЯБ, особенно в последние десять лет его жизни, выглядел бы попросту нелепым. Публикуя короткие заметки, он мог бы только подогреть подобную критику, а не увеличить свою славу. К сожалению, я никогда не обсуждал эту тему с ЯБ, однако, я уверен в том, что он действовал в соответствии с очень простым Мотивом — если что-то представлялось ему интересным, пусть даже маленькое замечание, то он хотел поделиться этим с другими, кому, как ему казалось, это тоже могло бы быть интересным. Ни в коей мере не сравнивая себя с ЯБ, при аналогичных обстоятельствах я бы относился к вопросу о публикации точно так же. Я уверен, что потребность публиковаться, вопрос принятия решения — публиковать или нет, — все это есть стиль или, если вам так нравится, форма научной деятельности. Само собой разумеется, что вклад человека в науку определяется не количеством публикаций, а их качеством и содержанием.
Я сделал это отступление, поскольку осознаю, что просто не в состоянии перечислить здесь все результаты, полученные ЯБ. Что касается физики элементарных частиц, я ограничусь работами, посвященными слабым взаимодействиям (теория β-распада). Так, в 1955 г. С. С. Герштейн и Я. Б. Зельдович впервые сформулировали важную идею о том, что векторный адронный ток при слабых взаимодействиях должен сохраняться, в результате чего эффективная векторная константа при β-распаде нейтрона не меняется под влиянием эффектов виртуальных сильных взаимодействий. Позднее (в 1958 г.) Р. Фейнман и М. Гелл-Манн пришли к этому важному результату в своей {356} теории универсального слабого V-A взаимодействия (сначала Фейнман и Гелл-Манн не знали о работе Герштейна и Зельдовича, но позднее Гелл-Манн ссылался на нее). В 1959 г. ЯБ изложил очень важную пионерскую гипотезу о существовании нейтральных токов, нарушающих сохранение пространственной четности. В этой работе также было показано, что нарушение четности при слабых взаимодействиях должно приводить к повороту плоскости поляризации света в среде, не содержащей оптически активных молекул (в обычном смысле). Как известно, наблюдение этого элегантного эффекта произошло позже.
Также следует отметить замечание ЯБ, сделанное в 1957 г., когда он, очевидно, впервые предложил рассмотреть возможность существования ана-польного момента (как он называл его). Сейчас обычно называют этот момент тороидальным, и в классической электродинамике наличие такого момента объяснить очень просто. Представим себе соленоид с текущим по нему постоянным током и придадим соленоиду форму тора. Тогда, если соленоид не заряжен, он не будет обладать каким-либо электрическим мультипольным моментом. Далее, если азимутальный ток в тороидальном-соленоиде равен нулю (этого можно добиться при помощи двойной обмотки), то дипольный магнитный момент отсутствует. Но внутри соленоида магнитное поле не равно нулю и это поле будет взаимодействовать с током, проходящим через соленоид. (Для этого ЯБ предложил поместить тор, например, в электролит, который проводит ток.) Такой тор имеет также тороидальный момент. У тора малого размера это будет тороидальный дипольный момент.
Переход от оптической к всеволновой астрономии, концепция нейтринной астрономии и гравитационно-волновой астрономии — все это явилось результатом плодотворного послевоенного периода второй половины двадцатого века. Часто говорят о второй астрономической революции (первая ассоциируется с именами Коперника и Галилея). Было бы излишним обсуждать здесь основу этой терминологии, гораздо более актуально обсудить суть поистине революционных изменений, произошедших в астрономии (включая, конечно, астрофизику и космологию), которые явились следствием открытий квазаров, пульсаров, реликтового (теплового) микроволнового излучения, рентгеновских звезд, космических мазеров и др.
В начале 60-х годов ЯБ, с его энергичной реакцией на все новое и важное, со всей очевидностью ощутил, что он идеально подходит для работы в области новой астрономии. Опыт ЯБ в области исследования процессов гидродинамики и взрыва, теории элементарных частиц и др. был, несомненно, бесценен. В заключительный период своей жизни ЯБ сделал решительный выбор в пользу астрономии. При попытке охарактеризовать его исследования в этой области мы опять столкнемся с неоднократно упомянутой трудностью: существует столь много материала, что эти заметки попросту не смогут его вместить. Общее впечатление, хотя и поверхностное, можно получить, ознакомившись с содержанием разделов во второй части тома II {357} «Избранных трудов» под общим заголовком «Астрофизика и космология», где список литературы включает 17 разделов. Есть разделы по элементарным частицам и космологии (25 статей); общей теории относительности и астрофизике (38 статей); нейтронным звездам и черным дырам, аккреции (30 статей); взаимодействию вещества и излучения во Вселенной (16 статей); формированию крупномасштабной структуры Вселенной (44 статьи); наблюдаемым эффектам в космологии (15 статей). Ясно, что мы можем остановиться только на небольшом числе результатов и конкретных примеров.
В 1966 г. Я. Б. Зельдович и С. С. Герштейн рассмотрели вопрос об ограничении на массу покоя нейтрино на основании космологических подходов (концептуально этой работе предшествовала работа Я. Б. Зельдовича и Я. А. Смородинекого, опубликованная в 1961 г.). Полученное ограничение на массу мюонного нейтрино, m0(νμ) < 400 эВ, было на несколько порядков ниже ограничения, полученного из лабораторных данных. Аналогичное ограничение было получено для массы электронного нейтрино, в тот момент оно было несколько выше величины, вытекающей из лабораторных данных. Важным было то, что космологические вычисления накладывали ограничение сверху на сумму масс покоя нейтрино всех возможных типов и, в особенности, на сумму масс слабовзаимодействующих частиц всех сортов. Сегодня эта концепция является важной частью физики и астрономии.
В 1967 г. ЯБ переключил свое внимание на оценку космологической константы Λ, впервые введенной в 1917 г, Эйнштейном в общей теории относительности. Как известно» в настоящее время Λ-член играет исключительно важную роль в космологии (и применяется при описании самых ранних инфляционных стадий эволюции в космологических моделях). ЯБ понимал (об этом не было широко известно), что введение Λ было эквивалентно предположению о существовании вакуумной энергии с плотностью ε0 = Λ4/8πG и отрицательным давлением р0 = –ε0. В этой работе было показано, что оценки константы Λ, вытекающие из теории элементарных частиц, превышают значение величины Λ, полученное из наблюдательных данных, на много порядков. (Насколько я знаю, это было сделано ранее, но ЯБ не знал об этом.) Проблема константы Λ и причины ее малости до сих пор остаются в центре внимания.
В связи с этой работой я рискну сделать следующее замечание. После того, как в 1922 и 1924 гг. А. А. Фридман получил нестационарные решения уравнений общей теории относительности для изотропных и однородных космологических моделей, Λ-член впал в немилость. Сам Эйнштейн заявлял, что введение им Λ было почти ошибкой. Ландау и, наверное, многие другие высказывались против возможности или, что более точно, против уместности введения Λ. Действительно, все известные мне аргументы, касающиеся этого вопроса, можно назвать эстетическими — введение Эйнштейном Λ в уравнения гравитации не было обязательным и представлялось излишним усложнением. Эту позицию можно понять. Если при анализе фундаментальных физических проблем в областях, где практически отсутствуют экспериментальные данные, не руководствоваться принципами простоты и минимума предположений, то движение вперед является крайне затруднительным. Но лично для меня введение Λ в уравнения общей теории относительности {358} выглядит настолько натуральным и существенно недвусмысленным (это замечание уже не усилишь), что меня можно назвать «сторонником» Λ. Я помню, как спорил по этому вопросу с ЯБ, зная, что он бывает иногда достаточно агрессивен в своем неприятии некоторых гипотез (но в большей степени это был его стиль, в духе Ландау). Но когда возникло первое указание на то, что Λ играет, пусть и гипотетически, реальную роль (из наблюдений красного смещения линий поглощения в спектре квазаров), ЯБ немедленно обратился к этому вопросу. Это демонстрировало его гибкость, отсутствие предубежденности и способность быстро менять свое мнение при столкновении с новыми фактами или даже намеком на новые факты из предварительных данных наблюдения. Курьезно, ио такая черта и быстрое изменение мнения — частенько говорит не в пользу человека. Иногда, конечно, такие упреки являются заслуженными, но это, в целом, не применимо ни к физике, ни, я полагаю, к науке вообще.
В своем послесловии ко второму тому «Избранных трудов» ЯБ сам утверждает, что в области астрофизики самой значимой из его индивидуальных работ является нелинейная теория формирования структуры Вселенной или, как это теперь называется, «блинная теория». ЯБ посвятил ряд работ этой важной проблеме, некоторые из них написаны совместно с коллегами; первая его работа по этой тематике была опубликована в 1970 г.
Здесь необходимо добавить несколько слов о других важных направлениях исследований ЯБ в области астрономии. Он уделял огромное внимание проблеме диффузии излучения в горячем межзвездном и межгалактическом газе. Одним из «плодов» этих исследований является эффект Зельдовича-Сюняева (1970 г. и позже), который заключается в понижении температуры реликтового радиочастотного излучения, проходящего сквозь газ в скоплениях галактик. Далее, нельзя упустить из виду элегантное замечание ЯБ, сделанное в 1962 г. и относящееся к возможности превращения тела любой массы при достаточном сжатии в черную дыру. Такое утверждение сейчас кажется очевидным, но я отчетливо помню, что для многих из нас в то время вывод ЯБ был совершенно неожиданным. Другие важные замечания и результаты ЯБ содержатся в его статьях (часть из которых написана совместно с И. Д. Новиковым, О. X. Гусейновым и другими) по аккреции вещества на белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Важность этой группы вопросов для рентгеновской астрономии, особенно в случае двойных звезд, сейчас общеизвестна. Также невозможно не вспомнить совместную работу Я. Б. Зельдовича и О. X. Гусейнова, вышедшую в 1966 г., в которой предлагалось (насколько я знаю, впервые) обнаруживать сколлапсировавшие звезды, в частности, черные дыры, по наблюдению за спектрально-двойными звездами.
Наконец, последняя область исследований ЯБ, на которой мы подробно остановимся, — это космология ранней Вселенной, как это теперь иногда называют, имея в виду ранние стадии эволюции в космологических моделях с сингулярностями. В начале своей работы в космологии, до открытия в 1965 г. реликтового излучения (с температурой Т = 3К), ЯБ сделал ошибочный вывод о том, что горячие модели противоречат наблюдениям. В 1962 г. он предложил вариант «холодной» модели. Очень характерно, что эта работа, {359} естественно с согласия ЯБ, включена в сборник его избранных работ, и что в послесловии он самокритично говорит об этой и некоторых других ошибках, подчеркивая, однако, что «не настаивает на своих ошибках». Важность этого уже подчеркивалась. Сразу после открытия реликтового излучения ЯБ не только «признал» горячую модель, но, что более важно, развернул широкий фронт исследований по ее развитию и проверке. Можно сказать, что начало этому положила его программная статья, вышедшая в 1966 г. ЯБ со своими коллегами в последующие годы проделали большой объем работы в этом направлении — я имею в виду различные аспекты горячей модели, рассматриваемой не слишком близко от сингулярности — по прошествии, скажем, нескольких сотен секунд и далее. Но уже давно было известно, что с самой сингулярностью и ее «окрестностями», в частности, с «ближайшими окрестностями», связана особенная загадка, когда общая теория относительности, как классическая теория, переставала работать и возникала необходимость переходить к квантовой гравитации и квантовой космологии, соответственно. Вполне естественно, что квантовая область, а также более поздняя область инфляции, должны были привлечь пристальное внимание ЯБ в последние годы его жизни. Он написал об этом в конце послесловия, и я знаю о двух статьях по этому вопросу, вышедших посмертно. Для меня было бы неуместным пытаться здесь отразить взгляды ЯБ на современное состояние космологии ранней Вселенной — все, что он хотел сказать по этому вопросу, содержится в легкодоступных статьях, написанных им всего за несколько месяцев до смерти. Более того, насколько я могу судить, это не вопрос абсолютно новых идей ЯБ, а вопрос его положительной оценки направления, в котором сейчас развивается космология (инфляция, роль скалярного поля, многомерные обобщения, связь с физикой высоких энергий и т.д.). Как уже упоминалось, ЯБ работал до самого конца своей жизни и был полон энтузиазма, и в первую очередь это относилось к космологии. Но и помимо космологии сфера его научных интересов всегда была крайне широка, поэтому мы никогда не узнаем его самые последние мысли в науке. Вероятно, это к лучшему — ведь жизнь такого человека как Яков Борисович Зельдович не заканчивается с его последней мыслью, а продолжается в его работах и работах его последователей.
Я. Б. Зельдовича наиболее точно можно охарактеризовать как универсального физика-теоретика широкого профиля. Если говорить о недавнем прошлом, то Р. Фейнман, Л. Д. Ландау и несколько других ученых также принадлежат к этой категории, но их число уменьшается. Очевидно, причина этого — колоссальное расширение переднего края физики. Как правило, экспериментаторы давно потеряли возможность работать одновременно, или даже последовательно, в различных областях физики. Единство методов и подходов в теоретической физике делает ситуацию для физиков-теоретиков в этом отношении более благоприятной. Но широта диапазона исследований, выполненных ЯБ, необычна даже для теоретиков разностороннего плана.
Как уже отмечалось, связь ЯБ с экспериментальными исследованиями всегда была его характерной чертой. В начале своей карьеры он сам {360} проводил массу экспериментальных исследований. Другой его сильной стороной было совершенное владение математикой. Математика, конечно же, является языком теоретической физики, но степень владения этим языком сильно различается даже в среде абсолютно квалифицированных физиков-теоретиков. Некоторые из них, используя только стандартные методы, работают вполне успешно, так как физика распространяется за пределы математики. Но во многих областях, в частности, в наиболее новых (квантовая теория поля, теория струн), роль математики и ее последних достижений становится доминирующей. Здесь ЯБ занимает особое место. Не говоря уже о его совершенном владении стандартными математическими методами, он решил ряд задач, не только используя утонченные методы, но и проложив принципиально новые пути. Математик В. И. Арнольд, в специальном разделе вводной статьи в «Избранных трудах» (том I), озаглавленном «Математика в работах Я. Б. Зельдовича» полагает, что некоторые из достижений ЯБ «по существу являются математическими открытиями и стоят в одном ряду с наиболее современными исследованиями математиков». Поскольку я сам отношусь к тем физикам-теоретикам, которые достаточно далеки от современной математики, я не буду пытаться интерпретировать это высказывание (тем более, что подобная интерпретация свелась бы к переписыванию замечаний В. И. Арнольда). Я только хотел бы добавить, что ЯБ написал учебник «Высшая математика для начинающих и ее применение в физике», который много раз переиздавался и переведен на несколько языков. Эта книга является в некоторой степени плодом негативной реакции ЯБ на традиционный университетский курс математики, который перегружен формализмом и совершенно неэффективен с точки зрения быстрого овладения математикой, используемой в физике.
Если научную карьеру ЯБ исчислять от даты его прихода в Институт химической физики (15 мая 1931 г.), то он проработал более 56 лет. Его внезапно сразил обширный инфаркт, и он умер, не приходя в сознание, 2 декабря 1987 г. Все эти 56 лет были годами удивительно интенсивной работы. Но в то же время ЯБ не был трудоголиком. Он высоко ценил спорт (плавание и катание на лыжах), развлечения и художественную литературу и уделял огромное внимание своей большой семье — можно сказать, своей «физической» семье, поскольку большинство в ней — физики. Один из членов семьи, которого я хорошо знаю, — это сын Якова Борисовича, Борис Яковлевич Зельдович, который, как и его отец, — первоклассный физик-теоретик.
В заключение я хочу сказать, что не смог в достаточной степени ни отразить научные заслуги Якова Борисовича Зельдовича, ни рассказать о нем как о человеке. Однако, я полагаю, что вводная статья к «Избранным трудам», автобиографическое послесловие и статьи В. И. Гольданского и А. Д. Сахарова, которые были очень близки к ЯБ, помогут в некоторой степени дополнить картину. Я хотел бы закончить финальными словами Сахарова из некролога Зельдовичу: «Теперь, когда Яков Борисович Зельдович ушел от нас, мы, его друзья и коллеги в науке, понимаем, как много он сделал сам, и как много он давал тем, кто имел счастье разделять с ним жизнь и работу».
| {361} |
Якова Борисовича Зельдовича (ЯБ) я помню с тех самых пор, как помню себя. Наверное, когда мне было года три, он подарил мне плетеную корзинку на колесах, на дне которой лежала «наручная кукла», изображающая белобрысого парня в синем рабочем комбинезоне, штаны которого были заправлены в черные блестящие сапоги. Вдев три пальца одной руки, соответственно, в голову и руки куклы, а два пальца другой — в ее ноги, ЯБ показывал миниатюру, изображающую, как у спящего парня его конечности начинают жить своей собственной жизнью, состязаясь друг с другом в превосходстве. Например, одна нога в сапоге старалась оказаться на другой, затем они все чаще менялись местами, пока не начинали пинать друг друга. Тогда парень в раздражении просыпался и усмирял свои драчливые ноги. Мне очень нравилась эта миниатюра, которую потом я с успехом показывал своим сверстникам.
Десятью годами позже, весной 1953 г., ЯБ вместе с моим дядей Франк-Каменецким Д. А. прилетел во Фрунзе, куда незадолго до этого переехала наша семья из Москвы. ЯБ и ДА, кроме высоких правительственных наград, получили к этому времени удостоверения, дающие их владельцам право внеочередного и свободного (без оплаты) получения билетов на самолеты, в международные вагоны поездов и каюты 1-го класса пароходов, курсирующих на территории СССР. (Аналогичные удостоверения были получены их детьми в возрасте не старше 16 лет и женами. Однако, через несколько лет эти удостоверения были отменены.)
Переночевав в нашем доме, оба физика вместе с моими родителями, взяв такси, поехали вокруг озера Иссык-Куль. Вернувшись через два дня, очень довольные, привезли мне подарки. Физики подарили оптические «приборы»: дядя — бинокль с шестикратным увеличением, ЯБ — фотоаппарат «Любитель», позволяющий получать без использования увеличителя фотографии форматом 6 см × 6 см. На всю жизнь запомнилась короткая лекция ЯБ со схемой хода световых лучей в фотоаппарате и принципами проявления черно-белой и цветной пленки (в 1953 г. цветная фотография на любительском уровне только-только стала появляться в СССР). Как все впервые увиденное и услышанное оставляет наиболее сильное впечатление, так и первая в моей жизни лекция по физике (и частично — по химии) не могли в дальнейшем совсем не «сработать», скажем, при выборе будущей профессии. В этой же лекции ЯБ коснулся и принципов цветного зрения. Пожалуй, основной «сухой остаток» от лекции ЯБ состоял не в получении каких-то конкретных знаний (хотя, и в этом тоже), а в неожиданном для меня открытии множества окружающих предметов и явлений, разъяснение сути которых оказалось необычайно простым и могло быть получено путем собственных размышлений не в меньшей степени, чем при чтении книг. К таковым относился, например, поразивший меня факт, что на сетчатке глаза мы видим изображение, перевернутое вверх ногами «так же как в фокальной {362} плоскости объектива фотоаппарата», и только в результате его последующей обработки мы видим его вновь повернутым «как надо».
Следующие 15 лет я не видел ЯБ, хотя, постоянно общаясь с Франк-Каменецкими, был в курсе основных «поворотов» в его жизни, например, в его окончательном переезде из «ящика» в Москву и образовании им отдела в Институте прикладной математики (ИПМ). Работая в Институте ядерной физики с 1962 г. в Новосибирском академгородке и оказавшись в Москве, я позвонил ЯБ с предложением выступить на его семинаре с докладом об устойчивости гравитирующих сжимаемых фигур вращения. Поскольку моя фамилия относится к весьма распространенным и место работы — Новосибирск — довольно удалено от Москвы и Ленинграда, где жили мои родственники, и от Фрунзе, где жили мои родители, у ЯБ не возникло никаких ассоциаций со знакомым ему когда-то мальчишкой Аликом Фридманом. Как мне показалось, доклад заинтересовал ЯВ, возможно, поскольку удалось несколько продвинуться в теории устойчивости фигур вращения, где я постарался использовать методы, развитые в физике плазмы. Последней я тогда уже занимался в течение нескольких лет. Теория неустойчивости гравитирующих систем оказалась намного сложнее, чем теория неустойчивости плазмы. Это связано с тем, что теория неустойчивости плазмы развивалась от задач, касающихся однородной плазмы, к более трудным задачам неоднородной плазмы. Если в однородной плазме мы смогли исследовать важнейшие физические механизмы различных неустойчивостей, то равновесные однородные вращающиеся гравитирующие системы попросту не существуют (кроме вращающегося цилиндра с бесконечной образующей, не имеющего прямого астрофизического приложения к объектам Метагалактики). Поэтому уже для определения равновесия приходилось решать нетривиальные краевые задачи, не говоря уже об устойчивости сложных неоднородных систем. Неудивительно, что первые робкие попытки исследования устойчивости сжимаемых гравитирующих систем, которые к тому времени встречались в литературе, оказывались не вполне удачными. Ошибки были двух видов: либо вследствие некорректного учета равновесия, либо некорректного исследования устойчивости в неоднородных гравитирующих системах. Я рассказал на семинаре результаты решения мною нескольких задач по устойчивости основных фигур вращения (шар, цилиндр, диск) для звездных систем (т.е. сильно сжимаемых — бесстол кновительных), которые сейчас уже вошли в известные и широко цитируемые монографии.
После семинара ЯБ попросил позвонить ему на следующий день довольно рано, что я и сделал. Заканчивая чисто научный разговор, ЯБ вдруг спросил:
— Вы где остановились?
— У Франк-Каменецких.
— Значит, уведете их младшую дочь Машу, как старшую Тэму увел Роальд Сагдеев?
За завтраком я рассказал об этом разговоре под общий хохот моих родственников. В тот же день, встретившись со мной в ИПМ, ЯБ казался смущенным, каким я его видел крайне редко: «А Вы, оказывается, тот самый Алик Фридман — я Вас не отождествил...» {363}
С тех пор, регулярно встречаясь с ЯБ либо в каждый из моих приездов в Москву, либо где-нибудь на конференциях, я постоянно ощущал его теплое отношение. В марте 1987 г., будучи на школе по нелинейной физике в Нижнем Новгороде, ЯБ, обращаясь к Инне (его последней жене — близкой подруге моей двоюродной сестры Маши Франк-Каменецкой) сказал: «Алик для нас почти как родственник».
Девятью месяцами позже наступил страшный день 2 декабря 1987 г. Ранним утром этого дня я узнал, что ночью у Якова Борисовича случился обширный инфаркт, и он лежит в академической больнице. Я позвонил в ИКИ Рашиду Сюняеву. Его секретарша Лора, поняв по моему тону, что Рашид требуется немедленно, побежала его искать. Через несколько минут запыхавшемуся Рашиду я кратко изложил суть.
«Я могу дежурить у палаты сколько угодно, — сказал потрясенный Рашид. — Чем я еще могу помочь?»
Мы не понимали в тот момент, что уже ничем нельзя помочь столь любимому нами человеку. Через 1,5 часа я позвонил по домашнему телефону ЯБ и, услышав голос соседа ЯБ по дому академика В. И. Гольданского, понял, что все кончено. Пообещав плачущей Инне как можно скорее привезти Машу Франк-Каменецкую, я не очень понимал, почему столь грубо остановил меня милицейский патруль, требуя водительские права. Показав мне на приборе определителя скорости цифру 120 км/час — так я гнал машину по узкой улице у дома Маши — он сообщил, что своих водительских прав я больше не увижу. Действительно, водительского удостоверения я не имею и по сей день, и машину при необходимости водит моя жена.
Трудно переоценить роль, которую сыграл ЯБ в моем становлении как специалиста в физике гравитирующих систем. Однако, если последнее относится лишь к биографии одного человека и мало кого может заинтересовать, то выдающийся вклад ЯБ в становление современной физики гравитирующих систем как раздела науки, стоящей на стыке физики и астрофизики, представляет куда более широкий интерес, как для истории науки, так и для громадного числа почитателей одного из последних блистательных энциклопедистов в области физики. Вклад ЯБ в становление гравифизики мне и хотелось проиллюстрировать здесь на нескольких примерах.
Осенью 1964 г. ЯБ обратил внимание своих учеников на статью Alar Toomre, в которой был получен критерий устойчивости звездного галактического диска относительно коротковолновых радиальных возмущений, расщепляющих диск на узкие колечки. Радиальные возмущения представлялись автором в виде коротких монохроматических волн. Для более ясного понимания физики неустойчивости предстояло решить следующий вопрос: как изменяется критерий устойчивости для радиальных возмущений общего вида? Для решения этого вопроса я предложил использовать вариационный метод, разработанный Лундквистом для обычной гидродинамики и Кадомцевым для магнитной гидродинамики и физики плазмы. Этот вариационный принцип до сих пор применялся лишь для покоящихся систем. Следовало обобщить его на случай вращающегося самогравитируюшего диска. По истечении нескольких месяцев это удалось сделать. {364}
Затем совместно с ЯБ и его учеником Бисноватым-Коганом мы рассмотрели устойчивость относительно радиальных возмущений еще двух типов звездных систем: аксиально-симметричной фигуры вращения — цилиндра и сферически-симметричной — шара. В результате было сформулировано следующее утверждение об устойчивости бесстолкновительных звездных систем, обладающих аксиальной или сферической симметриями, относительно радиальных возмущений: система является локально устойчивой на данном радиусе, если действующая на этом радиусе сила притяжения зависит только от внутренней по отношению к этому радиусу гравитационной массы.
Согласно этому критерию сферические и цилиндрические бесстолкнови-тельные гравитирующие системы оказываются устойчивыми относительно радиальных возмущений, а диски — неустойчивыми.
Среди различных фигур вращения Зельдович выделял сферические системы. Из последних его особенно интересовала сферическая система гравитирующих масс, предложенная в 1939 г. Эйнштейном в качестве потенциального носителя большого красного смещения. Впоследствии мы стали называть эту сферическую систему моделью Эйнштейна шарового скопления звезд. Название не совсем удачное, поскольку в реальных шаровых скоплениях орбиты звезд, в отличие от Эйнштейновской модели, не являются круговыми. Предложенное Эйнштейном скопление звезд состоит из набора вложенных друг в друга сфер (наподобие русской матрешки), по которым движутся звезды по чисто круговым траекториям. При этом распределение векторов скоростей в любой плоскости, касательной к какой-либо сфере в ее произвольной точке, изотропно по углам. Следовательно, момент вращения каждой сферы равен нулю, а значит, равен нулю и общий момент вращения всей сферической системы звезд. Такая система может обладать сколь угодно большой массой: сила притяжения уравновешивается центробежной силой, возникающей из-за вращения звезды. Следовательно, такое шаровое скопление звезд может обладать большим гравитационным смещением, что крайне привлекало Зельдовича в связи с недавним открытием квазаров.
Устойчивость шара (а также вращающегося цилиндра) относительно радиальных возмущений, при которых не происходит пересечений слоев, очевидна, так как при этом каждая частица (звезда) движется в поле постоянной массы. При радиальных возмущениях момент вращения частицы сохраняется, ее стационарное состояние соответствует минимуму энергии (задача Кеплера) и поэтому устойчиво. Но это одновременно означает и устойчивость системы как целого (для возмущений рассматриваемого типа), поскольку отдельные слои колеблются независимо от остальных.
При наличии пересечений слоев устойчивость шара относительно радиальных возмущений «a priori» не очевидна. Положение усугублялось тем, что Зельдович показал неизбежное возникновение со временем пересечения слоев при любом малом начальном возмущении. Последнее, по его мнению, должно приводить к неустойчивости системы.
Мои аналитические расчеты, однако, показали обратное: действительно неизбежное со временем пересечение слоев приводит не к неустойчивости, а к дополнительной стабилизации. Другими словами, при наличии радиальных {365} возмущений система с пересечениями слоев оказывается более устойчивой, нежели та же система в отсутствие пересечений.
Возникший научный спор с Зельдовичем привел к заключению пари на символический приз — бутылку минеральной воды. Мне было предложено приехать на следующий день домой к Зельдовичу к 6 часам утра для окончательного выяснения «быть или не быть» неустойчивости при пересечении.
Ровно в 6 утра на мой звонок он открывает дверь и с порога сообщает: «Я посыпаю свою голову пеплом — сегодня же в шкафу ИПМ будет стоять бутылка минеральной с надписью, за что она мною проиграна». Бутылка с соответствующей надписью действительно появилась.
Неизмеримо более сложным оказалось выяснение вопроса об устойчивости модели Эйнштейна шарового скопления звезд относительно произвольных (не только радиальных) возмущений. И вот здесь решающим оказалось совершенно гениальное предсказание Зельдовичем самого критерия устойчивости. Написав такое «сильное» определение к слову «предсказание», сознаю, что шокирую этим читателя, однако ниже будет видно, что такое определение, как мне кажется, достаточно адекватно отражает суть последующих событий.
Прежде всего заметим, что без доказательства устойчивости относительно произвольных возмущений модели Эйнштейна, последняя не может быть использована в качестве модели какой-либо реальной системы с большим красным смещением. Это прекрасно понимал Эйнштейн, обратив внимание на то, что вопрос об устойчивости его модели остается проблематичным. Причину, по которой Эйнштейну не удалось решить задачу об устойчивости его модели, мы поняли только летом 1968 г., работая над этой проблемой совместно с Р.З. Сагдеевым и Г. С. Бисноватым-Коганом. Тогда мы увидели, что собственными функциями рассматриваемой системы являются обобщенные функции, с которыми Эйнштейн никогда не работал. Несколько лет спустя, получив вместе с А. Б. Михайловским и Я. Г. Эпельбаумом точное решение задачи Эйнштейна с помощью представления произвольного возмущения в виде ряда по δ-функции и ее производным и используя также некоторые групповые свойства дифференциальных уравнений, я стал понимать истинный уровень сложности этой задачи. Во всяком случае, именно по поводу этой работы М. А. Леонтович сказал А. Б. Михайловскому: «Анатолий Борисович, это — Ваша лучшая работа!».
Однако, вернемся к лету 1968 г. Тогда мы трое совместно с Сагдеевым и Бисноватым-Коганом не знали ответа этой задачи и даже, возможно, не до конца понимали всю ее сложность. Тем не менее, мы имели «ключ» к получению точного критерия устойчивости модели Эйнштейна относительно произвольных возмущений. Этим волшебным ключом явилось следующее «заклинание» Зельдовича (тогда никак иначе его уникальное прозрение мы назвать не могли): «Критерий устойчивости модели Эйнштейна тождественно совпадает с критерием устойчивости двух вложенных друг в друга бесстолкновительных самогравитирующих цилиндров, вращающихся вокруг совмещенных осей в противоположные стороны». Последняя задача, несравненно более легкая нежели исходная, была решена нами в течение августа 1968 г. Ее ответ состоял в следующем: система устойчива, если угловая скорость вращения не растет с радиусом. {366}
Из условия равновесия это означало, что система, в которой плотность не растет с радиусом, должна быть устойчивой. Поскольку у всех известных нам тогда звездных систем плотность падала к краю, полученный критерий означал устойчивость модели Эйнштейна шарового скопления звезд относительно произвольных возмущений.
Несколько позднее при работе совместно с В. Л. Поляченко стало понятно, что звездные скопления с радиальным участком растущей к периферии плотности реально могут существовать. Это — звездные скопления, окружающие массивные черные дыры в центрах галактик. Плотность этих скоплений при приближении к центру растет. Однако в области Роша черной дыры приливные силы должны разрушать звезды, и их плазма должна аккрецировать на черную дыру. Таким образом, в окрестности массивной черной дыры должно существовать инверсное распределение плотности звезд, ведущее к неустойчивости согласно нашему критерию (см. Fridman, Polyachenko. Physics of gravitating systems, V.2. Springer Verlag, 1984).
Однако тогда для нас — Сагдеева, Бисноватого-Когана и меня — соавторов Зельдовича по статье, вышедшей в 1969 г., сам критерий устойчивости двух вращающихся цилиндров казался несколько странным. Действительно, из этого критерия получалось, что два однородных по плотности и вращающихся в противоположные стороны самогравитирующнх цилиндра должны быть устойчивыми. Но рассматриваемая нами система аналогична двум противоположным потокам заряженных частиц, которая, как нам хорошо известно из физики плазмы, должна быть неустойчива. Впрочем, мы видели, что в этом случае при азимутальной моде m = 2 система оказывается на границе устойчивости: одна из собственных частот при m = 2 обращается в нуль. Это дало нам возможность указать причину, подтвердившуюся впоследствии, почему большинство спиральных галактик имеют именно два рукава.
Парадокс об устойчивости системы двух самогравитирующнх и противоположно вращающихся однородных цилиндров также разрешил Зельдович. Не вдаваясь в детали, заметим только, что его разрешение парадокса касалось только гидродинамической пучковой неустойчивости. Кинетическая пучковая неустойчивость оказалась возможной и при наличии однородных плотностей, как это и наблюдается в плазме.
Таким образом, в теории гравитирующих систем была открыта пучково-градиентная гидродинамическая неустойчивость. Полученный впоследствии критерий устойчивости модели Эйнштейна, исходя из точного решения, оказался тождественно совпадающим с критерием устойчивости системы двух вложенных противоположно вращающихся цилиндров. Предсказание Зельдовича полностью подтвердилось.
С тех пор прошло более 35 лет. Для такой быстро развивающейся науки, как гравифизика (термин, представляющий собой краткое название физики гравитирующих систем, принятый Зельдовичем после некоторых дискуссий), это — громадный срок. За это время написаны тысячи статей и десятки объемных монографий (некоторые по 600–800 страниц каждая). {367}
Полноводной рекой течет современная гравифизика. Не разглядеть уже детали на ее противоположном берегу» не докричаться до стоящих по ту сторону этого могучего потока. А истоки его составляют всего лишь несколько небольших ключей. Об одном из них я и попытался здесь рассказать, чтобы напомнить о человеке, стоящем у истоков этой рукотворной реки. Общение с ним всегда воспринималось мною как праздник Жизни. Его имя — Яков Борисович Зельдович.
В течение нескольких лет после полета Аполлона–11, я часто посещал Советский Союз и затем был членом делегации США, работавшей в рамках двустороннего американо-советского сотрудничества в космосе. Существовала также возможность поездок по обмену согласно договоренности между Мстиславом Келдышем и Гарольдом Брауном, принятой после первого посещения США президентом Академи наук СССР.
В то время взаимоотношения между нашими странами были весьма сдержанные, поскольку существовало огромное расхождение в политических взглядах, проявлявшееся в виде недоверия и напряженности даже в личных отношениях и контактах. Я встречался со многими руководителями научных подразделений, управленцами и учеными всех уровней, и хотя почти всегда имелись значительные формальные барьеры, все же иногда удавалось прорваться сквозь них и поговорить друг с другом как нормальные люди и коллеги. Обычно это удавалось во время прогулок, когда мы уходили подальше от всех. Большинство заседаний носило крайне формальный характер и представляло собой сидение за длинными столами, покрытыми зеленым сукном и уставленными бутылочками с водой и пепельницами.
У меня сложилось впечатление, что русские ученые, с которыми я встречался, более глубоко понимали теоретические приложения своей работы, чем многие их коллеги в США. Недостаток экспериментального оборудования и компьютерной техники, казалось, стимулировал более глубокое понимание проблем. Может быть, как говорится, «не всегда хорошо, когда все слишком хорошо»!
Это была эпоха «дела» Сахарова и многих других проблем, отражавших время «холодной войны», но явное «потепление» чувствовалось в некоторых областях науки, где, казалось, в интересах обеих наций настало время для «оттепели» в отношениях. Возможным стал даже приезд в США Петра Капицы. Он провел некоторое время в лаборатории «Lunatic Asylum», посетил производственные помещения, беседовал и осматривал лунные образцы.
Позднее он пригласил меня с семьей посетить его Институт и зайти к нему в гости. Мы часто говорили о Дон Кихоте, в некотором роде мы оба были его поклонниками.
Наиболее часто мои встречи, как члена двусторонней рабочей группы, проходили либо в Институте Космических Исследований (ИКИ), директором
| {368} |
 |
Медаль им. Я. Б. Зельдовича, учрежденная COS PAR в 1995 г. за работы по астрофизике и космологии |
которого был Роальд Сагдеев, либо в Институте Вернадского, где директором в то время был Александр Виноградов, а затем — Валерий Барсуков. Эти встречи приводили к налаживанию личных и деловых контактов с учеными всех уровней. Это были очень талантливые и знающие люди.
Роальд Сагдеев — прекрасный ученый и подлинный интеллектуальный лидер — был руководителем научной космической программы Советского Союза. Он старался навести мосты через бушующие потоки, которые, казалось, затихали, но оставались опасными. Роальд Сагдеев познакомил меня с выдающимися советскими учеными, среди которых был Иосиф Шкловский. Когда я в последний раз его видел, он щеголял в новой модной кожаной куртке, которую купил, когда ему наконец-то позволили выехать за рубеж.
Наконец, обстоятельства сложились так, что на особых совещаниях меня познакомили с Яковом Зельдовичем. Эти совещания ясно показывали, что нам стараются представить лучшие умы элиты, драгоценные камни в интеллектуальной короне Советского Союза, личности высочайшего уровня научных способностей и достижений. Естественно, я слышал о великом Зельдовиче от Кипа Торна и других коллег. На одном из заседаний COSPAR Зельдович сделал доклад по космологическим проблемам, который произвел на всех сильное впечатление. Качество и глубина его доклада были потрясающими. При следующей встрече с ним на заседании, которое было организовано Роальдом Сагдеевым и носило научно-политический характер, у меня сложилось впечатление о нем, как о физически крепком, уравновешенном и бескомпромиссном человеке, личности, целиком посвятившей себя науке и глубинному пониманию законов природы. В нем не было ни малейшего оттенка управленца или манипулятора, никакой показной зрелищности.
Зельдович был всеми признанным эрудитом, но ощущение его интеллектуальной мощи исходило из его способности чувствовать научные проблемы принципиального значения и его умения направлять свои усилия на решение этих проблем. Конечно же, это делалось с соответствующей твердой убежденностью в успехе и сопровождалось неизменным успехом. {369}
Его бывшие студенты (включая эмигрировавших в США) говорят об ауре творчества и порядочности, исходившей от него. Даже те из них, кто недолго общался с Яковом Зельдовичем, были озарены опытом этого общения. Он был Человеком с большой буквы.
Я не знаю никого в моем окружении, кого я мог бы назвать Человеком с большой буквы, чрезвычайно уважаемым и даже достойным восхищения.
Дик Фейнман был совершенно не похож на Зельдовича. Он был «Человеком» в Калифорнийском технологическом институте. Когда Дик был серьезно болен, я частенько навещал его. Однажды, когда мы сидели в саду, зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал голос Зельдовича. Он хотел поговорить с Диком и выразить ему свое уважение. Телефон находился рядом со столовой, где стояла прекрасная большая модель тройки, запряженной лошадьми, — сувенир ручной работы, полученный из России много лет назад.
В многоликой веренице ученых, научных лидеров и организаторов науки, с которыми мне довелось встречаться и работать, есть одна маленькая группа, которая притягивает меня. Она состоит из личностей, которые действительно хотят заниматься наукой и не могут без этого жить. Творческое занятие наукой придает им силы. Никакие другие загадки и игры не могут отвлечь их от попыток подлинного изучения законов природы. Яков Зельдович был одним из таких редких и одаренных людей.
Июнь месяц 1971 г., Москва, комфортабельные апартаменты на улице Вавилова рядом с Октябрьской площадью, куда Яков Борисович Зельдович устроил меня на шесть недель. В 7.00 утра я был разбужен телефонным звонком Зельдовича: «Приходите ко мне домой, Кип! У меня новая идея о вращении черных дыр!». Зная, что кофе, чай, пирожки с мясом будут ждать меня, я умылся холодной водой, оделся, схватил свой дипломат, пролетел 5 пролетов лестницы, выскочил на улицу, вскочил в битком набитый троллейбус и вышел около дома №2 Б по Воробьевскому шоссе на Ленинских горах. Следующий дом — №4 — резиденция Косыгина» Премьера СССР, второго по значимости человека после Брежнева в Советском Союзе. Я прошел через открытые ворота в заборе восьми футов высотой и оказался в просторном утопающем в зелени дворике, в середине которого стояли массивные приземистые дом №2 Б и его близнец — дом №2 А, стены которых были покрыты облезающей желтой краской. Зельдович жил в одной из шести квартир, в юго-западной четверти третьего этажа. В городе, где, как правило, две, три или больше семей делили квартиру в 700 квадратных футов с одной общей кухней и одной ванной, Зельдович с женой имели в личном пользовании 1500 квадратных футов — награда за его огромный вклад в советскую ядерную мощь. {370}
Зельдович с теплой улыбкой встретил меня у двери. Я снял туфли, надел домашние тапочки из тумбочки при входе и последовал за ним в несколько запущенную, но комфортабельную столовую с кушеткой, стульями и небольшой, в 2 квадратных фута, доской на одной из стен. Напротив доски была карта мира с цветными точками, показывающими, куда Зельдович был приглашен (Лондон, Принстон, Пекин, Бомбей...) и куда советское правительство не пускало его, как обладателя ядерных секретов. Зельдович посадил меня к длинному обеденному столу в центре комнаты, и начал рисовать эскиз на доске. Его глаза искрились. «Предположим, у нас имеется быстро вращающийся металлический цилиндр, размером в несколько сантиметров, — сказал он1), — И предположим, что налетающие электромагнитные волны с длиной волны порядка сантиметра или около того падают на поверхность цилиндра. Переменное электрическое поле, переносимое волнами, будет индуцировать электрические токи на поверхности металла, и эти токи будут излучать свои собственные волны. Это называется стимулированным излучением, поскольку налетающие волны стимулируют излучение новых волн цилиндром».
«Если цилиндр вращается достаточно быстро, и налетающие волны соответствующим образом поляризованы, — утверждал Зельдович, — то стимулированные волны будут исходить от цилиндра с фазой, совпадающей с фазой налетающих волн, взаимно усиливая друг друга. Энергия исходящей волны будет больше энергии налетающей; падающие волны будут усиливаться за счет вращения цилиндра. Это очевидно», — заявил Зельдович (это было далеко не очевидно мне, но я должен был положиться на интуицию Зельдовича; конечно, я мог проверить это сам дома вечером).
«Откуда возникает дополнительная энергия? — риторически вопрошал Зельдович, — из энергии вращения цилиндра. Токи, взаимодействуя с входящими волнами, производящими их, немного замедляют вращение цилиндра; кинетическая энергия — это энергия вращающегося цилиндра; часть ее нагревает цилиндр, другая тратится на излучаемые волны». (Это казалось возможным, но не очевидным, и я также собирался все объяснения Зельдовича вечером проверить.)
«Это очень общее явление, — продолжал Зельдович. — Любого типа волны, падающие на любой вращающийся объект, могут давать стимулированное излучение, и в результате волны усиливаются. Такой эффект должен иметь место и для черной дыры: пошлем электромагнитные волны, или гравитационные волны, или волны любого другого типа к черной дыре. Если волны поляризованы нужным образом, они должны стимулировать испускание черной дырой добавочных волн, и дыра, усиливая начальные волны, должна будет слегка замедляться, чтобы обеспечить дополнительную энергию».
Это было слишком для меня. Интуиция Зельдовича относительно любых других объектов была существенно выше моей, но применительно к черным дырам — я сомневался. Четыре недели интенсивных дискуссий показали мне некоторую слабость Зельдовича в общей теории относительности. В {371} технических деталях он обычно полностью полагался на Новикова, а сейчас, во время моего пребывания в Москве, — на меня. Зельдович, очевидно, использовал меня в это утро как оппонента, на котором он проверял идею. Я контратаковал: «Черная дыра — не электрический проводник. Входящие электромагнитные волны не могут генерировать электрические токи на ее поверхности, так как электрический ток — это движущиеся заряды, а искривленное пространство вокруг черной дыры не содержит электрических зарядов. Без тока не может быть стимулированного излучения. И из-за того, что горизонт черной дыры будет поглощать любые входящие волны, в действительности будет потеря энергии, а не усиление». Таково было мое мнение.
«Нет, Кип, — возразил Зельдович, — если конфигурация правильная, входящие электромагнитные волны должны найти способ замедлить дыру и использовать освободившуюся энергию для собственного усиления. Это всегда случается, когда объект вращается».
Зельдович не был уверен в том, как дыра их усилит, но его интуиция подсказывала, что все должно быть именно так (как оказалось, он был прав: вычисления, проделанные Чарльзом Миснером несколькими месяцами позже, покажут, что волны усиливаются за счет взаимодействия с пространственно-временной кривизной дыры; этот процесс, которому Миснер присвоил название «сверхизлучение», и это открытие подтолкнуло двух моих студентов, Вильяма Пресса и Сола Тьюколски, изобрести (бесполезную) «бомбу черной дыры»).
«Пойдемте дальше, — продолжал Зельдович. — Если существует стимулированное излучение, тогда возможно спонтанное излучение. Если наш вращающийся металлический цилиндр совершенно изолирован в пустом пространстве, и нет налетающих электромагнитных волн или чего-либо подобного, он будет спонтанно излучать электромагнитные волны, хотя и менее интенсивно, чем в случае стимулированного излучения. Спонтанно излученные волны будут черпать свою энергию из вращения цилиндра; по мере того как они будут излучаться цилиндром, вращение будет постепенно замедляться. Аналогично, если вращающаяся черная дыра может испускать стимулированное излучение, она также может излучать волны и спонтанно. Вращающаяся черная дыра, находящаяся в одиночестве в пространстве, в отсутствие налетающих волн или чего-либо подобного, должна спонтанно испускать все виды волн: электромагнитные, гравитационные,... и по мере того, как волны покидают ее, вращение черной дыры должно замедляться.»
«Это безумие, — сказал я ему. — Нарушается все, что мы знаем о черной дыре. Волны и частицы могут входить в нее, но ничего не может из нее выйти».
Зельдович, хоть и не очень уверенно, настаивал: «Давайте более пристально рассмотрим то, как происходит спонтанное излучение вращающимся металлическим цилиндром». Затем он напомнил мне о вакуумных флуктуациях: вакуумные флуктуации — следствие квантовомеханического принципа неопределенностей. Принцип неопределенности утверждает, что невозможно с абсолютной точностью одновременно определить и положение электрона, и его скорость (т.е., скорость изменения его положения). Неопределенность в скорости изменения положения обратно пропорциональна неопределенности {372} в его положении. Принцип неопределенности также применим к электромагнитным волнам. Здесь аналогом положения электрона является величина напряженности электрического поля волны. Поэтому величина поля и скорость его изменения не могут быть определены одновременно с абсолютной точностью. Неопределенность в скорости изменения напряженности поля обратно пропорциональна неопределенности в локализации поля. Этот принцип неопределенности заставляет электромагнитные волны, в каждом цикле их осцилляции, всегда иметь определенную минимальную полную энергию.
Предположим, что Вы обнаружили волну, которая обладает в точности нулевой энергией в цикле своей осцилляции. Волна должна иметь нулевое значение напряженности электрического поля на протяжении всего цикла осцилляции, поскольку плотность энергии пропорциональна квадрату напряженности электрического поля. Это, однако, подразумевает, что на протяжении данного цикла осцилляции и поле, и скорость его изменения равны нулю; они оба в точности равны нулю. Но подобное одновременное точное знание их величин нарушает принцип неопределенности. Поэтому энергия волны не должна равняться нулю.
Предположим, что мы выделим из волны всю энергию, насколько это допускает принцип неопределенности. В каком виде будет существовать оставшаяся, неизвлекаемая энергия? Она будет состоять из энергии хаотично флуктуирующего электрического поля (а также и хаотично флуктуирующего магнитного поля, что вытекает из тех же аргументов, которые мы использовали для электрического поля). В любой момент времени величина электрического поля будет близка к нулю, но все же будет отличаться от нуля на малую неизвестную величину. Неточность в определении величины поля, будучи малой, тем не менее, должна быть достаточна велика, чтобы также обеспечить малость неточности определения скорости его изменения, тем самым, позволяя неточности в определении поля оставаться малой с течением времени.
Если мы устраним всю выделяемую энергию из каждой волны, существующей в пространстве, мы оставим пространство-время настолько пустым, насколько это возможно. Это состояние наиболее экстремальной пустоты называется вакуумным состоянием, а флуктуирующие электрические и магнитные поля, которые все являются волнами в этом вакуумном состоянии, должны состоять из так называемых вакуумных флуктуаций. Так как энергия вакуумных флуктуаций неизвлекаема, флуктуации трудно наблюдать. Они вокруг и внутри нас, существуют всюду во Вселенной, но почти невидимы; единственный способ сделать их видимыми — провзаимодействовать с другими объектами.
«Предположим, — сказал мне Зельдович в то июньское утро 1971 г., — что у нас имеется вращающийся металлический цилиндр, окруженный абсолютным вакуумом. Исследуем одну из волн, которая, находясь в невакуумном состоянии, заставляет цилиндр излучать, по мере того как она скользит по поверхности цилиндра. Хотя теперь падающая волна находится в вакуумном состоянии, вакуумные флуктуации ее электрического поля будут по-прежнему создавать флуктуирующие электрические токи на поверхности цилиндра, и эти флуктуирующие токи будут по-прежнему испускать волны. {373} Таким образом, волна будет приходить к цилиндру в своем вакуумном состоянии, а вылетать с избыточной невакуумной энергией. Избыток энергии — напомнил мне Зельдович, — говорит о том, что он был спонтанно излучен, несмотря на то, что излучение в действительности было стимулировано флуктуациями налетающего вакуума. Энергия спонтанной эмиссии возникает не из вакуумных флуктуаций (невозможно извлечь их энергию), а за счет вращения цилиндра. Поскольку исходящие волны уносят энергию, цилиндр постепенно начнет замедлять свое вращение. Когда, наконец, цилиндр прекратит вращение, станет невозможным более извлекать энергию из вращения, и спонтанное излучение прекратится.»
«Аналогичным образом, — утверждал Зельдович, — вращающаяся черная дыра должна спонтанно излучать. Вакуумные флуктуации, падающие на нее, должны стимулировать излучение, а так как волны уносят энергию, дыра должна постоянно замедлять свое вращение, и когда вращение остановится, спонтанное излучение прекратится.»
«Да, я согласен; если черная дыра может усиливать входящие волны, тогда будет возможно спонтанное излучение волны — в ответ на вакуумные флуктуации. Однако возмутительно думать, что черная дыра может усиливать входящие волны! И, следовательно, возмутительно думать, что дыра может спонтанно излучать. Черные дыры фундаментально отличаются от вращающегося цилиндра и других вращающихся объектов, — утверждал я. — Они имеют горизонт, чего нет у других объектов; волны могут входить в горизонт, но не могут выходить, и, следовательно, черная дыра не может излучать.»
Зельдович предложил мне пари. В романах Эрнста Хемингуэя (которым он восхищался) Зельдович прочел о виски «Белая лошадь», элегантном и известном ценителям сорте виски. Если детальные математические вычисления физических процессов покажут, что вращающаяся черная дыра спонтанно испускает волны, тогда я должен привезти Зельдовичу из Америки бутылку виски «Белая лошадь». Если же, согласно вычислениям, такого спонтанного излучения нет, Зельдович должен выдать мне бутылку самого лучшего грузинского коньяка.
Я принял пари, но знал, что оно не может быть разрешено быстро. Для этого требовалось ясное и недвусмысленное понимание законов, определяющих квантовомеханические черты электрического, магнитного и других полей в искривленном пространстве. Законы квантовой теории поля были хорошо развиты для плоского, но не для искривленного пространства. Объединение квантовой теории поля с искривленным пространством — первый трудный шаг на пути объединения квантовой механики и общей теории относительности; именно с этого шага Леонард Паркер, Брюс де Вин и некоторые другие начали работу в 1960 г., которая была еще далека от завершения.
Два года спустя, в сентябре 1973 г. я был четвертый раз в Москве, сопровождая на этот раз Стивена Хокинга и его жену Джейн. Это была первая поездка Стивена в Москву. Я сопровождал его в связи с его серьезной болезнью (амиотрофический латеральный склероз или АЛС, поражение моторных нейронов, который к 1973 г. приковал его к инвалидному креслу и сделал его речь понятной только для членов его семьи и тех, кто близко знал его). {374} Стивен, Джейн и принимающие нас советские коллеги, которым нелегко было удовлетворить в Москве все специфические нужды Стивена, решили, что будет наилучшим вариантом, если я, будучи близким другом Стивена и человеком, знакомым с повседневной жизнью в Москве, буду выполнять роли и гида, и компаньона-переводчика во время научных обсуждений.
Мы жили в гостинице «Россия» у Красной площади, рядом с Кремлем. Несмотря на то, что практически каждый день мы выезжали читать лекции в том или ином институте, посещали музеи, оперу или балет, наше общение с советскими физиками большей частью происходило в двухкомнатном номере отеля, который снимал Хокинг, из окна которого открывался вид на собор Василия Блаженного. Один за другим ведущие советские физики-теоретики приходили в отель засвидетельствовать свое почтение Хокингу и побеседовать.
Хокинг уже в 1973 г. был весомой фигурой в теоретической физике. Хотя с момента защиты им докторской диссертации прошло только семь лет, он уже вывел, исходя из общей теории относительности, второй закон механики черных дыр (области горизонтов могут только увеличиваться) и другие законы динамической эволюции черных дыр. Вместе с Роджером Пенроузом он доказал, что во внутренних областях черных дыр и на первых стадиях зарождения Вселенной должны были быть сингулярности; совместно с Джорджем Эллисом он опубликовал монументальный научный трактат о «глобальных методах» вычислений, которые использовались для получения этих замечательных результатов. Золотой век теории черных дыр был в самом разгаре, и к 1973 г. Хокинг стал доминирующей фигурой.
Среди физиков, которые частенько наведывались в номер Хокинга в отеле, были Зельдович и его аспирант Алексей Старобинский. Хокинг, Зельдович и Старобинский нашли друг друга крайне приятными в общении. Во время одного из визитов Зельдович рассказал Хокингу о своей гипотезе, согласно которой вращающаяся черная дыра должна излучать все типы волн: гравитационные, электромагнитные и т.д., а затем частично описал формулировку законов квантовых полей в искривленном пространстве-времени, которую они разработали совместно со Старобинским, и представил полученное на основании этих законов предварительное доказательство того, что вращающаяся черная дыра в действительности должна спонтанно излучать волны. Зельдович был крайне близок к своей цели — победить в нашем споре.
Из всех тем, которые Хокинг обсуждал в Москве, именно эта тема наиболее сильно заинтересовала его. Однако он отнесся скептически к способу, каким Зельдович и Старобинский формулировали законы квантовых полей в искривленном пространстве. После возвращения в Кембридж Хокинг приступил к работе над своей собственной формулировкой и использовал ее для проверки утверждения о том, что вращающиеся черные дыры должны спонтанно испускать волны. В то же время несколько очень молодых физиков в США были заняты той же проблемой; среди них были Вильям Унру из Беркли, Ларри Форд из Принстона и Дон Пейдж, мой студент из Калтеха.
В начале 1974 г. Унру, Форд и Пейдж, каждый своим способом, предварительно подтвердили предсказание Зельдовича: вращающаяся черная дыра должна спонтанно излучать, пока вся энергия ее вращения не будет использована {375} и излучение не прекратится. Затем пришла ошеломляющая новость: Стивен Хокинг, вначале на конференции в Англии, а затем в краткой технической статье в журнале «Nature», объявил, что он пришел к заключению, которое противоречило всем и вся. Его расчеты предсказывали, что спонтанное излучение черной дырой волн и постепенное замедление ее вращения в конечном итоге не приведут к прекращению спонтанного излучения. Когда нет вращения и нет энергии вращения, черная дыра продолжает излучать волны; и поскольку она излучает, она продолжает терять энергию, или эквивалентную массу. Так как длина окружности сферического горизонта невращающейся черной дыры пропорциональна ее массе, то площадь его поверхности пропорциональна квадрату ее массы. Поэтому, по мере того как невращающаяся черная дыра испускает волны и теряет массу, ее поверхность должна сжиматься, что находится в противоречии со вторым законом Хокинга для механики черной дыры. И, наконец, если подождать достаточно долго, масса черной дыры обратится в нуль, площадь поверхности ее горизонта также обратится в нуль, и дыра исчезнет. Она должна будет испариться «в ничто».
Полдюжины мировых экспертов по квантовой теории поля в искривленном пространстве были совершенно уверены, что Хокинг сделал ошибку. Его вывод нарушал все, что было известно о черных дырах. Возможно, его формулировка законов квантовых полей в искривленном пространстве, которая отличалась от их формулировок, была неправильной; или же он, имея правильные законы, сделал ошибку в вычислениях.
В течение следующих нескольких лет эксперты тщательно проверяли формулировку Хокинга и свои собственные формулировки, вычисления Хокинга и собственные. Постепенно, один за другим, эксперты соглашались с Хокингом. Как можно было достигнуть согласия по фундаментальным законам квантового поля в искривленном пространстве-времени, если не было ни одного эксперимента, который мог бы повлиять на выбор правильной формулировки? Как могли эксперты утверждать с почти полной уверенностью, что Хокинг прав, не имея возможности экспериментально проверить свои утверждения? Их практически абсолютная уверенность вытекала из требования, чтобы законы квантовых полей и законы искривленного пространства-времени были сплетены между собой подобно тому, как идеально переплетаются строки и столбцы в кроссворде, — абсолютно взаимосогласованным образом. Новые согласованные законы должны были не противоречить законам общей теории относительности для искривленного пространства-времени в отсутствие квантовых полей и законам квантовых полей в отсутствие кривизны пространства-времени. Хотя требование взаимосогласования законов является мощным инструментом, не так часто оно было настолько мощным, как в данном случае. Например, идеального взаимосогласования, самого по себе, в 1915 г. оказалось недостаточным, чтобы гарантировать описание гравитации в терминах законов Эйнштейна для искривленного пространства-времени.
В июне 1975 г. я в пятый раз вернулся в Москву и привез бутылку виски «Белая лошадь» для Зельдовича. К своему удивлению, я обнаружил, что, хотя все западные эксперты теперь соглашались с Хокингом в том, что черные {376} дыры могут испаряться, никто в Москве в это не верил. Хотя несколько доказательств утверждений Хокинга, полученных новыми, полностью различными методами, было опубликовано в 1974 и 1975 гг., они вмели малое влияние в СССР. Почему? Потому что Зельдович и Старобинский, величайшие советские эксперты, не верили. Я пытался их убедить, но безуспешно: они знали так много о квантовой теории поля в искривленном пространстве-времени, что я не мог опровергнуть их аргументов, хотя был уверен в своей правоте.
Мой отлет в Америку был назначен на ранее утро вторника, 23 сентября. В понедельник вечером, когда я упаковывал свой багаж, в моей маленькой комнатке в гостинице университета зазвонил телефон. Это был Зельдович. «Приходите ко мне, Кип. Я хочу поговорить об испарении черных дыр!» Чтобы сберечь время, я попытался вызвать такси. Увы, мне это не удалось, поэтому в стандартной для Москвы манере я остановил проходящую машину и попросил за 5 рублей отвезти меня на Воробьевское шоссе, д. №2 Б. Шофер согласно кивнул, и мы поехали задворками по улицам, по которым я никогда не ездил. Я облегченно вздохнул, лишь когда мы выехали на Воробьевское шоссе. С благодарным «спасибо» я остановил его перед д. №2Б и, пробежав ворота и внутренний дворик, вошел в дом и поднялся на третий этаж.
Зельдович и Старобинский встретили меня у двери с улыбками и поднятыми над головой руками. «Мы сдаемся; Хокинг прав, мы были не правы!» В течение следующего часа они объясняли мне, что их версия законов квантовых полей в искривленном пространстве-времени черной дыры, на вид отличная от версии Хокинга, в действительности была абсолютно эквивалентна. Их вывод о том, что черные дыры не могут испаряться, был следствием ошибки в их вычислениях. После исправления ошибки они пришли к согласию. Выхода не было. Законы убеждали, что черные дыры должны испаряться.
В 1986 г., за год до его смерти, Зельдович и я провели вместе вечер в его квартире, пили вино, грузинский коньяк, водку, закусывали и беседовали. Находясь в несколько мрачном расположении духа, он подробно перечислил мне длинный список важных открытий в физике и астрофизике, которых он не смог совершить, включая испарение черных дыр. Я был удивлен его настроением и сказал ему об этом. Тогда, да и сейчас, мне казалось, что ни один теоретик второй половины двадцатого века не имел большего влияния на наше понимание астрофизической Вселенной, чем Зельдович. Большая часть этого вклада была обусловлена его собственными исследованиями, но еще большая — исследованиями других ученых, которые были стимулированы плодотворными дискуссиями с Зельдовичем (как в случае с Хокингом) или его печатными трудами. Яков Борисович (я научился так его называть и произносил его имя со смесью привязанности и благоговейного трепета) был глубоко проницательным человеком.
| {377} |
UNIVERSITY OP CAMBRIDGE
Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics
Silver Street, Cambridge CB3 9EW
Telephone: Cambridge (0223) 51645
Professor Ya. B. Zeldovich,
Institute of Applied Mathematics,
Academy of Sciences of the Soviet Union,
Moscow 125047,
Mioosskaya Pl 4,
U.S.S.R. |
6th July, 1977, |
Dear Yakov,
Thank you for your interesting letter about my breakdown paper. I agree that the semi-classical approximation breaks down when the black hole gets down to the Planck mass. However, in the case of a black hole that was originally one solar mass, it would already have emitted 1080 units of entropy in the form of random thermal radiation by the time it reached the Planck mass. Whatever the details of the final burst, the black hole could not emit 1080 units of information or negative entropy to cancel out the entropy already emitted because there simply is not enough energy left to carry it. This point is explained further in the enclosed paper. I therefore think that, even though we do not yet understand the final stages we can be quite sure that there will be a breakdown in predictability or, in other words, a new random element.
I think that the vacuum or rather the zero energy density matrix is made up of contributions from metrics with all different numbers of black holes. The dominant contribution comes from metrics with about one Planck mass black hole per Planck volume. Particles such as baryons can fall into the virtual black holes and come out different particles. I am trying to estimate the life-time of the proton to such a decay. It must, however, depend on ones model of the proton because obviously a proton is not a point particle. I would be very interested to hear of any ideas you may have along this line. I do not think it altogether impossible that one could devise some laboratory experiment to detect such quantum gravitational effects.
I hope that we do have a chance to meet sometime and discuss these matters. In the meantime I would be very glad to hear from you by letter.
With my compliments and respect,
Yours sincerely,
Stephen W. Hawking
| {378} |
В решении задачи максимального удовлетворения материальных и духовных потребностей человека большую роль призвана сыграть наука. Известен тезис о том» что наука стала производительной силой. Характеризуя экономику той или иной страны или области, говорят о наукоемких производствах, т.е. о таких, в которых производство и конкурентоспособность прямо связаны с уровнем науки. К наукоемким производствам относятся, например, производство микроэлектронных схем и их применение в вычислительной и информационной технике или производство фармацевтических препаратов с использованием генной инженерии. Список этот можно было бы неограниченно продолжать.
Развитые страны тратят на науку несколько процентов валового национального продукта. Этот факт также подтверждает значение науки в современном производстве.
Наряду с практическими целями наука ставит и такие фундаментальные задачи, как выяснение структуры микромира и исследование Вселенной, понимание жизни и ее происхождение.
Создаются ускорители элементарных частиц — технически сложные и весьма совершенные установки, занимающие много квадратных километров, {379} стоимостью в несколько миллиардов долларов. Строятся гигантские телескопы. Развивается радиоастрономия. Астрономические приборы выносятся за атмосферу в космос. Теоретические группы, состоящие из чрезвычайно способных людей, с огромным напряжением работают над развитием фундаментальной теории, используя, в частности, и современные вычислительные средства. Специалисты из других областей, вероятно, привели бы тоже большой перечень задач, приборов и методов.
Есть и общая закономерность исследований: во многих областях имеется более или менее отчетливое разделение проводимых работ на два типа. Первый — работы с заранее запланированной практической целью — так называемая «прикладная наука». Второй — работы, ставящие целью познание, создание картины микро- и макромира, без заранее определенных практических задач. Нисколько не умаляя значение работ первого («прикладного») типа, назовем работы второго типа фундаментальной наукой.
Термин этот не очень хорош. Если понимать под словом «фундаментальный» основательность, незыблемость, прочность, то терминологию нужно было бы менять. Решая практические задачи, мы пользуемся незыблемыми и твердо установленными законами. И наоборот: при исследовании нерешенных вопросов микромира н Вселенной в наибольшей степени приходится пользоваться смелыми гипотезами. Часть из них ученые вынуждены отбрасывать под влиянием новых данных опыта или вследствие внутренних противоречий, выявляющихся в ходе развития идей. «Фундаментальность» задач сочетается со смелостью вариантов теории.
Все же за отсутствием лучшего общепринятого термина будем говорить о «фундаментальной» науке. Какова ее социальная роль? Почему общество идет даже на большие затраты для развития фундаментальной науки?
Начну с аргументов скептиков, с которыми не согласен. Крупный советский ученый, ныне покойный, когда-то говорил: «Наука есть способ удовлетворения личного любопытства за государственный счет». Не будем называть имени, замечу только, что скептицизм скорее помешал, а не помог научной деятельности автора хлесткого, но по существу неверного афоризма.
В том же русле рассказывают исторический анекдот. Лапласа интересовала фигура Земли, т. е. отношение длины экватора к длине линии, проходящей через полюса. Однако в бурные и трудные годы Великой Французской революции было крайне сложно получить ассигнования на соответствующие точные геодезические измерения. Заметим мимоходом, что сейчас такие измерения проводят, притом не только в мирных, но и в военных целях. Но вернемся к временам, когда межконтинентальные баллистические ракеты не существовали, и к Лапласу. Лаплас предложил Конвенту новую революционную единицу длины — метр, определенную как одна сорокамиллионная часть земного экватора. Был принят декрет, даны ассигнования и проведены измерения. Наряду с единицей измерения — метром Лаплас узнал также, насколько Земля сплющена по полюсам и растянута по экватору действием центробежной силы своего вращения. Но не злоупотребил ли доверием членов Конвента великий французский ученый?..
Итак, один взгляд на фундаментальную науку: предмет личного любопытства одного или нескольких ученых, любыми способами получающих {380} государственные деньги. Взгляд не новый, вспомните сатиру Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», описание острова Лапуты, проживающих там ученых и тематику их исследований.
Однако этот взгляд поверхностный и совершенно неправильный. Надеюсь, что дальнейшим изложением я смогу доказать это даже критически настроенному читателю.
Другой взгляд на фундаментальную науку основан на еще более убедительных исторических примерах.
Механика Ньютона необходима для машиностроения — от ткацких станков до авиации, для выхода в космос и его использования в технике связи.
Электродинамика Фарадея и Максвелла явилась основой электрификации промышленности и привела Попова к созданию радиосвязи.
Теория атома — квантовая механика привела Эйнштейна к предсказанию индуцированного излучения. Используя эти предсказания в наибольшей степени, Басов и Прохоров создали лазеры со всеми их применениями в технологии и медицине.
Развитие теории атомного ядра, начатое Резерфордом» привело к созданию ядерной энергетики, сжигающей уран. На очереди термоядерное сжигание дейтерия и трития (тяжелых изотопов водорода). Трагическим побочным эффектом оказалось создание ядерного и термоядерного оружия.
Этот список можно продолжать почти бесконечно, до размера многотомной энциклопедии. В приведенных примерах характерно, что в большинстве случаев первооткрыватели не видели отдаленных последствий своих открытий. Иногда они догадывались об этих последствиях: на вопрос о значении открытой электромагнитной индукции Фарадей отвечал вопросом: «Можете ли Вы, глядя на новорожденного младенца, сказать, чего он достигнет в своей жизни». Не конкретизируя, Фарадей предвидел великое будущее своего открытия.
Но Эйнштейн не подозревал, что будут открыты лазеры. Резерфорд, которому надоели прожектеры, четко до конца своей жизни (1937 г.) отрицал возможность энергетического использования ядерной физики.
Подойдем к концепции, которую можно коротко выразить: «Всякая хорошая фундаментальная наука приносит практические результаты», но отнесемся к этому тезису не предвзято. Не будем опираться на авторитеты, не будем ссылаться на исторический опыт. Его сила — в том, что это опыт, его слабость — в том, что он исторический, т.е. относится к прошлому, к той ситуации, которая была в науке в прошлом, но которая к настоящему времени уже изменилась.
Сейчас мы знаем не только больше отдельных научных фактов — мы гораздо глубже понимаем внутренние соотношения между различными областями науки.
Главное достижение можно назвать принципом соответствия. Это очень широкое обобщение конкретного «принципа соответствия», которым Бор пользовался при разработке теории атома. Кратко принцип характеризуется следующим образом: существуют теории, в своей области установленные навсегда; новые теории обязаны соответствовать этим уже установленным теориям, развивая и изменяя их только в новой области применимости.
Приведем только два общеизвестных примера. {381}
1. Ньютоновская классическая механика установлена навечно для малых скоростей больших тел.
2. Наука проникает в глубину протона и нейтрона, кирпичиков, из которых построены ядра. Оказалось, что они, в свою очередь, состоят из так называемых кварков — частиц с дробным зарядом, которые принципиально невозможно извлечь из ядра. Однако общая схема атома, состоящего из ядра и электронов, не изменилась, она останется навечно. Новая ступень в познании физики ядра не изменит химии и атомной физики и не обещает новых источников энергии!
Вывод, следующий из этих примеров и обобщающего принципа соответствия, таков: появилось знание общих законов развития науки. Это знание не позволяет нам давать неопределенные обещания. Наряду с примерами плодотворного практического применения достижений фундаментальной науки (авиация, электроника, радио и телевидение, атомная энергетика, информатика) можно привести и противоположный пример.
Общая теория относительности, т.е. созданная в 1916 г. Эйнштейном геометрическая теория тяготения, несомненно, является замечательным идейным достижением. Эта теория необычно продвинула наши представления о силах природы, полностью разъяснила сущность одной из этих сил — тяготения, сведя ее к геометрии. Общая теория относительности становится в конце нашего века образцом для дальнейшего развития фундаментальной физики. С этой теорией связан огромный прогресс в астрономии, и в частности в космологии — в науке о Вселенной как целом. Вместе с тем общая теория относительности не имеет практических (энергетических, или информационных, или медицинских) применений. Значит, нельзя (да и не нужно) говорить, что всякая хорошая теория обязательно дает практические плоды.
Все сказанное выше можно считать кратким предисловием к тому третьему взгляду на фундаментальную науку, который является главным тезисом данной статьи.
Фундаментальная наука нужна и потому, что она удовлетворяет духовные потребности человека.
Духовные потребности не сводятся к восприятию искусства, музыки, красоты природы. Знание и понимание устройства природы также являются важнейшей потребностью человека.
Особенно хочу подчеркнуть, что это потребность большинства людей, а отнюдь не только ученых. Здесь уместно сравнение со слушателями музыки (их очень много) и композиторами.
Восприятие красоты науки надо воспитывать. Может быть, специалисты (не исключаю себя) виновны в том, что недостаточно пропагандируют понимание сущности науки. Средняя школа могла бы в большей степени давать учащимся самые общие представления о задачах и методах науки, даже за счет конкретных деталей, нужных специалистам.
В пятидесятых годах драматические применения ядерной физики (именно применения!) сильно увеличили престиж этой науки.
Увеличился конкурс при поступлении на физические факультеты. Возросли ассигнования на ускорители в связи с их увеличением. Помню замечание крупного зарубежного физика: «Большие ускорители стали предметом престижа {382} государства, как в средние века престижным было строительство гигантских соборов». Здесь есть вызов, намек на сходство между функцией фундаментальной науки и функцией религии. Принимаю этот вызов, поднимаю перчатку. В определенные исторические периоды религия играла прогрессивную роль, сплачивала нации, упорядочивала жизнь общества. В настоящее время роль религии падает. Я атеист, не верю в Бога и надеюсь, что рационалистическое мировоззрение станет всеобщим. Вместе с тем существование религии есть объективный исторический факт. Социально-психологический вывод, который следует из этого факта, как раз и подтверждает главный тезис моей статьи: человек объективно имеет глубоко заложенные в его сознании духовные потребности. Будет только хорошо, если интерес к науке займет то место в духовной жизни человека, которое еще недавно занимала религия.
Но подчеркнем и различие между наукой и религией. Религия не одна, есть много разных религий, рожденных разными общественными и историческими (или доисторическими) условиями.
Борьба различных религий между собой принимала самые уродливые, жестокие и кровавые формы. Во имя Бога инаковерующих сжигали, казнили, изгоняли (достаточно обратиться к любой брошюре по истории религии).
Наука отличается от религии тем, что она исследует объективно существующие закономерности природы. Наука едина, выводы ее, проверенные опытом, одинаковы, в какой бы стране ни проводились опыты, каким бы ни был цвет кожи экспериментатора.
Этот простой и очевидный факт связывает между собой ученых всего мира. При правильной постановке пропаганды научных знаний международный характер фундаментальной науки вызывает взаимное уважение народов разных стран. Невозможно переоценить значение этого фактора в настоящее время опасного нарастания напряженности в мире.
В ходе международного соревнования в технологии и в прикладной науке возможно искусственное ограничение новой информации для того, чтобы ею не воспользовались конкуренты.
В фундаментальной науке задержка информации о новых результатах и запечатанные конверты с надписью «Вскрыть через 10 или 20 лет» давным-давно ушли в прошлое. Современный ученый спешит опубликовать свои результаты или даже гипотезы и догадки. Наряду с журналами появляются препринты, издаваемые за 2–3 недели. Необычайно возросла роль личного общения на конференциях и симпозиумах. Фундаментальная наука играет все большую благодетельную роль в укреплении международных связей, не подверженных местным и временным колебаниям.
Древние греки высоко ценили науку, но свысока смотрели на ее приложения. В настоящее время прикладная наука завоевала такое положение в обществе, когда она не нуждается в защите. Но не будем забывать и фундаментальную науку.
Не будем забывать роль фундаментальной науки в рождении науки прикладной, но сохраним уважение и восхищение самой фундаментальной наукой.
Она является замечательным творением человеческого разума и, в свою очередь, совершенствует разум и душу человека. {383}
Чтобы не быть голословным, приведу два примера достижений восьмидесятых годов в наиболее близких мне областях.
Один пример относится к теории элементарных частиц.
Более 100 лет развивается теория электромагнетизма. Почти 100 лет исследуется радиоактивность. До недавнего времени казалось, что это принципиально различные явления.
Электромагнетизм связан с движением заряженных частиц — электронов. Конструктор электрического генератора, электромотора или радиоаппаратуры представляет себе электроны как крошечные, очень легкие, точечные заря-дики, движущиеся по проводам и создающие ток и магнитное поле, скапливающиеся на пластине конденсатора и создающие заряд и электрическое поле. Электроны только перемещаются с места на место, но не рождаются и не уничтожаются.
В явлениях радиоактивности атомное ядро может испустить, т. е. родить и выбросить, электрон.
Важно подчеркнуть, что электрона в ядре не было, он именно родился. Есть и такие ядра, которые заглатывают и уничтожают электрон, до того мирно пребывавший в числе атомных.
Итак, казалось, что электромагнетизм и радиоактивность никак не связаны. Однако за последние 20 лет появились теории, объединяющие эти две области физики.
Движение электрона представляется как его исчезновение в одном месте и рождение в другом. Электромагнитное поле можно представить себе как совокупность особых частиц — фотонов, квантов (кусочков) электромагнитного поля, летящих со скоростью света. Анализируя как сходство, так и различие радиоактивности и электромагнетизма, физики-теоретики пришли к выводу, что должны существовать и другие частицы, во многом похожие на фотоны, но отличающиеся большой массой. Новые предсказанные частицы трех сортов — положительные, нейтральные и отрицательные — почти в сто раз тяжелее атома водорода! Соответственно и скорость их всегда меньше скорости света, эти частицы неустойчивы и сами распадаются, они не могут быть использованы ни в электромоторе, ни для радиосвязи. В 1983 г. эти частицы были открыты в результате долгого, трудного, но целеустремленного поиска. Подтверждение на опыте предсказания теории всегда справедливо рассматривалось как пример силы теории, и не только теории, но и науки в целом. Так было, когда Менделеев предсказал неизвестные до того элементы, а Леверье — новую планету. Время великих предсказаний науки не кончилось.
Второй пример достижений фундаментальной науки — современный прогресс космологии, т.е. науки о всей Вселенной. Общая картина расширяющейся Вселенной уже давно, несколько десятилетий тому назад, перешла в разряд твердо установленных фактов. Новая постановка вопроса, характерная для последних 5 или 10 лет, состоит в том, что появляются ответы на вопросы о том, почему Вселенная расширяется, и о том, как могло возникнуть то начальное состояние, эволюцию которого мы наблюдаем. Здесь не место излагать сколько-нибудь подробно трудные теоретические вопросы. Отмечу только, что: {384}
1) гравитационное взаимодействие с уже имеющимся веществом может компенсировать затраты энергии на создание нового вещества;
2) в определенных условиях гравитация приводит к расталкиванию отдельных частей системы и тем самым придает системе в целом характерное для расширяющейся Вселенной движение;
3) возможно возникновение обычного вещества в горячей плазме, в которой вещество и антивещество вначале были в равном количестве.
Все перечисленные пункты не доказаны прямыми опытами (и будут доказаны нескоро), но они согласуются с современной теорией и не противоречат общим принципам, таким, например, как закон сохранения энергии. Вместе эти теоретические идеи дают возможность понять происхождение и свойства современной Вселенной.
Несомненно, биолог, или геолог, или исследователь Солнечной системы привел бы другой набор достижений фундаментальной науки в своей области знания. И все же мир элементарных частиц и Вселенная как целое — это две самые волнующие крайности, между которыми лежит все остальное.
Еще одной чрезвычайно важной функцией фундаментальной науки является ее роль в воспитании кадров.
Вспоминаю дискуссии 1938 г., когда академику Абраму Федоровичу Иоффе, директору Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), вменялась в вину активная работа института в области ядерной физики. Говорили о том, что занятия ядром не согласуются со словом «технический» в названии ЛФТИ.
Прошло несколько лет, ядерная физика стала проблемой №1 государственного масштаба, и именно воспитанник ЛФТИ Игорь Васильевич Курчатов встал во главе важнейшего дела и привлек к нему в первую очередь своих коллег по институту. Но даже в тех случаях, когда такой драматический поворот не происходит, ученые, занимавшиеся фундаментальной наукой и проявившие себя на этом поприще, оказываются ценнейшими кадрами для решения прикладных задач. В решение этих задач они привносят методы и стиль работы фундаментальной науки: смелость, коллективизм, высочайшую квалификацию.
Обмен кадрами, опытом, оборудованием между разными отраслями науки является важнейшим условием процветания всех направлений.
Заканчивая, хочу вспомнить слова Тютчева:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир.
Всеблагие — это боги, простим Тютчеву его манеру выражаться. Пусть наше время не будет роковым в смысле ужасов и катастроф. Роковые минуты в этом контексте — это годы и десятилетия, когда решаются судьбы понимания Природы, неисчерпаемой, но познаваемой.
| {385} |
Борис Павлович Константинов. Академик, директор Ленинградского физико-технического института (1955–1963 гг.), Герой Социалистического Труда... Бронзовый бюст перед входом в Институт...
Для меня он навсегда останется другом, родным, просто Борисом, братом моей первой жены, для моих детей — добрым «дядей Борей». Тот, кто считает, что писать надо беспристрастно или бесстрастно — пусть не читает этот очерк. Я любил Бориса, я и сейчас горюю, что его нет с нами, что он ушел так рано. Он оставался остроумным, изобретательным, глубоким и веселым, добрым и активным до последних месяцев, когда трагически устало биться сердце. Борис Павлович не дожил до 60 лет. Эти заметки посвящены 75-летию со дня его рождения. А разве не могли мы посвятить их живому юбиляру? Сколько мог бы сделать Борис Павлович с его умом и талантом за эти 15 лет.
Мы познакомились в 1932 г. в большой квартире Константиновых на Малой Подьяческой улице около канала Грибоедова в Ленинграде. Познакомила нас Варвара Павловна, Варя.
Я узнал, что Борис — физик, что он в Акустической лаборатории, и — так же, как я в Институте химической физики, — работает, не имея высшего образования. Я узнал, что недавно он тяжело болел, тогда это называлось «порок сердца», что выходила его и стала женой Нина Николаевна Рябинина. Среди большого семейства — шесть братьев и три сестры — Борис был самым талантливым, певучим и «заводным». Но и вся семья была замечательная. В трудные годы братья и сестры оставались сплоченными, помогали друг другу жить, получить образование. Наверное, в умении Бориса Павловича работать с людьми, понимать их и помогать им большую роль сыграли детские и юношеские годы, проведенные в большой семье. К тому времени, когда я пришел в эту семью, родителей уже не было в живых. Отец умер в 1918 году. Недавно в толстой книге «Весь Петроградъ, 1916 годъ» я нашел строку «Константинов Павел Федорович, потомственный почетный гражданин, строительные подряды, Малая Подьяческая, дом 10».
Это был самородок, человек, который начинал бедным крестьянским сыном под Галичем, был отдан в ученики и неустанным честным трудом поднялся до самостоятельного положения. До сих пор помню рассказ о том, как ежедневно затемно в 5 часов утра он садился за работу с документами и счетами.
Дом, в котором жили Константиновы, и шестиэтажный дом напротив были выстроены им. Сейчас мы ушли от примитивной идеи, что строит только тот, кто своими руками кладет кирпичи (Павел Константинов начинал с этого), мы понимаем значение организатора работ. Однако в 20-е и 30-е годы, когда Константиновы учились и поступали на работу, в анкетах они писали «отец — крестьянин»; запись в книге «Весь Петроградъ...» могла поломать судьбу. {386}
Много лет спустя Варя рассказывала, как в Политехническом институте вывешивались списки исключенных, как со страхом она каждый раз искала свою фамилию.
В 1929 г. умерла мать — Агриппина Федосеевна. Вышла замуж, уехала с мужем за границу, да так и осталась в США старшая сестра Екатерина Павловна Термен (по мужу). Женился и несколько отдалился от семьи старший брат — талантливый радиотехник Александр Павлович Константинов. О нем писали, как об изобретателе в области телевидения. Он работал в Пулковской обсерватории, был связан с геофизиками. Помню на выставке Академии наук на набережной Невы его прибор для регистрации землетрясений по изменению емкости конденсатора.
В 1938 г. Александр Павлович был арестован, в 1946 г. я узнал достоверно, что он умер, еще через 10 лет, в 1956 г. последовала полная реабилитация. Старший брат очень высоко ценил ум, талант, изобретательность Бориса Павловича, он помог ему поступить в Акустическую лабораторию, он дал ему смелость учиться самому. Они были во многом похожи и внешне — высокие, светловолосые, с крупными чертами лица. Но детство Бориса прошло в более тяжелых условиях по сравнению со здоровяком Александром, это наложило отпечаток и на внешность. Пожалуй, в Александре было больше самоуверенности, в Борисе — больше доброты и внимания.
В 1932 г. младшие братья и сестры очень сплотились, помогали друг другу, недоедали, экономили на трамвае — но всеми правдами и неправдами пробирались на галерку Мариинского оперного театра, а иногда и на сцену статистами, вместе ходили на лыжах.
Невольно я думаю: нужно ли писать обо всем этом? То, что дорого и волнует меня, по понятным причинам, — интересно ли это, нужно ли это читателю? Да еще такому, который, например, работает в Физико-техническом институте или учится на физико-механическом факультете Политехнического института и видел только бронзовый бюст, не встречал живого Б. П. Константинова?
Конкретные научные работы, изобретения и результаты Константинова опубликованы или существуют в отчетах, в цехах, в лабораториях, они стали безличны. Но нет! Это только кажется, что они безличны. Если мы попытаемся глубже понять творчество, возникнет вопрос о том, почему данный человек взялся за определенную проблему, почему его сотрудники пришли к нему и пошли за ним, почему он стал лидером. И вот тогда для понимания человека нужно будет вернуться к его детству, к семье, к источникам личности.
Во время войны Борис с семьей, как и я со своей семьей, были в Казани, я знал о серьезной оборонной работе Бориса в Физико-техническом институте, о блестящей защите докторской диссертации в 1943 г., об очень хорошем отношении к Борису со стороны наших старейшин — Абрама Федоровича Иоффе, Петра Леонидовича Капицы, Николая Николаевича Андреева.
Еще до окончания войны вместе с Институтом химической физики я попал в Москву. Параллельно с работой по внутренней баллистике пороховых ракет я был привлечен Курчатовым и Харитоном к атомным делам. На много лет это стало главным делом моей жизни. {387}
Борис Павлович вместе с Физико-техническим институтом вернулся в Ленинград. Несколько лет мы встречались редко.
В ходе наших работ возникла сложная задача, допускавшая несколько очень различных вариантов технического решения. Эта задача была поставлена и перед Ленинградским физико-техническим институтом и, в частности, перед Борисом Павловичем.
Он проявил огромный здравый смысл в принципиальном выборе варианта и такую же огромную изобретательность в конструктивном оформлении. Начался новый период его жизни: работа в лаборатории в Ленинграде, обсуждение работы, согласование планов, материальное обеспечение в Москве, в правительственных учреждениях и в Академии наук, строительство и пуск процесса — далеко от Москвы,
В большинстве случаев Борис предпочитал останавливаться в Москве в нашей квартире, спал на диване в нашей комнате, засиживался вечерами с нами, особенно со своей сестрой. Утром, мне стыдно сейчас, но мы его будили шумной зарядкой и детской возней, — потом машина увозила его в министерство или на вокзал.
Помню вечер, когда Борис был необычайно бледный, молчаливый, серьезный. Обнаружилась трудность, может быть, связанная с ошибкой, допущенной ранее. Под вопросом оказалась судьба варианта. Борис пил кофе, не ложился спать — и к утру он сумел найти усовершенствования, дополнительные идеи, спасающие работу. Надо ли говорить о том, что работа была выполнена успешно, Борис Павлович получил Золотую звезду Героя Социалистического Труда, вскоре был избран членом-корреспондентом Академия наук.
Наконец, — и это, может быть, самое главное — предложенный и разработанный Константиновым и его сотрудниками процесс и поныне остается непревзойденным, поныне применяется в возрастающем масштабе.
В 1955 г. Борис Павлович был назначен директором Ленинградского физико-технического института. Я уже упоминал бронзовый бюст перед входом в институт: в действительности стоят на гранитных колоннах друг напротив друга два бюста, оба дорогие всем нам: Абрама Федоровича Иоффе (1880–1960) — основателя института и его директора с 1918 по 1948 г., и Бориса Павловича Константинова (1909–1969).
Роль Абрама Федоровича Иоффе в становлении советской физики и советской науки невозможно переоценить. Все мы — и в том числе Константинов — сознавали и сознаем, чем мы обязаны ему, считаем в высшем смысле его своим учителем. Поэтому вопрос о том, имеет ли право бронзовый Константинов стоять рядом с бронзовым Иоффе — трудный вопрос. Я все-таки предпочитаю высказываться в защиту Константинова открыто, не оставляя место недомолвкам.
Первое, главное, что нужно отметить, Иоффе перестал быть директором ФТИ не потому, что директором стал Константинов. Это видно уже из сопоставления дат (1948 г. и 1955 г.). После Иоффе на его место был назначен человек, чужой Физико-техническому институту. Этот человек считал своей задачей изменить стиль института, искоренить любовь к Иоффе.
Константинов не второй, а третий директор ФТИ. Его приход ознаменовал начало возрождения института, несколько утратившего авторитет и традиции {388} в недобрый промежуточный период. Наряду с энергичной поддержкой старых, классических направлений института Константинов очень активно повел разработку:
1) процессов разделения веществ — хроматографии, технического электролиза, в лучшем стиле Физико-технического института;
2) развил астрофизическую тематику — но об этом подробно позже;
3) начались с большим размахом работы по диагностике термоядерной плазмы, нашли свое место и многолетние работы по атомным столкновениям;
4) укрепились теоретические отделы и теоретические работы, я не хочу изображать так, что Константинов руководил теоретиками, например, Грибовым, — но Грибов, Шехтер и многие другие поняли, что им не надо искать другие места работы, поняли, что их ценят, что у них есть перспектива собирать и учить молодежь, работать самим;
5) двинулась ядерная физика, был построен циклотрон в Гатчине, возник, а немного позже отделился Ядерный институт, носящий имя Константинова.
Наверное, я не все перечислил, не упомянул десятки отдельных добрых для института дел, сделанных Константиновым, по людям, по оборудованию. Для этого он жертвовал своим временем, силами, здоровьем и умер, не дожив до 60 лет. Спросите любого сотрудника ФТИ со стажем 15–20 лет, и он вам скажет, чем был Константинов для института.
Еще одна важная деталь: Иоффе выдвигал Константинова на протяжении многих лет. Я упоминал уже, как в Физико-техническом институте, в эвакуации в Казани, Константинов защищал докторскую диссертацию.
Будучи сотрудником Иоффе, с его благословения Константинов взялся за работу государственного значения, о которой рассказано выше. Иоффе выдвигал кандидатуру Константинова в Академию. И Иоффе не пришлось в этом раскаиваться.
Константинов стал директором Физико-технического института тогда, когда у Иоффе был уже Институт полупроводников, Иоффе не хотел уже возвращаться в Физико-технический. В свою очередь Константинов ездил к Иоффе, советовался с ним, поддерживал его.
Вспомним дни 100-летия А.Ф. Иоффе в Ленинграде. Еще звучат слова А.П. Александрова и многих других о том, чем был и остается для страны, для науки, для физики и физиков созданный Иоффе институт. Но понимаем ли мы достаточно, осознаем ли мы, что все это не прозвучало бы так, если бы Константинов, а потом Тучкевич не сохранили бы институт!
Я не буду останавливаться здесь на Константинове — вице-президенте Академии наук. Об этом, несомненно, напишут другие и напишут хорошо. Я очень ценю его деятельность в качестве вице-президента, деятельность, в которой соединялись знания и талант физика и человеческие качества — ум и доброжелательность. Вместе с тем я очень отчетливо, наглядно видел, что должность эта была нагрузкой чрезмерной физически для Бориса Павловича. Эта добровольно взятая нагрузка, да еще в соединении с директорством в течение нескольких лет, отнимала здоровье. Слабело сердце. Никогда не забуду, как Борис приехал к нам на дачу отдохнуть в субботний вечер. Ему трудно было подняться по лестнице на один этаж. Мы вынесли кресло в сад, окружили Бориса Павловича, смеялись и шутили. А в душе поднималась {389} огромная тревога за него, за его жизнь. В этот период он не оставлял своих обязанностей. Попытки помочь ему окольными путями не удавались. Должен ли был врач или кто-то близкий сказать ему о смертельной опасности? Завещания или прощального письма он не оставил. Наверное, оптимизм и надежда на выздоровление — это необходимые компоненты здоровой психики, даже если сердце больное.
Я хочу остановиться на одной только работе Бориса, очень занимавшей его, очень дискуссионной. Снова предупреждаю — не ждите от меня беспристрастности!
Речь пойдет об астрофизической идее Константинова, об идее «антивещества у нас дома», в Солнечной системе, в метеорах. Это, безусловно, неправильная идея. Она опровергнута опытами, поставленными лабораторией Константинова. Более того, внимательный анализ косвенных данных мог бы показать, что идея антивещества в Солнечной системе (да и в нашей Галактике) представляется крайне маловероятной.
Теперь, через 20–30 лет, иногда вопрос ставится в человеческом плане: не следует ли считать постановку работ по поискам антивещества аморальным поступком Константинова, свидетельствующим о плохом знании предмета, о нежелании прислушаться к мнению специалистов или, того хуже, о желании путями неправедными приобрести славу, почет и положение.
Проще ответить на последнюю часть этих вопросов-обвинений. Достаточно констатировать, что к моменту начала астрофизической деятельности Борис Павлович уже был академиком, директором и Героем Социалистического Труда. Все это он получил за несомненные заслуги в других областях. Лично ему астрофизическая деятельность не сулила ничего, кроме дополнительного труда, хлопот, тревог, — но и, конечно, удовлетворения научного интереса!
Хорошо помню отношение к идее антивещества. Я не верил, считал очень маловероятным. Но я думал и о том, что при малой вероятности значение такого открытия, если бы оно состоялось, было бы огромно.
В физике и в быту мы различаем вероятность и математическое ожидание. В шутку говорят, что математическое ожидание — это «произведение вероятности на неприятности». Вероятность 1% = 0,01 мала, мала по сравнению с единицей, вероятность безразмерна, ее и надо сравнивать с единицей. Но если это вероятность смертельного исхода болезни, то болезнь считается очень тяжелой! Математическое ожидание выигрывания «Волги» при вероятности 1% это 100–150 рублей. И так далее.
Так вот, при малой вероятности открыть антивещество, я не считал математическое ожидание слишком малым. С такой точки зрения контраргументы ослабевают. Да, для 10 или 100 метеорных потоков доказано, что они из обычного вещества, в спектре длительно существующего следа есть линии обычного железа. Да, большинство, пусть, — подавляющее большинство — метеоров «обычны».
Доказывает ли это — строго логически — что (n + 1)-й, одиннадцатый или 101-й поток не из антивещества?
Вопрос переходит в другую плоскость — можно ли, нужно ли браться только за работы с гарантированным успехом, нужно ли отвергать заранее {390} работы с большим риском? Как пример работы, в которой риск отрицательного результата велик, можно указать поиски радиосигналов внеземных цивилизаций. Однако мы знаем, что эта работа продолжается в течение многих лет и не считается компрометирующей.
Вернемся к вопросу об антивеществе. Действительно, в Солнечной системе нет антивещества. К этому выводу пришли и сотрудники Константинова; для многих астрономов этот вывод был тривиален и в самом начале работы.
Но можно и должно посмотреть глубже, задать вопрос о том, а почему нет антивещества?!
Тогда прагматическая точка зрения «нет — и все тут» становится похожей на чеховское выражение «этого не бывает, потому что этого не бывает никогда».
Постановка вопроса Константинова была наивным проявлением святого беспокойства. В контексте образования Солнечной системы нет места антивеществу. Но обобщим вопрос Константинова: почему нет антивещества во Вселенной? И особенно остро: почему нет антивещества в горячей Вселенной, в которой — в далеком прошлом, в течение очень короткого времени — обязательно имели место сверхвысокие температуры, при которых рождались пары протонов и антипротонов?
Будучи буквально неправильной, идея Константинова несомненно стимулировала чрезвычайно важное направление современной космологии — теоретическое исследование сверхранней Вселенной.
Здесь не место рассказывать подробнее об этом направлении. Борис Павлович не дожил до тех дней, когда эти вопросы стали широко обсуждаться. Отошлю читателя к статье А. Д. Долгова и моей в недавнем (август 1982 г.) выпуске журнала «Природа».
Вернемся в Ленинградский физико-технический институт. Увлеченный своей идеей, Борис Павлович создал астрофизический отдел. Этот отдел сейчас является одним из ведущих центров астрофизики высоких энергий.
Мазец и его группа в 1981 г. достигли мирового приоритета в исследовании космических источников гамма-излучения. А ведь Мазец до сих пор благодарен Борису Павловичу, который привлек его, квалифицированного ядерщика, к астрофизике.
Итак — идея буквально неправильная, была тем не менее плодотворной как в теоретическом, так и в экспериментальном аспекте. Напрашивается аналогия с идеей тонкослойной изоляции, сыгравшей большую роль в истории Ленинградского физтеха в довоенное время. Здесь не место развивать эту тему в подробностях.
Оглянемся на весь жизненный путь Бориса Павловича Константинова. Поразительная цельность человека и ученого, короткая, но яркая, плодотворная, достойно прожитая жизнь.
| {391} |
Перевернута последняя страница последней статьи, и, естественно, возникает вопрос об итоге семидесяти лет жизни и пятидесяти трех лет работы и об уроках на будущее, которые можно извлечь из этого итога.
Первый вопрос — об итоге — является предметом вступительной статьи — Введения, составленной редакционной коллегией и помещенной в начале первой книги, но охватывающей содержание обеих книг. На мой взгляд, введение содержит завышенную оценку моих результатов и влияния их на современную науку.
Было бы неуместно, однако, спорить — больше или меньше значение той или иной работы. Интересным может быть качественное отличие между оценками моих работ, а также общего состояния физики с разных сторон: извне специалистами, даже самыми благожелательными, и изнутри — мною самим. Таким образом, данное послесловие написано с сугубо субъективных позиций, без каких-либо претензий на объективность.
Хорошо помню первый, еще детский (12 лет) выбор области знаний, разговор с отцом. Для математики нужны исключительные способности, которых я не ощущал. Физика казалась законченной наукой; сказывалось влияние почтенного школьного учителя физики, торжественно читавшего незыблемые законы Ньютона сперва по-латыни, затем на русском. Мятежный дух новой физики еще не проник в среднюю школу в 1926 году. Между тем курс химии изобиловал загадками: что такое валентность? катализ? И химики не скрывали отсутствия фундаментальной теории. Большое значение произвела на меня книга Я. И. Френкеля «Строение материи», особенно — первая ее часть, посвященная, главным образом, атомистике и кинетической теории газов, определению числа Авогадро и броуновскому движению. Но атомистика, как термодинамика, в равной степени относится к физике и химии. Потом судьба определила меня в Институт химической физики (ИХФ).
В 1930 г. я был лаборантом в Институте механической обработки полезных ископаемых (Механобра), рассматривал шлифы горных пород. Навсегда запомнились богатства Кольского полуострова, запечатлелось уважение к академику А.Е. Ферсману. В марте 1931 г. с экскурсией сотрудников Механобра я посетил отдел химической физики Ленинградского физико-технического института. В лаборатории С. З. Рогинского меня заинтересовала кристаллизация нитроглицерина в двух модификациях. Об этом рассказывал Л. А. Сена (Рогинский был за границей).
После дискуссии (в которой ни я, ни Сена еще не знали истину) мне предложили в свободное время работать в лаборатории. Вскоре встал вопрос об официальном переходе. Ко времени зачисления (15 мая 1931 года) отдел превратился в самостоятельный Институт химической физики. В промежутке помню свой реферативный доклад о кинетике превращение пароводорода {392} в ортоводород. Не вполне понимая, что это такое, я все же твердо и горячо отстаивал принцип детального равновесия. Присутствовали Н. Н. Семенов, С. З. Рогинский и многие другие мои будущие коллеги.
Много лет спустя я услышал три легенды. Первая: Механобр отдал меня Химфизике в обмен на масляный насос. Вторая: академик А.Ф. Иоффе написал в Механобр, что для решения практических задач я никогда не буду полезен. Третья: Иоффе терпеть не мог вундеркиндов и потому отдал меня в Химфизику.
До сих пор не знаю, сколько истины в каждом из них. Могу только засвидетельствовать, что Иоффе я не видел до 1932 г., а увидел я его в примечательных обстоятельствах: был созван общий семинар Физтеха и его дочерних институтов. Иоффе огласил телеграмму от Дж. Чедвика об открытии нейтрона, прокомментировал ее, а в заключение была принята резолюция и послана ответная телеграмма о том, что и мы (все?!) включаемся в нейтронную физику. Для меня — не сразу — резолюция оказалась пророческой.
В интересе к химии большую роль играло чисто зрительное восприятие ярких цветов и форм, начинающееся с «превращения воды в кровь» при взаимодействии солей железа и роданистого калия, с образования осадков и кристаллизации. За этим следовал интерес к резкости перехода окраски индикатора и далее к резкости фазовых переходов.
В соседних лабораториях изучались атомные спектры. Отчетливо помню, что по сравнению с многообразием цветов и форм макроскопических явлений детальная теория атома казалась скучной. Сегодня я пишу об этом, свидетельствуя о своем тогдашнем глубоком непонимании физической теории.
Вместе с тем было правильное и естественное чувство, что за случайностью форм и чередованием плавных и резких зависимостей кроются общие закономерности. Сегодня они получили название теории катастроф и синергетики.
В 30-х годах, развивая теорию горения, мы, по существу, занимались конкретными примерами этих новых наук, не зная их названия. Вспомните мольеровского мещанина во дворянстве, в преклонном возрасте узнающего, что он всю жизнь говорил прозой.
Огромной непреходящей заслугой Абрама Федоровича Иоффе и Николая Николаевича Семенова является создание институтов, отовсюду привлекавших способную молодежь. Возникла «сверхкритическая» ситуация быстрого роста людей и большой их отдачи. Для меня огромную роль сыграла возможность учиться у молодых (но старше меня!) теоретиков. Я глубоко признателен моим тогдашним учителям и нынешним друзьям — Л.Э. Гуревичу, B.C. Сорокину, О. М. Тодесу, С. В. Измайлову. Около двух лет я учился (но не закончил) на заочном факультете университета. Посещал замечательные лекции по электродинамике покойного М. П. Бронштейна. Вспоминаю сейчас слова «градиентная инвариантность», которые тогда не воспринял...
Большим счастьем было сочетание экспериментальной и теоретической работы над одним и тем же вопросом. Изотерму адсорбции Фрейндлиха я сперва наблюдал экспериментально, исследуя систему MnО2-СО-О2-СО2. Только после этого была разработана соответствующая теория (см. статью I в моей книге «Химическая физика и гидродинамика»). Не откладывая, я проверил на {393} опыте зависимость от температуры показателя n в формуле q = cPn. В эксперименте не было ничего принципиально нового, изотерму Фрейндлиха, как показывает само название, открыл Фрейндлих, а не я. Однако собственный эксперимент необычайно активизировал желание понять явление и дать его теорию. Думаю, что это общее явление. Теоретикам, работающим в области макроскопической физики» настоятельно советую принимать участие в эксперименте!
Определенный цикл работ по адсорбции и катализу составил кандидатскую диссертацию. Благословенные времена» когда ВАК давал разрешение на защиту лицам, не имеющим высшего образования! Защита состоялась в сентябре 1936 г.
Еще раньше я пустился в самостоятельное плавание и решил заняться топливным элементом. Интерес к электрохимии подогревался уважением к академику А. Н. Фрумкину, благожелательно относившемуся к моим работам по адсорбции, в значительной мере параллельным его и М.И. Темкина. Размышления о путях преобразования энергии топлива в электричество естественно возникали под влиянием А. Ф. Иоффе.
Однако практически в Ленинграде в ИХФ с вопросом о топливном элементе я оказался в одиночестве. Работа шла очень медленно.
В 1935 г. в институт приехал, лучше сказать ворвался, необычайно энергичный и пробивной одессит А. А. Рудой. Его вдохновила цепная теория химических реакций. Что мешает найти способ превращения энергии горения в энергию активных центров и использовать ее для эндотермической реакции окисления азота? Почему бы не получить несколько литров азотной кислоты из одного килограмма топлива и бесплатного воздуха? За туманной дымкой рисовались картины совсем идиллические: трактор, вспахивая поле, одновременно снабжает его азотными удобрениями, а классические установки для синтеза аммиака лежат в запустении. Семенов взял Рудого в институт, но одновременно создал и серьезную группу для исследования вопроса. В нее вошли покойные П. Я. Садовников, Д. А. Франк-Каменецкий, А. А. Ковальский. Вошел также и я. Оказалось, что образование окислов азота при горении водорода в воздухе наблюдал еще Кавендиш, раньше, чем был установлен состав воздуха.
Не буду здесь описывать результаты большой коллективной работы — они изложены в материалах, помещенных в упомянутой моей книге «Химическая физика и гидродинамика».
Я снова работал и как экспериментатор, и как теоретик. Работа заставила изучить и применить теорию размерности, подобия и автомодельности, расширила кругозор, ввела меня в проблемы турбулентности, конвекции и теплотехники. Книга А. А. Гухмана «Теория подобия» вдохновляла. Завязалась крепкая и плодотворная дружба с Давидом Альбертовичем Франк-Каменецким. Инженер по образованию, он прислал в ИХФ письмо, за которым Н. Н. Семенов разглядел талант. Он вызвал Давида Альбертовича из Сибири в Ленинград и вскоре привлек его к работе по окислению азота. От Франк-Каменецкого с его инженерным образованием я узнал о числе Рейнольдса, сверхзвуковом потоке, сопле Лаваля и многом другом. {394}
Значительно позже, также в связи с окислением азота, я встретился с Рамзиным, получившим к тому времени Государственную премию, еще активным, но уже безнадежно больным. Работая дома по вечерам, он за две недели выполнил работу, которую иной научно-проектный институт растянул бы на годы. Но качественно ответ был выяснен раньше. В лучшем случае, с подогревом воздуха и топлива и даже с добавлением кислорода получаются сравнительно низкие концентрации окиси азота. Лимитирующим оказался процесс превращения NO в NO2 по классической тримолекулярной реакции 2NO + О2 = 2NO2. Только NO2 можно поглотить и использовать, но технологические объемы, необходимые для его образования, непомерно велики. Мечта не сбылась, и только в последние десятилетия теория окисления азота приобрела новое, экологическое значение. Теория окисления азота была темой моей докторской диссертации, защищенной в конце 1939 г. Мне приятно отметить, что в числе оппонентов был Александр Наумович Фрумкин. Естественным продолжением работы, в которой горение было источником высокой температуры, явилось исследование самого процесса горения.
Горение выступает во многих обличиях; горение взрывчатых смесей, горение неперемешанных газов, детонация и т. д. Все эти процессы изучались ранее, но без проникновения в химическую кинетику реакций. Предыдущее поколение исследователей шло от теплотехники и газодинамики. Блестящим исключением был француз Таффанель, опубликовавший в 1913–1914 гг. работы, предвосхитившие многое. В 1914 г. он умолк. Только в апреле 1985 г. я узнал, Таффанель дожил до 1946 г., успешно занимаясь инженерными вопросами.
Перед нами было широкое поле деятельности, и период 1938–1941 гг. был плодотворным. Сказывался живой интерес Н.Н. Семенова. Как правило, через 10 минут после моего возвращения вечером домой Николай Николаевич звал к телефону, и ужин откладывался на час. Шло обсуждение отдельных частей известной обзорной статьи Семенова в «Успехах физических наук» (1940, т. 23, с. 251; т. 24, с. 433).
В институте была организована лаборатория горения, где мы планомерно исследовали кинетику реакций 2СO + O2 = 2СO2 вплоть до самых высоких температур. Может быть, важнее было то, что в институте рядом уже давно существовала лаборатория двигателей внутреннего горения, где К. И. Щёлкин исследовал детонацию. Наибольшее влияние на меня оказывало соседство с лабораторией взрывчатых веществ. Там были мои сверстники А.Ф. Беляев и А. А. Аппин. Организовал эту лабораторию и руководил ею Юлий Борисович Харитон. Это мой друг и учитель до настоящего времени. О современных работах с Юлием Борисовичем многое будет сказано еще дальше.
Как физик-теоретик я считаю себя учеником Льва Давидовича Ландау. Здесь нет необходимости объяснять роль Ландау в создании и развитии теоретической физики. Вместе с тем, не умаляя этой роли, хочу отметить, что с годами взрослея, — старея, увы! — лучше стал понимать и больше стал ценить роль других школ и лиц. Это прежде всего Я. И. Френкель с его огромной интуицией, оптимизмом и широтой. Это В. А. Фок с глубокой и блестящей математической техникой. Это И.Е. Тамм и его ученики и идущая от Л. И. Мандельштама школа теории колебаний. Наконец, это многие, в том числе ныне здравствующие математики, успешно работающие {395} в теоретической физике.
Очень прошу не читать вышестоящий абзац злонамеренным образом. Если я пишу, что Френкель имел интуицию, а Фок был хорошим математиком, то не делайте вывода, что у Ландау не было ни интуиции, ни знания математики — этого я не имел в виду! Талант Ландау был гармоничен, суд его строг, но почти всегда справедлив. Сказанное о школах теоретической физики можно применить и к физическим школам в целом.
В молодости мой кругозор ограничивался Химфизикой и Физтехом. Нет сомнения, Физтех дал блестящую плеяду физиков, вырастил Игоря Васильевича Курчатова и его соратников, выполнивших важнейшее государственное дело. Об этом прекрасно написано во многих статьях и книгах. Но в довоенные годы, да и в первые послевоенные годы мне казалось, например, что оптика — это наука, в которой исчерпаны принципиальные вопросы. Сегодня достаточно назвать черенковское излучение и лазеры, чтобы опровергнуть это неправильное поверхностное мое суждение. Линия, идущая от Лебедева через Рождественского и Вавилова, Мандельштама и Тамма, Черенкова, Франка, Гинзбурга, Прохорова и Басова, оказалась бесконечно более плодотворной, чем мне это казалось в 30-е годы.
Сейчас мне трудно установить, было ли это лично моим дальтонизмом или в какой-то мере недооценку другой школы (других школ) разделяли мои коллеги. Во всяком случае, из очень откровенных воспоминаний Гамова и некоторых реплик Скобельцына теперь я могу уверенно судить о взглядах представителей другого направления. Школа Лебедева очень определенно ощущала свое существование, отдельное от школы Иоффе. Но предоставим эту тему историкам науки. В настоящее время такого противопоставления, к счастью, нет, произошло достаточно тесное перемешивание тех школ, которые можно было различать в давние времена.
Возвращаясь к своей работе конца 30-х годов, вижу один существенный дефект: недостаточное внимание к пропаганде своих результатов за рубежом. Я хорошо знал иностранные работы, печатал некоторые работы в советских журналах на английском языке. Однако мне и в голову не приходило разослать свои оттиски иностранным ученым. Не было и речи о командировке за границу. Виновато было время, но виноваты в этом были, может быть, в какой то мере и старшие товарищи, которые должны были больше заботиться о живых связях.
Пойдем дальше. Открытие деления урана и принципиальной возможности цепной реакции деления предопределило судьбу века — и мою. Соответствующие работы Ю. Б. Харитона и мои опубликованы в начале данной книги, и мне нечего (и незачем) добавить к комментариям по научному существу. Хочу только отметить ведущую роль моего учителя — Харитона — в понимании общечеловеческого значения задачи. Меня, пожалуй, больше интересовали специфические вопросы методов расчета и т. п. Не случайно именно Юлий Борисович стал в 1940 г. членом Урановой комиссии см. «УФН» за март 1983 г.). Дальнейшее развитие работы хорошо известно по многим воспоминаниям участников.
Любопытную деталь отмечает Юлий Борисович: работу по теории деления урана мы считали внеплановой и занимались ею по вечерам, иногда очень {396} допоздна... Впрочем, и администрация института, по-видимому, придерживалась той же точки зрения — способный, но более практичный сотрудник просил 500 рублей за обзор по теории разделения изотопов, но суммы этой не нашлось...
Говоря о дальнейшей работе, хочу подчеркнуть роль теории детонации и взрывов.
Известно удивление ученых США, когда пробы воздуха показали, что в августе 1949 г. их ядерная монополия кончилась. Август 1949 — испытание советского атомного оружия — был закономерным итогом огромного целеустремленного усилия всего народа, сыграл роль и научный потенциал страны, накопленный еще в предвоенные годы. Удивление в США было бы меньше, если бы они читали наши работы предвоенных лет, опубликованные на русском языке. Речь идет при этом не только о работах по цепному делению урана. Наука о взрыве и теория детонации также являются необходимой частью тех знаний, без которых нельзя решить проблему. Напомним, что Харитон сформулировал условие предела детонации еще в 1938 г. Законченная одномерная теория детонации была сформулирована мною в 1940 г. в США та же задача была решена Джоном фон Нейманом — крупнейшим математиком — только в 1943 г. Заметим, что задачей детонации фон Нейман занялся именно в связи с проблемой1).
Вскоре после начала войны Институт был эвакуирован в Казань. Возникла задача детального анализа процессов, связанных с ракетным оружием — «катюшами». Теория горения пороха, достаточная для внутренней баллистики ствольной артиллерии, нуждалась в корректировке. Для камеры горения реактивного снаряда характерен деликатный баланс между приходом пороховых газов при горении и уходом их через сопло. Новые представления о горении пороха, явление раздувания, открытое в нашей лаборатории О. И. Лейпунским, роль прогретого слоя пороха — все это было непривычно для артиллеристов и получило различные оценки у пороховиков и специалистов по внутренней баллистике.
Хочу отметить интерес и поддержку в работе со стороны генерала профессора И. П. Граве, известного конструктора ракет Ю.А. Победоносцева (обоих их нет...) и ныне здравствующего Г. К. Клименко. Но такую поддержку мы встречали не всегда, были и острые споры, попытки административного воздействия, замены аргументов окриком.
В связи с работами по горению пороха наша группа перебазировалась в Москву. Мы оказались передовым отрядом, вслед за которым в Москву (а не обратно в Ленинград) направился весь Институт химической физики в конце войны. Работы по горению и детонации, как и работы по горению пороков, продолжаются в ИХФ и после перехода группы теоретиков (вместе со мной) на новую тематику. Хочу здесь выразить глубокую благодарность за это А. Г. Мержанову и его группе, Б. В. Новожилову, Г. Б. Манелису, А. И. Дремину и многим другим (Институт химической физики АН СССР). В ходе своих работ они не забывают мои работы — и не дают забыть другим. {397} Без этой преемственности, несомненно, очень многое было бы наново открыто за рубежом. Нет задачи более неблагодарной, чем запоздалая борьба за приоритет...
Первая любовь не забывается — и вот в 1977 г. был организован научный совет по теоретическим основам процессов горения. До настоящего времени я продолжаю работать в области проблем горения, хотя и не в полную силу. В связи с проблемами горения, в тесном взаимодействии с Г. И. Баренблаттом в пятидесятых годах сформулировано понятие «промежуточная асимптотика», имеющее общее значение для математической физики. Также вместе с ним в теории возмущений автоволновых процессов (например, распространения пламени) найдено очень общее решение, соответствующее сдвигу и имеющее тождественно нулевой инкремент. Физики, занимающиеся теорией поля, увидят здесь аналогию с так называемой гольдстоуновской частицей.
Исследован переход (вместе с А. П. Алдушиным и С. И. Худяевым (ИХФ)) от теории Колмогорова, Петровского, Пискунова и англичанина Фишера к теории Франк-Каменецкого и моей. В самом общем случае кинетики реакции и произвольных начальных условий правильный подход к задаче о распространении снова оказался связанным с идеей промежуточной асимптотики.
Очень не простым оказался вопрос об открытой Л. Д. Ландау гидродинамической неустойчивости пламени: здесь после очень принципиальной работы А. Г. Истратова и В. Б. Либровича только в 80-е годы удалось продвинуться вместе с В. Б. Либровичем и Н. И. Кидиным.
Идеи, заимствованные из теории поля, позволяют по-новому подойти к нелинейной теории спинового горения. В последнее время, в рамках Совета большое внимание приходится уделять организационной работе, связанной с большой энергетикой сжигания угля.
Вернемся к атомной проблеме к сороковым и пятидесятым годам. Огромный коллектив возглавил Игорь Васильевич Курчатов. Важнейшим участком работы руководил Юлий Борисович Харитон. Вскоре эта проблема целиком захватила и меня. В очень трудные годы страна ничего не жалела для создания наилучших условий работы.
Для меня это были счастливые годы. Большая новая техника создавалась в лучших традициях большой науки. Внимание к новым предложениям и к критике совершенно независимо от чинов и званий авторов, отсутствие утаивания и подозрительности — таков был стиль нашей работы.
Страна переживала трудные послевоенные годы. Однако огромный авторитет Курчатова создавал здоровую атмосферу. Более того, наша работа оказывала благотворное влияние на советскую физику в целом. Однажды, когда я находился в кабинете Курчатова, раздался звонок из Москвы: «Так что же, печатать в «Правде» статью философа, опровергающую теорию относительности?» Игорь Васильевич, ни на минуту не задумываясь, ответил: «Тогда можете закрывать все наше дело». Статья не была напечатана.
К середине 50-х годов некоторые первоочередные задачи были уже решены. Появились и новые веяния, вехами разрядки стали Женевская конференция по мирному использованию атомной энергии и знаменитый доклад Курчатова в Харуэлле (Англия) о термоядерных реакциях. Часть работ, связанных с прикладной тематикой, представляла общенаучный интерес и была {398} опубликована. Сюда относятся работы по сильным ударным волнам, их структуре и их оптическим свойствам.
Интерес к явлениям, происходящим при высокой температуре, привел также к принципиальной постановке вопроса об установлении термодинамического равновесия между фотонами и электронами. Специфика заключалась в том, что при достаточно высокой температуре рассеяние становится превалирующим над излучением и поглощением. Блестящую работу на эту тему выполнил А. С. Компанеец. Она была опубликована в 1965 г. и оказалась необычайно важной для космологии и астрофизики, для плазмы горячей Вселенной и для излучения вещества, падающего в поле тяготения черной дыры.
Работа в области теории взрыва психологически подготавливала к исследованию взрывов звезд и самого большого взрыва — Вселенной как целого.
Одновременно производственная работа стимулировала интерес к ядерной физике и физике нейтронов. В 50-е годы отсюда было рукой подать до физики элементарных частиц. Огромное стимулирующее впечатление на меня оказала тонкая книга Энрико Ферми «Теория элементарных частиц». В английском издании, которым я пользовался, но не в русском переводе» на суперобложке издатель (не Ферми) дал следующее предуведомление:
«Книга издается на средства некоей богатой дамы, завещанные для доказательства бытия Божия. Раскрытие законов природы и их гармонии доказывает существование Бога лучше, чем теологические трактаты».
Если под бытием Божиим подразумевать объективность законов природы, существующих независимо от наших познаний и желаний, то под этим тезисом может подписаться любой философ-марксист.
В порядке самообразования я проработал самое лучшее изложение общей теории относительности — вторую часть «Теории поля», 2-го тома курса теоретической физики Ландау и Лифшица.
Хочу еще раз подчеркнуть огромную роль, которую сыграло для меня общение с Львом Давидовичем Ландау. В Казани, а потом в Москве мы жили рядом, тесно соприкасаясь по работе. Возможность прийти к нему, посоветоваться, принести на его суд свои предположения, замыслы, работы — все это ощущалось как огромное благо. О трагедии января 1962 г., когда Ландау перестал быть физиком-теоретиком (хотя он и оставался в живых), я узнал находясь далеко от Москвы. Незабываемы тревожные дни, недели, месяцы борьбы за спасение его жизни, сплоченность физиков, перешагнувшая государственные границы. Школа, созданная Ландау, сохранилась! Она живет в лице тех, кто продолжает монументальный «курс теоретической физики» — Е.М. Лифшица, Л. П. Питаевского. Она живет в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау АН СССР. Его организация, подбор людей, поддержание высочайшего профессионального уровня теоретиков — это огромная заслуга И. М. Халатникова и его сотрудников. К школе Ландау в узком смысле можно отнести и теоретический отдел Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР — детище И. Я. Померанчука, возглавляемое в настоящее время Л. Б. Окунем. В широком же смысле идеи и методы Ландау вместе с идеями и методами других выдающихся советских теоретиков (кратко я перечислил их выше) органически вошли во всю советскую теоретическую физику. {399}
Возвращаясь к мемуарному жанру, хочу сказать, что работа с Курчатовым и Харитоном дала мне очень много. Главным было и остается внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне определенное моральное право заниматься в последующий период такими вопросами, как частицы и астрономия» без оглядки на практическую ценность их. Выше я писал о том, как вызревал научный интерес к этим вопросам. Надо вместе с тем самокритично сказать о моих слабостях и трудностях, с которыми я столкнулся при новом повороте своей научной деятельности. Напомню, что в 1964 г. я официально перешел в Институт прикладной математики АН СССР (ИПМ), организованный М.В. Келдышем еще в 1953 г. После его смерти руководит этим институтом А. Н. Тихонов. В этом институте я проработал 19 лет (до перехода в Институт физических проблем в начале 1983 г.).
До перехода в ИПМ работы мои по частицам и астрономии были внеслужебными, в какой-то мере необязательными — и сейчас я вижу, что это отразилось на их качестве. До недавнего времени я гордился тем, что получал максимум физических результатов при определенном, довольно элементарном запасе математических знаний, но сейчас, и особенно в связи с теорией элементарных частиц, передо мной встает обратная сторона этого утверждения. А почему, собственно, надо ограничиваться определенным, скромным объемом математических знаний? Однако об этом я думаю сейчас применительно к физику-теоретику профессионалу.
Есть совершенно другой вопрос о том, как начиналось обучение математике в средней школе. Когда подрастали мои дети, я просмотрел школьные учебники и решил написать новый. Так возникла книга «Высшая математика для начинающих физиков и техников».
Привожу часть моего письма, опубликованного в американском журнале «Физика сегодня» (сент., с. 95), в связи с дискуссией в этом журнале о причинах снижения уровня преподавания физики в США.
«В связи с обсуждением того, как учить молодое поколение физике, я хотел бы упомянуть одну общую трудность.
Законы физики сформулированы в виде дифференциальных уравнений: таковы, например, ньютоновские законы движения материальной точки, твердого тела или же гироскопа. Максвелловские законы электромагнитного поля — это уравнения в частных производных, так же записываются и законы газодинамики. Школьники способны понять весь этот материал.
Однако точнее будет утверждать, что они не способны глубоко понимать и любить физику, если нужный для этого запас математических терминов отсутствует. Вот мое главное замечание: в большинстве случаев обучение математическому анализу начинается с опозданием и включает затруднительные элементы теории множеств и пределов.
Так называемые «строгие» доказательства и теоремы существования гораздо сложнее, нежели интуитивный подход к производным и интегралам.
В результате нужные для понимания физики математические идеи достигают школьников слишком поздно. Так же можно подавать соль и перец не на обед, а чуть позже — к пятичасовому чаю.» Но вернемся к той математике, которая используется, работает в современной теоретической физике. {400} Теория частиц в огромной степени развивается под влиянием опережающих математических идей и по направлениям, которые указывает математическое изящество. Не буду вспоминать хрестоматийный пример дираковской теории релятивистского электрона, приводящий к понятию античастиц. Обратимся к изотопической инвариантности. Экспериментально наблюдалась дискретная симметрия: замена протона на нейтрон (или обратная замена) в одинаковом квантовом состоянии не меняет энергии ядра. Однако Гейзенберг счел необходимым ввести непрерывную группу вращения в изотопическом пространстве, плавно переводящую нейтрон в протон при повороте на 180° через мистические промежуточные состояния! Не самая простая, а более сложная и более изящная формулировка оказалась более плодотворной. Глубина Гейзенберговской формулировки проявилась при переходе от ядер к мезонам. Особенно ярко заиграли понятия, построенные по аналогии с изотопическим вращением в связи с теорией цвета кварков, градиентной инвариантностью, теорией Янга-Миллса.
Не буду подробно описывать свои работы по частицам — они приведены в этой книге и весьма квалифицированно прокомментированы. Из комментариев, отмывая их от юбилейной вежливости, видно, сколько ошибок я делал. Ошибок еще больше в работах опубликованных, но не помещенных в данном собрании трудов.
Выше в предлагаемой книге помещены мои работы в области астрофизики и комментарии к ним. Оспаривать эти комментарии нецелесообразно. Сегодня наиболее значимой отдельной работой мне представляется нелинейная теория образования структуры Вселенной, или, как сейчас кратко ее называют, теория «блинов». Структура Вселенной, ее эволюция и свойства того вещества, которое образует скрытую массу, до сих пор не установлены окончательно. Большую роль в этой работе сыграли А. Г. Дорошкевич, Р. А. Сюняев, С.Ф. Шандарин и Я.Э. Эйнасто. Работа продолжается. Однако теория «блинов» красива сама по себе; если выполнены исходные предположения, то теория дает правильный и нетривиальный ответ. Теория «блинов» является вкладом в синергетику. Мне особенно приятно было узнать, что эта работа в какой-то мере инициировала математические исследования В. И. Арнольда и других. Большой объем работ по спектру реликтового излучения при наличии возмущений «повис в воздухе» — Вселенная оказалось очень гладкой, возмущения слишком малы.
Выжила и представляет большой интерес предложенная мной вместе с Р. А. Сюняевым диагностика горячей плазмы по рассеянию реликтового излучения с искажением спектра. В значительной мере моя работа (вместе с ближайшими моими сотрудниками, прежде всего Р. А. Сюняевым, А. Г. Дорошкевичем, С.Ф. Шандариным и — до 1978 г. — И. Д. Новиковым) в области астрофизики оказалась пропагандистской, популяризаторской и педагогической. Все это нужно и полезно, однако расценивается по другим категориям по сравнению с получением оригинальных результатов.
В начале астрофизической деятельности мне мешали навыки, приобретенные в ходе практической деятельности. Астрофизик должен ставить вопросы: как устроена природа? какие наблюдения дадут возможность выяснить это?
| {401} |
 |
Я. Б. Зельдович, 1987 г. |
Между тем, я ставил задачу скорее так: как лучше устроить Вселенную, или как устроить пульсар, чтобы удовлетворить данным техническим условиям — простите, я хотел сказать: первым наблюдениям. Так появилась идея холодной Вселенной, так появилась идея пульсара — белого карлика в состоянии сильных радиальных колебаний. В оправдание свое могу только сказать, что я не упорствовал в своих заблуждениях. По-видимому, все же в целом деятельность моя — научная и пропагандистская — была полезна. Астрономы приняли меня в свои ряды. С астрономическими работами связано избрание меня в Национальную академию США и в Королевское общество, золотые медали Общества астрономов Тихоокеанского побережья и Королевского астрономического общества. Большой честью для меня было поручение прочесть {402} доклад о современной космологии на XIII Генеральной ассамблее Международного Астрономического Союза. Греция, колоннада древнего театра, надо мной черное звездное небо, слушатели на мраморных скамьях, мое волнение перед докладом и во время доклада и счастливое завершение. Жизнь продолжается, И; космология углубляется в область, где физика далеко оторвалась от экспериментальной проверки. Новое поколение теоретиков говорит не о первых трех минутах или секундах, не о ядерных реакциях и плазме. Обсуждаются процессы на «планковской» длине 10–33 см, за «планковское» время 10–43с с «планковской» энергией 1019 ГэВ. Лидируют С. Хокинг, А. Д. Линде, А. А. Старобинский, А. Гус и другие. В теории поля рассматриваются 5-, 11-, 26-мерные пространства. В лабораторных условиях они обязательно будут имитировать наше привычное (3+1) пространство-время, лишние измерения спрячутся, свернутся, оставляя следы лишь в систематике частиц и полей. Приходят 20-летние ребята, сразу, без груза предыдущих работ и традиций, берущиеся за новую тематику. Не выгляжу ли я среди них мастодонтом или археоптериксом?
Меня утешает перестройка психики с возрастом. В настоящее время (за несколько дней до 70-летия) меня уже меньше интересуют соревновательные мотивы, скажу ли именно я то «ээ», из-за которого спорили Бобчинский и Добчинский. Конечный результат, физическая истина меня интересует почти независимо от того, кто ее найдет первым. Хватило бы мне сил понять ее!
Человечество, как никогда, находится на пороге замечательных открытий. Все ярче выступает идея всеобъемлющей физической теории, все большую роль играет геометрия. Может быть, в высшем смысле, не буквально, окажется прав Эйнштейн, а его теория, сводящая силы тяготения к геометрии, окажется моделью всеобъемлющей теории.
Возможно, что именно космология окажется пробным камнем для проверки новых теорий. Тогда я вспоминаю работы С. С. Герштейна, В. Ф. Шварцмана, С. Б. Пикельнера, Л. Б. Окуня, И. Ю. Кобзарева, М. Ю. Хлопова и мои как первые робкие применения космологических аргументов для решения недоступных сегодняшнему эксперименту вопросов теории частиц. Вместе с Л. П. Грищуком и А. А. Старобинским мы пытаемся продвинуться в анализе рождения Вселенной. В середине 80-х годов в тугой узел сплетаются самые трудные и самые принципиальные вопросы естествознания. Нет у меня желания более сильного, чем желание дождаться ответа и понять его.
Москва, 3 марта 1984 г.
| {403} |
1. Теория горения и детонации. М.: Изд-во АН СССР, 1944. 71 с.
2. Теория ударных волн и введение в газодинамику. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
3. Окисление азота при горении. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 145 с. (Совм. с П. Я. Садовниковым и Д. А. Франк-Каменецким.)
4. Расчеты тепловых процессов при высокой температуре. М.-Л., 1947. 68 с. (Совм. с А. И. Полярным.)
5. Тепловой взрыв и распространение пламени в газах. М.: Моск. мех. ин-т, 1987. 294 с. (Совм. с В. В. Воеводским.)
6. Турбулентное и гетерогенное горение. М.: Моск. мех. ин-т, 1947. 251 с. Совм. с Д. А. Франк-Каменецким.)
7. Теория детонации. 2-ое изд., испр. и доп. М.: Гостехиздат, 1955. 268 с. (Совм. с Л. С. Компанейцем.)
8. The theory of detonation. N.-Y.: Acad, press, 1960.330 p. (In coll. with A. S. Коmpaneetz.)
9. Импульс реактивной силы пороховых ракет. 2-е изд., испр. и доп. М.: Оборонгиз, 1963. 186 с. (Совм. с М.А. Ривиным и Д. А. Фракк-Каменецким.)
10. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1966. 686 с. (Совм. с Ю.П. Райзером.)
11. Physics of shock waves and high-temperature hydrodynamics phenomena. N.-Y.: Acad, press, 1966, V. 1. 464 p.; V.2. 451 p. (In coll. with Yu.P. Raiser.)
12. The reactive power impulse of powder rocket. Springfield (Va): CFST1, 1966. 194 p. (In coll. with M.A. Rivin and DA. Frank-Kamenetsky.)
13. Elements of gasdynamics and the classical theory of shock waves. N.-Y., L: Acad, press, 1968. Ill p. (In coll. with Yu.P. Raiser)
14. Теория нестационарного горения пороха. М.: Наука, 1975. 132 с. (Совм. с О.И. Лейпунским и В. Б. Либровичем.)
15. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980. 487 с. (Совм. с Г.#. Баренблаттом, В. Б. Либровичем и Г.М. Махвиладзе.)
16. The mathematical theory of combustion and explosions. N.-Y.: Plenum, 1985. 597 p. (with G.I. Barenbtatt, V.B. Librovlch and G.M. Makhviladze.) {404}
17. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике. М.: Наука, 1960,576 с.1)
18. Высшая математика для начинающих физиков и техников. М.: Наука, 1982. 512 с. (Совм. с И.М. Ягломом.)
19. Элементы прикладной математики. М.: Наука, 1967. (Совм. с А.Д. Мышкисом.)2)
20. Элементы математической физики. М.: Наука, 1973. 352с. (Совм. с А.Д.Мышкисом.)
21. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1971. 544 с. (Совм. с А.И. Базем и A.M. Переломовым.)
22. Легкие и промежуточные ядра вблизи границ нуклонной стабильности. М.: Наука, 1972. 172 с. (Совм. с А.И. Базем, В.И. Гольданским и В.З. Гольдбергом.)
23. Релятивистская астрофизика. М.: Наука, 1967. 656 с. (Совм. с И. Д. Новиковым.)3)
24. Теория тяготения и эволюция звезд. М.: Наука, 1971, 484 с. (Совм. с И.Д. Новиковым.)
25. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975. 735 с. (Совм. с И.Д. Новиковым.)
26. Турбулентное динамо в астрофизике. М.: Наука, 1980. 352 с. (Совм. с С. И. Вайнштейном и А.А. Рузмайкиным.)
27. Magnetic fields in astrophysics. N.-Y., L.: Gordon and Breach Sci. Publ. Inc., 1983. 358 p. (With A.A. Ruzmaikin and D.D. Sokolov.)
28. Физические основы строения и эволюции звезд. М.: Изд-во МГУ, 1981. 160 с. (Совм. с С. И. Блинниковым и Н, И. Шакурой.)
29. Драма идей в познании природы. М.: Наука, 1988. 239 с. (Совм. с М.Ю. Хлоповым.)
30. Моя Вселенная. Таллин: Валгус, 1990. 181 с. (на эстонском языке).
31. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика. М.: Наука, 1984. 374 с.
32. Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. М.: Наука, 1985. 463 с.
Аврорин Евгений Николаевич (р. 1932), академик РАН (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Технической физики им. Е. И. За-бабахина, Снежинск, Челябинская обл.
Альтшулер Лев Владимирович (1913–2003), профессор, доктор физ.-натем. наук (физика высоких давлений); НИЦ Тепловые импульсные воздействия НО Институт высоких температур РАН, Москва.
Арнольд Владимир Игоревич (р. 1937), академик (математика); Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва.
Бавыкин Игорь Борисович (р. 1937), создатель уникального фотоархива, посвященного ученым, заведующий фотолабораторией Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва.
Баренблатт Григорий Исаакович (р. 1927), профессор, доктор физ.-матем. наук (гидродинамика и механика сплошных сред); Институт океанологии им. П. Л. Ширшова РАН, Москва, Калифорнийский университет, Беркли, США.
Бисноватый-Коган Геннадий Семенович (р. 1941), доктор физ.-матем. наук (теоретическая астрофизика и общая теория относительности); Институт космических исследований РАН, Москва.
Бондаренко Борис Дмитриевич (1925–2006), доктор техн. наук (ядерная физика, ударные волны, процессы горения и взрыва); ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская обл.
Бонне Роже М. (p. 1938), директор научных программ Европейского космического агентства (солнечно-земная физика и астрофизика); Париж.
Вассербург Дж.Д. (р. 1927), член Национальной Академии наук США, заслуженный профессор Дж.Д. Макартура (геохимия, космохимия); Калифорнийский технологический институт, Пасадена, США.
Гельфанд Борис Ефимович (р. 1941), профессор, доктор физ.-матем. наук (физическая химия, процессы горения и взрыва); Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва.
Герштейн Семен Соломонович (р. 1929), академик РАН (ядерная физика, физика элементарных частиц, космология); Институт физики высоких энергий РАН, Протвино Московской обл.
Гинзбург Виталий Лазаревич (р. 1916), академик РАН (экспериментальная и теоретическая физика); Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва.
Голицын Георгий Сергеевич (р. 1935), академик РАН (физика атмосферы); Институт физики атмосферы им. A.M. Обухова РАН, Москва.
Гольданский Виталий Иосифович (1923–2001), академик РАН (химическая физика, ядерная физика). {406}
Гончаров Герман Арсеньевич (р. 1928), профессор, доктор ф.-м.н. (теоретическая физика), Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров.
Грищук Леонид Петрович (р. 1941), профессор, доктор физ.-матем. наук (теоретическая астрофизика); Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Москва.
Гуревич Исай Израилевич (1912–1992), член-корреспондент РАН (экспериментальная ядерная физика).
Дорошкевич Андрей Георгиевич (р. 1936), доктор физ.-матем. наук (теоретическая астрофизика и космология); Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Москва.
Долгов Александр Дмитриевич (р. 1941), доктор физ.-матем. наук (физика элементарных частиц и космология); Институт теоретической и экспериментальной физики РАН, Москва.
Дубовицкий Федор Иванович (1907–1999), член-корреспондент РАН (химическая физика, процессы горения).
Захаров Владимир Евгеньевич (р. 1939), академик РАН (ядерная физика); Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, Черноголовка, Московской обл.
Захарченя Борис Петрович (1928–2005), академик РАН (физика твердого тела).
Илькаев Радий Иванович (р. 1938), академик РАН (ядерная физика); директор Российского Федерального ядерного центра — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл.
Иоффе Борис Лазаревич (р. 1926), член-корреспондент РАН (физика элементарных частиц); Институт экспериментальной и теоретической физики РАН, Москва.
Киилер Р. Норрис (р. 1930), профессор, декан физического факультета Калифорнийского университета (физика экстремальных состояний), Беркли, США.
Киржниц Давид Абрамович (1926–1998), член-корреспондент РАН (теоретическая ядерная физика).
Константинова Наталья Александровна, преподаватель англ. языка, кафедра иностранных языков РАН, дочь известного радиофизика А. П. Константинова.
Лейпунский Овсей Ильич (1910–1989), профессор, заслуженный деятель науки (процессы горения и взрыва, физика кристаллов).
Литвинов Борис Васильевич (р. 1929), академик РАН (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Технической физики им. Е. И. Забабахина, Снежинск, Челябинской обл.
Лонгейр Малькольм Сим (р. 1941), профессор натуральной философии Кембриджского университета и директор Кавендишской лаборатории, Кембридж, Великобритания.
Манелис Георгий Борисович (р. 1930), профессор, доктор физ.-матем. наук (кинетика, процессы горения и взрыва конденсированных систем); Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Черноголовка Московской обл.
Махвиладзе Георгий Михайлович (р. 1945), профессор, доктор физ.-матем. наук (процессы горения и взрыва); Институт прикладной механики РАН, Москва. {407}
Мелотт Адриан JI. (р. 1947)! профессор факультета физики и астрономии Канзасского университета (вычислительная астрономия, магнитная гидродинамика), США.
Мержанов Александр Григорьевич (р. 1931), академик РАН (общая структурная макрокинетика, теория горения); Институт структурной макрокинетики РАН, Черноголовка Московской обл.
Местел Леон (р. 1927), почетный профессор астрономии Сассекского университета, член Королевского общества, Брайтон, Великобритания.
Михайлов Виктор Никитович (р. 1934), академик (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров; Институт стратегической стабильности, Москва.
Морозов Виталий Григорьевич (р. 1933), доктор физ.-матем. наук, профессор (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров.
Моффзтт Кейт (р. 1935), почетный профессор (теоретическая астрофизика и гидродинамика), член Королевского общества; факультет прикладной математики и теоретической физики, центр математических наук Кембриджского университета, Великобритания.
Мохов Владислав Николаевич (р. 1931), доктор физ.-матем. наук, профессор (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров Нижегородской обл.
Мышкис Анатолий Дмитриевич (р. 1920), профессор, доктор физ.-матем. наук (математика); Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Москва.
Новиков Игорь Дмитриевич (р. 1935), член-корреспондент РАН (теоретическая астрофизика и общая теория относительности); Астрокосмический центр ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, Москва.
Новиков Станислав Александрович (1933–2005), доктор технич. наук, профессор (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров.
Овчинникова Марина Яковлевна, доктор физ.-матем. наук (атомно-молекулярные процессы); Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва.
Окунь Лев Борисович (р. 1929), академик (физика элементарных частиц); Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва.
Пиблс Филип Джеймс Эдвин (р. 1935), член Национальной Академии наук США, почетный эйнштейновский профессор Принстонского университета (космология).
Пинаев Виктор Семенович (1935–2003), доктор физ.-матем. наук. Теоретический отдел Российского Федерального ядерного центра — Всероссийский научно-исследовательский институт, Саров.
Подурец Михаил Александрович (р. 1927) доктор физ.-матем. наук (астрофизика и физика ударных волн), Российский Федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл.
Полнарев Александр Григорьевич (р. 1949), доктор физ.-матем. наук (общая теория относительности); Астрокосмический центр ФИАН РАН, Москва; колледж Королевы Марии, Лондон. {408}
Рузмайкин Александр Андреевич (р. 1944) доктор физ.-матем. наук (магнитная гидродинамика)» Лаборатория реактивного движения Калифорнийского Технологического института, США.
Сажин Михаил Васильевич (р. 1931), профессор, доктор физ.-матем. наук (общая теория относительности и гравитационные волны); Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Москва.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989), академик РАН (ядерная физика, физика плазмы, элементарные частицы, астрофизика).
Сахарова Татьяна Андреевна, кандидат биологических наук, дочь А. Д. Сахарова, Москва.
Сена Лев Аронович (1908–1997), профессор, доктор физ.-матем. наук (физика плазмы и газового разряда).
Смирнов Юрий Николаевич (р. 1937), кандидат физ.-матем. наук (теоретическая физика); Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва.
Сюняев Рашид Алиевич (р. 1943), академик РАН (рентгеновская астрономия, космология, теоретическая астрофизика); Институт космических исследований РАН, Москва.
Тодес Оскар Моисеевич (1910–1989), профессор, доктор физ.-матем. наук (молекулярная физика, физическая химия, процессы горения).
Торн Кип С. (р. 1940), член Национальной академии наук США, иностранный член РАН, фейнмановский профессор теоретической физики (общая теория относительности и гравитация); Калифорнийский технологический институт, США.
Трунин Рюрик Федорович (р. 1933), доктор физ.-матем. наук (экспериментальная физика и газодинамика), Российский Федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский Институт экспериментальной фишки, Саров, Нижегородская обл.
Трутнев Юрий Алексеевич (р. 1927), академик РАН (ядерная физика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров.
Феоктистов Лев Петрович (1928–2002), академик РАН (ядерная физика).
Фортов Владимир Евгеньевич (р. 1946), академик РАН (физика высоких плотностей энергий), директор института теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН.
Френкель Виктор Яковлевич (1929–1997), профессор, доктор физ.-матем. наук (теоретическая физика, история науки).
Фридман Алексей Максимович (р. 1940), академик РАН (астрофизика, физика плазмы), институт Астрономии РАН, Москва.
Харитон Юлий Борисович (1904–1996), академик (химическая физика, ядерная физика и техника).
Хлопов Максим Юрьевич (р. 1951), доктор физ.-матем. наук (элементарные частицы и космология); Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Москва.
Холин Сергей Александрович (р. 1937), доктор физ.-матем. наук, профессор (ядерная физика, космология)! Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров. {409}
Цукерман Вениамин Аронович (1913–1993), профессор, доктор физ.-матем. наук (ядерная физика и физика высоких давлений), заслуженный изобретатель России.
Черепащук Анатолий Михайлович (р. 1951), академик РАН (релятивистская астрофизика); Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, Москва.
Чернин Артур Давидович (р. 1939), профессор, доктор физ.-матем. наук (теоретическая астрофизика и космология), Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга. Москва.
Шехтер Анна Борисовна, профессор, доктор физ.-матем. наук (кинетика химических реакций в разряде, катализ), Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва.
Ширяева Анна Яковлевна, дочь Я. Б. Зельдовича, экономист, Прага.
Якубов Валерий Борисович (р. 1940), доктор физ.-матем. наук (ядерная физика, гидродинамика); Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ Экспериментальной физики, Саров.
 |
 |
Мать — Анна Петровна Зельдович (1890—1975) |
 |
Отец — Борис Наумович Зельдович (1889-1943) |
 |
С отцом Борисом Наумовичем и матерью Анной Петровной |
 |
В Ленинграде, 1938 г. |
 |
Жена — Варвара Павловна Константинова |
 |
В Казани, 1942 г. |
 |
Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров и Д. А. Франк-Каменецкий |
 |
С сыном Борисом, 1954 г. |
 |
С профессором В. Телегди на конференции |
 |
Я. Б. Зельдович, 1960 г. |
 |
С детьми и зятем |
 |
С женой В. П. Константиновой. Варшава, 1970 г. |
 |
С А. Уиллером, С. Чаидрасекаром и И. Новиковым |
 |
Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон и Н. Н. Семенов |
 |
Международный съезд по горению. |
 |
С Я. Мансоном и Ли. |
 |
В ИКИ АН СССР, Москва. Слева направо: директор института Макса Планка |
 |
С академиком Р. А. Сюняевым в Казани |
 |
С Лейпунским О. И. ИХФ АН СССР, Москва, 1980 г. |
 |
В ГАИШ с Р. Сюняевым, А. Рожанским, Н. Шакурой, В. Руденко, |
 |
Во время съемок фильма о Н. Н. Семенове. Слева направо: Я. Б. Зельдович, |
 |
Я. Б. Зельдович с женой А. Я. Васильевой (в центре) и коллегами |
 |
С академиками И. Халатниковым и Г. Флеровым, Москва, 1984 г. |
 |
Я. Б. Зельдович, его жена А. Я. Васильева, жена Э. Солпитера Мика, |
 |
На конференции, 80-е годы. |
 |
С Ю. Б. Харитоном на общем 150-летнем юбилее |
 |
С академиками А. Д. Сахаровым и Р. А. Сюняевым |
 |
С И. С. Шкловским |
 |
Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II. Ватикан, 1985 г. |
 |
В Национальной академии наук США. Вашингтон, май 1987 г. |
 |
С женой И. Ю. Черняховской на приеме в английском посольстве. |
 |
С женой И. Ю. Черняховской |
1) Составлена на основе автобиографии Я. Б. Зельдовича из его личного дела, хранящегося в Архиве РАН.
1) Коллоидно-электрохимический институт; его директором был А. Н. Фрумкин.
1) Об этом Зельдович позднее писал в статье о Константинове «Памяти друга» (см. в наст. сборнике).
1) Она хранится в фонде Я. И. Френкеля в Ленинградском отделении Архива РАН.
1) Вопросы современной экспериментальной и теоретической физики. Л., 1984, С. 82.
1) См. в наст. сборнике.
1) «Кто слишком много читает, никогда не будет читаем».
1) Источник: С. С. Илизаров, зав.Отдела «Архив науки и техники», д.и.н. Статья «Академический июнь 1958-го». Газета «Московская правда», 1994 г., 19 июля.
1) См. в наст. сборнике.
1) Баренблатт Г. И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика. Л: Гидрометеоиздат, 1982. С. 10.
2) Выступление А. Д, Сахарова на панихиде см ниже. (Прим. сост.)
1) Бурбаки — сообщество замечательных французских математиков, публиковавших свои труды под общим псевдонимом. Сам Бурбаки — французский генерал времен франко-прусской войны.
1) Об этом см.: УФН. 1983. Т. 139. Вып.3. С 511–527.
1) Произнесено 7 декабря 1987 г. в зале Президиума АН СССР, где было прощание с Я. Б. Зельдовичем.
1) Опубликовано в журнале «Nature» 25 февраля 1988 г. Vol.331. P.671–672.
1) Из сборника «Теоретики ВНИИЭФ, прошлое и настоящее». Саров, 2003.
1) Знакомый незнакомый Зельдович (в воспоминаниях друзей, коллег, учеников). — М.: Наука, 1993. — 352 с. — Серия «Ученые России. Очерке, воспоминания, материалы». — ISBN 5-02-007032-7.
2) Советский атомный проект. Конец атомной монополии. Как это было... Авт. коллектив, руководимый академиком Е. А. Негиным. Изд-во «Нижний Новгород», Нижний Новгород–Арзамас-16, 1995. — 204 с. — ISBN 5-88022-037-0. — С. 141–142.
1) Смирнов Ю. Н. «Этот человек сделал больше, чем мы все...» (Andrei Sakharov. Facts of Life. Editions Frontiers, France, 1991, pp. 591–619).
1) Харитон Ю. Б. Ради ядерного паритета // Досье ЛГ. Январь 1990. С. 17–19.
1) Романов Ю. А. Отец советской водородной бомбы // Природа. 1990. №8. С. 20–24.
2) Из отзыва И. Е. Таима о научной деятельности А. Д. Сахарова // Природа. 1990. №8. С. 12.
1) Цукерман В. А., Азарх 3. М. Люди и взрывы // Звезда. 1990. № 11. С. 118.
2) Сб. «Физики о себе». Л: Наука. 1990. С.391.
1) Харитон Ю. Б. Ради ядерного паритета // Досье ЛГ. Январь 1990. С. 17–19.
1) Головин И. Н. Кульминация. Препр. №4932/3. М.: Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова. С. 15.
1) Смирнов Ю. Н. «Этот человек сделал больше, чей мы все...» / Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове. — М.: Практика, 1996. С 573 - 609.
1) Головин И. Н. Кульминаций. Препр. №4932/3. М.: Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова. С. 15.
2) Будкер Г. И. Ускорители со встречными пучками частиц // УФН. 1966. Т. 89. Вып. 4. С/534.
1) Г.И. Будкер часто подписывал свои работы и представлялся как A.M. Будкер
2) Академик Г. И. Будкер. Очерки и воспоминания. Новосибирск: Наука. С. 85.
1) Зельдович Я. Б. Начальные стадии эволюции Вселенной // Атомная энергия. 1963. № 1. С. 92–99.
1) Смирнов Ю. Н. Образование водорода и 4Не во Вселенной на дозвездной стадии (в модели Гамова) // Астрономический журнал. 1964. Т.XII. №6. С. 1084–1089.
1) Сахаров А. Д. Воспоминания. Цит. по «Наука и жизнь». 1991. №4. С. 14.
1) Так, для «обучения» ЯБ β-распаду Ландау порекомендовал ему одного из талантливейших своих учеников — В. В. Судакова.
1) По мере бюрократизации науки остается все меньше ученых высокого ранга, желающих чему-либо публично учиться и тем самым побуждающих к учению начальников менее высокого ранга. Поэтому я нередко с грустью вспоминаю переполненный зал, Курчатова, сидящего в первом ряду с тетрадью, в которую он записывает лекцию ЯБ и время от времени задает вопросы, когда ему что-либо непонятно.
1) Замечу в связи с этим, что важным элементом натурфилософии ЯБ была вера в существование красоты и внутренней связи различных явлений. Помимо этой, оказавшейся совершенно правильной, догадки, я помню, что еще в те годы он неоднократно говорил: «Обратите внимание: константа полуслабого взаимодействия фермионов с промежуточными бозонами имеет размерность электрического заряда. Было бы очень красиво и естественно, если бы она просто равнялась электрическому заряду. Отсюда можно оценить массу промежуточных бозонов». Сам он, забыв, что надо использовать хэвисайдову единицу заряда, получил для массы промежуточных бозонов значение около 30 ГэВ. Если его умножить на пропущенный множитель √4π, то получается значение, весьма близкое к измеренной на опыте массе W-бозона.
1) Характерно, что Ландау также любил поговорить в узком кругу о таких вещах, но старался не упоминать их в своих печатных работах. Это. по-моему, приводило иногда к определенным потерям в науке. Сейчас мало кто знает, что в известной работе Ландау с А. А. Абрикосовым и И.М. Халатниковым первоначально была допущена ошибка в знаке в формуле, связывающей физический и затравочный заряды. Возникающая при этом ситуация очень понравилась Ландау, и он полностью развил философию асимптотической свободы, осуществившейся сейчас в квантовой хромодинамике. Однако, когда А. Д. Галанин и Б. Л. Иоффе указали Ландау на ошибку и он успел исправить статью до ее публикации, в новом варианте (приводящем к нулю-заряду) была опущена прежняя «философия». О ней мало кто знал. Между тем, будь это известно, она, несомненно, помогла бы последующим исследователям квантовой хромодинамики. (Во всяком случае, Ю. Б. Хриплович, заметивший обращения знака в квантовой хромодинамике, говорил мне, что он о ней не знал.)
1) Эта идея содержалась в работе ЯБ, опубликовавшего впервые в 1954 г. (еще до открытия группы Альвареца) оценки, свидетельствующие о возможности наблюдения μ-катализа в смеси изотопов водорода.
1) Любопытно, что в конечном счете предсказание ЯБ оправдалось не только в присуждении АД Нобелевской премии, но и в отношении «ошибок» гениального человека. АД вполне могли уморить в ссылке, однако наступила перестройка и возникло «новое мышление».
1) Около тысячи участников Международной конференции, несмотря на невразумительные объяснения советских делегатов («не явился на аэродром», «не достал билетов» и т.д.) прекрасно разобрались в произошедшем и единодушно приняли официальный протест. Поняв свою оплошность, высокое начальство уже само настояло через год на поездке Окуня на другую международную конференцию- Однако последствия скандала не удалось замять. Наряду с протестом против преследования Сахарова, он явился дополнительным доводом против проведения очередной Рочестерской конференции в Советском Союзе (несмотря на то, что это было запланировано заранее). Тем самым большое число советских физиков было лишено возможности в ней участвовать.
1) Полностью этот отчет опубликован в «УФН» // 1991, Т. 161. Вып. 5. С. 170.
1) См. в этом сборнике воспоминания Л. П. Феоктистова.
2) Вспоминается не очень приличное сравнение ЯБ: «Есть такой вид импотенции, когда человек возбуждается, только увидев, как кто-нибудь уже действует».
1) Это ограничение в западной литературе носит название предела Ли-Вайнберга по именам авторов работы» появившейся одновременно с нашей. Это вполне можно понять. Но мне совершенно непонятно, почему на Западе практически не употребляется термин «ограничение Герштейна-Зельдовича» для массы нейтрино, несмотря на то, что оно было получено еще в 1966 г. и все другие космологические ограничения на массы частиц получаются фактически на основе рассуждений этой работы.
2) Впрочем, надо признаться, что с паразитирующими мэтрами я встречался лишь в художественной литературе и газетной периодике и не знаю, просто ли мне везло в жизни или это общая ситуация в настоящей науке.
1) В этой связи вспоминаются слова, кажется, Ф. Г. Раневской, которая на вопрос, почему она не снимается в новых (в то время) фильмах, ответила; «Гонорары проедаются, а позор остается».
1) В 50-х годах в течение нескольких лет ЯБ работал в теоретическом отделе ИТЭФ по совместительству! потом был уволен по решению «сверху». И. Я. Померанчук (заведующей теоретическим отделом) и А. И. Алиханов (директор ИТЭФ) пытались сопротивляться, но «наверху» были неумолимы: совместительства должны быть запрещены. Такая же участь постигла и Л. Д. Ландау — он тоже тогда был уволен из ИТЭФ. Обсуждения с ЯБ были очень полезны для нас. Мне кажется, что и для ЯБ они были полезны. До сих пор как ценную реликвию берегу оттиск со статьи 1954 г. с дарственной надписью «Дорогому Борису Лазаревичу от благодарного ученика». Хочется думать, что это была не просто шутка.
1) Так получилось, что на заседании редколлегии Собрания трудов ЯБ мне пришла в голову счастливая мысль завершить это издание таким авторским послесловием. Главный редактор Собрания Ю.Б. Харитон счел предложение неожиданным и отнесся к нему сдержанно, но присутствовавший автор сразу же согласился и быстро послесловие написал. В благодарность за идею я получил от ЯБ четыре школьные тетрадки с черновиком. Вообще, я как-то довольно рано понял, что нельзя выбрасывать ни одной бумажки, написанной рукой ЯБ.
1) Свидетельствую, что это утверждение глубоко неправильно. Теперь Гуга (пожелавшая остаться под детским прозвищем) — доктор физико-математических наук, великолепный физик (здесь я опираюсь на мнение многих коллег, прежде всего, на мнение М. А. Леонтовича). Она украшает любое общество, в котором появляется.
1) Эти пятеро и были свидетелями обвинения на суде. Поскольку я знал отцовских товарищей, они пытались но мне подойти. По древнему обычаю, я очертил вокруг себя круг и предупредил, что плюну, если войдут. Когда отец освободился, все трое продолжали у него лечиться — ничего не поделаешь, отец давал клятву Гиппократа.
2) В то время ЯБ постоянно очень цветисто выражался; я не нашел многих из употреблявшихся им слов не только в Толковом словаре В. Даля, но и в дополнении к нему, вышедшему под редакцией известного слависта Бодуэна де Куртене. После перехода на работу в Академию наук в 1964 г. эта привычка у ЯБ исчезла примерно в течение года. Исчезла вроде бы бесследно, но когда он начинал даже чисто технический разговор о разного рода современном оружии (в том числе, о проблеме «ядерной зимы»), привычка восстанавливалась с прежней силой. Было бы интересно объяснить это явление с точки зрения учений Павлова и Фрейда.
1) Еще раньше такой претендент появился в математике. В Московском математическом обществе он выступил с лекцией о вейсманизме-морганизме в математике, начав со следующих слов: «Один видный московский математик, ознакомившись с наметками моего доклада, сказал мне, что я дурак...» Л. А. Люстерник, замечательный математик и по-настоящему хороший поэт, пожевал губами и пустил по рядам эпиграмму:
Сказали мне, что я дурак, И доказал я досконально, В докладе длинном и нахальном. Что это — так! Сейчас докладчик уже давно известен своими левыми выступлениями. Еще при И. Г. Петровском он хотел перейти в Московский университет на кафедру философии. ИГ ему в этом отказал.
1) В современных терминах такое уравнение — это SL(2)-связность над окружностью.
1) «Придется вызвать Вас на дуэль», — сказал мне ЯБ, когда я процитировал ему Ньютона: «Математики, которые все открывают, исследуют и доказывают, должны довольствоваться ролью сухих вычислителей и чернорабочих; другой [физик. — В. А.], который не может ничего доказать, но все схватывает на лету и на все претендует, уносит всю славу как своих предшественников, так и своих последователей».
1) Связь этого предмета с аномалиями квантовой теории поля и многозначным действием Полякова в то время не была, конечно, известна; эта связь была указана С.П. Новиковым лишь через десять лет.
1) Я приписывал эти манеры влиянию на математиков Л. Д. Ландау, пока не узнал, что не имеющий с Ландау ничего общего академик — председатель ученого совета математиков, переврав фамилию оппонента во время защиты диссертации, оправдывался со словами: «Ну ничего, не велика птица».
1) См. Блехман И. И., Мышкис А. Д., Пановко Я. Г. Механика и прикладная математика. Логика и особенности приложений математики. — М.: Наука, 1983.
2) Все даты установлены по моим дневникам, почтовым штемпелям на письмах и т. д.
1) Любопытно, что ВМН оказалась в числе двух книг, охарактеризованных Л. Берсом (президентом Американского математического общества, возглавлявшим отделение математики Национальной академии наук США) как «весьма нестандартные» и оказавшие на него влияние в его интересном курсе математического анализа, вышедшем в русском переводе в 1975 г. Этот полезный курс из-за малости тиража (33000) плохо известен нашим преподавателям.
1) Проигрыватели пластинок сейчас ушли в далекое прошлое. Если бы я решился работать над конвекцией во вращающейся жидкости не в 1979 г. (я провел свои измерения скоростей в течение нескольких выходных в январе 1980 г.), а лет 15–20 спустя, я начал бы с написания заявки в РФФИ, или в INTAS, ждал бы около года с ответом и с приходом денег в Институт, мастерская у нас уже практически мало чего могла делать, даже если бы вращающийся стол был бы изготовлен, надо было бы искать студента или аспиранта для проведения измерений и т. д. и т. п. Ушли бы годы и годы на выполнение подобных измерений и их анализ.
1) Головин И.Н., Смирнов Ю.Н. Это начиналось в Замоскворечье. Препр. №49263. М.: Ин-т атомной энергии им. И. В. Курчатова, 1989.
1) Юнг Р. Ярче тысячи солнц. М., 1961.
2) Зельдович Я. Б., Райзер Ю. П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явления. М., 1963; Альтшулер Л. В. Применение ударных волн в физике высоких давлений // УФН. 1965. Т. 85. Вып. 2. С. 197–258; Физика высоких плотностей энергий. М.: Мир. 1974.
1) См. сноску 2 на с. 254.
2) Nellis W.J., Moriarty I.A. et al. Metals Physics at Ultra High Pressure: Aluminium, Copper and Lead as Prototypes. // Phys. Rev. Let. 1988, Vol.60. № 14. P. 1414–1417.
3) Зельдович Я. Б. Исследования уравнений состояния с помощью механических измерений // ЖЭТФ, 1957. Т. 32. С. 1957–1958.
1) Цукерман В. А., Азарх З. М. Люди и взрывы // Звезда. 1990. № 11. С. 93–122.
1) Теллер Е. Физика высоких плотностей энергии / Под ред. П. Кальдирола, Г. Кнопфеля, М.: Мир, 1974.
1) См. в этом сборнике статью Р. Н. Киилера
1) Из статьи в журнале «Успехи физических наук», 1995, том 165, № 5, стр. 595–598.
1) Тори К. С, Арнетт В. Д. Предисловие к переводу на английский язык книги: Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Релятивистская астрофизика. Т. 1. 1971. Чикаго. Юниверсити пресс.
1) По правилам, после окончания аспирантуры молодой специалист обязан был 3 года работать в институте, куда его распределили.
1) Сахаров А. Д. Многолистная модель Вселенной. Препринт Института прикладкой математики АН СССР; Новиков И. Д., Сахаров А. Д. Релятивистский коллапс и топологическая структура Вселенной. Препринт №7. 1970. С. 17.
1) Речь идет о двухтомнике избранных трудов Я. Б. Зельдовича: 1-й том «Химическая физика», 2-й том «Ядра, частицы, Вселенная». (Прим. сост).
2) Перевод статьи см. на с. 111 наст. сборника.
1) Биография Я.Б. Зельдовича, автор — Виталий Гинзбург, Biog. Mem. Roy. Soc. Lond., том 40, с. 429–441 (1994).
1) Сейчас известен как Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, один из ведущих институтов в России.
1) Первая работа Зельдовича была опубликована в 1932 г., когда ему было 18 лет.
1) Перевод предварительной (1989) версии гл. 12 книги К. С. Торна, Черные дыры и искажения времени (Нортон, Нью-Йорк, 1994).
1) Здесь и ниже я восстановил суть сказанного нами. Идеи, как я их описываю, соответствуют прозвучавшим в разговорах, но не дословно. Я перевел наш разговор на язык более доступный, чем мы обычно использовали.
1) Вопросы философии. 1985. №6. С. 57–62.
1) Наука в СССР. 1984. №5. С. 109–112.
1) Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. М., 1985. С.435–446.
1) Подробно об истории развития теории детонации см. в книге «Химическая физика и гидродинамика», в статьях и комментариях к ним.
1) Полный список публикаций Я. Б. Зельдовича (490 работ) опубликован в сборниках «Избранные труды». (Здесь и далее прим. сост.).
1) Книга издавалась пять раз в СССР и в России, была издана в Венгрии, Болгарии, Польше, Японии.
2) Книга издавалась три раза в СССР и в России. Издательство «Мир» выпустило книгу на английском, французском и арабском языках. Она была издана в Венгрии и Болгарии:
3) Имеются американские и английские издания соответствующих книг.
| {415} |
Yakov Borisovich Zeldovich
Ya.B. Zeldovich was an outstanding scientist, who made enormous contributions to many branches of science. He was unique in his scientific work — from physics of combustion and flame through the nuclear weapon to the very heart of astrophysics and cosmology. The famous English physicist S. Hawking believed for a long time that his name was a pseudonym of a group of scientists like Burbaki, so great were the results he achieved. According to Landau, nobody else, except Fermi, had such riches of new ideas.
The book presents the memoirs of friends, colleagues and apprentices, in particular of many world-known scientists, some archives documents and letters. So unknown image of Zeldovich, his lift in science at various periods up to his last days appears before the readers.
| {416} |
ЯКОВ БОРИСОВИЧ ЗЕЛЬДОВИЧ
(ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ)
Редактор М.Б. Козинцова
Оригинал-макет: Л.К. Попкова, И.В. Шутов
Оформление переплета: Н.В. Гришина
Корректор: В.Р. Игнатова
Подписано в печать 5.09.08. Формат 70 × 100/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,8. Уч.-изд. л. 34,2. Тираж 400 экз.
Заказ № 1810
Издательская фирма «Физико-математическая литература»
МАЙК «Наука/Интерпериодика»
117997, Москва, ул. Профсоюзная, 90
E-mail: fizmat@mail.ru, fmlsaie@maik.ru;
http:/^www.fml.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ППП «Типография «Наука» 121099, г. Москва, Шубинский пер., 6