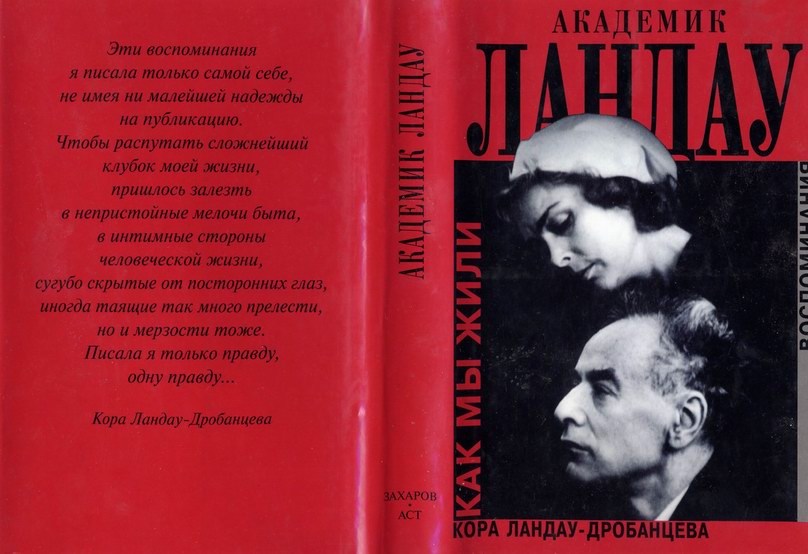
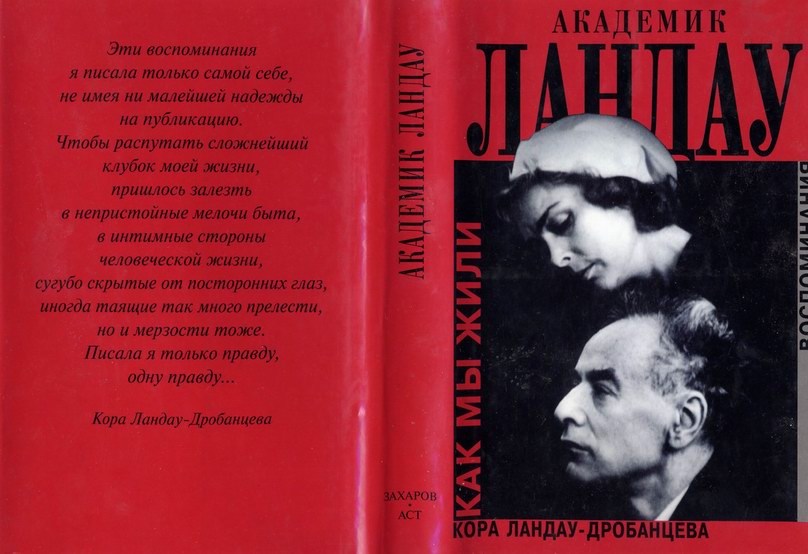
КОРА ЛАНДАУ-ДРОБАНЦЕВА
АКАДЕМИК
ЛАНДАУ
КАК МЫ ЖИЛИ
ЗАХАРОВ-ACT
Москва 1999
| {5} |
УДК 882-94 ББК 84Р
Л 22
Редакция выражает благодарность
Валерию Генде-Роте и Евгению Павловичу Кассину
за предоставленные фотографии.
ISBN 5-8159-0019-2
© И.Л.Ландау, 1999
© И.В.Захаров, издатель, 1999
| {6} |
Из авторского послесловия к рукописи
Конкордии Терентьевны Ландау-Дробанцевой
О.Генри, мой любимый писатель, сказал:
«Если бы человек написал о своих приключениях не на литературу, не на читателя, а сам правдиво поисповедовался самому себе!».
Вот и писала только самой себе, писала только правду, одну правду, не имея ни малейшей надежды на публикацию.
Дау был солнечный человек, сейчас ему могло быть уже 75 лет. Уже десять лет я пишу и пишу о своей счастливой и драматической судьбе. Чтобы распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось залезть в непристойные мелочи быта, в интимные стороны человеческой жизни, сугубо скрытые от посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, но и мерзости тоже.
Кора Ландау
1983
| {7} |
Уже прошло почти двадцать лет с тех пор, когда в то роковое утро ты уехал в Дубну, а мои мысли бесконечно устремляются в прошлое. Неужели были молодость, счастье, любовь и ты!
В воскресенье, 7 января 1962 года, в десять часов утра из Института физических проблем выехала новая светло-зеленая «Волга». За рулем — Владимир Судаков. Сзади сидела жена Судакова Верочка, и справа от нее академик Ландау. Дау ценил Судака (так он называл Владимира Судакова) как ученика — физика, подававшего надежды. В прошлом он высоко отзывался о красоте его жены Верочки.
В новой «Волге» отопительная система работала отлично. На Дмитровском шоссе в машине стало жарко, Дау снял меховую шапку и шубу. (О, если бы он этого не делал!)
Дмитровское шоссе узкое. Обгон, объезд воспрещен! Впереди автобус междугороднего сообщения, его кузов заслонял видимость встречной полосы движения. Судак ехал впритык за автобусом, а встречного транспорта нет, нет и нет. Подходя к остановке, автобус замедлил ход, и тут Судак вслепую выскочил на левую полосу движения, не снижая скорости пошел на обгон, чудовищно нарушая тем самым правила движения. Навстречу шел самосвал. Опытный водитель хотел свернуть на обочину, но там были дети. Водитель самосвала старался проехать по самому краю проезжей дороги, {8} перед Судаком был открыт проезд. Был гололед, резко тормозить нельзя. Профессионал прошел бы чисто между самосвалом и автобусом. Плохой водитель поцарапал или помял бы крылья. Быстрота реакции, секунды, мгновения решали все! А этот горе-водитель со страху резко выжал сцепление и тормоз. По законам физики «Волга» на льду завертелась волчком под действием центробежной силы. Этой силой Даунька был прижат к правой стороне. Голова, правый висок, прижат к двери машины. Злой рок выбрал удар в правую дверь «Волги». Еще бы секунда, мгновение — и удар был бы по багажнику. Но рок был слишком злым! Это он снял с Дау шапку и шубу! Весь удар самосвала приняло на себя хрупкое человеческое тело, прижатое центробежной силой к двери «Волги».
Внутренний левый карман был набит стеклом от окна «Волги», следовательно, полы пиджака стояли перпендикулярно к телу. Незадачливый самосвал, дав задний ход, унес на себе правую дверь судаковской «Волги». Без сознания Даунька вывалился на январский лед и пролежал двадцать минут, пока не пришла «Скорая помощь» из больницы № 50. Это обыкновенная советская больница с очень хорошим, высококвалифицированным медицинским персоналом. Все было на высоте, особенно главный хирург Валентин Поляков и совсем молодой врач Володя Лучков (он был дежурным врачом).
На правом виске кровоточила рана, порез стеклом «Волги», весь остальной покров кожи цел, признаков видимой травмы черепа тоже видно не было.
Доктор Лучков стал обрабатывать кровоточащую ранку на виске. Физики уже успели доставить в больницу № 50 одного из «акамедиков» (так Дау называл академиков медицины). Заложив руки за спину, он подошел к врачу Лучкову, оказывавшему первую медицинскую помощь пострадавшему, и сказал: «А не слишком ли вы храбры, молодой человек, что осмелились притронуться к этому больному без указаний консилиума? Или не знаете, кто пострадавший?» — «Знаю, это больной, поступивший в мое дежурство в мою палату», — ответил врач Лучков.
С 7 января 1962 года по 28 февраля 1962 года, 52 дня, академик Ландау провел в этой замечательной советской {9} больнице. Именно здесь благодаря тяжелому и самоотверженному труду всего медицинского коллектива была спасена жизнь крупнейшего физика Л.Д.Ландау.
Весть о том, что в автомобильную катастрофу попал знаменитый физик с мировым именем, полетела по Москве.
А в 17.00 того же дня Би-би-си оповестила мир о несчастье, случившемся в Советском Союзе.
В Лондоне крупный иностранный издатель трудов Ландау Максвелл, услышав эту весть, тотчас снял телефонную трубку: срочный звонок в международный аэропорт Лондона. Он попросил задержать отправление самолета в Москву на один час: «В Москве с крупнейшим физиком стряслась беда, я сам доставлю медикаменты, которые помогут спасти жизнь Ландау». У Максвелла в Лондоне недавно случилась беда: в ночь на 1 января 1962 года его старший 17-летний сын тоже попал в автомобильную катастрофу. Мальчик еще жив, получил множественные травмы, в том числе травму головы. Максвелл знал, какие нужны медикаменты на первых порах, чтобы спасти человека. Уже семь дней медики Лондона боролись за жизнь мальчика. Отек мозга был предотвращен инъекциями мочевины. Дома под рукой у Максвелла были ящички с мочевиной в ампулах. Пассажирский самолет вылетел из Лондона с опозданием на час, взяв курс на Москву, неся на борту драгоценные ампулы мочевины, которым было суждено предотвратить отек мозга у Ландау и отразить одну из первых страшных атак смерти.
Да, Дау получил комплекс множественных травм, каждая из которых могла привести к смертельному исходу: перелом семи ребер, которые разорвали легкие; множественные кровоизлияния в мягкие ткани и, как выяснилось значительно позже, — в забрюшинное пространство с отпотеванием в брюшную полость; обширные переломы тазовых костей с отрывом крыла таза, смещение лобковых костей; забрюшинная гематома — вогнутый живот Дау превратился в огромный черный волдырь. Но медики в те дни говорили, что все эти страшные травмы — просто царапины в сравнении с травмой головы! {10}
Было очень много страшных прогнозов профессоров медицины, самые страшные прогнозы были по поводу мозговой травмы. К счастью, страшные прогнозы медиков смягчаются их ошибками. Рентгенография показала только полую, без смещений, трещину основания черепа. Энцефалограмма показала, что мозговая функция коры сохранена. Почему-то энцефалограмме медики не доверяли. Мозг еще так мало изучен — эта область медицины, увы, спит спокойным младенческим сном в колыбели мировой медицины. В основном медики боялись смертельно опасного отека той части мозга, где расположены жизненно важные центры: сердечно-сосудистые и дыхательные. Больной находился в глубоком бессознательном состоянии шока. В первые, самые роковые, часы врачи больницы № 50 удержали оборонные позиции жизни.
Когда 7 января 1962 года ранние зимние сумерки стали сгущаться над Москвой, та часть Тимирязевского района, где находилась больница № 50, была запружена легковыми машинами. Казалось, съехалась вся Москва, море машин. Прибыла милиция регулировать движение, чтобы оставить проезд в больницу. Знакомые и незнакомые, вся студенческая Москва тоже была здесь, все хотели чем-то помочь, что-то услышать.
— Еще жив, еще жив, в сознание не приходит.
Не занимая лифт, физики устроили живой телефон с шестого этажа до дежурной машины физиков.
В больнице собрался консилиум ученых-медиков. Специалист по легким сказал: «Больной обречен, легкие разорваны, куски плевры оторваны, вспыхнет травматический пожар в легких, и он задохнется, ведь дыхательной машины нет!». Заработал живой беспроволочный телефон физиков, несколько машин медиков и физиков сорвались с места и понеслись по Москве. Студенты-медики выяснили, что дыхательные машины были в те годы только в медицинском институте детского полиомиелита. Медицинский консилиум еще заседал, когда физики и медики-студенты внесли в палату Ландау две дыхательные машины, кислородные баллоны. С машинами прибыл дежурный специалист-механик. Члены консилиума от удивления развели руками: «Скажите, молодежь, если для спасения жизни Ландау {11} нам понадобится высотное здание, вы тоже его сюда притащите?».
— Да, притащим!
Развивался и угрожал отек мозга. Несмотря на выходной день, в воскресенье ночью были вскрыты все аптечные склады Москвы и Ленинграда, где тщетно искали мочевину в ампулах. Самолет из Лондона доставил ампулы мочевины вовремя. Отек мозга был предотвращен.
Только после этого случая Министерство здравоохранения приняло меры, и сейчас во всех больницах нашей страны есть ампулы мочевины. Это очень дешевый препарат.
7 января 1962 года в 13 часов раздался телефонный звонок. Снимаю трубку. Говорят из больницы № 50. В результате автомобильной катастрофы академик Ландау попал в нашу больницу в безнадежном шоковом состоянии. Катастрофа произошла в 10 часов 30 минут на Дмитровском шоссе по дороге в Дубну. Пострадал один ваш муж, спутники отделались испугом.
— Как пострадал муж? Что сломано? Рука? Нога? У меня было много бестолковых вопросов, не сразу дошло, что слово «безнадежное» исчерпывает все вопросы. Я закричала: «Нет, нет, этого не может быть!». Все вокруг завертелось, не могла найти дверь. Надо было бежать и кричать! Вдруг до сознания дошли чьи-то слова: «Гарику плохо!». И тогда жену победила мать! Я начала бессвязно успокаивать сына, он лежал без движения, лицо без кровинки и широко открытые, немигающие детские стеклянные глаза.
А телефон звонил, звонил и звонил. Было много вопросов ко мне: «Правда ли, что...».
— Да, да, да, правда, правда.
Часы шли, телефон звонил, и на очередной вопрос я стала кричать в трубку, но адресуясь сыну: «Спасибо, {12} спасибо, он пришел в сознание. Спасибо, сломана ключица и рука! Как я счастлива! Миновало! Спасибо, спасибо, как я вам благодарна! Гарик, Гарик, ты слышал, папка уже пришел в сознание». Очередной любопытный положил трубку, решив, что говорил с сумасшедшей.
Зловеще сгущались январские сумерки. Гарика удалось успокоить. Дала ему снотворное, плотно закрыла дверь в его комнату, он уснул. Телефон замолчал. Вся Москва уже знала о трагическом дорожном происшествии, случившемся на Дмитровском шоссе по дороге Дубну.
Позвонил Александр Васильевич Топчиев, он сообщил: «Собраны все медицинские силы Москвы, состояние у мужа тяжелое». Этот звонок принес некоторое облегчение. Тяжелое, значит, жив. С отчаянием и надеждой стала ждать физиков из больницы, должны прийти и сказать правду. Вспомнила, что уже две недели физики из Дубны все время звонили и просили приехать. Ему явно ехать не хотелось, он очень напряженно и много работал, спал мало, ел плохо. При росте 182 см весил только 59 кг. О себе он еще в ранние годы сказал: «А у меня не телосложение, у меня теловычитание!». Эти его слова потом вошли в литературу.
— Дау, ты вчера опять лег спать в три часа ночи. Я слыхала, когда щелкнул выключатель. Ну разве можно столько работать? Стал совсем желто-зеленого цвета, смотри, девушки разлюбят!
Весело улыбаясь, он говорил: «А зато какую работу я заканчиваю. Коруша, все, что я сделал в физике, — ничто в сравнении с этой моей работой, но надо спешить, особенно в конце, вдруг американцы обгонят в самый последний момент, я же не знаю, над чем работает Оппенгеймер. Ты мне не мешай, мне так интересно. А ну, брысь, брысь!».
Работал он всегда лежа на тахте. Друзья шутили: «Дау, у тебя голова весит гораздо больше всего туловища. Чтобы уравновеситься, ты работаешь лежа!». Утром весь пол возле постели был усыпан листами исписанной бумаги — все формулы, формулы, формулы. Поднимая и складывая в стопку, я спрашивала: «А сам-то ты поймешь, что здесь нацарапано?». {13}
— Я все понимаю. Смотри, не выбрось.
Это он повторял всегда и всегда искал будто бы исчезнувшие исписанные листы бумаги. Крик сверху: «Опять убирала, где вот тут валялся такой измятый кусок бумаги?» (его кабинет находился на втором этаже). Бегом наверх: «Дау, клянусь, ничего не выбрасывала, не злись, все твои бумаги всегда находятся».
— А вот сейчас нигде нет!
И когда исчезнувшего листка нет ни под тахтой, ни под столом, ни под ковром, тогда я нахожу этот лист у него в кармане.
Он всегда очень трогательно просил прощения.
6 января 1962 года вечером, после ужина, я искала в его кабинете очередной «исчезнувший лист бумаги». Зазвонил телефон. Это опять был звонок из Дубны. Вдруг он согласился: «Ну что же, хорошо, завтра приеду. Да, приеду, встречайте. Выеду 10-часовым поездом из Москвы».
— Ты согласился ехать в Дубну, а сам говорил — это территория Боголюбова, и тебе там делать нечего.
— Да, говорил. Это так и есть. Но физики меня давно просили и ждут, а сейчас мне сообщили, что мой приезд необходим, надо спасать Семена.
— Какого Семена?
— Бывшего мужа Эллочки. Она забрала сына и ушла к другому, в том же доме, тоже сотруднику Дубны.
— Как, Элка бросила Семена? Но ведь Семен красавец в сравнении с вашей Элкой, он умен, и ты говорил, что он один из плеяды твоих лучших учеников.
— Коруша, в смысле науки новый возлюбленный Эллочки не стоит даже следа Семена. Но помни, народная мудрость говорит: «Любовь зла, полюбишь и козла!». Когда Элла приезжала к нам, я ей неоднократно говорил: «С кем не бывает. Ну влюбилась, ну стали любовниками. А Семен — прекрасный муж, замечательный отец». Он, бедный, так старался не замечать этого романа, он как культурный человек им не мешал. Семен — мой ученик, ревновать он не имел права. Своим ученикам я всегда стараюсь привить культурные взгляды на любовь, на жизнь. Но жена того, к кому ушла Эллочка, застав ее в своей постели, не осознала, что {14} ревность — это один из самых диких предрассудков! Она с младенцем на руках уехала к своим родным в Ленинград. Эллочка сразу перешла жить в квартиру нового мужа. Семен живет рядом, и видеть жену и сына с другим ему оказалось не под силу. Мне сейчас сообщили: он запсиховал. Физики боятся самоубийства. Надо съездить, вправить мозги Семену. Решено, завтра еду в Дубну. Боголюбов — талантливый физик, да и с молодыми физиками всегда интересно поговорить о науке.
— Дау, но ведь наш шофер уже ушел, а завтра выходной.
— Ты права, в выходной к определенному часу с такси трудновато, но я уверен, что к десятичасовому поезду на вокзал меня подбросит Женька на своей новой «Волге».
Женька — легок на помине — появился в кабинете Дау. Он забегал к Дау раз двадцать в день — я была вынуждена дать ему ключ от нашей квартиры.
— Женька, я дал слово завтра ехать в Дубну. Уже договорился с Судаками, встречаемся на вокзале у десятичасового поезда на Дубну. Ты сможешь меня подбросить на вокзал завтра с утра?
— Да, да, конечно, смогу. Тем более что завтра с утра я еду в плавательный бассейн. У меня стало появляться брюшко, надо сгонять лишний жирок.
Я ушла к себе, в нижнюю половину квартиры, а Дау стал диктовать Женьке очередной параграф восьмого тома своих книг, о которых ныне говорят: «Ими вместе созданных».
Как-то я спросила Дау:
— Почему ты пишешь все свои тома только с Женькой, почему не с Алешей?
— Коруша, пробовал не только с Алешей, пробовал с другими, но ничего не получилось!
— Почему?
— Понимаешь, когда я диктую свои книги по физике Женьке, он все беспрекословно записывает. Его мозг — это мозг грамотного клерка, к самостоятельному творческому мышлению он не способен. Студентом производил впечатление способного, но дальше время показало, что это пустоцвет! Творческого работника из него не вышло, но он образован, аккуратен, точен и {15} трудолюбив, из него получился соавтор. Вместо зарплаты я дарю ему свои идеи, ему в обществе необходимо иметь свое лицо. Благодаря его помощи я смог создать хорошие книги по физике для потомства. Я пробовал писать свои книги с талантливыми учениками, но их мозг пытлив, они не в состоянии беспрекословно записывать мои мысли. Что я решаю мгновенно, для них это еще не закон, они возражают, спорят, а когда постигают, приходят и говорят: «Дау, вы были правы». Прошло много ценнейшего времени, а время не ждет! Наше временное пребывание на земле слишком коротко, а надо так еще много успеть! Тратить свое творческое время на писание книг я не могу. Когда устаю думать, зову Женьку и диктую ему очередные параграфы. Долго диктовать я не могу, одолевает скука, а ты, Коруша, хорошо знаешь, я это тебе много раз повторял: самый страшный грех — это скучать! Не смейся, вот придет страшный суд, господь бог призовет и спросит: «Почему не пользовался всеми благами жизни? Почему скучал?».
Шли годы, популярность Ландау росла. Все давно поняли, что Женька просто состоит при Ландау. При мне физики говорили у нас дома: «Дау, за ту работу, которую Женька исполняет для тебя, ты только должен в предисловии очередного тома выражать ему свою благодарность — так делают все наши академики, — а не делать его своим соавтором. Ведь за свой труд он имеет очень щедрую оплату — твои идеи! Причем такие, что, того гляди, в членкоры скоро угодит». Так говорили физики при жизни Ландау.
Нет, не преувеличивайте, членкором ему никогда не быть! У него кишка тонка, а рабский труд был уничтожен капитализмом как непроизводительный. Я очень спешу создать полный курс теоретической физики, эти книги очень нужны студентам и молодым физикам. {16} Мои книги по физике помогут молодым физикам «грызть гранит науки». Женьке, конечно, плевать на потомство, но, получая половину гонорара как соавтор, он работает на себя, вот здесь и зарыта собака! В любое время дня и ночи он подстерегает мои свободные минуты. Его природная цепкохвостность поразительна — не отцепится, пока не вытянет из меня нескольких параграфов.
Студенты физфака МГУ в те годы о курсе теоретической физики Ландау-Лившица говорили так: «В этих книгах нет ни одного слова, написанного рукой Ландау, и нет ни одной мысли Лившица». Это было известно всем.
Но это все в прошлом. А сейчас ночь 7 января 1962 года. В жизнь вторглась трагическая неожиданность. В дом вошло горе. Около 12 часов ночи пришли физики из больницы, сказали: «Дау в сознание еще не пришел». Женькина жена Леля говорит: «Женя чуть Судака не задушил, он кричал на него: «Убийца!».
Тут я вспомнила: «Женя, вы вчера при мне дали слово Дау отвезти его лишь на вокзал. Как вы посмели доверить Судаку везти Дау в гололед в Дубну? Его старый «Москвич» весь изранен от его «умения» водить машину. Вы, Женя, первоклассный водитель, я всегда была спокойна, если вы везли Дау. Вы предали Дау! Вы, вы — убийца, хладнокровный убийца! Это вы разрешили Судаку убить Дау. Судак — дурак, ему и его жене импонировало в своей новой «Волге» появиться с Ландау в Дубне!».
Физики увели Лившица.
В действительности было так. 7 января утром, когда подошло время везти Дау на вокзал, Женька, выйдя из квартиры, обнаружил гололед, забежал наверх к Дау: (это впоследствии рассказал сам Ландау):
— Дау, я не хочу свою новую «Волгу» выводить из гаража в гололед. В своей езде я уверен, но вдруг какой-нибудь дурак-водитель поцарапает мою новую машину. Ехать в гололед нельзя, ты отложи свою поездку в Дубну.
Мне Лившиц не рассказал ни о гололеде, ни о том, что Дау решил ехать с Судаками. Конечно, у Женьки в {17} его лысом с детства черепе серое вещество кипело только алчностью, в основе всех его действий — только корысть. Потерпеть убыток — равносильно смерти! Вчера дал слово (ему было выгодно иногда послужить Ландау), а сегодня его собственности угрожала царапина! Когда он купил машину, то ворвался к нам со словами: «Кора, Дау, слушайте, какую блестящую сделку я совершил: старую «Победу», стоившую мне 16 тысяч рублей, я продал за 35 тысяч, а за валюту купил новую «Волгу», за 450 фунтов стерлингов в «Березке». Кора, вы можете сделать то же самое, получив от меня безвозмездно эту информацию. Старые «Победы» в большой цене, и желающих приобрести их много. За издание наших книг в Англии и других странах нам платят валютой, а ты, Дау, еще даже не реализовал премию «Фрица Лондона», которую тебе вручало так торжественно канадское посольство!».
Мы с Дау вышли посмотреть на новую «Волгу». Она сияла лысиной и новизной. Он укатил.
— Коруша, если хочешь, купи себе новую «Волгу», и валютой можешь пользоваться.
— Зачем, Дау, «Победа» у нас почти новая. А Женька, оказывается, влюблен в свою лысину.
— Почему ты так решила? По-моему, он завидует моей шевелюре.
— Тебе он вообще завидует. А почему же он купил машину-автопортрет? Крыша и лысина телесного цвета.
Так вот, если бы Лившиц не состоял при Ландау, у него не было бы законных фунтов стерлингов и не было бы новой «Волги».
У Дау была другая натура. Если он сказал: «Встречайте десятичасовым поездом из Москвы», то опоздать уже не мог! «Точность — вежливость королей», — повторял он всегда, добавляя: «Я за свою жизнь не опоздал никуда ни на одну минуту». Этим Дау очень гордился. Позволить себе опоздание, когда его ждут, для Дау было как бы антитело! Опоздать — никогда! Нарушить свое слово — невозможно!
| {18} |
Воскресенье.
В этот день из года в год у меня была обязанность с утра запихнуть сына в ванну. Удавалось это всегда с большим трудом.
В 9 часов утра Дау уже позавтракал, а я еще занималась сыном. Заглянув в комнату Гарика, Дау сказал: «На звонок в дверь не выходи, я открою сам». Это был сигнал «стоп», «красный свет».
В нашем брачном «Пакте о ненападении» был пункт полной свободы личной жизни, полной свободы интимной жизни человека.
«Хорошо», — сказала я, подумав, что приедет Женька с девицами в машине. В этом случае Дау всегда подавал сигнал «стоп». Звонок в дверь раздался тогда, когда мы с Гариком завтракали на кухне. Через несколько секунд Дау уже внизу. Целуя меня на прощание, он сказал: «Вечером в четверг буду дома». Трудно поверить, что все это было сегодня утром. Кажется, прошла целая вечность.
Вдруг поздний звонок в дверь. Входит незнакомый человек:
— Вы — жена Ландау?
— Да, я. Заходите, раздевайтесь, садитесь.
— Я сяду и не уйду до тех пор, пока вы не добьетесь, чтобы врач Сергей Николаевич Федоров, на этом листке записаны его координаты, заступил на ночное дежурство у постели вашего мужа. Иначе Ландау до утра не доживет. Идите в институт и действуйте. Говорят, Капица вернулся с дачи, несмотря на гололед.
Я побежала в институт, умоляла, просила, рыдала. Меня по телефону соединили с председателем консилиума членом-корреспондентом АН СССР Н.И.Гращенковым.
— Врач Федоров, Сергей Николаевич Федоров? Впервые слышу это имя. Все хотят спасти Ландау, но в палате уже нет места ни для одного врача: для спасения Ландау собран весь цвет московской медицины.
Около двух часов ночи я вернулась домой. Неизвестный гость сидел, Гарик спал. После институтского {19} шума в доме была зловещая тишина. Тяжело опустившись на стул, я разрыдалась. Гость сказал:
— Вас убеждали в том, что весь консилиум составляют профессора?
— Да, именно это мне сказали.
— Профессоров там много, но там нет ни одного врача! Звоните, просите, требуйте, настаивайте! Вы имеете юридическое право как жена доверить жизнь своего мужа своему врачу. Только Федоров может спасти жизнь Ландау. Звоните, звоните!
Я позвонила Топчиеву. Он моментально снял трубку, очень внимательно выслушал, записал все координаты Федорова, обещал помочь и позвонить. Мы молча уставились на телефонный аппарат. Александр Васильевич сообщил, что в больнице не согласились, этого врача никто не знает. Я опять стала просить Топчиева, отчаянно рыдая, говоря, что имею юридическое право настаивать. Они не знают Федорова, а я не знаю Гращенкова!
Топчиев был добрый человек — это самое ценное в человеке, особенно когда он занимает высокий пост. Он ответил, что попробует обойти больницу.
Опять уставились на аппарат. Глухая ночь. В ушах звенит. Время тоже уснуло!
Звонок. Топчиев сообщил: «Есть устный приказ министра здравоохранения товарища Курашова включить по вашей просьбе врача Федорова в консилиум. Я дал распоряжение, за ним ушла машина. Наш начальник лечебного отдела вам позвонит, когда врач Федоров войдет в палату вашего мужа».
— Спасибо, спасибо, спасибо!
Мой ночной таинственный гость встал, поблагодарил меня и исчез.
Врач Сергей Николаевич Федоров был нейрохирург без чинов и званий, но он обладал большим медицинским талантом. Он умел врачевать умирающих больных. От знаменитостей консилиума он получил почти бездыханное тело, пульс едва прощупывался на сонной артерии, только она еще говорила, что жизнь не совсем ушла.
Профессор И.А.Кассирский, член консилиума, в {20} журнале «Здоровье» № 1 за 1963 год писал: «За сорок лет моей врачебной работы было много замечательных исцелений, казалось, безнадежных больных, но воскрешение из мертвых всемирно известного физика Л.Д. Ландау, о чем сообщалось в нашей и зарубежной прессе, — особо волнующий момент. Каждая из полученных им травм могла бы привести к смертельному исходу. Консилиумы собирали по нескольку раз в сутки. Днем и ночью обсуждались необходимые меры на ближайшие несколько часов. Каждый час, каждую минуту все мы задавали себе мучительный вопрос: «Не упущено ли что-нибудь?». В действие вступил пироговский железный закон умелой организации борьбы за жизнь человека. Отек мозга был предотвращен инъекцией мочевины, была отведена грозная опасность поражения продолговатого мозга. Но от избытка введенной мочевины возникло тяжелейшее осложнение — почки не справлялись с ее выведением, возникло отравление — уремия. Остаточный азот катастрофически нарастал».
Перестали работать почки — это одна из первых легенд о клинической смерти! Но, к счастью, из Чехословакии прилетел нейрохирург Зденек Кунц — крупнейший специалист Европы в этой области. Он сразу спросил:
— Сколько было введено воды? Я вижу, ваш больной на капельном внутривенном питании. Капельное вливание не может вывести из организма избыток мочевины. Челюсти у больного сведены шоковым параличом, глотательный рефлекс отсутствует. Необходимо срочно ввести через нос питательный зонд в желудок и без промедления ввести туда воду. Сколько часов он у вас на внутривенном вливании?
— Уже перевалило за сто часов.
— Очень большая угроза закупорки вен. Немедленно убрать капельницы, зашить вены, питание и воду вводить через носовой зонд. Рецептуру питания я напишу; все измельчать до консистенции жидкой сметаны, пропуская через пищевой комбайн, шприцем нагнетать в тонкий резиновый носовой зонд.
При более тщательном изучении больного профессор Кунц сказал: «Жизнь больного несовместима с полученными травмами. Он умрет, он обречен, протянет {21} еще сутки, не больше. Задерживаться мне нет смысла, я оставил своих больных, которым я нужнее». На следующий день Зденек Кунц улетел, но свой кратковременный визит в Москву, к Ландау, он нанес в такой критический момент и дал очень ценные советы!
Сразу после введения воды в желудок заработали почки, пошла моча и унесла азотные шлаки, грозившие потушить едва теплившуюся жизнь Дау. «Моча пошла», — так отвечали дежурные физики по телефону из больницы № 50. А за стенами больницы, в Москве, в студенческих общежитиях, где кипела молодая жизнь, юный парень на свидании с любимой тоже сообщал: «Знаешь, у Ландау уже пошла моча».
Рассвет нового дня я встретила, сидя у телефона, надеясь, что Дау придет в сознание, и этот черный аппарат сообщит мне радостную весть. Утром накормила сына завтраком, он ушел на работу, ему было 15 лет. В тот год, когда сын заканчивал восьмой класс, в школе был введен одиннадцатый год обучения. Я сразу решила, что для моего сына это неприемлемо, он перестал учить уроки с 6-го класса, оставляя портфель за дверью в передней, меняя утром книги по расписанию.
— Гарик, ты не учишь уроки, но почему у тебя отличные отметки?
— Мама, а зачем учить то, что учитель говорит в классе?
Только по литературе — устойчивая тройка, но этой тройке предшествовал звонок по телефону. Дау снял трубку.
— Я говорю с отцом Игоря Ландау?
— Да.
— Я хочу поставить вас в известность, что вам необходимо обратить внимание на ужасный почерк вашего сына.
— Ну что вы, я видел, как он пишет, и ничего не нахожу. Вы бы посмотрели, как пишу я!
— И потом, ваш сын плохо пишет сочинения. Если средний ученик пишет сочинения в два листа, то ваш сын на любую тему пишет только полстраницы.
— А зачем нужно разливать лишнюю воды по страницам тетради? А как с грамотностью у моего сына? {22}
— Пишет он грамотно.
— Благодарю за ваш звонок. Я доволен успеваемостью сына. Советую вам, не придавайте большого значения каллиграфии, в наш век это не так уж важно.
Сам Дау в последнем классе школы написал сочинение на тему «Образ Татьяны в поэме Пушкина «Евгений Онегин»: «Татьяна Ларина была очень скучная особа». В сочинении только шесть слов, получил, конечно, единицу, однако это не помешало ему как физику!
Комнаты сына и Дау были рядом, на втором этаже нашей квартиры. Дау занимался только дома. От личного кабинета в институте он отказался: «Заседать я не умею, а лежать там негде». Семинары он проводил в конференц-зале. О науке разговаривал с физиками, студентами и посетителями дома, в фойе института или прохаживаясь по длинным институтским коридорам, а в теплые времена года прохаживаясь по территории института.
— Коруш, я пошел в институт почесать язык.
Это значило, что его кто-то ждет, он будет разговаривать о науке или будет кого-нибудь консультировать. Занимался же настоящей наукой он только в одиночестве, лежа на тахте, окруженный подушками.
Созрел как ученый, что называется, в собственном соку. В те годы общение с иностранными учеными было не в моде, а физиков его класса у нас в стране не было. Он почти всегда находился в состоянии творческого напряжения, истощая себя всепоглощающей силой гениального мышления, поражая своим изможденным видом, забывая поесть, теряя сон. Только огненные глаза горели жаждой жизни, жаждой познания, жаждой творчества!
Когда родился сын, я оставила работу. У меня на руках было два младенца. Сын рос, обещая стать взрослым, ну а Даунька был вечным младенцем. С ним забот было куда больше. Его теловычитание заставляло тщательно следить за питанием. Обед — ровно в три часа. С помощью телефона разыскиваю его по институту.
— Дау, ты почему не идешь обедать? Уже половина четвертого.
— Корочка, ты что-то путаешь, я уже обедал. {23}
— Так, интересно, где и что?
— Что — забыл, а обедал, конечно, дома.
— Очень интересно, но ты зайди домой, проверим.
Через несколько минут влетает в кухню: «Как вкусно пахнет! Оказывается, ты права, я действительно голоден».
Как-то в начале лета 1955 года сын на даче заболел. Приготовив завтрак для Дау, я поднялась к нему наверх, он принимал ванну.
— Даунька, с дачи звонил врач. Гарик опять заболел, и я срочно туда еду. Ты скоро спустишься завтракать? На столе в кухне все горячее. Смотри, не задерживайся.
— Через пару минут буду внизу.
— Даунька, запомни, на моей половине стола я все приготовила тебе для обеда, там и подробная инструкция, в какой последовательности, что и как все это есть.
— Ты там так долго собираешься быть?
— Не знаю, в каком состоянии Гарик. Если не вернусь к ужину, найдешь все в холодильнике.
Из ванны Дау вынул звонок из института. Его ждали иностранцы. Конечно, он забыл заглянуть в кухню, а в 16.00 у него была лекция в МГУ. Освободившись от иностранцев, он, не заходя домой, сел в ожидавшую его машину. В 18.00, возвращаясь из университета, в машине он почувствовал себя плохо: «Понимаешь, Коруша, мне вдруг стало дурно. Я испугался, и тебя как назло нет. Подумал, если ты еще не вернулась, лягу в постель и вызову врача. Перепугался ужасно! Когда приехал, заглянул в кухню, тебя нет. Но я увидел еду на столе и вспомнил, что у меня с утра не было, что называется, маковой росинки во рту!».
Гарику уже три года. Поднимаюсь к нему в комнату наверх, стараюсь идти очень тихо, чтобы не услышал Дау, с воспитательной целью, сделать сыну замечание, но Дау уже тут как тут: «Коруша, почему ты вмешиваешься в личную жизнь ребенка? Ты ему хочешь испортить детство? Почему ты прежде всего, перед тем как войти в комнату, не постучала, не спросила разрешения войти? Гарик, приучи маму к культурному обращению, {24} запирай свою комнату на ключ, смотри, как легко запирается, раз — и закрыто. Теперь открой — видишь, как легко. Пусть мама не мешает тебе играть». В результате, в 12 часов ночи окно в комнате Гарика освещено. Я сижу у его двери на полу и плачу. Гарик спит на полу одетый. Слышу, пришел Дау:
— Коруша, почему Гарик не спит? Я видел в его комнате свет.
— А ты иди сюда, наверх, загляни в замочную скважину.
— И давно он так спит?
— Очень.
— А что делать?
— Пойди к Шальникову и попроси помощи. Я боюсь сильно стучать и кричать, можно перепугать ребенка.
Экспериментатора А.И.Шальникова пришлось поднять с постели, он сумел открыть дверь.
Сын рос, учился слишком легко, очень увлекался химией. Купила Меньшуткина, поставила в кухне на столе, книга исчезла, оказалась у Гарика под подушкой. Потом он увлекся химическими опытами — на кухне все стреляло. Гарик кончал уже восьмой класс.
Наступила пора юности, избыток энергии. Газетная статья «Плесень» заставила насторожиться. Пока еще сын не понимал, кто его отец. Когда юнец уже споткнулся, поздно говорить о воспитании. Надо заранее позаботиться, чтобы у него не было праздного времени.
— Дау, я считаю, что одиннадцатый класс — это просто глупость, поэтому решила перевести Гарика в школу рабочей молодежи. Днем он будет работать, а вечером учиться в школе рабочей молодежи. Там еще не успели добавить одиннадцатый класс.
— Коруша, неужели ты все это серьезно говоришь?
— Да, я решила это очень твердо!
— А я категорически против! Учеба — вещь серьезная! Работать и учиться трудно. Да и зачем в его возрасте работать? Он перенес такое серьезное заболевание в детстве. Ведь фактически он стал совсем здоровым только последние два года.
— Этого я не могла забыть, но из сына надо {25} вырастить человека, а не «плесень»! Он слишком легко учится! А впрочем, зачем нам спорить. Давай спросим самого Гарика. Ты всегда говорил, что нельзя навязывать родительского мнения.
— Да, конечно, это Гарик должен решить сам. Нельзя ему навязывать родительского мнения.
— Гарик, как ты хочешь: учиться в одиннадцатом классе или с утра работать в химической лаборатории, а вечером учиться в школе рабочей молодежи?
— Разве меня пустят работать в химическую лабораторию?
— Конечно, пустят, ты даже будешь получать свою заработную плату.
— Я очень хочу работать в химической лаборатории.
Потом Дау мне сказал: «Ты не права, Коруша. Ты сыграла на его страсти к химическим опытам».
— Даунька, на мою ошибку укажет только время. Сын — это большая ответственность! Работа и немножко жесткие условия ему не повредят.
— Главное, Коруша, Гарик сам так хочет.
Когда первого сентября ребята — шумные и веселые — неслись в школу, мне стало грустно. А когда первого октября вечером после работы сын уехал на первый сбор в вечернюю школу и вернулся только после 23 часов, я уже ждала его на троллейбусной остановке, жадно оглядывая пустые проходившие троллейбусы.
— Гарик, наконец-то! Почему так поздно? Было много уроков?
— Нет, мама, мы не учились. У нас было только собрание. Оно очень поздно началось.
— Что же вам сказали на собрании?
— Нам сказали, чтобы мы на занятия не приходили пьяными.
У меня просто остановилось дыхание. Хорошо, что Дау этого не слышал. Потом занятия наладились.
Работая со взрослыми в институте, Гарик и сам быстро взрослел. Немного смущаясь, но с большим восторгом, еще детским языком он говорил об отце: «Мама, я слыхал, про папу говорили, что он... это правда?».
— Да, сынуля, наш папка очень умный. Да, сынуля, наш папка очень талантлив. {26}
В этот страшный год, роковой для нас, сын стал понимать человеческую ценность своего отца. У Гарика — день первой получки.
— Мама, мне сегодня в институте дали 20 рублей.
— Да, это твои деньги, первые заработанные.
— А можно мне их потратить на что я захочу?
— Конечно, можно.
— Все?
— Да, все.
Он вернулся с двумя маленькими кожаными футлярчиками, прошмыгнул наверх, к себе в комнату и заперся. Потом я нашла спрятанные футлярчики с какой-то металлической смесью. Он с детства стремился все разобрать на составные части, а потом конструировать по своему усмотрению. Дау скрытой камерой наблюдал за работающим сыном. Как-то, весело потирая руки, он мне сказал: «Коруша, ты и на этот раз оказалась права, Гарик очень преуспевает на работе, его, одного из всех учеников-лаборантов, уже стали допускать к сложным приборам».
— А когда я еще была права?
— В тот трагический момент, когда консилиум нейрохирургов вынес шестилетнему Гарику свой страшный приговор. Это забыть невозможно. Помнишь, в каком состоянии мы вернулись домой? В медицине я не разбираюсь, но привык выполнять предписания врачей. Ты тогда просто окаменела. Выпроводив Гарика гулять, ты пришла ко мне и спросила: «Дау, кто имеет больше прав на сына, ты или я?».
— Конечно, Коруша, ты! Ты его родила. Я всегда говорил: «Если бы мужчинам пришлось рожать, человечество было бы обречено на вымирание!».
— Так вот, Даунька, милый, мое решение окончательное. Этой осенью наш Гарик идет в школу. Я отбрасываю все диагнозы, все предписания этих знаменитых медиков-нейрохирургов. Я им не верю!
Гарик родился нормальным, здоровым ребенком. В пять лет заболел тяжелым вирусным гриппом. После болезни у него периодически стали повторяться приступы рвоты с высокой температурой. Эти приступы длились от трех до пяти дней с промежутками около {27} десяти дней. Через год краснощекий карапуз превратился в прозрачный скелетик. Все обследования, все лечения были безрезультатны. Потом пригласили детского невропатолога, профессора Цукер. Она сделала рентгеновский снимок головы, было обнаружено высокое мозговое давление. Вот с этим снимком мы попали в институт нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко. Консилиум состоял из светил нейрохирургии — Егорова, Корнянского и других.
— Какими инфекционными болезнями болел ваш сын?
— Пока никакими.
— Когда он должен идти в школу?
— Через три месяца.
— У вашего сына очень высокое внутричерепное давление — это показывает рентгеновский снимок. Здесь ошибок в заключении быть не может. Если он заболеет корью, к примеру, у него будет осложнение на самое узкое место в организме, в данном случае — на мозг. Ему будет угрожать менингит. Если он не умрет, то станет дефективным. Поэтому школа запрещается, общаться с детьми тоже нельзя. Сын знаменитого академика может учиться с репетиторами и сдавать экзамены экстерном. Другого выхода нет! Это заболевание никак не лечится. С возрастом, если кривая пойдет вверх, может выздороветь. Если же кривая пойдет вниз — умрет. Необходимо ежегодно делать рентген мозга. По снимкам мы будем видеть, куда пойдет кривая болезни — вверх или вниз.
— Даунька, рентгеновские снимки тоже делать не будем. Раз болезнь не лечится, зачем их делать? А это вредно ребенку. Растить сына без школы, без сверстников — это заведомо растить неполноценного человека. От Гарика мы его болезнь скроем. Осенью он пойдет в школу. Наблюдать его буду я сама!
— Корочка, подумай, ты берешь на себя непосильную ответственность!
— Дау, это я решила окончательно. Не хочу верить медикам. Я верю в защитные силы организма — это большая сила, порой творящая чудеса. Вот в эту силу я хочу верить!
Гарик в школьные годы не болел инфекционными {28} болезнями, только периодически его валила с ног мозговая рвота. Два раза эпидемия кори была так сильна, что в классе оставалось 3-5 школьников. В их числе всегда был Гарик. В 6-м классе приступы мозговой рвоты уже не наблюдались, а в 7 и 8-м классах сын стал совсем здоров. Без медиков-профессоров. Гарик переболел корью уже взрослым в 1974 году без осложнений. Мне необходимо было описать свою первую встречу со светилами медицины — Егоровым и Корнянским, потому что судьба в злой час снова сведет меня с ними!
Утром 8 января Гарик ушел на работу, а я помчалась в 50-ю больницу.
Разделась, вошла в лифт, но чьи-то сильные, враждебные руки бесцеремонно выволокли меня из лифта, втиснули в шубу, нахлобучили шапку. Я рыдала, вырывалась, кричала: «Хочу видеть Дау!». Ничего не помогало. Их было много, они были сильнее, они втолкнули меня в машину и велели шоферу отвезти меня домой! Почему меня не пустили к Дау? Как смели не пустить к Дау?
И я была обречена сидеть у телефона и ждать звонка из больницы. Было это невыносимо. Телефон молчал, молчал, молчал!
Не выдержала, пошла в институт, дали телефон дежурных физиков в больнице. Позвонила. Телефон ответил: «У телефона дежурный физик Зинаида Горобец». От неожиданности и удивления трубка упала на рычаг. Что это? Дежурный физик Горобец? С каких пор Женькина любовница стала физиком? Горобец, о которой Дау говорил, что она ходит не ногами, а грудью. Этим Женьку и соблазнила. Ведь у бедного Женьки все девушки до Зиночки были досковаты!
Телефон зазвонил только в восемь часов вечера.
— С вами говорит профессор Гращенков. Мы должны поставить вас в известность как жену, что сейчас по {29} решению консилиума мы приступаем к мозговой операции. Результаты после операции я вам лично сообщу. Вы спать не будете?
— О нет, что вы! Я от телефона не отойду до вашего звонка! Но вы непременно позвоните?
— Да, конечно, как может быть иначе?
Напряженно, не сводя глаз с телефона, я ждала. Шли часы. Звонка не было. С каждой минутой уходила надежда.
В пять часов утра потеряла сознание. Гарик вызвал «скорую». Очнулась в постели, «скорая» уехала, возле меня был Гарик.
— Гарик, у меня просто слабость, телефон не звонил?
— Нет.
— Гарик, поставь мне телефон на подушку.
9 января утром пришла Леля, Женькина жена. Я стала рыдать, говоря:
— Вы пришли мне сказать, что Дау уже нет! Мне вчера умышленно не позвонили о результатах мозговой операции!
— Кора, вы что спятили? Какая мозговая операция? Просто пропилили узкую щель в черепе и увидели, что гематомы нет. Кора чистая. Это всех медиков очень обрадовало. Вся операция продолжалась 20 минут. Вам просто забыли позвонить. Это нельзя назвать мозговой операцией.
— Боже, как я счастлива! Лелечка, милая, спасибо!
— Можете меня не благодарить. Я на вас очень сердита. Зачем вы на Женю так кричали да еще при физиках? Женя из больницы вернулся в плохом состоянии, на нервной почве возник понос. Он всю ночь просидел на унитазе, рыдая: «Теперь я творчески погиб! Сам Дау всегда говорил, что творческая смерть хуже физической!».
— Так что Женя в большей опасности, чем Дау? Вы это хотите сказать?
— Бросьте, Кора, придираться к словам. Мы просто все в отчаянии! Я пришла к вам за деньгами. Комитету физиков при больнице нужны деньги, и немалые.
— У меня есть только тысяча рублей. Это все, что осталось после покупки новой «Волги». {30}
— И еще, Кора, мне следует вас отругать. Вы не должны были всовывать своего врача в консилиум, да еще через самого министра Курашова. Что вы понимаете во врачах? Вы поставили меня в нелепое положение, ведь в консилиуме я представляла вашего врача.
— Леля, но ведь вы — патологоанатом. Что вам делать в консилиуме? Скажите, почему меня не пустили к Дау в больнице?
— А вы ездили?
— Ездила вчера утром, но меня просто взашей вытолкали вон!
— Кора, я этого не знаю.
Я была так счастлива, что это не была серьезная мозговая операция. В мозг, тем более в мозг Дау, не должна лезть рука человека. Кроме того, в мозговой коре нет гематомы! Но еще и сознания нет, опасность не миновала. Она надо мной висит и в любой момент может обрушиться и меня раздавить!
А в это время в больнице врач Федоров не отходил от Дау в течение уже 96 часов, днем и ночью один на один со смертью, как в бою, без сна. Это был настоящий подвиг настоящего врача. Как могла Леля сравнивать себя с таким блестящим врачом, как С.Н.Федоров? Он один стоил всего консилиума. Как часто профессора медицины не умеют врачевать! Консилиум заседал, а врачевал только С.Н.Федоров.
Между тем консилиум уже сообщил дежурным физикам: наступила клиническая смерть! (Это когда, введя мочевину, не дали внутрь воды). На самом деле была смертельная агония. Прилет Кунца отодвинул агонию и спас от настоящей смерти. Моя благодарность Зденеку Кунцу безгранична.
В институте у входа через каждые два часа на большом щите вывешивалась сводка состояния здоровья Ландау. Я все время бегала ее смотреть. Вдруг увидела — на белом плакате появились беспощадные три слова, написанные черной жирной краской: «Наступила клиническая смерть». Все головы повернулись ко мне, все взгляды впились в меня, все это вытолкнуло меня из {31} института. В мозгу одна мысль: сейчас Гарик придет обедать, он увидит страшные черные слова.
Подавая Гарику обед, спросила:
— Ты шел мимо доски, что там написано о папе?
— Мама, я не читаю. Все так смотрят на меня, я стараюсь поскорее уйти.
В ночь на 10 января разорванные легкие отказались снабжать кислородом организм больного.
Федоров мгновенно произвел трахеотомию, машина взяла на себя функцию дыхания.
Это произошло в три часа ночи, а утром в 11 часов пришел в палату к Ландау Н.И.Гращенков на заседание консилиума «акамедиков». Увидев, что Ландау уже подключили дыхательную машину, он начал кричать на С.Н.Федорова:
— Как вы осмелились подключить больному дыхательную машину без разрешения консилиума?
— Если бы я этого не сделал ночью, консилиуму уже не пришлось бы заседать сегодня! — ответил Федоров.
Что ж, речью владеют все, а ум дан не многим.
Свою теорию «как надо правильно строить мужчине свою личную жизнь» Дау считал выдающейся теорией. Он всегда сожалел, что его лучшая теория никогда не будет напечатана. Как мне хочется эту теорию жизни «опубликовать». Ведь будучи морально чистым (девственником), он ее тщательно разработал и как результат появился «Брачный пакт о ненападении». Не правда ли, звучит почти анекдотически, но у Дау было очень чистое, пламенное сердце, его теоретические выводы о любви человеческой опирались на классическую литературу.
Когда я пыталась ему доказать, как необходима верность до гроба в браке, он слушал с тихой, доброй улыбкой. {32}
— Милая моя Коруша, а ведь еще мудрецы древности говорили: нам дозволено судьбой счастье с женщиной любой!
Опять забежала Женькина жена:
— Кора, комитету физиков нужны еще деньги!
Открыла ящик письменного стола, где Дау хранил свои деньги.
Все деньги перекочевали из стола Дау в большую Лелину сумку, которую она даже не смогла закрыть.
Согласно «Брачному пакту о ненападении» все денежные доходы нашей семьи делились так: 60 процентов жене на все потребности семьи, включая и мужа, 40 — мужу в личное пользование.
— Коруша, ты должна знать: свои 40 процентов я буду тратить на филантропию, помощь ближнему и, естественно, на тех девушек, с которыми буду встречаться. Любовь чиста и бескорыстна. Покупать любовь — смертельный грех, так что на девушек пойдет самая малость: цветы, шоколад, театр. Конечно, Корочка, сейчас я так влюблен в тебя, даже не могу смотреть ни на одну женщину. В сравнении с тобой проигрывают все! Но в конце концов любовницы у меня обязательно будут!
Его филантропия в основном заключалась в том, что он материально содержал семьи пяти физиков, умерших в тюрьме в эпоху сталинизма.
— Знаешь, Корочка, я очень люблю дарить хорошим людям деньги. Они очень радуются, когда вдруг просто из симпатии получают приличную сумму денег.
Сам тратить деньги не умел: это очень большая канитель. Куда как проще их раздаривать!
Был такой случай. Сразу после войны он получил Сталинскую премию. Взяв в сумку 20 тысяч, я решила обновить мебель. Поехала в центр осуществлять свою затею. Жулики, разрезав мою сумку, вытащили все деньги. Вернувшись домой, я разрыдалась. Даунька слетел ко мне вниз.
— Корочка, что случилось?
— У меня из сумки в троллейбусе вытащили 20 тысяч рублей. {33}
— Ты из-за такого пустяка плачешь! Как тебе не стыдно! Ты лучше подумай о том несчастном воришке, который лез к тебе в сумку, рассчитывая на сотни две, и вдруг ему неожиданно такая сумма! Может быть, у этого человека сегодня самый счастливый день! Подумай лучше о той большой радости, которую ты доставила этому человеку. Нам ведь совсем не нужна новая роскошная мебель, вполне обойдемся.
На сберегательной книжке он свои деньги не держал. Они хранились в среднем ящике письменного стола: а вдруг кто-нибудь попросит?
— Но ты теряешь проценты! — восклицал Женька.
— Женька, ты забываешь: в стране строящегося социализма ренты нам не нужны.
Дау называл средний ящик своего стола «Фондом помощи подкаблучным мужчинам».
Однажды он влетел в кухню каким-то замысловатым танцем, в восторге прошелся по ней и сказал:
— Угадай, кто у меня сейчас был?
— Ну, конечно, Женька.
— Вот и нет! Был один из благороднейших академиков, сам Лев Андреевич Арцимович! Меня привело в восторг, что этот закабаленный подкаблучник вылез из-под каблука жены и едет на курорт с любовницей. Я из своего фонда одолжил ему две тысячи: он так просил.
Когда летом я купила новую «Волгу», то истратила все свои сбережения. Старую «Победу» умудрилась продать за расписку. Этот позорный для меня факт от Дау я скрыла.
— Даунька, деньги за проданную «Победу» я раздарила своим родственникам. Ты ведь не против?
— Ну, что ты, Коруша. Буду очень рад, если ты найдешь вкус в филантропии.
— Даунька, меня немного пугает тот факт, что у нас нет никаких сбережений.
— Коруша, неужели ты захотела копить деньги?
— Конечно, не так, как копит деньги твой Женька! Но какую-то сумму надо иметь на книжке.
— Ты боишься, что я подохну? Так ты получишь {34} приличную пенсию, потом мне обязательно присудят Ленинскую премию посмертно. Многим ученым я стою поперек горла, многие лжеученые просто жаждут выпускать липовые работы, но очень боятся меня. За посмертное вручение мне Ленинской премии проголосуют все сто процентов. И у тебя будет сразу крупная сумма денег. Так что, Корочка, копить деньги нам нет никакого смысла. Я был бы очень счастлив, если бы ты вместо каких-то люстр, хрусталя, дорогих сервизов и других совершенно бесполезных вещей научилась дарить деньги хорошим людям. Вот, представь, живет очень симпатичный человек. Он мечтает купить мотоцикл, скопить деньги ему трудно: семья, дети и т. д. И вдруг в один прекрасный день он получает сумму стоимости самого лучшего мотоцикла от какого-нибудь Гарун-Аль-Рашида!
Говорил это Дау не без оснований. Он умел красиво дарить деньги, а это совсем не так просто.
Наступило 12 января. С большим усилием встаю готовить завтрак Гарику. Холодильник оказался пуст, все продукты кончились.
— Гарик, сегодня на завтрак только чай, варенье, сухари. На обед то же самое. В школу не ходи, пока я не раздобуду денег.
Позже зашла Валя Щорс, жена Халатникова:
— Кора, почему вы не приходите в больницу?
— Валя, я была, но меня не допустили к Дау, вероятно, жалеючи, но очень грубо. Просто выбросили вон из больницы.
— Кора, я не понимаю вас. Да знаете ли вы, что там с этой Зинаидой Горобец, штатной любовницей Лившица, все время находится одна из девиц Дау, какая-то Ирина Рыбникова. Ее Лившиц всем врачам представляет как жену Ландау, говорит, что с Корой он не успел развестись. Вы вообще страшно распустили своего {35} Дау! На вашем месте я бы немедленно вышвырнула вон эту девицу. (Так вот почему физики меня не пустили к Дау!) Кора, вы должны взять себя в руки, вставайте, одевайтесь и сейчас же со мной поедете в больницу. Там надо навести порядок! Эту Горобец тоже надо вышвырнуть вон из больницы. Попробовал бы кто-нибудь привести девицу к моему Исааку!
— Милая Валя, Дау — не Исаак. Если там Женька с девицами, то мне места нет. Когда Даунька придет в сознание, он сам меня позовет. Тогда порядок восстановится сам собою. Мне никому не нужно доказывать, что я жена Ландау. Валечка, скажите, ведь вы врач, есть ли надежда, будет ли он жить?
— Кора, в своем ли вы уме? Так вы не поедете выгонять эту девицу?
— Нет, Валя, я не имею права ее выгнать. Только скажите, есть ли надежда на жизнь? Будет Дау жить?
— Надежды нет никакой. Но, Кора, очень нужны деньги. Лившицы очень нецелесообразно тратят ваши деньги, они устраивают несколько раз в сутки банкеты для консилиума и физиков. Все едят зернистую икру ложками. Но ведь там еще очень многие дежурят: шоферы, медсестры и разные добровольные дежурные. Все голодны. У больницы нет на это средств. Я решила, что необходимо организовать бутерброды для всех. Денег на это надо немало.
— Валя, я все отдала Леле. У меня нет больше денег.
— Как нет? Тогда возьмите с книжки.
— Да нет, у меня даже сберкнижки нет. Вот 25-го получу за звание и 17-го будет зарплата.
— Кора, в больнице нужны деньги, чтобы кормить людей сегодня, а не завтра.
Валя ушла, окинув меня презрительным взглядом, не поверив, что у меня нет денег. А ведь, когда она вошла, я надеялась у нее одолжить денег на обед моему Гарику. Вот какие уроки иногда преподносит жизнь! Надо расплачиваться за те необдуманные поступки, на которые я так легко шла. Все хотела подавить в себе необузданную ревность.
Года два назад у Дау была возлюбленная, некая Гера. Она дружила с Мариной, женой Алиханова. Дау с {36} Герой очень часто заходили к Алихановым (меня поставили в известность друзья).
Как-то мне позвонила Марина:
— Кора, моей знакомой надо срочно продать дорогие бриллиантовые серьги. Вы не хотели бы их приобрести? Им цена 60 тысяч.
— Спасибо, Марина. Я как раз ищу такие серьги.
Записав координаты, я обещала съездить посмотреть. Серьги меня не интересовали, но я горела желанием чем угодно насолить этой Гере. Мой замысел удался. С очередного свидания Дау вернулся слишком рано, зашел ко мне. О, как я ликовала, глядя на не свойственное ему мрачное выражение лица.
— Коруша, какие это бриллианты ты купила?
— Я?
— Да, ты. Причем очень дорогие.
— Так это по звонку Марины. Понимаешь, Дау, я никогда не видела черных бриллиантов (это я уже врала), просто хотела съездить посмотреть, а потом решила не беспокоить зря людей. Но почему тебя коснулась пустая телефонная болтовня?
— Всякая ложь мне отвратительна. Гера устроила мне омерзительную сцену.
— Гера? А причем здесь Гера?
— Она дружит с Мариной. Вот теперь попробуй доказать, что ты не верблюд.
Сейчас я себе была отвратительна. Все это было так мелко. Я была недостойна великодушия моего Дауньки. Вскоре после Вали забежал Шальников:
— Кора, я пришел по поручению комитета физиков при больнице. Возле Дау дежурят восемь медсестер. Им ежемесячно надо доплачивать по 50 рублей. Комитету нужны деньги.
— Шурочка, все свои деньги и все деньги из ящика Дау я отдала Лившицам на больницу. У меня просто уже нет денег. Мое состояние ухудшается. Я с трудом встаю. Пожалуйста, оформите через институт на себя доверенность в получении денег за звание. Эти 500 рублей ежемесячно передавайте в больницу доплачивать медсестрам, тем более вы там же ежемесячно получаете свои деньги за звание. {37}
Шальников оформил доверенность. Зарплата медсестрам при Дау была обеспечена, но надо что-то продавать. Продавать есть что, но нет сил встать!
14 января 1962 года позвонили из больницы: «Приезжайте с семьей прощаться. Эту ночь ваш муж не переживет». Ландау умирает. Я уже не кричала, не рыдала. Только помню полное опустошение и отупение. Все мысли голову покинули, все опустошилось.
Вбегает Леля:
— Кора, комитету физиков опять нужны деньги!
Я собрала все свои силы и тихо, не своим голосом ответила так:
— Леля, мне только что сообщили: Дау умирает. Денег у меня больше нет. Есть только Гарик.
Леля выскочила, побежала в институт, всех оповестила:
— Кора сказала: денег комитету физиков она больше не даст, потому что Дау все равно умрет, а у нее есть Гарик.
Вот какие бывают интеллигентные люди. А я ведь была в дружбе с ней! Вот так, друзья по черный день!
Я слышала, как вошел Гарик, что-то спросил, а на меня навалилась всепоглощающая, невыносимая тяжесть моего существования. Я не могла открыть глаза и пошевельнуться, сказать моему мальчику, что я жива. Не хватало сил. Гарик вызвал «скорую». Меня начали колоть, потом врач сказал, что меня надо немедленно забрать в больницу: давление 60 на 40, и сердце сдает.
В моем опустошенном мозгу возникла мысль: «Это они мне в больнице хотят сообщить об уже состоявшейся смерти Дау». «Больница» — это слово наводило ужас:
— Нет, нет. В больницу ни за что! Я не хочу в больницу, у меня нет сил! Умоляю насильно не везите в больницу!
Я беспомощно цеплялась сама не знаю за что. Хотелось верить в надежду на жизнь Дау.
Кто-то подошел и сказал: «Пожалейте сына. Ему будет очень тяжело ухаживать за вами. Вас необходимо госпитализировать». {38}
Приехала моя племянница Майя. Она сказала:
— Кора, ведь Гарик все ночи напролет проводит у твоей двери.
Бедный мой мальчик. Я этого не знала. Согласилась ехать в больницу.
— Майя, а ты останешься с Гариком?
— Да, останусь.
— Ты только сразу что-нибудь продай. Все деньги из дома у меня забрали Лившицы. Корми Гарика.
— Хорошо. Я все сделаю.
В больнице Академии наук меня уже три дня ждала отдельная комфортабельная палата. Но в ней нет телефона, и я не знаю, что там в больнице № 50. Наступила ночь. В сердце вполз щемящий страх. Все еще звенят слова: «Надежды больше нет. Ландау умирает». Что-то мешает лежать. Это оказались радионаушники. Я положила их на тумбочку. Вдруг в тишине ночи раздались тихие траурные мелодии. Они неслись с тумбочки из невключенных наушников. Я тщательно завернула их в толстое мохнатое полотенце, запрятала в тумбочку. Но траурные мелодии нарастали. Звуки шли из розетки радиосети. К этой душераздирающей музыке еще добавился странный шелест бумаги. Открываю глаза: на меня сыпятся газеты, в которых некрологи, некрологи, некрологи! Газеты издают удушливый запах свежей краски. Я начинаю задыхаться, с трудом надеваю халат, цепляясь за стены, открываю дверь в коридор. Там приглушенный свет, запах краски и музыка исчезли. Навстречу идет медсестра.
— Почему вы не спите?
— Сестричка, милая, где-нибудь на этаже есть городской телефон?
— Сейчас глухая ночь. Куда вы будете звонить?
— В больницу № 50. Там дежурный физик снимет трубку.
Медсестра привела меня к телефону. Набрав номер, я спросила о состоянии Ландау. Ответили сейчас же: «Улучшений нет». Видно, им там не до сна.
— А Федоров у него?
— Да! Федоров не отходит от Ландау. Если бы не он, мы давно уже потеряли бы Дау. Кора, я узнал вас. С вами говорит Семен. Как вы себя чувствуете? Говорят, что вы в больнице? {39}
— Да, Семен, я звоню из больницы. Спасибо! До свидания!
Это был тот самый Семен, которого Даунька спешил спасать! Он сказал, что Федоров не отходит. Это сообщение Семена вселяло какие-то крохи надежды.
— Сестричка, я посижу здесь у окна.
— Нет. Пойдемте, я вас уложу.
— Ведь я все равно не засну.
— Давайте я вам сделаю укол, заснете от укола.
— Но там в палате какой-то запах. Там надо все проветрить.
— Хорошо, я проветрю и через десять минут приду за вами.
Когда сестра опять водворила меня в палату, снова на меня стали сыпаться газеты с некрологами и удушливой краской. Тайком я выбралась из палаты и устроилась в темном углу коридора. С рассветом вошла в палату. Все галлюцинации исчезли.
В десять часов утра пришел главный врач Хотько. Я впилась глазами в его лицо. Оно было спокойно. Добрые глаза. Нет, этот человек не принес мне страшной вести. Он сказал:
— Я только что получил сообщение из больницы № 50. Состояние академика Ландау выравнивается. Температура упала. Этой ночью из Америки прилетел самолет, он привез специально для Ландау новые страшной силы антибиотики. Физики сразу их доставили в больницу, и смерть отступила. Эти антибиотики потушили пожар в легких. Вечером я еще раз зайду к вам, как только получу сведения о вашем муже. Но мне доложили, что вы ночь провели вне палаты. Вам нужно успокоиться и набраться сил. Ведь вам придется ставить мужа на ноги.
Эти слова в буквальном смысле слова оказались пророческими! Этот бог ужасно плохо создал тело человека. Оно слишком ранимо, слишком беззащитно. А куда же подевались те дьяволы, которые за роспись человеческой кровью скупали души? Где разыскать такого дьявола? За жизнь Ландау не только я, все его ученики-физики продали бы свои души!
На все религии, на всех богов я затаила зло. Почему с таким пакостным человеком, как Женька Лившиц, {40} все так благополучно? Почему бог открыл ему зеленую улицу в жизни? Сегодня он дал слово Дау отвезти его не в Дубну, а лишь на Московский вокзал. Завтра без зазрения совести взял свое слово назад — из-за отсутствия совести как таковой.
Терзаясь такими мыслями, я лежала в палате. Вошла медсестра:
— Вас сейчас будет осматривать профессор-психиатр.
— Меня? Психиатр? А зачем? Мне психиатр не нужен.
— Это вам так кажется, а в наше нервное отделение очень часто к больным приглашают психиатров из психиатрических лечебниц.
— А бывают случаи перевода из вашего отделения в психиатрические?
— Конечно, бывают.
Вошел психиатр и с ним врач Зарочинцева. Интуиция подсказала мне скрыть ночные галлюцинации.
— Как спали?
— Я не спала.
— У вас было ощущение страха? Вы боялись войти в палату?
— Нет, вы ошибаетесь. Я звонила в больницу № 50.
— Всю ночь?
— Консилиум профессоров мне сообщил, что мой муж этой ночью умрет.
— Но ведь сегодня вам уже сообщили, что состояние вашего мужа выравнивается?
— Да, я узнала об этом в 10 часов утра, но в сознание он еще не пришел.
— У вас очень напряжены нервы. А галлюцинации у вас бывают?
— Да, были, — умышленно сделав паузу, добавила, — в детстве, когда я болела сыпным тифом, а сейчас не бывают.
Алчные огни в глазах психиатра погасли. После визита врачей сразу пришла Майя.
— Корочка, мне сказали, что тебя осматривал профессор-психиатр. Зачем тебе психиатр?
— Маечка, просто в этом отделении это очень принято. Профессор был явно разочарован результатом своего визита. {41}
Потом Майя взволнованно сказала: «Вчера поздно ночью, когда ты уже была в больнице, а Гарик спал, позвонила жена Лившица. Она сказала, что Евгений Михайлович брал для Дау в библиотеке книги, ему их нужно срочно вернуть. Они пришли вместе и взяли не только книги. Они еще забрали все подарки, полученные им в день своего пятидесятилетия. Что теперь делать?».
— Ничего. Если Дау будет жить, Женька прибежит и все вернет. А Дау будет жить! Не верить этому я не могу. Состояние уже выравнивается.
— Кора, ты сама достань деньги, с комиссионными такая волокита, и потом я не знаю, что именно продавать.
— Маечка, предложи своим соседям что-нибудь из хрусталя, за ним все охотятся. У меня много уникального хрусталя.
— Хорошо. А что тебе принести?
— Маечка, мне ничего не нужно. У меня на нервной почве спазмы пищевода. Я могу пить только горячий чай и суп, а этим я здесь обеспечена.
Как-то врач, выслушивая мое сердце, сказал:
— Вы знаете, что у вас в груди опухоль?
— Да, знаю. Мне на 9 января была назначена операция в онкологическом институте, но после 7 января я совсем об этом забыла.
— Сейчас вас оперировать нельзя, подлечим сердце, тогда сделаем операцию.
18 января Маечка мне сообщила, что Институт физпроблем не будет выплачивать заработную плату академику Ландау, а я так ждала 17-го числа, чтобы обеспечить сыну нормальное питание. У него, по моей вине, большая нагрузка: надо учиться и работать!
— Майя, почему Гарику не выдали денег отца в институте?
— Ему заявили, что согласно новому закону от 2 января 1962 года травмы, полученные в выходные дни, не оплачиваются. Этот закон направлен на борьбу с пьянством и хулиганством. Гарик получил свои 20 рублей, я продаю твой хрусталь знакомым. На питание Гарику пока хватает. {42}
— Нет, Майя, надо одолжить денег, но у кого? Все друзья должны Дау. Подумают, что я требую долги. Это неудобно. Вот только один академик Кикоин — верный муж, он не одалживался у Дау. Ты найди дома в телефонной книжке его телефон, попроси его зайти ко мне в больницу. Он бывал у нас в доме и любит Дау.
Вечером того же дня академик Кикоин вошел ко мне в палату, а я спасовала. Оказалось, что просить денег у чужих трудно. Или меня парализовала его сухость? Никакого участия, никакого расположения к себе я не почувствовала. Попросить у него денег я не смогла. Не помню, как я объяснила свою просьбу навестить меня, на душе было мутно.
Через несколько лет я встретилась с этим важным академиком и рассказала ему, что просила зайти в больницу, чтобы одолжить денег для сына, на обед!
— О, как же я сам не догадался предложить вам помощь, узнать, есть ли у вам в чем-нибудь нужда?
Наступил февраль. Там, в далекой 50-й больнице, состояние Дауньки как-то стабилизировалось! Сказали: будет жить. Но сознание упорно не возвращалось. Это очень пугало. Меня перевели на шестой этаж в хирургическое отделение. Была назначена операция по удалению упухоли в левой груди. Перед операцией пришла Маечка. Спросила:
— Ты операции не боишься?
— Все мои страхи связаны только с тем, почему у Дау так долго не возвращается сознание.
— Кора, а ведь я в итоге распродам весь твой хрусталь. Скажи, неужели Кикоин отказался одолжить тебе денег?
— Маечка, он был так благополучен, так поглощен собственным достоинством. Человеческой доброты, на которую был так щедр Дау, у Кикоина вовсе нет! Продавай весь хрусталь. Даунька считал его бесполезным, а эти предметы теперь приносят пользу.
— А кроме Кикоина к тебе никто не приходил?
— Нет, никто. Ведь все друзья поглощены здоровьем Дауньки. Это так естественно! Если бы я смогла, я бы тоже помчалась сейчас в больницу № 50. Туда приезжают корреспонденты всех стран и фоторепортеры тоже. {43}
— Но у тебя было много приятельниц! Все они жены физиков.
— Майя, ведь все друзья по черный день, это очень горько, такова жизнь.
Как-то у нас в гостях была Лидия Чуковская. Специально в ее честь я приготовила свой знаменитый вишневый пирог. Уходя, она сказала: «Ты знаешь, Дау, я твою Кору не могу принять всерьез! Она просто елочная игрушка».
— Кора, эта дочь Чуковского просто крокодил, я с ней встречалась.
— Майя, я не восприняла ее мнение как комплимент.
Личность Дау была настолько яркой и интересной, что все не принималось в расчет, все как-то переставало существовать в сравнении с ним, с этим «ДАУ». После ухода Чуковской я все-таки тогда сказала ему: «Разве она не знает, что елочные игрушки не могут печь такие пироги?». Дау рассмеялся: «Корочка, она так сказала из-за твоей красоты!» — «Нет, Дау, меня она восприняла как предмет. В этом есть большой смысл. У меня, вероятно, очень легкомысленный вид».
В больнице я всегда напряженно ждала визита главврача, который ежедневно информировал меня о состоянии Дау, надеясь, что он войдет и скажет: «Ваш муж пришел в сознание!». Ведь в литературе, в театре, в кино, где очень талантливые люди стремятся воспроизвести жизнь такой, как она есть, все тяжелобольные наконец открывают глаза, приходят в сознание, тревоги исчезают, возвращается счастье. Мне пришлось убедиться: в жизни все сложней, жизнь бывает жестока! Доброта, терпимость, человечность, где вы?
Наступил день операции. Лежа на операционном столе, чувствую: главный хирург больницы АН СССР {44} вводит местный наркоз совсем не в то место груди, где находится моя опухоль. Пытаюсь помочь:
— Доктор, там, где опухоль, есть большой след от пункции онкологов.
Хирург Романенко заорал:
— Не мешать, не разговаривать, не вам меня учить, работаю по карточке, все знаю!
Ночью бинт сполз, и я легко обнаружила свою нетронутую опухоль. Утром зашел Романенко:
— Как себя чувствуете после операции?
— Доктор, моя опухоль осталась при мне.
— Не может этого быть!
— Посмотрите, вот опухоль, на ней яркий след пункции онкологов.
— Да, и очень большая опухоль! А что же я вам вчера вырезал?
— Вам, доктор, лучше знать.
— Вы не возражаете, если я сейчас же возьму вас в операционную? Через полчасика за вами приедет коляска.
За эти полчаса все хирургическое отделение высыпало в коридор. Все знали: вчера удалили опухоль, а сегодня снова везут в операционную, следовательно, дела плохи! После операции пришла Майя, очень испуганная:
— Кора, я уже все знаю! Тебе делали повторную операцию и полностью удалили грудь!
— Откуда ты это взяла?
— Уже весь институт об этом говорит. Неужели это сплетня?
— Да нет. Вчера хирург ошибся. Сам не знает, что вырезал. А сегодня он сказал, что это настоящая опухоль, и послал на анализ.
— Тебе сказали, когда будет известен результат анализа?
— Сказали, но я не помню.
— Не боишься положительного анализа?
— Нет, всю жизнь хочу умереть раньше Дау. Майя, ты была у Дау? Как он?
— Все так же. Сказали: будет жить. Но в сознание не приходит.
— Майя, а что говорит Федоров? {45}
— А он не разговаривает. Ему говорить некогда. Он боролся со смертью. Он 14 суток не отходил от Дау, ел, спал на ходу, на 15-е сутки заявил консилиуму: «Теперь Ландау не умрет». После такого подвига наконец вышел из больницы, чтобы отоспаться за все две недели.
— Майя, но сейчас-то он бывает у Дау?
— Бывает — не то слово. Он отходит от Дау только спать домой.
— Теперь расскажи, как там Гарик?
— Гарик тоже неразговорчив. Оставляю ему продукты на утро и вечер, а днем прихожу готовить ему обед. Тебе что принести? Ты так исхудала и плохо выглядишь.
— Мне ничего не нужно. Сон я совсем потеряла. Если начинаю засыпать со снотворным, в мозг начинает звонить телефон. Когда мне Гращенков сообщил про мозговую операцию, я очень напряженно всю ночь ждала телефонного звонка, утром потеряла сознание. Так вот теперь только сомкну глаза, начинает звонить отсутствующий телефон. Маечка, как только снимут швы, обещали выписать из больницы.
Через несколько дней в палату вошла очень красивая врач-хирург Елизавета Казимировна. Она вся сияла:
— Я к вам с очень радостной вестью! Рывком вскочила с постели:
— Муж пришел в сознание?
— Нет, нет! Ваша опухоль оказалась доброкачественной!
Без сил опустилась на подушку.
— Как? Вы не рады?
— Спасибо. Просто я совсем забыла про свою опухоль.
Так медленно тянется время в больнице, как угнетают больничные стены, как хочется увидеть Дау, уже не умирающего! Это уже так много! {46}
Когда отсутствующий телефон изводит меня своими пронзительными звонками, я ночью тайком пробираюсь в тот отдаленный конец больничного коридора, где есть окно, из которого видны верхушки деревьев парка нашего института. Так приятно на них смотреть, там наш дом, где спит мой Гарик. Надеюсь, он спит спокойно. Он тоже уже знает, что наш папка будет жить!
У этого окна было радостно встречать новый день, любоваться синевой рассвета, нестись к ярким, счастливым дням прошлого! Когда счастье пропитывало, как аромат!
Время мчится в вечность, во вселенной все мчится, все находится в непрерывном движении. Только бы нежность и любовь оставались постоянными всегда! В этом лучшем из миров так много человеческого горя! Непонятно, за что чтут богов? Ведь животный мир бог сотворил ужасно, особенно человека. Устроил омерзительно его пищеварение, не по своему подобию. Сам-то изволит жрать «амброзию» и пить «нектар». Эта пища богов или полностью усваивается, или вырабатывает ароматный навоз. Об этом в евангелиях не сообщается. Вот растительный мир у него получился куда удачнее. Жить в неведении, не знать трагедий человечества, как деревья, трава, цветы. Прекрасен кусочек японской поэзии:
Луна посеребрила все вокруг.
О, как бы мне хотелось родиться вновь сосною на горе!
В нашем мире не все совершенно, так часто прекрасное и истина идут не в ногу.
Дау по своей человечности и по своей работе на науку мог олицетворять истину!
Моя любовь к нему была прекрасна. Это она, моя любовь, подняла меня в небывалую высь, поставила рядом с гением, заставила шагать по кривым дорогам жизни. Шагать с ним в ногу было немыслимо. И я стала петлять.
| {47} |
Был такой чудесный бал. Наш курс праздновал окончание университета. Вдруг жгучий пристальный взгляд остановил меня. Передо мной как вкопанный стоял высокий, гибкий, стройный юноша с непокорной, вьющейся шевелюрой и с ослепительно блестящими, огненными глазами. Нас кто-то познакомил. Он не отходил от меня весь вечер. Я танцевала только с ним. Он представился: «Дау».
— Дау, вы любите танцевать?
— Нет, я не музыкален, танцевать научился с большим трудом. Уж очень заманчива была цель! Я вообразил, что если буду уметь танцевать, то на любом танцевальном вечере смогу выбрать самую красивую девушку и на глазах у всех буду ее обнимать. Поняв ложность этих объятий, бросил танцевать. С вами танцую — боюсь уведут. Когда я вас увидел — принял за фею!
Жила я в центре. Старый харьковский университет тоже находился в центре. В те годы центр Харькова был невелик. Шли пешком.
— Теперь вы химик?
— Нет, еще не совсем.
— Но ведь это был ваш выпускной вечер?
— Да, мы закончили учебный цикл университета, а теперь целый год отведен на диплом. Многие уезжают делать диплом на производстве, вот и решили отпраздновать наш выпуск сегодня.
— А вы не уезжаете?
— Нет, я в военно-химическом институте буду делать свой диплом. Дау, у вас странное имя.
— Это не имя. Это моя кличка. Мое имя Лев, но посмотрите на меня. Какой из меня Лев? Я, скорее, заяц! Мои друзья из фамилии Ландау взяли только окончание «дау». Эта кличка лучше моего имени.
— Так вы Ландау?
— Да. А что?
— Я много слышала о вас.
— О, только всему не верьте. Все так все преувеличивают!
— Я не думала, что вы так молоды. {48}
— Я молод?
— Конечно.
— Ну, от вас мне это приятно слышать, а в молодых ученых мне уже надоело ходить!
— Вас все студенты очень любят.
— Ну, далеко не все.
— Вот мы уже и пришли. Я живу в этом доме.
— Я бывал в этом доме, живу рядом, в Юмовском тупике, в физтехе. Живу в Харькове уже два года, преподаю в университете и в мехмате. Я очень люблю студенческую молодежь, не пропускаю ни одного студенческого вечера. Почему я вас сегодня встретил впервые? Вы нигде не бываете? Вас невозможно не заметить, Кора, вы очень красивы!
— Ну, а теперь преувеличиваете вы!
— Женщины ничего не могут понимать в женской красоте. Ценить красоту женщины могут только мужчины и то далеко не все. Настоящая красота женщин — это очень редкий и очень ценный дар природы, поистине дар божий! Это больше, чем талант!
— Вы так цените красоту женщины?
— Да, и этим горжусь! А что может быть прекраснее красивой женщины? Самое интересное в жизни это, конечно, наука, а самое прекрасное это красота женщины. Кора, вы очень, очень красивы!
— Может быть, для первого знакомства хватит о женской красоте? Уже довольно поздно, а мне завтра рано вставать.
— Почему после выпускного бала надо рано вставать красивой девушке?
— Диплом я начинаю делать через два месяца, на эти два месяца поступила работать сменным химиком в шоколадный цех и завтра в восемь утра я уже должна быть в цеху. Мне очень хочется поскорее попасть к шоколаду!
— А могу я завтра вас увидеть? Вы завтра вечером свободны?
— Да, вечером свободна.
— В котором часу можно зайти и скажите номер вашей квартиры?
— Квартира № 16. Вероятно, часов в семь буду уже дома. {49}
Мой отец умер от тифа в 1918 году. Мне еще не было и восьми лет! Убедившись в папиной смерти, мама потеряла сознание, у нее горлом пошла кровь. Она год пролежала без движения. У Веры начался процесс в легких, а Наде было четыре года. Соседки сказали мне: Кора, собери вещи отца, поедем с нами в деревню, за хлебом.
В те годы ездили без билетов на буферах и на крышах вагонов, чаще товарных. Вот так пришлось стать «кормильцем», оказавшись здоровей и жизнедеятельней всех в семье.
Однажды зимой, в рождественские морозы, заснула на открытой платформе. Чужие добрые люди откопали из-под снега и отогрели. А когда мое детство пересек двадцать первый голодный год, мама мне доверила делить крохи еды, попадавшие в семью. Стараясь накормить всех, про свою порцию нередко забывала! И в один прекрасный день вдруг я совсем ослепла. Тогда на одиннадцатом году жизни узнала, что человек может заболеть куриной слепотой, если нет еды!
Как-то возвращаясь домой с драгоценным узелком продуктов, продукты накрепко привязала к себе, сама примостилась на узкой ступеньке, с наружной стороны вагона. Была совсем еще ранняя весна, перед рассветом холод был нестерпим, руки окоченели, перчаток не было. Я их уже не чувствую, если руки сами разомкнутся, я свалюсь под колеса — продукты погибнут, а их так ждут дома! Еще только один пролет от Минвод, и я буду дома!
Вдруг все стало розовым, еще солнце не взошло, но прорвались его вестники, алые лучи, весь кавказский хребет и Эльбрус со стороны востока лучи встававшего солнца окрасили в сверкающий розовый цвет, а тени на снежных вершинах гор стали голубые. Над пламенеющими снегами гор в алом прозрачном небе вызывающим алмазом поразительной красоты гордо сверкала Венера. Она своим фантастическим сиянием пронизывала весь небосвод, снопы ее сияющих лучей сверкали неправдоподобно. Мне было мало лет, но это запомнилось навсегда! Наблюдая это волшебное сияние утренней звезды, я поняла, что жизнь еще может быть прекрасной, что есть еще нечто великое, сверкающее, {50} вызывающее такой восторг! Затаив дыхание, любовалась красотой Венеры, забыв о холоде, и руки не разжались.
Потом мне часто снилась эта сверкающая звезда! Дети часто летают во сне, много лет я летала на встречи со своей утренней звездой!
Стала студенткой Киевского политехнического института, счастье казалось беспредельным. Первый мой студенческий год в Киеве был самым счастливым годом всей моей жизни! А сам красавец Киев был моей сверкающей утренней звездой.
Земли под ногами не ощущала целый год, ведь я стала студенткой!
Счастливая засыпала, еще счастливей просыпалась, а учеба давалась легко. Потом, на втором курсе, навалилась беда, беда большая, нежданная и страшная. Мое детство было не похоже на детство Сент-Экса! Оно было труднее. Вероятно, лишения в детстве помогли мне пережить мою киевскую трагедию, не рисуюсь: я была близка к самоубийству!
Один великовозрастный студент нашего института, ходивший всегда «при нагане», решил на мне жениться. Его травлю, его преследования больше года вынести было невозможно! И я удрала в Харьков, поступив в университет. Через год от киевлян узнала: мой поклонник с наганом в пьяном виде застрелился.
На последнем курсе университета ко мне в Харьков приехал Петя — друг юности, многолетняя пламенная переписка, мы поженились. Через полгода я с трудом стала его выносить.
Внешне красив как молодой бог, но суждения, взгляды, характер! Полная аналогия с моим киевским поклонником, который ходил «при нагане».
С Петей расстались без трагедий, его поразительная мужская красота слишком ценилась женщинами, ну а меня уже подташнивало, когда он сам себе улыбался в зеркало.
Шоколадный цех меня поглотил, я от всего была в восторге, все в белоснежных халатах. На этой старинной кондитерской фабрике (Жоржа Бормана) все оборудование было французским, масса машин, все сверкает {51} изумительной чистотой, аромат в цеху сказочно вкусный и благородный, это запах какао-бобов.
После смены задержалась в комитете комсомола, домой пошла пешком, впечатлений было много, не хотелось лезть в человеческое месиво трамвая. Сегодня знакомилась с производством, а завтра уже надо работать на этом производстве. Хотелось по дороге, не спеша, систематизировать весь технологический процесс этого цеха. Домой попала около семи вечера и тут только вспомнила о Ландау. Вдруг он не опоздает? Моя младшая сестра была дома.
— Надечка, вчера меня провожал домой этот Ландау.
— Как, эта знаменитость?
— Да. Он сегодня хотел зайти, я пошла в ванну. Если он явится, ты его, пожалуйста, займи.
Звонок в дверь раздался ровно в семь часов. Дверь открыла Надя. Мы с ней внешне очень похожи. Спустя год Дау рассказал мне:
«Когда мне ваша Надя открыла дверь, я опешил, хотел просто убежать, стал пятиться к лифту. Но она так приветливо улыбалась, приглашая войти, что я решил войти, но сразу смыться, а сам думаю: все говорят, что я псих. Псих и есть. Как она могла мне вчера так понравиться? Опять влип! Где были мои глаза вчера? И вдруг слышу: «Садитесь! Кора сейчас придет». Я был счастлив познакомиться с Надей — студенткой, тоже химиком, но уже с большой тревогой ожидал твоего появления. Ты появилась просто ослепительной. У меня перехватило дыхание. Надечка благоразумно скрылась.
— Кора, как вам удалось за такой короткий срок так еще похорошеть?
— Дау, не преувеличивайте! Просто я только из ванны, а потом я в восторге от шоколадного цеха, от тех людей, с которыми буду работать. Ведь я вернулась всего 20 минут назад. Так было интересно, даже не заметила, что весь день провела на фабрике!
Вначале я не придавала значения встречам с Дау, как и его восторженным комплиментам. Он был мне непонятен, ни на кого ни в чем не похож. Все в нем было {52} ново. Поражало его душевное изящество. Я стала ощущать какую-то, только ему свойственную, трепетную индивидуальность. Такого, как Дау, я встретила впервые. Он ошеломлял непосредственной ясностью ребенка и зрелостью своего мышления, стремящегося разгадать тайны природы путем сложнейших математических доводов, свойственных только ему одному, настоящему первооткрывателю в науке. Последнее я поняла много лет спустя.
Мое восприятие жизни стало меняться. Прозрачная голубизна неба поражала, алые закаты слишком восхищали, как будто окружающий меня мир заполнился чем-то необычным, значительным. Я была молода, беспечна, все давалось легко.
Вторая смена на фабрике заканчивалась в 12 часов ночи. Дау всегда встречал меня у фабричной проходной с розами или гвоздиками. Возвращения со второй смены почти через весь Харьков пешком превратились для меня в праздничные счастливые прогулки. Он был прост. Никогда — ни в те годы, ни много лет спустя — не упоминал о своей значимости в науке. Я забывала, что он знаменитый профессор, физик, который в 20 лет уже пытался объяснить сущность квантовой механики самому великому Эйнштейну.
— Кора, вы все еще так же очарованы своим шоколадным цехом?
— Дау, мое очарование цехом и шоколадом переходит в глубокую постоянную любовь. Только что выработанный шоколад, еще не потерявший своего непревзойденного аромата, так вкусен! В продаже его не бывает, его срок хранения всего 10 дней при температуре не выше 10 градусов по Цельсию.
— Я тоже очень люблю шоколад, особенно молочный с орехами. Когда я жил в Копенгагене, там я очень много занимался, иногда забывал про обед и ужин. Выйду часа в три ночи — все закрыто. Тогда подойду к шоколадному автомату, опущу монетку, и вкусный ужин обеспечен.
— А когда вы были в Лондоне, тоже ужинали шоколадом?
— Нет, что вы! В Копенгагене я жил на средства {53} международной рокфеллеровской стипендии, а в Лондоне я был в командировке. Я не имел права тратить рабоче-крестьянские деньги нашего государства на шоколад. В Лондоне я даже не разрешал себе ходить в кино. Там я только купил вечное перо и к нему один флакон чернил. По пути домой в вагоне стал заниматься, открыл чернила, а пробка затерялась. Когда приехал в Ленинград, пришлось флакон чернил поставить в карман брюк без пробки, поэтому я был вынужден слишком медленно выходить из вагона и идти навстречу к маме. Она перепугалась, решив, что я болен.
— А на что-нибудь большее, чем чернила, у вас не хватило денег?
— Нет, деньги у меня остались, и немало. Я их сдал вместе с отчетом о поездке.
Этот рассказ Дау меня озадачил, потому что совсем незадолго до этого на городском партийно-комсомольском активе Харькова критиковали тех партийных работников, которые из-за границы привезли разные дамские туалеты и, чтобы обмануть таможенный контроль, надели их на себя, а сверху — свои постоянные мужские костюмы. На таможенном пункте верхние мужские костюмы с них сняли. Нам показали кинопленку этого маскарада. Все смеялись до слез. Рассказ Дау меня поразил. Он только подчеркивал, что он растяпа, потерял пробку и смешно выглядел на ленинградском вокзале. Он просто не понимал, как можно быть иным, что можно на рабоче-крестьянские деньги не только ходить в кино, но и покупать женам наряды.
— Дау, это правда, что англичане предлагали вам навсегда остаться работать в Лондоне?
— Не только англичане, меня и американцы очень старались соблазнить роскошными условиями жизни. К роскоши я совершенно равнодушен. Я им всем ответил так: «Работать на акул капитала? Никогда! Я вернусь в свою свободную страну, у меня есть мечта сделать в нашей стране образование лучшим в мире. Во всяком случае я этому буду способствовать!». Кора, я об этом очень много думаю. Сейчас здесь, в Харькове, я уже стал создавать свою школу физиков. На Западе ученому работать нелегко. Его труд оплачивают в основном попечители. В этом есть некая унизительность. {54} Проповедуют мораль со своих позиций, им свойственно ханжество, чтут религию. А как можно совместить религию и науку во всем мире?
— Дау, вы беспартийный?
— Да.
— И не комсомолец?
— Нет и не был. Я в 14 лет стал студентом, занимался на двух факультетах: физическом и химическом. Мир устроен так интересно. Он таит столько загадок, и человеку все это дано познать, а без знаний, без упорного труда познать мир невозможно.
— А почему вы не вступаете в партию?
— Меня не любят. Меня не примут. Я говорю только правду, я не из племени героев, у меня множество недостатков. С детства всегда восхищался народовольцами, декабристами.
Он стал читать стихи Рылеева, потом Пушкина о декабристах, с восхищением говорил о Перовской, о ее большой любви, о ее романе с Желябовым, как этот красавец-революционер был совсем случайно арестован. Когда его вешали, Перовская сидела в той же тюрьме и после родов умерла. Все сопровождалось стихами, и какими! Стихи лились без конца.
— Вот какими были ваши революционеры! Какой из меня коммунист? Я просто никчемный трусливый заяц!
— Дау, кто ваш любимый поэт?
— Лермонтов. Я очень люблю стихи. У нас на курсе в университете была своя поэтесса. Она вышла замуж за иностранца, уехала за границу и погубила свой талант.
— Почему погубила?
— Настоящий поэт может писать стихи только на своем родном языке, находясь на своей родине.
— А ее стихи помните?
— Да, конечно. Вот, к примеру, когда наш профессор Иоффе женился на сокурснице своей дочери:
Иногда испанский замок
Вдруг спускается с небес.
В Иоффе вновь вселился амок
Или проще — русский бес. {55}
Натянувши нос Агнессе и послав развод жене,
В комфортабельном экспрессе
С Леей двинулись в турне.
Как приятно лет на склоне, с капиталом и в чинах,
Развлекаться в Барселоне, забывать о сединах.
Или вот, когда мы студентами совершали турне по побережью Черного моря:
На пляже пламенной Тавриды,
Лишившись средств, ума и сил,
Раздетый Боб у голой Иды
Руки и сердца попросил.
К чему условности салона?
Закатом вспыхнула вода.
И, надевая панталоны,
Она ему шепнула: «Да».
Начав работать над дипломом, я шоколадный цех не оставила, полюбив и цех и людей. Меня на фабрике тоже оценили. С утра до двух часов дня работала над дипломом. С четырех часов дня до двенадцати ночи на второй смене или с двенадцати до восьми на третьей смене. И еще встречалась с Дау. Он всегда меня провожал на ночную смену, а со второй смены всегда встречал. Гуляя через весь Харьков, мы много говорили, больше говорил он. С восторгом слушая его, я начинала понимать убогость своего университетского образования. Историю партии я преподавала в кружках и даже считалась неплохим лектором. А Дау, рассуждая о любом политическом вопросе, цитировал Маркса, Энгельса, Ленина.
— Корочка, Маркс по этому поводу сказал... (Шли длинные цитаты). Ведь это прекрасно! Он знал историю всего мира и каждого народа в отдельности. Он знал все, даже какие-то персидские иероглифы. {56}
О коммунарах Французской революции Дау говорил с таким восторгом, будто был им сам.
— Дау, вы должны обязательно вступить в партию. Такие люди, как вы, ей очень нужны.
— Кора, марксизм заинтересовал меня рано. В 11 лет я изучил «Капитал» и, конечно, стал марксистом, а вот в партию меня не примут. Вернувшись из-за границы, я стал работать в Физтехе. Этот институт в Харькове меня привлек потому, что здесь работает выдающийся экспериментатор Лев Шубников. Теоретики должны работать с экспериментаторами. Я очень много работаю, увлеченно, забываю пообедать. Забываю и про собрания в институте. Вот последнее мне не прощают! Поэтому меня в партию не примут. Но на вчерашнее собрание не опоздал, к сожалению, и помешал всем проголосовать единогласно при обсуждении нового закона о запрещении абортов. Я выступил против этого закона: «Двое людей должны очень хотеть ребенка и только тогда его заводить. В свободной стране свободная женщина должна свободно располагать собственным телом. Она сама должна решать этот интимный важный вопрос. Навязывать женщине этот преступный закон, заставлять ее насильно рожать! Как все это называется?». Все женщины меня поддержали. Голосование «за» провалилось. Секретарь парткома, спасая положение, стал сам себе противоречить. Он сказал: «Родить женщине не так трудно. А каково отцу целую ораву одеть и прокормить? Нет, мы должны голосовать за этот закон!».
Этот закон при сталинизме вошел в жизнь.
Во времена моего студенчества в Харькове от приятельницы я услышала о Евгении Лившице. Он котировался как выгодный жених. Студентки, мечтавшие о замужестве, говорили о нем: «Он — сын знаменитого профессора-медика. У них такой шикарный особняк на Сумской. Они так богаты! У его матери такие бриллианты! В их особняке каждая вещь — антикварная ценность!». А моя университетская подруга по курсу, харьковчанка, мне рассказала: «Наш дом примыкает к {57} особняку профессора Лившица на Сумской. Помню в детстве, когда братьев Лившиц гувернеры выводили гулять, их заграничная одежда была слишком броска для наших рабочих ребят. Мы гурьбой бежали за ними и кричали: «Обезьянок вывели гулять!».
Сейчас не помню, по какому поводу я попала в лившицкий особняк вместе с Дау. Когда вышли, Дау спросил:
— Как тебе понравился Женька?
— Почему он такой лысый? — спросила я.
— От природы.
— Очень плюгавый и ростом не вышел, острый нос, бегающие глазки, рот без губ, в улыбке что-то от лягушки.
— Как ты его раздраконила! А ведь он пользуется большим успехом у девиц! Во всяком случае больше, чем я!
— Этому я не могу поверить. Вот его брат гораздо симпатичнее. Только почему они назьтают его бабьим именем Леля?
— Его зовут Илья. Илья талантливее Женьки. Женька очень умен. Он практически, жизненно умен. Я по всем бытовым вопросам консультируюсь у Женьки.
— Даунька, милый, неужели ты мог консультироваться у этой гниды, как нужно меня поцеловать?
— Коруша, в делах любви он гораздо опытнее меня. Ты явно недооцениваешь Женьку. Он так трудился, так старался, когда я по Харькову разыскивал красивых девушек. Он меня со столькими перезнакомил, я даже счет потерял. Но у нас с ним разные вкусы. Ни одна его красавица мне не понравилась. Я так горд, что тебя встретил сам, без помощи Женьки.
Да, в те далекие годы я искренне, настойчиво пыталась уговорить Дау стать коммунистом. Не ведая того, что в трагический момент медики, спасавшие {58} жизнь Ландау, посмотрят на этот факт со своей медицинской точки зрения, приведшей их к неправильному диагнозу. И это не парадокс — так было в жизни.
А тогда Даунька мне серьезно отвечал:
— Я только умею размышлять о науке, больше я ни на что не способен. В детстве мне отец настойчиво внушал, что из меня ничего хорошего выйти не может. Я так боялся, а вдруг он окажется прав! Этим он мне изрядно портил детство. Я действительно очень одинок. Подростком был близок к самоубийству.
— Дау, а кто был ваш отец?
— Он — зануда. Он и сейчас есть!
— Как зануда?
— Ну, просто скучнейший зануда, он наводит тоску!
— А мама?
— Маму я очень люблю.
— Дау, а ужасное детство — это что? Пить молоко заставляли?
— Не только молоко. Еще хотели меня насильно научить играть на рояле!
Все это, слово в слово, было сказано очень серьезно человеком, которого в январе 1930 года у Паули в Цюрихе заинтересовало квантовое движение электронов в постоянном магнитном поле. Решил он эту задачу весной в Кембридже у Резерфорда. Так в истории физики наряду с парамагнетизмом Паули появился диамагнетизм Ландау.
Эта работа поставила Ландау в один ряд с известнейшими физиками мира. Ему было тогда 22 года.
Меня удивляло, что Дау настойчиво вклинивался в мою жизнь. Каждый свой свободный час я была только с ним. На свидания он приносил много нежной робости, трогательной застенчивости и охапки душистых цветов. Розы, розы... А как была душиста гвоздика тех счастливых лет! В моей комнате после знакомства с Дау все было пропитано этим ароматом. Он кружил голову, предвещал что-то волнующее, он пьянил. Впервые в жизни я была так засыпана цветами, и как ценны были эти цветы: их мне дарил Дау!
Я уже его полюбила, но не сразу это поняла. В один из выходных дней мы пошли в кино. Дау отправился {59} брать билеты. Я дожидалась его в стороне возле пожилой интеллигентной пары. Он, указывая на Дау своей спутнице, сказал: «Посмотри на этого высокого юношу. У него огненные глаза. У простого смертного такого взгляда быть не может». Я вся затрепетала!
После защиты диплома, отвергнув аспирантуру в военно-химическом институте, я осталась работать на фабрике в должности главного технолога. Как-то вечером Дау пришел ко мне домой. Шторы были закрыты. Я не знала, что пошел дождь. Открыв дверь и увидев его блестящего, мокрого, я воскликнула:
— Дау, это такой сильный дождь?
— Нет, дождя нет, погода прекрасная! — сказал он, снимая шляпу, с ее округлых полей струилась вода. С удивлением посмотрев на лужу в передней, он смущенно сказал: «Да, вероятно, идет дождь». С роз струйками стекала вода, омытые ливнем, они были прекрасны.
— Дау, обычно розы дарят штуками.
— А разве букеты вам не нравятся?
— Очень нравятся, но это даже не букет, это целая охапка роз. Каждое свидание вам дорого обходится!
— Вы очень выгодная девушка: вас не надо кормить шоколадом.
— А вы очень мокрый. Платок вам не помешает. Я сейчас принесу полотенце. А теперь садитесь сюда, на тахту.
С полотенцем в руках я повернула его голову к себе, его глаза ослепили меня, наши губы встретились. Закружилась голова, на какие-то доли секунды я оторвалась от земли, ничего не помню, открываю глаза — я на тахте. Дау стоит передо мной, а на лице — испуг и изумление. Он быстро произнес: «Кора, я люблю тебя!» и исчез. Вышла в переднюю — его нет. Повернув ключ в своей комнате, подошла к зеркалу. Из зеркала сверкнули его пламенные глаза и исчезли. Стала рассматривать свое отражение. Он говорит, что я красива и даже очень. Раньше все называли меня хорошенькой. Вид слишком легкомысленный, глаза сияли счастьем, слишком яркий румянец, но рот действительно красив, зубы просто ослепительные. И потом в меня очень много парней влюблялись сходу.
Но Дау парнем не назовешь. Он не просто юноша. {60} В нем затаилась какая-то светлая человечность, вероятно, потому что он сохранил непосредственность и чистоту ребенка. С детства его потянуло к науке. Поиску научных истин в физике он отдал всего себя. От природы он был одарен математическим мышлением большой силы. Эта сила в шесть лет вступила в противоречие с бессмысленным стучанием по клавишам рояля. Куда как интереснее спрятаться в сарае и углем на стенах решать задачи. Но отец преследовал, отцовской властью стремился усадить за рояль и заставить чинно гулять по дорожкам сада, не пачкаться углем в сарае. Так возникло у сына чувство отчуждения по отношению к отцу, сохранившееся в течение всей жизни. Бедный родитель стремился воспитать сына культурно, не ведая, что дал жизнь гению.
«Упрямства дух нам всем подгадил, в свою родню неукротим, с Петром мой пращур не поладил и был за то повешен им!» Упрямство и любопытство почти всегда сопутствуют гениям. В 10 лет Левушка (тогда он еще не был Дау) твердо решил, что причесываться и стричься — занятие отнюдь не для мужчины. Отец — горный инженер высокого класса — хорошо знал, что твердые породы сверлят еще более твердыми орудиями. Тогда между отцом и сыном встала мать, медик-физиолог, впоследствии профессор со своими трудами и именем в своей области науки. Женщина не только талантливая, но и умная. Она сказала мужу: «Давид, Левушка — добрый и умный мальчик, вовсе не сумасшедший психопат. Насилие это не метод воспитания. Он только очень трудный ребенок, его воспитание я беру на себя, а ты займись Сонечкой». В семье главного инженера нефтяных приисков города Баку Сонечка стала папиной дочкой, а Левушка всецело принадлежал матери. Все это я узнала, когда познакомилась с Любовью Вениаминовной Ландау, став женой Дау.
А в тот счастливый вечер моей молодости, когда Дау впервые поцеловал меня в губы, я безотчетно приняла его поцелуй мгновенной потерей сознания. Его клетки мозга хотели математическим путем вывести формулу любви к женщине! А это еще никому не удалось. Вот он и прибегнул к спасительному бегству.
Я тоже была озадачена тем, что он поцеловал меня {61} только один раз. Сон не сразу пришел ко мне. Перебирая важнейшие события своей личной жизни, я зашла в тупик. Жизнь таит столько непонятного. Но и вторая любовь может стать первой, настоящей, неповторимой на всю жизнь.
Жизнь меня не обошла. Она подарила мне счастье полюбить Дау. Молодость всегда беспечна, в ту счастливейшую из ночей мне казалось, что я стою на пороге огромного настоящего счастья. В древние времена люди старались скрыть свое счастье от богов. Боги завистливы и склонны к злодеяниям. Они отомстили мне. За большую любовь, за беспокойное счастье, за встречу с Дау.
Дау восхищал тот факт, что мы живем почти рядом.
— Корочка, я вчера встречал восход солнца под твоими окнами. Много занимался, забыл пойти поужинать, у меня дома никаких продуктов не оказалось. Понадеялся на какой-нибудь поздний ресторанчик, но все оказалось закрыто. Ночь прошла, вставало солнце, и я помчался под твое окно, послал воздушный поцелуй. Увы, серенады я петь не умею, а ты в окно не выглянула, бесчувственная.
— Дау, разве ты питаешься в ресторанах?
— Нет, я на полном пансионе у Олечки Шубниковой. Есть такой замечательный физик-экспериментатор Лев Шубников, а Олечка его жена. Живем мы рядом, вчера я просто заработался и забыл про еду. Когда ты при прошлой нашей встрече категорически отказалась зайти посмотреть мою квартиру, за ужином у Шубниковых я был очень расстроен. Вдруг Олечка говорит: «Все это из-за несчастной корочки!». Я перепугался: откуда она узнала? Я так старался скрыть тебя от всех своих знакомых: «Почему Корочка несчастная?» — спросил я испуганно. «Дау, что с тобой? Ты стал неузнаваем. Загляни под стол, посмотри, что выделывает наша собака из-за хлебной корочки».
— Почему ты скрываешь меня от своих знакомых?
— Понимаешь, с первого взгляда, с первой нашей встречи ты так много для меня значишь. Начнут подшучивать, дразнить, а мне не до шуток. Я так в тебя влюблен. {62}
— А раньше влюблялся?
— Конечно, и не один раз! Первый раз я влюбился в беленькую Верочку в школе танцев. Тогда мне было шесть лет. Став студентом, я ее разыскал. Красивой она не была. Потом еще влюблялся в красивых девушек, но все по-настоящему красивые девушки нарасхват. Они все замужем. Какое счастье, что я тебя встретил, когда ты уже разошлась со своим мужем.
— Я только собиралась это сказать тебе. Как ты узнал? Общих знакомых у нас ведь нет.
— О, я так старался разузнать о тебе все. Только очень боюсь: вдруг ты захочешь к нему вернуться. Поехать за тобой в Ростов я не могу, там нет физиков, там я не смогу работать! Мне сказали, что этот Петя красив, как молодой бог.
— Ты даже знаешь, что он в Ростове. Нет, к нему я не вернусь. Скажи, Дау, какие человеческие качества ты ценишь превыше всего?
— Доброта превыше всего. Конечно, еще и ум.
— А худшие?
— Хуже дурака придумать трудно, но жадность и жестокость — самые омерзительные человеческие качества. Мой учитель Нильс Бор очень добрый человек. Доброта очень украшает человека! В Копенгагене у Бора было очень интересно и очень весело. Бор любил шутку и всегда шел на нее. Как-то после возвращения в Ленинград приближалось первое апреля. Сотрудник нашего института опубликовал свой научный труд. Читаю — абсурд. Пишу Бору в Копенгаген, чтобы он дал телеграмму в наш институт на имя данного сотрудника с расчетом, чтобы телеграмма прибыла в институт первого апреля, с содержанием: Нобелевский комитет заинтересовался научным открытием такого-то. Срочно просят прислать четыре экземпляра работы, фото и т. д. и т. п. Несчастный «великий ученый» с утра бегал фотографироваться, всем совал читать международную телеграмму Бора. Пьяный от счастья, с самодовольной улыбкой он запечатывал огромный конверт, когда подошедший к нему Ландау объявил своей жертве о первоапрельской шутке.
— Дау, это очень злая шутка!
— Да, но такие работы очень дорого обходятся нашему {63} государству! Научные работники всегда должны помнить, что они сидят на шее у трудящихся. Наука — вещь дорогостоящая, ею должны заниматься только люди, приносящие пользу науке. Но, к сожалению, многие просто используют науку. Сколько липовых работ! И их авторы преуспевают.
— Дау, почему ты уехал из Ленинграда?
— Корочка, Харьков — лучший из городов! Здесь я нашел тебя. Ты сама не понимаешь, какой переворот сотворила в моей жизни!
— Ты удрал от жены?
— Я? Ха-ха! — он смеялся. — Так ты решила, что я женат?
— Не решила, просто подумала.
— Разве я выгляжу таким дураком? Жениться можно по глупости или из каких-либо мелко-бытовых или материальных соображений, на которые я совершенно не способен.
— А разве по любви не женятся?
— Только дураки. Ты выходила замуж за Петю по любви?
— Конечно.
— Сколько вы вместе прожили?
— Одну зиму. Дау, он оказался таким самовлюбленным дураком.
— Ты сама убедилась, что по любви может жениться только дурак. Как можно погубить такое великое чувство? В лучшем случае в браке страсть, влюбленность переходит в так называемую «любовь», а вернее в привычку. Когда собака привыкает к своему хозяину, все говорит, что собака любит своего хозяина. Вот такая собачья любовь-привычка возникает между супругами. Я так в тебя влюблен, ты моя мечта! Я счастлив, что нашел тебя, счастлив, что могу видеть и даже целовать! Это блаженство! Корочка, разве хорошую вещь браком назовут? Брак — это могила для страсти влюбленного. Моя сестра замужем. Как они грызутся! Я не способен повторять ошибки ближних! Из таких священных чувств, из великой любви — как много лет я мечтал вот так безгранично влюбиться! — и потом взять и открыть лавочку мелкой торговли, кооперативчик! Неужели такая девушка, как ты, хочет так мелко {64} разменяться? Сама с восторгом слушала о великой, самоотверженной любви Софьи Перовской и Желябова. Ты меня просто не любишь. Вероятно, меня не за что любить по-настоящему.
— Главное — тебя не могут повесить, тебе ничто не угрожает, у тебя удачно сложилась жизнь, воюешь только с формулами. Разве ты не знаешь, что настоящая, великая любовь приходит, не учитывая, есть за что любить или нет?
Все это я быстро выпалила, не думая, что говорю. Обида клокотала во мне. Я убежала домой, даже не оглянувшись. Я трепетно ждала, что после многочисленных, пылких объяснений в любви он скажет, наконец, простые, естественные слова: «Будь моей женой». Если он меня любит, если я его люблю, если мы молоды и свободны, что может помешать? Но оказалось, что женитьба есть лавочка мелкой торговли, или «кооперативчик», который он облил таким презрением, несовместимый с его понятием великой любви. В ту ночь я много плакала, рано утром ушла на работу, твердо решив не видеть его.
На телефоне лежала подушка, но он упрямо приходил ко мне домой, очень грустный. Сиянье глаз, улыбка — все исчезло.
— Итак, ты решила заняться «кооперативным шантажом»?
— Я?! (Чуть не задохнулась от обиды.)
— Да, ты! А чем ты объяснишь, что не подходишь к телефону?
Говорили, объяснялись и не понимали друг друга, целовались, клялись друг другу в любви. Спорили, каждый из нас стремился доказать, что он любит сильнее и по-настоящему.
— Нет, Дау, ты просто хочешь, чтобы я была твоей любовницей.
— Что ты! Я не просто хочу, я только и мечтаю об этом! Это заветная мечта моей жизни! Если это не осуществится, тогда я жить не стану. Ты совсем, совсем не хочешь понять, что ты для меня значишь!
«Свободная любовь», «любовница» — эти слова наводили ужас, пугали.
— Если ты меня любишь, почему боишься стать моей {65} любовницей? Почему дальше поцелуев ты меня не пускаешь?
— Дау, да это просто стыдно!
— Стыдно? Прекраснейшее слово — «любовница». Он овеяно поэзией, корень этого слова «любовь». Не чета браку. Брак есть печать на плохих вещах!
Он цитировал классиков, читал стихи, и еще какие! Как меня тянуло к нему! Но переступить черту недозволенного мне было невозможно. Вся эта свободная любовь, даже великая, вызывала большие сомнения. Подошло время его отпуска. Он уехал в Ленинград. Писал он много. За два месяца я получила сорок писем. Иногда я получала по два письма в день.
Сколько счастья приносили его письма! Сначала я очень долго изучала конверт. Письма были длинные, но для меня они таили много глубочайшего смысла. Уезжая, он сказал: «Письма писать не умею и не люблю». А сам просто засыпал письмами.
6. VII.35
Дорогая моя девочка!
Спасибо за твое милое письмо. Я эти двенадцать дней только спал и читал книги. Больше ничего! Мне даже было лень выходить из дому. Никогда не думал, что я устал до такой степени! Только теперь я несколько отошел. По этому случаю завтра уеду куда-нибудь на юг.
Все время вспоминаю о тебе. Любимая моя девочка, ты сама не понимаешь, как много ты для меня значишь.
Целую 10n раз.
Дау.
Когда он вернулся, то я, конечно, пошла смотреть его квартиру. Щелкнул английский замок в двери, отрезав внешний мир. Мы остались только вдвоем. Вспыхнул свет. «Дау, потуши, потуши свет». — «Нет, ни за что, я хочу видеть тебя всю».
Еще мгновение, и он уже весь гол! Я окаменела, старалась смотреть только в его глаза. В них не было и тени смущения и никакого ложного стыда. Он, видно, {66} считал, что ничего постыдного он совершить не может, а сам держался как голый король, как будто на нем безукоризненный костюм. Это было так сверхъестественно и удивительно! Он принялся раздевать меня. Это ему далось не так легко. Женщин ему явно раздевать не приходилось. Целовались самозабвенно, долго и... все. Больше ничего не получилось.
— Корочка, ты сможешь когда-нибудь простить меня за эту ночь?
— Даунька, не говори так. Так даже лучше!
— Завтра ты придешь?
— Да, приду.
— Вот, видишь, Коруша, ты боялась, что я изнасилую тебя, а, оказалось, я сам ни на что не способен. Теперь я вынужден тебе признаться: ты ведь первая девушка, которую я поцеловал по-настоящему в губы. Помнишь, ты тогда на какое-то мгновение потеряла сознание? Как я растерялся, испугался и, как самый настоящий трусливый заяц, удрал. Потом теоретически, потихонечку расспросил и разузнал: если у девушки от поцелуя мужчины так кружится голова — это и есть жемчужина любви. Как я боялся, что ты увидишь во мне зеленого юнца и прогонишь. Позор! Первый раз поцеловать девушку в 26 лет, в 27 лет обнаружить еще более серьезный изъян в себе! Если завтра приговор врача будет безнадежен, жить я не буду! Это не слова!
— Даунька, милый, не смей так говорить! Я буду приходить к тебе, когда ты захочешь! Я люблю тебя, пойми, люблю по-настоящему, несмотря ни на что!
Назавтра он встретил меня жизнерадостный и сияющий. Потом он рассказал:
— Корочка, только дай мне слово, что это будет нашей тайной. Это должно остаться тайной, пока я жив! О ней знаю я, ты и еще тот врач, который лишил меня девственности хирургическим путем. Легкая операция в виде укола, и, как ты убедилась, все мои страхи позади! Оказывается, среди мужчин встречаются такие экземпляры, которых врачи лишают девственности.
— Даунька, с первой нашей встречи ты бесконечно меня удивляешь, поражаешь! Ведь ты учился в Ленинграде, бывал в Москве, объездил уже всю Европу, читаешь лекции студентам, ты как-то необычно, изысканно {67} красив. Твоя манера себя поставить, жить, разговаривать, читать стихи должна покорять всех! В наш век, в житейском бурном океане, как мог ты уцелеть? Ты даже не умеешь врать!
— Врать? А зачем? Проще говорить правду, тогда никогда не собьешься. Многие пытались меня женить, но у них не хватало красоты. Я могу облизываться только на красивую девушку. Когда я был в Германии, как я облизывался на Ани Ондру! С какой жадностью я смотрел на нее. Она была так красива и так кокетлива. Как она кружила головы мужчинам, особенно своим кокетством. Корочка, у тебя один изъян — ты абсолютно не умеешь кокетничать. Теоретически я был подготовлен к тому, как надо осваивать женщин. Все утверждали, что красивые девушки очень кокетливы, а если им нравится субъект, они сами предоставят возможность поцеловаться, но ты сокрушала все теории. Я очень страдал. Я каждую нашу встречу ждал, когда ты начнешь со мной кокетничать, и только много месяцев спустя понял, что ты лишена кокетства.
— А Ани Ондра с тобой очень кокетничала?
— Что ты! Она немецкая кинозвезда. Я ее в жизни не видел.
Наступила осень. Дау заболел. У него была очень высокая температура. Звонил ежедневно. На пятый день болезни попросил: «Корочка, зайди сегодня вечером, если сможешь. Я, вероятно, заразен, целоваться нельзя, но я тебя не видел целую вечность! Только бы хоть издали на тебя посмотреть».
Когда я поднялась на второй этаж его дома, у его двери на площадке сидел по-турецки на цементе лестничной клетки очень симпатичный мальчик. Он сосредоточенно решал задачи. Когда я через него потянулась к звонку, мальчик растерянно вскочил, очень смутился, стал просить: «Умоляю, не говорите, пожалуйста, учителю, что я сижу у его двери, он рассердится! Но он болен, а вдруг ему что-нибудь понадобится. Он — один!».
Я пообещала хранить тайну. Это был Померанчук — один из первых его харьковских учеников, ставший впоследствии самым любимым и талантливейшим учеником Ландау. Своим поступком он покорил мое сердце. {68} Образ мальчика Померанчука остался в моей памяти. Когда он назвал Дау учителем, в это слово было вложено столько преданности, обожания, преклонения и восхищения. Так вот он какой, мой зайчик! Им так восхищаются его студенты. Померанчук внес чувство гордости в мою любовь к Дау, которая потом совсем вытеснила ложный стыд, вначале сковывавший меня. Грешницей себя уже не чувствовала и даже испытывала жалость к остальному миру!
Однажды осенью в 1936 году он сказал мне:
— А ты знаешь, возможно, нам с тобой придется пожениться. И не просто жить вместе, как ты хотела, а даже подвергнуться регистрации брака.
— Я испугалась: почему вдруг?!
— Меня очень приглашают в Сорбонну читать лекции. С тобой расстаться на длительный срок я не могу. И еще очень хочется побывать с тобой в Париже. Теперь ты хоть ценишь, как тебя любят?
— А я кокетничать не умею.
— Для освоенной девушки это не важно. Кокетство женщины очень важно при освоении новой девушки, Коруша. Но ты правильно одеваешься. Я давно разработал четыре принципа, как должна одеваться женщина: первое — одежда должна быть яркой; второе — одежда должна быть прозрачной; третье — одежда должна быть открытой; четвертое — одежда должна быть обтекаемой. Ты носишь очень правильную длину платья. У тебя едва закрыто колено. Сразу видно — стройные ноги.
— Ты любишь красивые женские ноги?
— Нет, я не ногист. И не рукист. Некоторые обожают женские руки. Я чистый красивист. Я обожаю и преклоняюсь перед женской красотой в целом. Женщина должна быть красивая вся. Есть еще мужчины, которые обожают женские фигуры. Эти мужчины называются фигуристами. Есть еще такие странные мужчины, которые обожают женские души. Еще Леонардо да Винчи установил, что для души просто нет места в теле человека, а есть еще эклектики — это мужчины, которым к красоте женщины нужна особая женская душа. Я думаю, что эти душисты и эклектики просто развозят {69} замурение, оправдывая свою лень. Красивую девушку очень трудно найти. А осваивать еще труднее. Вот ты, Коруша, оказалась очень трудной, если бы не ценные теоретические консультации друзей, я бы не справился!
— Неужели ты консультировался?
— А как же, перед каждым свиданием. Ты как-то легко обходила все теоретические утверждения, но как я счастлив теперь. Даже когда меня не пустят в Париж читать лекции, я не расстроюсь, ведь у меня есть ты!
Чтобы избежать огласки нашего романа, я приходила к Дау сама. На крыльях пролетала парк химико-технологического института и, затаив дыхание, вступала на асфальтовую дорожку Физтеха, утопавшую в цветах. Он ждал меня у приоткрытой двери. Высокий, стройный, тонкий и очень нежный. Он сейчас же начинал поспешно раздевать меня. Я умоляла:
— Даунька, оставь хоть что-нибудь на мне!
— Нет, нет, ни за что! Ты так красива вся! Корочка, есть в Эрмитаже картина «Венера выходит из морской пены». Я ходил любоваться ею. А ты гораздо красивее ее. Если бы я мог, я бы издал закон: мужчина, оставляющий на своей возлюбленной какой-нибудь предмет туалета, подлежит расстрелу.
Я уходила на рассвете. Как-то мы проспали. Я вышла поздно. Выходя из низкой решетчатой калитки Физтеха, в парке наткнулась на своего сокурсника по университету. Он, видно, заметил меня еще на территории Физтеха и поджидал.
— Кора, здравствуй.
— Здравствуй, Володя.
— Тебя нигде не видно. Теперь я знаю, почему! Это он увел тебя с нашего вечера, и ты все время только с ним?
— Да, — ответила я, гордо подняв голову.
— Кора, только в следующий раз не надевай платье наизнанку.
Я посмотрела на себя — все швы наружу. Вспыхнула, но потом мы оба расхохотались веселым молодым смехом. Он сказал:
— Ты не смущайся. Все всё знают давно. Кора, имей в виду, тебе многие завидуют. Я лично завидую только ему. {70}
Как быстро отлетели в вечность самые мои счастливые годы в Харькове, годы жгучего счастья и большой любви. Наступил 1937 год. Этот год многих зацепил. Ночной звонок телефона. Дау схватил трубку. Побледнел. Медленно опустился на постель: «Так, да, я дома». Ему сообщили сотрудники, что «черный ворон» увез Шубникова и Резенкевича.
— Дау, идем ко мне, пока поживешь у меня.
Дома у меня решили: днем я достаю ему билет на ночной поезд в Москву. В Москве начал работать институт Капицы. Петр Леонидович приглашал Дау работать у него.
Следующей ночью я одна провожала Дау в Москву. Расставались мы очень растерянные, очень расстроенные, очень подавленные. В нашу жизнь вторглось то, чего не должно было быть. Расставались мы не по своей воле. Долго я смотрела вслед поезду, увозившему Дау. Воздух стал синеть. А там, куда ушел поезд, появилась розовая полоса рассвета. Нет, этот рассвет уже не мой! Грустно было возвращаться домой теперь, такой обездоленной, такой одинокой!
Наш роман продолжался в письмах.
25.II.37
Девуленька, моя любимая, только вчера написал тебе и сейчас пишу опять. Вот уж, вероятно, мои скучные письма надоедят тебе. Напишу точно о себе, о своем здоровье и настроении.
Грустно как-то без тебя. Нельзя ни поцеловать твои ясные глазки, ни обнять тебя.
С кем-то ты флиртуешь? И главное, и так, и так плохо. Если мощно флиртуешь — то завидно, а если нет — то еще хуже, — скучаешь.
Бедная моя замученная девочка. Чувствую уже, {71} что не уломаю тебя на расстоянии поехать отдохнуть. И сейчас ты, вероятно, такая усталая, грустная, а мне хочется, чтобы тебе было весело и хорошо на душе.
Как я люблю тебя, любимая моя. А ты еще, как на зло, не чувствуешь этого.
Числа 15-го Сессия Академии, на которой я должен докладывать.
Ну, всего хорошего, дорогая.
Дау.
* * *
Девочка, моя любимая,
из-за болезни несколько дней жил у Рума и не был в Институте, так что сразу получил два твоих письма. Как тебе не стыдно писать, что меня не радуют твои письма. Зачем ты меня дразнишь? А я так люблю читать твои письма и много, много раз их перечитывать. И чем длиннее, тем лучше. Мне так приятно читать каждое твое слово. Тогда мне верится, что ты все-таки любишь меня, а пишешь гадости только по злому характеру.
Очень беспокоюсь о твоем здоровье. Как следует не вылечили твое воспаление легких?! А то ведь ты из-за меня заболела — пустил тебя в холодный аэроплан.
Я все никак не могу выздороветь. Грипп прошел, фурункулы тоже, но желудочное отравление (?) не кончается. На днях была температура 39,8 и было ужасно гнусно. Сейчас 37 и постепенно проходит. И когда ты пишешь злые письма, мне начинает казаться, что ты меня уже совсем скоро разлюбишь и полюбишь какого-нибудь здорового, сильного, хорошенького. Я сейчас все время думаю о тебе, о том, какая ты замечательная. Как хорошо было лежать вместе с тобой, крепко, крепко прижавшись друг к другу. {72}
Как ты проводишь время? Заводишь ли знакомых?! А то проработаю.
Пытаюсь звонить тебе почти каждый день, когда не валяюсь, однако обычно очень трудно дозвониться, а очень поздно будить тебя не хочется.
Крепко, крепко целую.
Дау.
* * *
31.V.37
Корунечка, моя любимая.
Наконец-то вчера дозвонился до тебя, а то тебя все нет дома (номер не отвечает, и я уже несколько забеспокоился). Ты не можешь даже представить себе, моя девочка, как мне прияяяяяяяяятно слышать твой голос. Надо обязательно устроить, чтобы мы виделись не с такими длинными перерывами, а то как тоскливо становится.
Что с твоим здоровьем? Чувствую, что оно не в порядке и ты опять не лечишься. Как тебе не стыдно?! Напиши подробно об этом!
Какой твой отпуск?! Хорошо, если не с 1-го июля, а то мне раньше конца июня не вырваться в Харьков. На днях опять позвоню тебе.
Крепко, крепко целую.
Дау.
Я так тебя люблю, Корунечка, а ты даже не чувствуешь.
* * *
18. VI. 38
Девочка моя любимая,
ты представить себе не можешь, как я люблю читать твои письма. Я никогда не читаю их на людях, а всегда читаю один, сидя в уголке, чтобы можно было {73} представить себе твои серенькие глазки. Я читаю их так медленно, словно ем что-то очень, очень вкусное, но чего ужасно мало и сейчас вдруг кончится. Только жутко немного бывает, а вдруг ты написала, что меня совсем разлюбила или разозлилась на меня. Ведь я так люблю тебя и мне так одиноко, что ты не веришь в мою любовь.
Мне и смешно и грустно слушать, когда ты жалуешься, что я не приезжаю. Ведь я, Корунечка, тоже на работе, и хотя мне легче разъезжать, чем тебе, но все-таки не так уже просто. Ты ведь, небось, даже не уверена, сможешь ли приехать сюда кроме ноябрьских и майских дней. Здесь в институте отпуск только с конца июля, и мне трудно уехать отсюда больше, чем на месяц раньше конца года. А сейчас еще Бор здесь.
Как твое здоровье, любимая моя? Я ужасно боюсь за тебя. Ты так плохо следишь за своим здоровьем и мне всегда страшно думать, что сейчас, когда меня нет, никто не следит за тем, ходишь ли ты к врачам или совсем забросила лечение.
Как с путевкой, ведь потом трудно будет достать?!
* * *
25.XII.37
Корунечка, любовь моя, от тебя ничего нет. Как я боюсь за тебя, моя деточка. Когда я думаю о том, что с тобой может что-нибудь случиться или ты меня разлюбишь, становится так жутко, жутко. Я как-то даже представить себе не могу, как я мог бы жить дальше, зная, что больше никогда не увижу моей Корочки.
Не обращай внимания на унылый тон письма. Я просто беспокоюсь за тебя и немного скис, но, в общем, со мной все в порядке. {74}
Читала ли ты «Война 1938 г.» в № 8 журнала «Знамя» за 1937 г.? Немного жутко, но неплохо написано. Там же очень милые стихи об испанской интернациональной бригаде. Вот это люди!
Когда я, наконец, увижу тебя, моя девочка? Мне кажется, что я буду целовать тебя два часа подряд. Ведь я должен заучить тебя всю наизусть, а то детали как-то забываешь.
Дау.
* * *
23.11.38
Корочка, дорогая.
Вот и еще две шестидневки будут без тебя. А там опять еще что-нибудь помешает. Мне уже начинает казаться, что я никогда больше не увижу тебя, что ты, как сказочная фея, промелькнула, и исчезла.
Не сердись, Корунечка, на ноющий стиль писем. Но ведь я первый раз за все три с хвостиком года нашего знакомства не вижу тебя так долго. Жизнь кажется такой ненастоящей, никому ненужной. А когда подумаешь, что а вдруг моей девушке и вовсе не хочется меня видеть, то становится совсем кисло. Если письма наводят на тебя тоску, то можешь рвать их не читая, но сама пиши обязательно, хоть изредка, хоть строчку. А то мне будет казаться, что я тебе уже совсем не нужен.
Крепко, крепко целую мои далекие серые глазки.
Дау.
* * *
24.11.38
Корунечка, дорогая, пишу тебе чуть ли не каждый день. Чувствую, что мои письма порядочно надоели тебе, {75} тем более, что таланта к письмам у меня нет, но удержаться не могу.
Постараюсь дозвониться до тебя: боюсь, впрочем, что ты скажешь, что и 6-го не приедешь, а только еще позже. Я всегда знал, что буду скучать, если долго не буду видеть тебя, но что станет так грустно — не думал.
Что-то с тобой, моя девочка? Как ты себя чувствуешь? Что делаешь, о чем думаешь? Много ли изменяешь мне и вспоминаешь ли обо мне иногда? Самое главное, чтобы тебе было хорошо! Имей в виду, что даже если совсем, совсем разлюбишь меня, все равно должна приехать в Москву. Ведь ты сейчас не будешь, как когда-то, бояться, что я тебя изнасилую, а отдохнуть тебе во всяком случае совершенно необходимо.
Смотрю на твои карточки и облизываюсь. Неужели эта девушка меня любит? Имей в виду, что когда ты приедешь, я совершенно зацелую тебя. Впрочем, когда это еще будет.
* * *
24.II.38
Корунечка, дорогая, как тебе не стыдно писать всякие глупости. Ведь ты прекрасно знаешь, что я всегда начинаю писать тебе через две шестидневки после твоего отъезда, а что касается моей карточки, я ведь написал надпись; и притом ты вообще забыла карточку здесь.
Очень, очень люблю тебя и уже скучаю по моей сероглазой девочке. Карточка твоя довольно маломощная, ты просто гораздо лучше.
Крепко, крепко целую.
Дау. {76}
* * *
Наш роман перешел в письма, хотя мы иногда и виделись. Писал он много, я сохранила все письма.
Мои письма он также бережно хранил, но они заинтересовали тех, кто увозил его в «черном вороне» ночью в конце апреля 1938 года.
Даунька очень сожалел, когда, вернувшись через год, обнаружил исчезновение моих писем вместе с моими фотографиями.
Некоторые его письма я привожу здесь полностью. Те сетования, которые он высказывает в письмах в отношении моего здоровья, возникли по следующей причине. Дау, будучи в Москве, стал приобщать меня к настоящей культуре: человеческая личная свобода неприкосновенна, я должна о нем помнить, но скучать мне запрещается. Я должна заводить новые романы для развлечения, просто от скуки, если ему представится возможность — он обязательно в Москве заведет романчик. У него, правда, большая трудность, так как он чистый красивист, а свободных красивых девушек почти нет, и только это его удерживает. А от побочного романчика он будет меня любить еще сильнее, потому что все женщины проигрывают в сравнении со мной! Я только в выигрыше. И если я его люблю, я должна радоваться, если он преуспеет.
Вначале я расстроилась и загрустила. Вырвалась из Харькова на несколько дней в Москву, и вот такой сюрприз. Но он так восстал против ревности. Ревность несовместима с человеком. Это самое дикое, самое низкое, самое эгоистическое качество. Я испугалась, что у него глаза выскочат из орбит. Взгляд сделался жестким. «Успокойся, я просто плохо себя чувствую». Он сразу стал прежним Дау, в его глазах засветилась забота, нежность, любовь! Как только он начинал меня воспитывать, у меня возникали болезни. Только в этом было спасение. Не отвечала на письма после его воспитания — не могла, болела, воспаление легких и т. д. Была молода, здорова и никогда не болела. Ревновала ужасно. «Корочка, у тебя слезы на глазах, что с тобой?» — «Даунька, страшно болит голова...» С утра до {77} поздней ночи была на фабрике, в цеху, все дежурства, все учеты, все переучеты, работала в выходные дни, копила запасные выходные и уезжала в Москву.
30 апреля 1938 года было воскресенье. У меня билет Москву на 16 часов, а в 10 часов утра я получила из Москвы телеграмму без подписи: «От приезда в Москву воздержитесь». Свет померк. После майских праздников, не использовав свои выходные дни, я вышла на работу. Ко мне в лабораторию зашел начальник цеха товарищ Сладкое. Закрыв дверь на ключ и убедившись, что мы одни, он спросил меня:
— Кора, ты с ним записана была?
— Нет.
— В партком не ходи, ничего никому не говори.
В тот год я была кандидатом в члены партии. В цеху я встретила нашего парторга, была такая замечательная женщина товарищ Осядовская. Она отвела меня в сторону, спросила:
— Кора, ты с ним была записана?
— Нет.
— В партком не ходи, никому ничего не говори.
Я была потрясена благородством этих людей. Наш начальник цеха товарищ Сладкое был старый большевик, работал в подполье. Подумала: откуда все так быстро узнали? Но ко мне удивительно отнеслись, очень хорошо. В начале зимы пришла одна путевка на фабрику, на курсы повышения квалификации. Путевка в Ленинград на всю зиму. Эту путевку дали мне. Все знали, молчали и хотели чем-то мне помочь. Так я это расценила: с университетским образованием на фабрике я была одна, повышать квалификацию другим было нужнее.
В Москву поезд прибыл днем, на Ленинград поезд вечером. Поехала на Воробьевы горы, ходила возле Института физпроблем. Осмотрела окно спальни Дау {78} на втором этаже: штора спущена, форточка открыта. Взяли его ночью. Слезы застилали глаза, в ленинградский поезд села вся опухшая от слез.
В Ленинграде меня поселили в прелестном номере гостиницы «Московская» с Анечкой — москвичкой с фабрики «Большевик». Анечка была очень кокетлива, а серьезный поклонник появился у меня.
— Кора, ты долго будешь издеваться над Костей? Он глаз с тебя не сводит.
— Анечка, ты опять за свое.
— Да. Он меня просил, чтобы я поговорила с тобой. Почему ты не пошла с ним в кино?
— Аня, но в кино с ним пошла ты!
— Конечно, на твой билет и по твоей просьбе, а там в кино он мне рассказал, как он влюблен в тебя. Очень мне это интересно! А сейчас он спрашивает, не хочешь ли ты пойти в Мариинский театр?
— Неужели на «Лебединое озеро»?
— Да. Ты что, мечтала посмотреть «Пебединое озеро»?
— Анечка, как говорят, кошмар — не то слово. Вот представь себе, я совсем не музыкальна, балет смотреть могу, но не вечно же «Лебединое озеро». За всю свою студенческую жизнь в Киеве, Харькове, а потом в Москве, как только у меня билеты в оперный театр, там всегда идет «Лебединое озеро»».
— Кора, неужели ты сможешь отказать Косте пойти с ним на балет?
— Анечка, пойдешь опять ты.
— Кора, я серьезно тебя не понимаю. Живем мы вместе уже около двух месяцев, ты никуда не ходишь, никому не пишешь письма, не получила ни одного письма. У тебя никого нет. Тебе ни разу никто не позвонил, мы же все время с тобой вместе. Костя не может не нравиться. Он красивый.
— Да, он красив.
— Он высокий?
— Да, он высок.
— Глаза у Кости синие?
— Да, глаза синие. Анечка, Костя — стоящий парень, он и красив и очень славный. Он тебе очень нравится? {79}
— Ну и что же, а влюблен он в тебя. Кора, я не понимаю, это у тебя тактика такая, что ли, хочешь его еще сильней привязать к себе? Он хочет жениться на тебе, что тебе еще надо?
— Анечка, я говорю серьезно. Я очень люблю своего жениха. Он сейчас в заграничной командировке. Он мне писать и звонить не может, я ему тоже писать не могу. Он должен вернуться через два года.
— Почему писать не может? А, поняла, он наш разведчик!
— Аня, я тебе этого не говорила!
— Кора, теперь я все поняла, почему ты такая грустная: ведь он в большой опасности.
— Анечка, не фантазируй, я тебе этого не говорила.
— Согласна, буду нема, как могила.
— Анечка, Костя — москвич, ты — москвичка, давай его женим на тебе, сама сказала: хочет жениться.
— Так он на тебе хочет жениться!
— Это не важно. Ты кокетлива, мне сказали: кокетство — сильное оружие у женщин. Я вижу, ты в него влюблена.
— Да, да. Я влюбилась в него с первого взгляда.
— Анечка, я тебе помогу. Билеты на «Лебединое озеро» на какое число?
— На завтра.
— Я завтра вечером заболею, а Костю попрошу — он пойдет с тобой. Он уже пригласил меня встречать с ним Новый год. Я согласилась при условии, если столик на троих и третьей будешь ты. Он с радостью согласился. Я быстро смоюсь, ты останешься с ним, кокетничай вовсю, ты умеешь и тебе это идет. Я уеду в Харьков, а вы оба будете в Москве и поженитесь.
— Кора, это все неосуществимо, он влюблен в тебя.
— Аня, давай пари.
— Давай, на что?
— Хрустальная ваза для цветов, — сказала я. Летом 1939 года я получила телеграмму из Москвы: «Ваза за нами». Подпись: «Аня и Костя Андреевы».
Когда Анечка с Костей ушли на балет, я лежала и рыдала. Еще один очень стоящий парень хотел на мне жениться. Еще в Киеве один подлец застрелился: я не хотела {80} быть его женой! А Дау — не захотел. Почему? Неужели в браке гибнет любовь? Нет, нет! Дау неправ. Я никогда не смогу его разлюбить! Его никогда нельзя забыть! А он в опасности. Даже Анечка, как пророк, сказала: он в большой опасности. Опасность была велика!
Здесь я должна остановиться, чтобы объяснить, почему мне было так одиноко, когда Дау не было рядом целый год.
Согласно философии, которую внушал Дау, я имела право ответить взаимностью желаниям Кости. В этом случае Дау мог только приветствовать мое поведение и радоваться, что я смогла скрасить свое одиночество. Сомнений в искренности представлений Дау о человеческих отношениях у меня не было. Костя, как я писала, был красив, обаятелен, любил меня и мечтал видеть во мне свою жену, чему так противился Дау. Но, к сожалению, я не была вольна распоряжаться своими чувствами. Я бесконечно терзалась, я ничего не знала о Дау! Я его любила, и ни один мужчина мне не был нужен.
Это ощущение было тем острее, что я не верила в возвращение Дау. В то время ушедший не возвращался. Я не ждала его! Но в тот год я поняла: после Дау никогда никого полюбить не смогу. Испытав силу большой, настоящей страсти, влюбленности, на «эрзац» пойти невозможно!
Но свершилось чудо!
30 апреля 1939 года ночью зазвонил мой телефон в арькове. Слышу голос Дау:
— Коруша, милая, ты есть? Ты меня не забыла?
— Дау, ты?!
— Я.
— Откуда звонишь?
— Из Москвы, из своей квартиры. Когда ты приедешь?
— Сейчас, сегодня. Нет, наверное, завтра. {81}
Но завтра тоже не смогла, было много общественных дел и работа. Через несколько дней оформила отпуск. В Москве при встрече:
— Даунька, милый, как ты исхудал. Ты стал совсем прозрачный. А где мои черные, красивые локоны?
— Корочка, дорогая, это все такие мелочи. Я счастливчик! Я еще увижу небо в алмазах! А, главное, я снова с тобой! Я этот год жил мечтой о тебе. Представляешь, вдруг следователь показал мне твои фотографии, говоря: «Если подпишете, то за этими стенами есть вот какие девушки». — «Она в жизни гораздо красивее, — ответил я. — А подписать подтверждение, будто я — немецкий шпион, я не могу! Подумайте сами: всю свою жизнь я влюблялся только в арийских девушек, а нацисты это преследуют».
— Даунька, а потом подписал?
— Нет, Коруша, я не мог этого подписать.
— Дау, скажи, там было очень страшно?
— Нет, что ты, совсем не страшно. Я даже имел некоторые преимущества.
— Какие?
— Во-первых, я не боялся там, что меня могут арестовать! Во-вторых, я мог ругать Сталина вслух, сколько хотел. Я занимался наукой и сделал несколько работ. Коруша, я там даже немного развлекался.
— Там были девушки?
— Ну что ты, конечно, нет. Но там было много ослов-подхалимов. Я их дразнил, а дразнение — это своеобразное развлечение. Я очень люблю дразнить, когда есть за что!
— Как же ты их дразнил?
— Подхалимы, сидевшие со мной в одной камере, вваливаясь после допроса, выкрикивали: «Да здравствует Сталин!». А я им цитировал Ленина: «Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает свое рабство, есть внушающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам».
Все эти высокопоставленные чиновники, к которым я попал в компанию, очень плохо помнили учение Ленина и совсем не знали «Капитала» Маркса. {82}
— Даунька, что у тебя с руками? (Руки по локоть были как бы в красных перчатках.)
— Ты испугалась моих рук? Это мелочь, все пройдет, просто нарушен обмен веществ. Понимаешь, там было пшенное меню. А пшено я не ем, оно невкусное. Когда пришел приказ прекратить мое дело, я уже не ходил. Только лежал и занимался тихонько наукой.
— Ты лежал, умирал с голоду, при том, что тебе подавали готовую горячую свежую еду?! Даунька, а нормальные люди, когда голод, едят опилки и лебеду. Ты ведь хотел выжить?
— Еще бы. Очень. Мечтал выжить, чтобы увидеть тебя.
— Но ведь ты принимаешь лекарство. Разве оно вкусное?
— Нет, лекарства по своей идее должны быть невкусными. Я их принимаю по предписанию врачей.
— И пшено ты должен был принимать как лекарство, по предписанию жизни, чтобы выжить!
— Корочка, какая ты умная, я не догадался так сделать. Пшено как лекарство я смог бы употреблять. Очень, очень хотелось выжить!
— Дау, ты всегда был для меня загадочно непонятен. С первой нашей встречи ты без конца меня удивлял и покорял. Вначале я решила, что ты человек не нашей эпохи. Родился на тысячу лет раньше. Но ты человек не нашей планеты!
— Нет, я просто счастливчик. Коруша, мне страшно повезло, понимаешь, наш Кентавр сделал эксперимент с гелием. Он считал свои результаты открытием. Но ни один физик-теоретик мира не может объяснить это загадочное явление природы. Капица считает, что это все смогу объяснить я один! Об этом Петр Леонидович Капица написал письмо в Центральный Комитет, и вот я с тобой.
А попал Дау в тюрьму по доносу П., одного харьковского ученика. Он был одним из пятерки его первых харьковских учеников. <...>* {83}
С историей этого доноса я забежала немного вперед. О нем мне рассказал Дау много позднее. Он был уже Героем Труда, когда этот подлец явился к нему в Институт физпроблем просить прощения за свой донос.
— Коруша, он еще посмел протянуть мне руку!
В 1938 году, когда Дау был в тюрьме, я была пропагандистом. В те годы было принято беспредельно возвеличивать Сталина и его «знаменитую» речь. Это было выше моих сил. Вот и решила купить патефон и набор пластинок с речью Иосифа Виссарионовича. На свой участок я регулярно приносила патефон, заводила его и крутила пластинки. Успех превзошел все ожидания, явка стопроцентная! Никто не мог себе позволить не явиться и не прослушать эту речь до конца.
Меня стали хвалить на общегородских партийных активах Харькова и даже советовали всем агитаторам брать с меня пример. Думала: неужели поняли мой замысел? Или им всем действительно нравится речь? В те годы это оставалось тайной. В сталинские времена было много вопросов, но не было на них ответа.
Теперь возвращаюсь к очередным событиям моего приезда в Москву 1939 года. Вслед за мной примчался и Женька Лившиц. Его первые слова к Дау: «Вот теперь-то ты понял, каким был ослом, что тогда вернулся из своей последней заграничной командировки. Какие тебе роскошные условия предлагали англичане наперебой с американцами, а ты вернулся в свою свободную страну и получил тюрьму! Скажи честно: жалеешь, что вернулся в Советский Союз?».
Даунька удивленно посмотрел на Женьку:
— Ты что с луны свалился? Нет! Не жалею и никогда не пожалею! На свое тюремное заключение я смотрю просто, как на стихийное всенародное бедствие. В Советском Союзе я встретил Кору. Свою жизнь я разделил на две эпохи: до встречи с Корой — первая и вторая — после встречи с Корой. И потом, несмотря на разные искажения в системе управления нашего государства, наш социалистический строй — самый справедливый на нашей планете. Пойми главное: марксизм отрицает все религии, а капитализм {84} поощряет слишком многоликую религию. Ты — научный работник. Попробуй совместить науку с религиями. Наука и религии несовместимы в международном масштабе! Религии есть обман трудящихся на всей планете.
— Дау, я вижу, тюрьма тебя ничему не научила. Скажи только, когда ты собираешься получать свою зарплату за целый год?
— Я?
— Да, ты. Разве ты не знаешь, что люди, вышедшие из тюрьмы чистыми, за вынужденный прогул получают полную компенсацию от государства.
— Это я знаю, но грабить государство не собираюсь. Я слишком счастлив, что все позади. Я ничего не желаю получать за свое освобождение. Я хочу жить и наслаждаться всеми благами жизни. Я еще увижу небо в алмазах.
— Дау, знаешь (уже изменив тон с наступательного на заискивающий), когда я узнал о твоем аресте, сразу взял отпуск в Физтехе, отпуск за свой счет. Друзья отца, медики, обеспечили меня справками, и я уехал в Крым. Как я боялся, что меня схватят за дружбу с тобой! Я нигде не прописывался, исколесил весь Крым, из-за тебя я целый год не получал зарплаты и ощутил большой убыток.
— Так. И на радостях, что я свободен, ты еще что-то хочешь с меня получить?
— Нет, нет. Я понимаю: раз ты отказывается от этой крупной суммы, возмещение моих убытков отпадает.
Мне стало омерзительно, я хотела уйти в другую комнату.
— Коруша, ты куда? Не уходи! Слушай, Женька, Кора будет у меня еще только три дня. Вот когда она уедет тогда и приходи, а сейчас пошел вон.
А мне Дау сказал:
— Я как-то не замечал лишений в тюрьме. Много занимался, сделал четыре работы за год. Это не так уж мало.
— Тебе давали там бумагу?
— Нет, Корочка, я в уме запечатлел свои работы. Это совсем не трудно, когда хорошо знаешь свой предмет. {85}
При мне приходили его друзья, спрашивали: «Тебя пытали?».
— Ну, какие это пытки. Иногда нас набивали в комнату, как сельдей в бочку. Но в такой ситуации я, размышляя о науке, не замечал неудобств.
Как все это объяснить?
Его лоб свидетельствует о том, что он мыслитель. Пребывание в тюрьме не нарушило процесса его мышления. В жизни он был выше мелочей быта, в тюрьме — выше тюремных неудобств. Он нашел в себе силы пренебречь жестокой жизненной ситуацией и творить науку. Он был прежде всего физик, а потом человек. Он мог создать вселенную в собственной душе, пренебречь всем во имя поисков научных истин. Погружаясь в неразгаданные тайны природы, в нормальных условиях забывал обедать, ужинать и спать. Все знавшие его физики говорили: еще не было в мировой науке теоретика, столь виртуозно владеющего математическим аппаратом. Для него не существовало пределов. Он мог все.
Он обладал поразительной способностью мгновенно от всего отключиться, вдумываясь в возникший вопрос. В Ландау поразительным образом сочетались молниеносная быстрота ума с глубокой образованностью, осведомленностью, энциклопедичностью и универсализмом. С его смертью ушел последний физик-универсал. «Ландау знал все, потому что его интересовало все».
Главное оружие Ландау — его логика. Она ярко демонстрировала его необыкновенную научную интуицию и силу научного воображения. Машина легендарной, железной логики, как и счетно-вычислительная машина, была самой природой запрограммирована в клетках мозга физика Ландау. Процесс его научного мышления не требовал никаких пособий: литературы, справочников, логарифмических линеек и таблиц. Эта виртуозность и изобретательность в применении орудий своего труда вызывали удивление у тех, кто мог в достаточной степени все это понять и оценить.
Огромный творческий потенциал, широчайший диапазон интересов, универсализм роднят Ландау с великими людьми эпохи Возрождения. {86}
Ландау был прост и доступен всем, и если в семьях физиков случалась беда, он всегда помогал, чего никак нельзя сказать о Кентавре.
После смерти Ландау Петр Леонидович бывал моим гостем в памятные даты, но при посторонних было неудобно разводить канитель о воровских делах Е.М. Лившица. Уже 1980 год, а уворованные вещи все у Лившица.
Сейчас Петру Леонидовичу Капице уже 88 лет, его просто нельзя тревожить по мелким делам Лившица.
Когда наше правительство решило создать свою атомную бомбу, то Сталин во главе этого дела поставил Берию, заместителем по научной части был назначен П.Л.Капица. Сознавая всю ответственность задания, он, однако, не мог начать работы, потому что на всех важных бумагах должна была стоять подпись — Берия, который появлялся весьма редко. Кроме основной работы, у него было много наложниц. В конце концов Капица написал письмо самому Иосифу Виссарионовичу, в котором назвал Берию бездельником, прохвостом и просил освободить его от занимаемого поста, а ему, Капице, предоставить полную свободу действий, если нашей стране нужна атомная бомба.
Письмо подействовало почти мгновенно. На следующий день со всех постов был снят Капица и даже выселен из специально построенного для него особняка. В опале на даче он прожил 8 лет, до самой смерти Сталина.
На даче Капицу посещали его друзья: Рубен Симонов, Любовь Орлова, Григорий Александров и многие другие. Сотрудники института тоже не забывали его. Будучи на даче, он узнал, что институт стал носить имя С.И.Вавилова, который ни к созданию, ни к работам данного института никакого отношения не имел. Это была рука Берии. В конце концов Берия от работ над атомной бомбой был отстранен, это очень серьезное дело успешно возглавил И.В.Курчатов.
Дау всегда восхищался своим директором — как ученым, так и талантливым инженером. Редко, когда два таланта сочетаются в одном человеке. Его способ получения жидкого кислорода вошел в промышленность {87} всего мира, а нашей стране дал огромную экономию.
После смерти Дау я попросила Петра Леонидовича подробно рассказать, как ему удалось вызволить Дау из тюрьмы при Сталине.
Он рассказал: «Когда мы охлаждали жидкий гелий до температур, близких к абсолютному нулю, он не становился твердым, как все жидкие вещества, а терял свою вязкость, переходя в состояние сверхтекучести. Эксперимент говорил об открытии, но ни один теоретик мира не мог объяснить это явление. Тогда я написал письмо Сталину, что мои руки экспериментатора сделали открытие, а мозг института — физик-теоретик Ландау — по непонятным причинам заключен в тюрьму. Если не освободят Ландау, я прекращаю все работы в институте. А вновь отстроенный институт с дорогим импортным оборудованием только начал набирать темпы работы.
Вскоре мне позвонил Молотов. Он просил спокойно работать и сказал, что мне моего Дау отдадут. Только, предупредил он, «это» учреждение любит работать по ночам, поэтому я не должен волноваться, если меня по этому поводу побеспокоят ночью.
На следующий день, когда я был в своем рабочем кабинете, мне сообщили, что ко мне приехал человек из Госплана. Он вошел в кабинет в плаще с поднятым воротником и в кепке, надвинутой на глаза.
— Позвольте, почему вы не разделись? Раздевалка у нас на первом этаже.
Вошедший демонстративно снял плащ и кепку. Он оказался заместителем самого Ежова. (Да, да, кровавого Ежова!) Улыбнувшись, я спросил его: «Вы что, стесняетесь своего мундира?». (Какова реакция! Не просто смело, а отважно смело! Петр Леонидович славился молниеносной реакцией ума и оригинальностью оборотов речи.)
Потом за мной заехали ночью и повезли на Лубянку. Благодаря звонку Молотова я понял, что уже есть решение об освобождении Дау. Просто в те времена в этом учреждении было принято стращать посетителей, особенно тех, кто осмеливался оправдывать «врагов народа». {88}
Со мной был тоже разыгран спектакль запугивания, так что к следователю по делу Ландау я попал часа через три. Он подал мне папку, говоря: «Прочтите, за кого вы смеете заступаться». Папку я отодвинул в сторону и сказал решительно: «Я это читать не буду, лучше вы мне скажите сами, зачем талантливому физику, так преуспевающему в своей профессии, менять ее на деятельность шпиона чужого государства?». Домой я вернулся в 4 часа утра».
Всем нам остается только преклоняться перед смелостью этого благородного человека!
— Анна Алексеевна, как вы провели эти страшные четыре часа?
— Я стояла у окна и смотрела вслед увозящей его машине и не отходила, пока эта машина не привезла его обратно.
Первым сотрудником «капичника» стал Александр Иосифович Шальников, или просто Шурочка Шальников, о котором в студенческие годы были написаны такие стихи:
Не плечист, зато речист!
Сердцем нежен, духом чист.
Просто грех о нем злословить!
Шура Шальников.
Когда Шальников приехал в Ленинград, академик Алиханов его спросил: «Шурочка, скажи, твой новый шеф, кто он? Человек или скотина?».
— Он — кентавр. Не с того конца подойдешь, лягнет, да еще как!
Так молниеносно окрестил Капицу Шальников. Кличка прилипла. Все физики все эти годы, говоря между собой о Капице, называли его только Кентавром.
Из «Резерфорда» Данина мы знаем, что молодой Капица чудом был оставлен работать у Резерфорда. Ведь когда Иоффе стал просить великого ученого зачислить в штат своего очень талантливого ученика, Резерфорд сухо сказал: «У меня в штате 30 мест, и все заняты». Тогда его спросил сам Капица: «Профессор, скажите, какой процент ошибок вы допускаете в научных опытах?». {89}
— Мы разрешаем себе ошибаться только на один процент!
— Почему же в штате не допустить ошибки тоже только на один процент?
— Оставайтесь! Вы зачислены в штат!
Резерфорд оценил ум Капицы. Он имел привычку громоподобным голосом распекать своих мальчиков. Видно, на Капицу этот зычный голос поначалу нагонял страх. В письмах к матери он своего шефа называл только «крокодилом». Через годы, став уже любимым учеником и признанным талантом, он эту кличку обнародовал в Кембридже, объяснив, что, мол, в России крокодилы в большом почете, они-де не поворачивают голову назад.
И на новом здании, построенном Резерфордом для лаборатории Капицы, справа от входа изображен карабкающийся по стене крокодил, высеченный из камня. За работу над скульптурой крокодила уплатил Капица. Резерфорд, смотря на каменного крокодила, с улыбкой сказал: «Я знал, что вы меня прозвали крокодилом, и очень радовался, что не ослом». Бор снял копию этого крокодила и поставил на камин.
Кентавр совсем не так добродушно отнесся к своей кличке. Своего «крестного отца» он продержал лишних два десятка лет в членкорах.
Да, Кентавр спас жизнь Ландау в эпоху сталинизма. Когда пришло освобождение, Дау уже не ходил, он тихонечко угасал. Его два месяца откармливали и лечили, чтобы он на своих ногах вышел из тюрьмы. Но если бы сверхтекучесть гелия смог объяснить какой-нибудь иноземный теоретик, Ландау не вышел бы из тюрьмы. Ведь о Ландау Кентавр вспомнил, когда все физики мира оказались в тупике. За теорию сверхтекучести гелия Ландау был удостоен Нобелевской премии, причем один, без компаньонов!
Это совсем не так часто встречается среди нобелевских лауреатов. Мало кто знает, что Кентавру за эксперимент с гелием Нобелевский комитет много лет назад хотел присудить одну премию на двоих. Кентавр взвился на дыбы: ему — полубогу! И только полпремии! Он отказался ее получать. Десятки лет спустя, на восемьдесят пятом году жизни, он получил Нобелевскую премию, но все-таки с компаньонами. {90}
Вот И.Е.Тамм, по «вине» Ландау, получил Нобелевскую премию за счет Черенкова: Дау получил запрос Нобелевского комитета относительно «эффекта Черенкова». В традициях комитета было награждать авторов технических усовершенствований, если они вошли в промышленность мира и не подвергались изменениям в течение 30 лет.
Дау объяснял мне так: «Такую благородную премию, которой должны удостаиваться выдающиеся умы планеты, дать одному дубине Черенкову, который в науке ничего серьезного не сделал, несправедливо. Он работал в лаборатории Франк-Каменецкого в Ленинграде. Его шеф — законный соавтор. Их институт консультировал москвич И.Е.Тамм. Его просто необходимо приплюсовать к двум законным кандидатам.
Понимаешь, Коруша, Игорь Евгеньевич Тамм очень хороший человек. Его все любят, для техники он делает много полезного, но, к моему большому сожалению, все его труды в науке существуют до тех пор, пока я их не прочту. Если бы меня не было, его ошибки не были бы обнаружены. Он всегда соглашается со мной, но очень расстраивается. Я ему принес слишком много огорчений в нашей короткой жизни. Человек он просто замечательный. Соавторство в Нобелевской премии его просто осчастливит.
Вот и Отто Юльевич Шмидт присылал мне на отзывы свои научные труды по математике, в которых, кроме математических ошибок, никакой науки не было. Я его очень уважал как великого и смелого путешественника, старался в самой деликатной форме ему объяснить его ошибки. Он плевал на мои отзывы, печатал свои математические труды и получал за них Сталинские премии. После тюрьмы я из «язычества» перешел в «христианство» и разоблачать Шмидта уже не мог».
Впоследствии, еще при жизни Тамма, на одном из общих собраний Академии наук один академик публично обвинил его в несправедливом присвоении чужого куска Нобелевской премии.
В те дни я у Дау спросила:
— А ты согласился бы принять часть этой премии, как Тамм?
— Коруша, во-первых, все мои настоящие работы {91} не имеют соавторов, во-вторых, многие мои работы уже давно заслужили Нобелевскую премию, в-третьих, если я печатаю свои работы с соавторами, то это соавторство нужнее моим соавторам.
Он умел все просто и спокойно объяснить.
Но вернемся к кентавризму. Человеческая половина в Кентавре была высокого качества: блестящий ум, большой талант и беспредельное самолюбие (как быстренько он поставил на место самого Резерфорда, сам зачислил себя в штат!). Когда он достиг высот, то стал считаться только с именитыми и полезными ему людьми. К моей беде, я не принадлежала ни к тем, ни к другим. Лившиц ему доложил, что Ландау к науке не вернется из-за потери ближней памяти. Капица сразу потерял к Ландау интерес, распорядился меня не принимать, все связанное с Ландау возложил на Лившица. Так ему было проще.
Так что Шальников, окрестив Капицу Кентавром, только констатировал факт: раз лягается, есть копыта. Кличка прилипла как банный лист.
Капица, конечно, знал историю своего перерождения, но добродушием Резерфорда не обладал.
Приближался пятидесятилетний юбилей Кентавра. Институт собирался торжественно отметить это событие.
Очень часто физики института собирались у нас на квартире. В один из таких моментов к нам зашла Ольга Алексеевна Стецкая, заместитель Капицы. Физики ее не любили, прозвали Стервецкой. Она на почве ревности написала Сталину донос на собственного мужа, который был расстрелян. Стецкая сказала: «Дау, я знала, что все физики у вас, а мне необходимо посоветоваться. Отпущены средства на достойный подарок Петру Леонидовичу. Я не знаю, чем его обрадовать». Вскочил Шальников: «Как чем? Естественно, бронзовым кентавром на мраморном пьедестале!». Растерянная Стецкая воскликнула: «Вы надо мной издеваетесь!». Тут все физики с серьезными лицами стали ее уверять, что кентавр божественного происхождения. Кентавр олицетворяет саму мудрость. Мудрейший кентавр Хирон обучал сына бога Аполлона Асклепия {92} искусству врачевания. Да сам великий бог Зевс покровительствовал кентавру. И потом — выше пояса он совсем как человек! Дау добавил: «Ольга Алексеевна, среди ученых есть традиция, любя, давать клички. Ведь Капица очень уважал Резерфорда, а окрестил его Крокодилом. Кстати, и меня все называют Дау. Это ведь тоже кличка!».
Бедная Стецкая, улыбнувшись, поблагодарила и сказала: «А я-то думала, что вы все его так дразните».
Я уже упоминала, что Дау никогда никуда не опаздывал. Мы и пришли на этот юбилей, как всегда, первыми. Следом за нами пожаловал сам Кентавр. Только мы его поздравили, вошла Стецкая с очень тяжелой ношей, упакованной в тонкую белую бумагу. Развернула свой сверток (подарок): торжественно сверкнула золотом бронза на черном мраморе, круп коня взвился ввысь на задних ногах, передними потрясая в воздухе, тело получеловека с лицом Петра Леонидовича сверкало красотой мышц и позолотой. Кентавр, созданный скульптором, был великолепен! А Капица в тот момент совсем этого не оценил. Его лицо налилось кровью, глаза засверкали бессильным гневом, язык от бешенства стал заплетаться, он нечленораздельно произнес: «Как вы посмели!» и выбежал из зала, сильно хлопнув дверью. Стецкая безнадежно скисла. Мы же с Дау восторгались шедевром искусства.
Прошли десятилетия, молодость и зрелые годы безвозвратно ушли, бронзовый кентавр вышел из подполья. Свою старость он встречает, сверкая золотом, полноправным хозяином на письменном столе кабинета Алиханьяна.
На мой взгляд, кентавр благороднее крокодила, жадного и ненасытного, а великий Резерфорд этими недостатками отнюдь не обладал. По капризу судьбы попав в Англию из голодного Ленинграда, Капица просто боялся, что великий ученый отошлет его на родину. Мы, русские, перед крокодилом испытываем страх, а не восхищение. То ли дело кентавр!..
Кентавр не оценил шутку физиков, свою же шутку ценил очень. Ему все можно, а другим — нет! {93}
Вышедший из тюрьмы Дау в 1939 году стал умолять Кентавра:
— Петр Леонидович, спасите Льва Шубникова, для науки спасите! Только вам это по силам!
— Но, Дау, тогда я должен взять его работать к себе в институт!
Беда была в том, что Лев Шубников мог в эксперименте легко переплюнуть самого Кентавра!
Капица из Англии приезжал в Харьков к Шубникову, он очень интересовался его работами. Резерфорд, оставив работать у себя молодого Капицу, выхлопотал для него повышенную стипендию, заботясь о его материальном обеспечении, а Кентавр на старости лет решил всех молодых физиков, докторов наук, держать на ставках младших научных сотрудников. Я-де настолько велик, я создал такой институт, им всем достаточно той чести, что я их оставил у себя работать.
Когда с Ландау стряслась беда, обезглавленным физикам-теоретикам пришлось непосредственно столкнуться с самим Кентавром. Тут он во всем великолепии продемонстрировал им свой кентавриный «ндрав».
Сверходаренные теоретики, ученики Ландау, организовали новый Институт теоретической физики и ушли из «капичника». Встретив Алешу Абрикосова, я спросила, почему они ушли из института.
— Понимаете, Кора, бесконечное ляганье Кентавра выносить невыносимо.
Но Е.М.Лившиц остался при Кентавре, он работает на Кентавра. Ведь Капица только считается редактором журнала «Экспериментальная и теоретическая физика». Всю редакторскую работу ведет Женька. Это его настоящее призвание, как и роль технического секретаря при Ландау. На этой работе Женьке не нужно творчески мыслить, проявлять инициативу, индивидуальность, так необходимые для науки! Полную непригодность к науке Е.М.Лившица Кентавр знает прекрасно, тем не менее он его в 1979 году протащил в академики, потому что он ему полезен, умеет стоять по стойке «смирно» и, кроме того, надо проучить слишком талантливых, но строптивых теоретиков, таких, как Абрикосов, Халатников и др. В итоге бездарь Женька {94} стал академиком раньше, чем такие таланты, как Грибов, Абрикосов, Халатников, Андреев и др.
Кентавр есть кентавр! Получеловек, полускотина. С этим давно согласились все ведущие физики Советского Союза.
Когда Капица писал статью о Ландау для сборника биографий Лондонского королевского общества, он даже написал, что Дау не владел французским языком, только на том основании, что сам им не владеет, а меня наделил образованием пищевика, хотя я окончила университет.
Когда был расстрелян Н.И.Вавилов, ученые, затаив дыхание, ждали, кто будет следующей жертвой. И в один «прекрасный» день в «Известиях» был напечатан подвал, в котором физик Л.Д.Ландау обвинялся в тех же самых грехах, в которых был обвинен Николай Вавилов. Громили физика Ландау и всю его школу физиков (ныне очень ценимую). Я прочла этот злобой дышущий подвал и ничего не поняла. Сплошная ахинея! Автор — некий Соколов из племени физиков-«иваненковцев».
Над Ландау навис дамоклов меч. У Дау погасла улыбка, но глаза сверкали гордо и гневно. Мне он очень серьезно и добро сказал: «Коруша, сейчас ты должна меня бросить, я очень боюсь, как бы тебе не пришлось жалеть, что ты стала моей женой».
— Нет, нет! Никогда не пожалею! Просто, Даунька, мы сейчас с тобой вместе стоим у пропасти.
Каждый день ждали. Ждал и затаился в немом ожидании весь институт. Дау шутил: «Осталось только молиться». Так он говорил всегда в самых безнадежных ситуациях.
Не молились, но пронесло! Это было то время, когда Берию отстранили от руководства работами над атомной бомбой и возглавил эти работы Курчатов. Он обладал могучим талантом организатора. Первое, что он сделал, составил список нужных ему физиков. Первым в этом списке значился Л.Д.Ландау. В те годы только один Ландау мог сделать теоретический расчет для атомной бомбы в Советской Союзе. И он сделал это с большой ответственностью и со спокойной совестью. {95} Он сказал: «Нельзя допустить, чтобы одна Америка обладала оружием дьявола!». И все-таки Дау был Дау! Могущественному в те времена Курчатову он поставил условие: «Бомбу я рассчитаю, сделаю все, но приезжать к вам на заседания буду в крайне необходимых случаях. Все мои материалы по расчету будет к вам привозить доктор наук Я.Б.Зельдович, подписывать мои расчеты будет также Зельдович. Это — техника, а мое призвание — наука».
В результате Ландау получил одну звезду Героя соцтруда, а Зельдович и Сахаров — по три.
Телефонный звонок управляющего делами Совнаркома Малышева. Слышу, Дау по телефону отвечает: «За звание Героя Соцтруда я очень благодарен, а вот новая семикомнатная квартира мне не нужна, я от нее категорически отказываюсь. Нет, нет! С женой советоваться я не буду, она всегда согласна со мной. Дача в Барвихе с кирпичным гаражом? Но, позвольте, у меня уже есть одна дача. Я вас благодарю, но мне эти подарки совсем не нужны, семья у меня всего три человека. Да, категорически отказываюсь! Подумать? Посоветоваться с женой? Нет, нам с женой просто ничего не нужно, а за геройскую звезду я вас еще раз благодарю!».
— Коруша, слыхала, хотели меня купить, чтобы я оставил науку и переключился на технику.
Техникой, да еще военной, после создания атомной бомбы настоящие деятели науки не занимались: ни Нильс Бор, ни Роберт Оппенгеймер, ни Отто Фриш, ни многие другие, в том числе Ландау.
Военной техникой занялся А.Д.Сахаров, и у него получилась первая водородная бомба на гибель человечества! Возник парадокс — автору водородной бомбы была присуждена премия Нобеля за мир! Как человечеству совместить водородную бомбу и мир?
Да, А.Д.Сахаров — очень хороший, честный, добрый, талантливый. Все это так! Но почему талантливый физик променял науку на политику? Когда он творил водородную бомбу, в его дела никто не вмешивался! Уже во второй половине семидесятых годов я говорила с одним талантливым физиком, академиком, учеником Ландау: «Скажите, если Сахаров — один из {96} талантливейших физиков-теоретиков, почему он никогда не бывал у Ландау?». Мне ответили: «Сахаров — ученик И.Е.Тамма. Он, как и Тамм, занимался техническими расчетами. У Тамма был только один талантливый ученик-теоретик — Гинзбург. Вот Гинзбург от Тамма и перешел в ученики к Ландау. А Сахарову с Ландау не о чем было говорить, он физик-техник, в основном работал на военную технику».
Что же произошло с Сахаровым, когда у него получилась эта злополучная бомба? Его добрая, тонкая душа надломилась, произошел психологический срыв. У доброго, честного человека получилась злая дьявольская игрушка. Есть от чего полезть на стенку. И еще умерла его жена, мать его детей. <...> Но я до сих пор не могу понять, как может здравомыслящий ученый-физик стать на защиту религии? Все религии несут народам только зло. Вспомните Варфоломеевскую ночь, резню армян, еврейские погромы! Еще совсем юным, в первую заграничную командировку Ландау говорил религиозным физикам: «Если вы верите в бога, это ваше личное дело, но причем тут физика?». Ведь науку и религию совместить невозможно, как невозможно совместить марксизм и религию.
Возвращаясь от Дау из Москвы, я была безгранично счастлива. Дау, Дау! Какое счастье, ты опять есть! Его обаяние, его любовь, его беспредельное восхищение моей женственностью. Еще звучали его слова: «Ты стала еще красивее! Ты прекрасна, как мечта!».
Окруженная облаком настоящего счастья, я сияла и даже излучала заметное сияние для посторонних глаз. Мой сосед по самолету явно хотел уделить мне внимание. Я полулежала в кресле самолета с закрытыми глазами, возвращаться к жизни не хотелось. Кусочек стихов, которые Дау на прощанье мне прочел, я запомнила и все время повторяла их: {97}
Тот, право, не дурак,
Кто видится с женой пореже,
Пусть прочен приходящий брак,
Еще прочнее брак приезжий!
— Корочка, мы с тобой уже пережили и приходящий брак, и приезжий. А сейчас я не могу жить без тебя, поскорее заканчивай все свои дела и переезжай в Москву, мы с тобой женимся.
Подлетая к Харькову, мой сосед спросил меня:
— Вы не спите?
— Нет.
— Мы уже подлетаем к Харькову.
— Как быстро промчалось время.
— Я не нахожу. Вы не спали?
— Нет.
— Я так и думал. Все время изучал вас. Простите мое любопытство. Видите ли, я писатель. Я перебрал все специальности, но для вас ни одна не подошла. Кто вы? Ваша специальность?
— Кондитер, вырабатываю шоколад,
— Вот оно что! Теперь мое любопытство удовлетворено. Так это шоколад придал вам такое ослепительное сияние?!
Я ничего не придумываю. Все было так. Была молодость, была любовь, был Дау.
Потом в Харьков полетели письма, письма, письма...
Около Севастополя. 30.V.39
Корунечка, милая. Еще дня не прошло с того прошлого письма, а я уже опять надоедаю тебе. Когда я вижу тебя, мне всегда кажется, что ты в самом деле любишь меня, а когда тебя нет, мне начинает казаться, что ты просто привыкла ко мне и тебе лень заводить новые романы. Ведь ты такая красивая, и, наверное, все мужчины на тебя облизываются. А во мне совсем ничего особенного нету.
Напиши, Корунечка, о себе. Как ты проводишь время, как развлекаешься. Вообще пиши все мелочи; мне интересно все, что касается тебя, а изменять тебе все равно можно, и я от этого нисколько не буду меньше тебя любить. {98}
Обязательно пришли, Корушка, свою фотографию, а то я в суматохе не взял их с собой из Москвы и мне не на что глядеть и утешаться. Только письмо перечитывать.
Крепко целую твои глазки.
Дау.
* * *
Гаспра. 1.VI.39.
Корунечка, любимая. Здесь очень хорошо. Ем уже по три вторых блюда за обедом и ужином и собираюсь перейти на четыре. Зато с любовницами дело обстоит прескверно. Правда, здесь состав постепенно меняется (уже 40 человек из 80 сменилось), но приезжают все жуткие рожи. Исходил весь берег моря, но тоже ничего кроме дряни не обнаружил. Просто хоть плачь. От скуки осваиваю одну особу явно недостаточного класса (3-го). Она, впрочем, тоже послезавтра уезжает.
Все время вспоминаю мою бедную девочку, которая уже два года не отдыхала, потом еще немного поволновалась из-за меня, а теперь работает с утра до вечера в душном городе.
Корунечка, а вдруг тебе очень плохо?! И развлекаться, вероятно, вовсе не развлекаешься. Напиши, Коруша, об этом, а то я буду очень беспокоиться о тебе.
Крепко, крепко целую.
Дау.
* * *
Гаспра. 1. VI. 39
Корунечка, дорогая, как хорошо, что ты дала мне с собой такое милое, милое письмо, а то сейчас мама переслала мне твое письмо из Ленинграда — такое злющее, что просто жуть. Ну прямо совсем, как 3,5 года назад, с той только разницей, что тут ты утверждаешь, что я хоть раньше тебя любил, а тогда говорила, что я вообще никогда не любил тебя. Ну зачем ты все глупости выдумываешь. Или я мало ласкал мою дорогую {99} девочку. Правда, в конце перед поездом, но ведь тут уж так получилось. И еще пишешь, что злая телеграмма. Я, можно сказать, просто гордился, что такую нежную телеграмму придумал, в особенности фразу «вот ты какая». Неужели она в самом деле получилась сухая?!
Когда я получаю такие письма, мне так грустно становится (а ты еще спрашиваешь, почему «бедный Дау») и кажется, что я очень плохой любовник; что моей бедной девочке от нашего романа только одни неприятности, и ты опять жалеешь, что познакомилась со мной.
Корунечка, ну как сделать, чтобы ты была веселой и счастливой?
Крепко целую.
Дау.
P. S. Мне очень понравилось выражение, что я «рассердился» на твои письма. Неужели ты думаешь, что я могу «сердиться» на тебя?
Гаспра. 3. VI. 39
Корунечка, золотая моя. Вот уже 5 дней прошло с того времени, как я видел тебя. И даже без поцелуев (мгновенные — не считаются). Я так ждал этой встречи, но 20 минут это даже не мало, а вовсе ничего: просто словно промелькнула перед глазами как фея в сказке и потом опять исчезла. Ты знаешь, что когда ты рядом, со мной и целуешь меня, тогда мне кажется, что ты в самом деле любишь меня, а когда тебя нет, то всегда кажется, что это ты просто от скуки.
Я здесь перешел уже на четыре вторых и чувствую себя неплохо, но начинаю скучать. Хорошеньких девушек совершенно не предвидится. Даже полухорошенькая, которую я освоил, примерно, наполовину, сегодня уезжает. Впрочем, так как она только полухорошенькая, то и удовольствие от нее весьма умеренное. Не то что ты!!!!!.
Крепко целую.
Дау. {100}
* * *
Гаспра. 4.VI.39
Корунечка, дорогая моя девочка. Вот стараюсь не надоедать тебе скучными письмами, но не могу удержаться. А от тебя ничего нет. Может, ты уже забыла своего Дауку или вспоминаешь о нем, как жена о муже — с заботой, но без страсти. А вдруг правда, то, что ты мне тогда говорила, и твоя былая влюбленность давно перешла в «любовь», то есть в очень теплое дружеское отношение, но лишено пьянящего угара влюбленности.
Я ем 4 вторых и уже собираюсь переходить на 5. Купаюсь мало, т. к. вода холодная. Все мало-мальские пригодные девушки и хорошенькие и полухорошенькие уехали, и постепенно становится скучно. Измышляю, где бы поискать что-нибудь, а то все килограммы зря пропадут.
Крепко целую далекую девушку.
* * *
Гаспра. 9.VI.39
Корунечка, дорогая. Ты не представляешь себе, как грустно каждый вечер спрашивать о письмах и получать в ответ то же вежливое НЕТ. А ты еще говоришь, чтобы не было других любовниц. Тогда я бы хоть немного утешался письмами от них. Бедный Даука!
Я так люблю тебя, Корунечка, всю, всю, всю. И глазки, и пальчики, и волосы (и те и другие), и грудь, и плечи, и голос, и поцелуи, и все остальное. А вдруг я уже надоел тебе и ты не бросаешь меня только потому, что тебе лень искать других любовников.
Как с путевкой? Ты обязательно должна получше отдохнуть и поразвлечься.
Вспоминаешь ли ты меня, Корунечка, хоть иногда, а то мне кажется, что когда меня нет, ты совсем, совсем забываешь обо мне, словно меня «не было», как и Петеньки.
Достаточно ли развлекаешься?
Крепко целую.
Дау. {101}
* * *
Москва. 11.IV.39
Корунечка, дорогая моя. Все время перечитываю твое письмо (ведь фотографий ты мне так и не дала). Оно такое миленькое. Особенно про то, как начальник цеха не учитывал твоих обстоятельств. Но, Корунечка, неужели он такой нахальный, что может вовсе не отпустить тебя?! Имей в виду, Корунечка, что мужчины всегда слушаются хорошеньких девушек. В крайнем случае делай ему побольше глазки, и тогда он, наверное, растает.
Не знаю, как быть с билетами? Боюсь, что потом их трудно будет достать и ты соскучишься со мной (мне-то неважно, потому что я всегда могу гладить и целовать тебя).
Я здесь веду очень тихий образ жизни. Ем мороженое, играю в теннис, занимаюсь наукой и ожидаю Корочку. Стал гораздо лучше спать.
Крепко целую.
Дау.
* * *
Гаспра. 16.VI.39
Сейчас получил два твоих письма от 14-го. Неужели ты так совсем всерьез решила «страдать»? Уже оказывается, что ты не сможешь приехать, если Женя с Лелей будут жить у меня. Я уже не говорю о том, что мы не раз раньше говорили с тобой по этому поводу. Твое первое письмо я, кстати, получил с запозданием, происшедшим не от адреса, а от того, что его занесли в другую комнату, а ее обитатель был хам, который не видел необходимости передавать чужие письма обратно; разве ты не получила моего ответа на него? Кроме того, ты знаешь, что я вовсе не верю в твои сомнения в моей любви. Кстати, весьма замечательно, как это я «нисколько не думаю о тебе» и в то же время пишу тебе страстные письма; и это при моей любви к писанию писем. Для тебя все это, конечно, только повод для «страдания».
Знаешь что, Корунечка, давай я умру. Тогда всякие {102} основания для «ревности» исчезнут (в моем распоряжении останутся в лучшем случае ангелы), а с другой стороны появятся факты гораздо более убедительные, чем те, которые ты с таким трудом находишь, и в каждом письме принуждена менять.
Имей в виду, что это пишется совершенно серьезно, и мне совсем, совсем не трудно это сделать, в особенности, если это сделает тебя менее несчастной. Ты не представляешь себе, Корунечка, как я устал. Помнишь, как я мечтал раньше отдохнуть хотя бы несколько месяцев подряд, в течение которых меня бы никто и ничто не мучило. Ведь уже 13 лет подряд я живу в постоянном нервном напряжении. Но ты знаешь, что из моей мечты так ничего и не вышло. Сначала переезд в Москву, потом непрерывное боление, потом Шуб, потом этот жуткий год. Когда ты была у меня в Москве, я старался держаться веселее, и ты, вероятно, не видела, до какой степени я сейчас устал. Меньше 1,5 месяцев отдыха в полубольном состоянии это, конечно, слишком мало. Судя по твоему письму, ты, очевидно, считаешь, что я должен быть благодарен тебе за любезное предложение «бежать» и «не нарушать моих новых увлечений унылыми письмами», но, к сожалению, потеря любимой девушки меня мало устраивает, а для того, чтобы разлюбить тебя, мне надо было бы заниматься самоистязанием в течение многих месяцев, а на это я сейчас совершенно не способен.
* * *
Гаспра. 16. VI.39
Корунечка, золотая моя. Ну разве ты не жулик? Оказывается, ты не можешь быть счастлива, так как я, де, не могу любить тебя, как ты. Надо же иметь такое нахальство!
Конечно, если влюбленность измеряется всякими «не надо», «нельзя» и всевозможными мучительствами, то здесь тебе первое место обеспечено. Но что мне делать, если мне не доставляет никакого удовольствия мучить тебя. Единственное, чего мне хочется, это чтобы ты была счастливой и хоть немного любила меня. А о том, насколько ты меня любишь, я всегда могу судить по тoму, {103} как ты ласкаешься и целуешься. Мне абсолютно безразлично, сколько и каких романов ты заводишь, но когда я почувствую, что ты целуешься без энтузиазма и мои ласки наводят на тебя скуку, я пойму, что твоей любви ко мне пришел конец.
Но счастливой ты должна быть обязательно, все равно, хочешь ты этого или нет. И то, что ты всячески саботируешь счастье, пытаясь быть несчастной под всяческими жульническими предлогами, меня необыкновенно возмущает.
Кстати, ты так ничего и не пишешь о путевке, которую ты должна достать в первых числах июня???!!!!
Крепко целую нахальную сероглазую девочку.
Дау.
* * *
Гаспра. 18.VI.39
Корунечка, девочка моя. Ну как мне приструнить тебя, чтобы ты обязательно была счастливой. Уж как я ни объяснял тебе, что ты вообще моя и никто и ни даже ты сама не имеет права обижать тебя, ничего не помогает. А еще утверждаешь, что будто бы сильно меня любишь. Попробуй расскажи кому угодно, что субъекта выпустили из тюрьмы, а его девушка по этому поводу не обрадовалась, а стала выискивать предлоги для того, чтобы быть несчастной, и спроси — можно ли такое отношение называть любовью! Уж какой я был 1,5 месяца назад измученный и несчастный, а когда я целовал и обнимал тебя, мне казалось, что счастливее меня никого на свете нет. Да и сейчас, если нет от тебя злобных писем, я мечтаю о том, как буду целовать тебя со всех сторон, и мне кажется, что жить очень хорошо. Впрочем, потом ты сразу присылаешь что-нибудь такое злобное, что веселое настроение сразу пропадает. Я, конечно, вымарал на нем возмутительные надписи.
Как ты себя чувствуешь??!! Что с путевкой???!!
Крепко целую.
Дау. {104}
* * *
Гаспра. 22.VI.39
Корунька, любимая. Очень обрадовался, получив от тебя миленькое письмо. Не вздумай только теперь начать волноваться о моем здоровье. А для того, чтобы я не нервничал, самое главное, чтобы тебе было хорошо, и даже не просто хорошо, а очень хорошо и притом все время.
Почему ты ничего не пишешь про сочинскую путевку? Я чувствую, что ты там что-то жульничаешь. Вообще ты, воспользовавшись ревностью, так ничего и не написала о себе. А мне так хочется знать, что с тобой.
Еще целых шесть дней осталось ждать, пока я увижу тебя. Впрочем, увидеть — это пустяки, я должен почувствовать тебя всем своим телом, и глазами, и губами, и руками и т. д.
А пока остается целовать на словах.
Дау.
* * *
Гаспра. 24. VI.39
Корунечка, чудненькая моя. Обидно, что уже так и не получится ни одной настоящей ночи, поскольку ты 30-го работаешь. Придется в Москве дорабатывать.
Но самое главное это — как объяснить тебе, что ты не имеешь никакого права не заботиться о своем здоровье (я уже не говорю о счастии) и переутомляешься. Говоришь, что любишь меня, а обращаешься с моими вещами так небрежно. Ведь и серенькие глазки, и губки, и груди, и каждый волосок — все это мое и ты вовсе не имеешь права неосторожно обращаться с чужой собственностью, даже если ты и не очень любишь меня.
Крепко целую нахальную и лживую (жульничаешь с путевкой) девочку.
Дау. {106}
* * *
Гаспра. 23.VI.39
Корунечка, моя сероглазенькая. Сейчас я уже ни о чем другом почти не думаю, только рвусь к тебе, мечтаю о том, как буду гладить и целовать тебя со всех сторон, чувствовать тебя всем своим телом. Вот как я люблю тебя, а ты, когда меня выпустили, даже счастливой не стала.
Жди меня 28-го, поезд №10, вагон № 6. Приходит он вечером, часов около семи (точно здесь узнать невозможно). Женьке я писал, чтобы он и другие никоим образом не встречали меня. Если он спросит тебя, то повтори ему, чтобы не приходил. Разве только ты не сможешь меня встретить и захочешь что-нибудь передать через него. На случай, если это письмо пропадет, я напишу о поезде еще пару раз.
Люблю, люблю, люблю.
* * *
Теберда. 13.VII.39
Корунечка, дорогая.
Очень рад был, получив твое письмо. Карточки, впрочем, очень посредственные: не то, что те. Не телеграфирую тебе, т. к. сейчас ты, вероятно, уже получила мое письмо (это, кажется, 6-е или 7-е).
Здоровье мое в прекрасном состоянии. Сердцебиений нет никаких.
Напрасно ты, Корунька, стараешься узнать, что я хочу. Во-первых, я действительно сам не знаю. Во-вторых, для тебя этот вопрос настолько более сложен, что здесь ты одна должна решать. Мне важно только, чтобы ты была счастлива.
Когда получишь это письмо, телеграфируй, пожалуйста, день своего отъезда и Н. Афонский адрес, а то я не буду знать, куда писать.
Смотри, Корунечка, отдыхай как следует. Бояться тебе теперь нечего и можешь развлекаться как угодно. Ты ведь знаешь, что я от этого не буду меньше тебя любить. {106}
Пиши мне, Корунечка, почаще. Я так люблю получать твои письма. Крепко целую. Дау.
В этом письме его слова: «Для тебя этот вопрос настолько более сложен, что ты одна должна решать. Мне важно только, чтобы ты была счастлива». По своей человеческой честности и наивности ребенка он мог думать, что я, дав слово не ревновать, смогу это выполнить!
* * *
Теберда. 18.VII.39
Корунечка, любимая.
Получил сегодня два твоих письма сразу. Боюсь я все-таки за тебя. Что ты-де сама виновата, это не утешение. Если кто-нибудь нечаянно разбил драгоценную вазу, то разве можно оправдываться тем, что она неудобно стояла. С драгоценными вещами надо обращаться осторожно, а что может быть драгоценнее красивой женщины. Ведь я отвечаю не только за то, чтобы у тебя не было неприятностей, а чтобы ты была вообще счастливой.
Очень хорошо делаешь, что осторожно обращаешься с путевкой. Что бы ты в конце концов ни надумала, но отдохнуть ты должна обязательно. Я буду в Харькове 3-го в 12 час. 45 мин. и уеду, очевидно, 5-го вечером. Я бы, конечно, приехал раньше, если бы ты была в это время в Харькове, но, к сожалению, билеты надо заказывать задолго, а торчать в Харькове без тебя мне ни к чему.
О моем здоровье не беспокойся. Никаких сердцебиений и в помине нет.
Крепко целую бедную сероглазую Корочку.
Дау.
* * *
Теберда. 20.VII.39
Корунечка, дорогая.
Так приятно, просматривая письма на букву Л, увидеть {107} твой почерк. Если бы я только знал, что нужно, чтобы сделать тебя счастливой. Но кто тебя разберет, и потому я даже советовать тебе боюсь. В кооперативное твое счастье при моем развратном стиле я тоже не верю. В результате я даже не могу отплатить тебе за то счастье, которое для меня связано с тобой. Ведь когда я думаю о счастливых минутах моей жизни, то я вспоминаю прежде всего те, когда я обнимаю тебя, а ты прижимаешься ко мне и я всем телом чувствую тебя.
Я здесь прекрасно развлекаюсь и чувствую себя очень хорошо, только в весе никак не прибавляю.
Чтобы ты обязательно хорошо отдохнула на курорте!!!
Крепко целую серые глазки.
Дау.
* * *
Москва. 1.Х.39
Корунечка, родная. Ну какие ты чудные письма стала писать. Когда их читаешь, все становится как-то веселее и лучше.
Как с твоим приездом? Как твое здоровье? Я сейчас все думаю, что тебе плохо, вероятно, в результате утомления. Приезжай, Корунечка, скорее, тогда мы обсудим, что с этим делать. Ведь я очень, очень люблю тебя, и когда думаю, что тебе плохо, мне тоже становится грустно.
Крепко, крепко целую бедную девочку.
До скорого свидания.
Дау.
* * *
4.Х.39
Корунечка, дорогая моя.
Мне очень, очень жалко мою бедную девочку. Приезжай поскорее сюда, и мы все обсудим и придумаем, что делать. Имей, кстати, в виду, что если ты, как ты пишешь, «не хочешь причинять мне неприятности» — то не пиши, что твой приезд «не очень сильно интересует меня». {108} Ведь ты прекрасно знаешь, что это явная неправда. Неужели я все это время так плохо обращался с тобой, что ты имеешь основания, когда тебе плохо, писать мне такие фразы. Я так сильно люблю тебя, Корунечка, и когда я знаю, что тебе плохо, я вообще не могу жить спокойно.
Приезжай, Корунечка! Я так жду тебя, а ты теперь вдруг пишешь, что вообще приедешь неизвестно когда. Ведь даже если тебе уж не так хочется видеть меня, ты хоть сможешь отдохнуть здесь. А ведь теперь же ты уже не боишься, что я могу изнасиловать тебя.
Крепко, крепко целую. Жду телеграммы о приезде.
Дау.
* * *
27.X.39
Корунечка, дорогая.
Ну зачем ты умствуешь о всякой ерунде? Что я мимоза какая-то, что ты боишься, что я переволновался при твоем отъезде. Все это ерунда! Ведь я очень, очень люблю тебя и возиться и волноваться для тебя я всегда готов (уже не говоря о том, что вся история была ерундовая).
Ты бы лучше написала о том, как ты там в вагоне с субъектом любезничала (который тебе вещи втаскивал). Мои дела в этом направлении обстоят прескверно. Просто хоть плачь!
Крепко целую дорогую девочку.
До скорого свидания.
Дау.
* * *
23 ноября, 1939 г.
Корунечка, любовь моя. Звонил тебе на прощание еще несколько раз с вокзала, так хотел услышать твой чудный голосочек, но так и не дозвонился. Очень смешно читать твои письма, в которых ты волнуешься по поводу моей любви к тебе. Ведь я просто по временам с ума схожу от любви к тебе, ведь ты такая изумительная, тебя вообще трудно не любить. А о других ты зря {109} волнуешься. Подумай, Корунечка, ведь мы живем всего только один раз и то так мало, больше никакой жизни не будет. Ведь надо ловить каждый момент, каждую возможность сделать свою жизнь ярче и интереснее. Каждый день я с грустью думаю о том, сколько неиспользованных возможностей яркой жизни пропадает. Пойми, Корунечка, эта жадность к жизни ничем не мешает моей безумной любви к тебе.
Напиши, что тебе сказали в поликлинике.
Крепко целую серенькие глазки.
Дау.
* * *
25.XI.39
Корунечка, любимая. Как жалко, когда от тебя нет писем, чтобы перечитывать их. Те письма, которые пришли за время моего отсутствия, к сожалению, совсем для этого не годятся. Ты не думай, Корунечка, что это оттого, что они «плохие»; дело просто в том, что когда я читаю их, то мне кажется, что тебе очень плохо, и от этого становится очень грустно. Ведь я так люблю мою чудную сероглазую блондинку, которая хитрым образом ни за что не хочет быть счастливой.
Дела мои в смысле любовниц в довольно жалком состоянии. Сижу у моря и жду погоды. А сколько можно было бы за это время пережить интересного! Без любви к тебе я как-то даже не могу себе представить своей жизни, но ведь она должна быть такой яркой и интересной, что дальше некуда.
В Ленинград решил пока не ехать — боюсь, что устану. Как с твоим лечением?! Снималась ли уже без трусиков? Ведь ты такая чудная, что всякому, имеющему аппарат, естественно хочется все пленки извести на тебя.
Что у вас делается?
Крепко целую всю Корочку.
Дау.
* * *
Москва, 30.XI.39
Если ты приедешь сюда, то это письмо может не {110} застать тебя в Харькове. Поэтому пишу на всякий случай. Может, тебе действительно трудно разбирать мои каракули. Ведь знаешь, Корунечка, я все-таки никак не могу себе представить, что ты можешь очень сильно любить. Ведь даже если бы ты любила меня хоть совсем немного, только разрешая мне любить тебя — это уже было бы неплохо, а то, что ты еще сама любишь меня — это так хорошо, что этому как-то трудно поверить. Если бы я сам не чувствовал, как ты всем телом прижимаешься ко мне, я бы вообще считал это абсурдом.
Корунечка, дорогая, почему от тебя ничего нету? Само по себе это неважно и я ничего не вижу в том, что у тебя не было настроения писать, но когда от тебя вовсе ничего нет, мне начинает казаться, что тебе очень плохо живется, а это самое плохое, что вообще может произойти.
Прошло ведь всего 10 дней, как мы были вместе, но мне кажется, что прошел уже целый месяц, и так сильно хочется почувствовать мою чудную Корочку. А ты еще болтаешь, что я меньше люблю тебя, чем 4 года назад.
Временами мне хочется, чтобы ты уже жила здесь, но потом я вспоминаю, что других любовниц еще нету и что вместо яркой жизни может получиться скука, от которой мы быстро разлюбим друг друга. Вот когда все устроится как следует, мы с Корунькой заживем как боги.
Крепко целую всю Корочку.
Дау.
* * *
Москва, 6.ХII.39
Корунька, дорогая. Ну и нахальная же ты. Не ответить на две телеграммы в расчете на письмо, написанное 1.XII. Вообще это, конечно, закономерно для особы, но поскольку недавно ты учинила болезнь и у меня не было со времени отъезда из Харькова ни одного твоего письма, я у же в самом деле взволнован. И еще имеешь нахальство сомневаться в том, что я тебя люблю гораздо сильнее. {111}
Насчет лечения это возмутительно. Почему это у тебя нет времени лечиться. На всякие дела у тебя есть время, а чтоб заботиться о моей самой любимой вещи — нет. И нисколько ты меня не любишь.
Фотокарточка очень чудненькая. Я представляю себе, как на тебя там субъекты облизываются. Кстати, прочел недавно замечательную фразу для тебя. Когда мадмуазель де Соллери была поймана своим любовником на месте преступления, она храбро это отрицала, а потом заявила: «Ах, я прекрасно вижу, что вы меня разлюбили, вы больше верите тому, что вы видите, чем тому, что я говорю вам». Мои дела в этом смысле пока в довольно посредственном состоянии.
В Ленинград пока не собираюсь.
Целовать тебя, принимая во внимание твое обращение с моим телом, не следовало бы, но разве можно удержаться!
Дау.
* * *
Москва, 15.XII.39
Корунечка, родная.
Следовало бы похвалить тебя за чудненькие письма, но нельзя, потому что из тех же писем выясняется, что ты много работаешь, чего тебе никогда не разрешалось. На твои две открытки, очевидно, соблазнился кто-нибудь на почте, а маленькую (которая действительно очень чудная), как я тебе уже писал — получил. Что ты кроме меня никем не интересуешься, отнюдь не доказывает, что ты сильно любишь меня; отсюда только следует, что, во-первых, ты слишком много работаешь; во-вторых, отсюда можно было бы заключить, что ты рыбьего нрава, но так как опыт показывает, что это не так, то отсюда только видно, как ты любишь приврать, что, впрочем, и так известно (вспомни хотя бы лживую телеграмму об ангине, в каковом отношении, в отличие от собственных ситуаций, тебе, как известно, вовсе не разрешалось врать).
Очень хочется увидеть тебя. Так приятно чувствовать, что такая прелесть любит меня. Ведь письма ты {112} все равно такие же будешь писать и когда разлюбишь меня, а всем телом соврать гораздо труднее. Крепко целую со всех сторон.
* * *
10.I.40
Корунечка, любимая. Вот уже восемь дней как ты уехала и ничего не знаю о тебе. Главное чувствую, что ты хитрым образом по какой-либо причине все-таки не счастливая. Напиши, Корушка, что-нибудь, а то, когда от тебя ничего нет, мне становится как-то немного грустно. Ведь если ты меня разлюбила, то я просто не знаю, как я смогу жить дальше.
Здесь все время очень холодно — 20—30. Поэтому я никуда не хожу. А когда торчишь дома, вспоминаешь все грехи в смысле серости жизни. Адка мощно обхамила — условились с ней по телефону зайти около 4-х, а в пол пятого ее не было дома — не дождалась. Так что я даже не видел ее. Танька держит себя весьма неопределенно. Других даже не пытался увидеть.
Крепко целую тебя, хотя и «характерную», но совершенно чудную девочку.
Дау.
* * *
30.I.40
Корунька, родная. Ну как тебе было не стыдно говорить мне такие вещи по телефону. Я уже узнал у Летного отца все подробности. Оказывается, ввиду трудностей с транспортом, выдают билеты в Москву только командировочным. Само собой, что это не означает никакого запрещения въезда в Москву. Что касается вопроса по существу, то не говоря о том, что это несомненно временная вещь (которая кстати уже раз была), я убежден, что мне всегда разрешат привезти в Москву мою жену (хотя бы через Академию Наук). В общем, по этому поводу можешь не беспокоиться.
Но самое главное — это вопрос о твоем здоровье. Имей в виду, Корунька, что я совершенно всерьез {113} никогда не прощу тебя, если ты сейчас будешь трепать свое здоровье, и так достаточно подорванное. Я действительно очень виноват в том, что в свое время ограничился одними уговорами, а не заставил тебя поехать полечиться и отдохнуть. Правда, не думаю, чтобы ты по этому поводу имела основания писать (хотя бы и зачеркивая потом), что я больше думал о чем-либо другом, чем о твоем здоровье, но факт остается фактом, а то, что ты сама ничего не хотела делать, конечно, для меня плохое оправдание. Тебе во что бы то ни стало надо поехать на курорт и всерьез полечиться.
* * *
Корунька, любимая. Как я соскучился по тебе, по всей Корушке от волос до кончиков ног. Не вздумай, впрочем, из-за этого раньше приезжать. Перед тем как приедешь сюда, твое лечение в харьковской поликлинике должно быть полностью закончено. Отсюда ты должна сразу же поехать на курорт. Спишись об этом с Верой, если Сергей сможет достать тебе путевку. Лучше всего будет, если ты проведешь здесь недели две. Тогда можно будет в последний раз пообращаться с тобой как с любовницей и вводить кооперативный стиль уже после твоего возвращения с курорта. Как с перевозкой твоих вещей?
Мои дела в довольно жалком состоянии. Танька ведет себя довольно кисло. Единственным утешением была одна ленинградка, которую я слегка осваивал в Теберде и которая мило держала себя. Но, во-первых, она была здесь всего два дня и уехала в Ленинград, а, во-вторых, я не уверен, что она 2-го класса.
Корунька, дорогая. Временами мне кажется, что хорошо, что ты будешь рядом под руками (во всех смыслах), но с другой стороны — а вдруг ты застрадаешъ. Смотри!
Крепко целую тебя, Корушка;
Дау.
P.S. Никаких твоих писем после первых двух не было. Сколько моих писем ты получила? {114}
* * *
23.II.40
Корунька, родная. Получил два твоих «красных» письма. Ты спрашиваешь меня, в какой мере я сам хочу твоего приезда? Должен сказать, что я все-таки очень скучаю по тебе, и мысль иметь Корушку под руками соблазнительна. Надо бы только с самого начала хорошо организовать нашу совместную жизнь. Поэтому мне и хочется, чтобы ты сначала приехала как любовница и только после возвращения с курорта уже жила бы в своей новой профессии. Тем более, что любовница такая хорошая, что жалко терять. Напиши по этому поводу!
Очень смешно читать, когда ты спрашиваешь, скучаю ли я по тебе. Я просто мечтаю о возможности крепко обнять свою чудную Корушку. В моих делах с другими девушками ничего нового. Килечка в Ленинграде, пишет мне милые письма, но чтобы освоить ее дальше, надо ехать в Ленинград, что сейчас весьма сложно. Танечка ведет себя несколько лучше, но все-таки неопределенно и даже слабых достижений пока не имеется. Адки — не видел.
Хотя ты и по телефону утверждала, что соскучилась, но я как-то не очень этому верю. А то ты привыкла к моему кроткому нраву и, вероятно, думаешь, что со мной всегда можно потом договориться. Имей в виду, Корунечка, что все это тебе писалось по этому поводу совершенно серьезно, и лучше не пробуй легкомысленно относиться к своему телу.
Крепко целую это чудное тело.
Дау.
* * *
19.IV.40
Корунька, дорогая.
Насколько я понимаю твой характер, ты, исходя из того, что я долго не писал тебе, уверена в моих успехах. В действительности в этом случае я, вероятно, писал бы каждый день. В настоящий же момент говорить о каких бы то ни было успехах не приходится. Из Катьки {115} ничего сделать невозможно, но что касается Кирки, то освоить ее было бы в общем нетрудно, но, к сожалению, она все-таки недостаточно красива, и делать ее своей постоянной любовницей мне не хочется. Если же освоить ее просто так, то, принимая во внимание, что она, по-видимому, сильно влюблена в меня, мороки не оберешься. Поэтому ограничиваюсь изучением фигуры.
В общем, очень трудно. Когда подумаешь, просто удивляешься, как это такая чудная особа, как ты, может любить меня.
Крепко целую самую любимую Корочку.
Дау.
* * *
Ленинград, 21.IV.40
Корунька, золотая моя. Не знаю, успеешь ли ты уже получить это письмо до моего приезда, но мне очень хочется написать тебе. В первую неделю, когда не видишь тебя, то как-то тоже лень писать, а потом начинает тянуть к тебе, и сейчас мне очень приятно думать, что приедешь в Москву и опять будет Корушка под руками (и в буквальном и в переносном смысле слова).
Мои дела не особенны. Изучаю Килечкину фигуру, которая, к сожалению, далеко уступает твоей, но осваивать ее полностью не собираюсь. Вообще я какой-то неудачник.
Крепко целую дорогую девочку, которая даже не может вообразить, как я сильно ее люблю.
Дау.
* * *
Москва, 21.IV.40
Дорогая моя девочка.
Еще только шесть дней, как от тебя нет писем, а мне уже кажется, что прошла целая вечность. Когда я облизываюсь на какую-нибудь особу, я всегда вспоминаю про Корушку, например, что у ней грудь лучше или про серые глазки. А ты, когда прижимаешься к субъекту, то вовсе и не думаешь о Дау. Вообще вся разница между нами в отношении к «другим» — это то, что я честно {116} говорю, а ты хитро привираешь. А твою любовь ко мне и сравнить нельзя с моей любовью к тебе. Ведь если бы меня не было, то ты сразу нашла бы сколько субъектов.
23.IV.40
Письмо задержалось, так как я несколько прихворнул. По-видимому, объелся чем-то. Сейчас уже лучше, и завтра-послезавтра надеюсь быть в полном здравии. От тебя все ничего нет, а уже 8 дней прошло.
* * *
10.VII.40
Корунька, любимая моя девочка. Мои дела что-то несколько улучшились, и меня стало еще сильнее тянуть к тебе. Ведь ты такая чудная, что на свете не может быть ничего равного тебе. Когда прикасаешься к какой-нибудь другой особе, то потом ярче вспоминаешь твое чудное тело. А ты, вероятно, уже понемногу забываешь меня. Бог с тобой, конечно, что не пишешь, если бы я только мог быть уверен, что с тобой все хорошо, но разве с тобой можно хоть в чем-нибудь быть уверенным. И иногда мне становится вдруг очень страшно, что может быть ты больна. Это, конечно, глупо, но я так люблю тебя, что страх потерять тебя мелькает у меня в голове.
На прощание вот тебе еще отрывок стихотворения:
И промолвил так Саади лукавый пророк:
Если солнце восходит, иди на восток,
Если солнце заходит, на запад иди,
Будет солнце всегда у тебя впереди.
Ты солгал нам, о Саади, лукавый пророк,
Если солнце любя и о солнце скорбя.
Ты за солнцем пойдешь без путей, без дорог,
То на западе солнце взойдет для тебя
И от запада солнце пойдет на восток.
До свидания, моя самая, самая любимая.
Дау. {117}
* * *
14.VII.40
Дорогая моя девочка. Как мне хочется получить что-нибудь от тебя. Но сейчас я уже 4 дня не в Теберде, а в отделении Дома отдыха наДомбае, куда письма не пересыпают. Завтра мне обещано привезти письма, и я с радостью думаю, а вдруг будет письмо от Корушки. Впрочем, вероятнее всего, ни черта не будет. В Москве я очевидно буду двадцать девятого, т. е. через приблизительно 15 дней. А вдруг выяснится, что ты разлюбила меня. Ведь какая ты ни хитрая и лживая, в этом вопросе тебе все-таки никогда не удастся обмануть меня. Как ты ни будешь стараться, но без одежды я чувствую каждую часть твоего тела, и тебе не удастся вытренировать его так, чтобы оно все лгало.
Вообще все это очень глупо. Всю жизнь, как ни хорошо я относился к людям, я никогда не чувствовал себя зависимым от кого-либо, а сейчас я так сильно завишу от тебя. Ты знаешь, как я облизываюсь на хорошеньких и как мало я при этом преуспеваю, но если бы явился сатана и предложил, мне мощнейший успех с условием, что тебя не будет, я сразу отказался бы.
Мне здесь (если не считать беспокойства о тебе) очень неплохо. Гуляю, меру и, правда, с неопределенным успехом, увиваюсь за в общем неплохими особами. Если бы я только мог быть уверен, что ты совсем, совсем счастлива!
Крепко целую такие далекие и такие любимые серые глазки.
Дау.
* * *
12.VI.41
Корунька, любимая. Как я люблю тебя! Когда ты рядом со мной, это кажется мне чем-то самоочевидным, и только когда тебя нет, я чувствую, до какой степени ты мне нужна; тогда я вспоминаю каждый изгиб твоего тела и мечтаю о том, как буду целовать тебя всю.
И как хорошо, что я могу болтать с тобой о «других», а не как с другими придумывать всякую чепуху. От {118} этого ты становишься мне такой родной и близкой. И когда мне, увы, в ограниченной степени удается изучать чужие фигуры, я всегда с гордостью вспоминаю, что у меня есть еще Корушка. Ведь ты сейчас правда не жалеешь бедному зайчику немного разнообразия.
Только дня приезда еще не знаю. Все мои дела настолько посредственны, что не знаю, как их и кончить. Когда решишь окончательно, телеграфируй.
Развлекайся побольше, но не забывай своего нежного зайца. Ведь я все-таки всегда боюсь, что ты заметишь, наконец, какой я неинтересный, и разлюбишь меня.
Крепко целую.
Дау.
— Коруша, я не изменил свои взгляды, но ведь я не видел тебя целый год. И сейчас каждый день без тебя — это потерянный день! А оправдание браку — мы были любовниками пять лет — солидный срок. А я влюбляюсь в тебя все больше и больше. Скорей устраивай свои дела и приезжай ко мне в Москву, уже как жена!
Но здесь он тщательно разработал свою самую «блестящую» (так он говорил) теоретическую работу и назвал ее «Как правильно жить», или «Брачный пакт о ненападении». Этот «пакт» предоставлял полную свободу, как он понимал ее, для себя и меня. Я не могла сказать «нет». Его нервы, его сон, его здоровье надо было беречь! Тогда я не принимала этот «пакт» всерьез и была согласна на все. Я уже не могла ему бросить: «У тебя слишком удачно сложилась жизнь». Его здоровье было подорвано, его надо было беречь.
Но иногда закрадывалось сомнение, я боялась, что тот самый зверский, злостный человеческий предрассудок — ревность — сидит во мне! А вдруг в самом деле на моих глазах он будет волочиться за бабами? Даже когда он в письмах воспитывал меня, я неделями не {119} снимала трубки с телефона, когда звучал междугородний длинный звонок. Я не отвечала на письма, а потом начинала врать о своих болезнях.
Кроме того, была еще одна неприятность: тот самый Женька, к которому, кроме презрения, нельзя питать иных чувств, женился и нахально поселился у Дау в Москве, в его пятикомнатной квартире. Вместе с женой и домработницей. Правда, Дау что-то говорил, когда я была у него.
Но он был такой хрупкий, ему противоречить было невозможно. И, по-моему, говорилось о временном проживании. Но на меня все обрушилось сразу, и моя мечта — быть женой Дау — казалась, неосуществимой. Тогда, в первый год нашей встречи, было пролито столько слез. Я так его умоляла, рыдала и говорила: «Дау, так нельзя, так стыдно, нам надо пожениться». Как я плакала! Мое лицо распухало от слез. Я говорила ему: «Я подурнела от слез, ты можешь разлюбить!». Но он находил и в этом прелесть: «Что ты, Корочка, ты очень красиво плачешь, беззвучно, только обильно льются слезы, а глаза из серых становятся бирюзовыми», — говорил он зачарованно. А сейчас к женитьбе появился брачный пакт о ненападении! Готовить меня к этому пакту он начал еще в 1937 году, когда переехал из Харькова в Москву.
Ну, ладно, был бы пакт, но как переварить такой довесок к женитьбе, как Женька с его женой и домработницей? И я откладывала свой приезд по разным, несуществующим причинам. А когда врешь, всегда запутаешься. Соврала и забыла что! А потом по этому поводу соврала другое. В конце концов я запуталась. Неожиданно Дау нагрянул в Харьков сам все выяснить. По каким-то причинам в Харьков он прибыл поздно и остановился в лившицком особняке на Сумской. А ночью зазвонил входной звонок в моей квартире. Я испугалась, вскочила. Часы показывали два ночи.
— Кто здесь?
— Я, Корочка, открой.
Открываю: в сумерках ночи стоит Дау в трусах, туфли на босой ноге, скомканные брюки — в руках.
— Даунька, что случилось? За тобой гнались?
— Кажется, нет. {120}
— Что же случилось?
— Какое счастье, что ты так близко живешь от Женькиной квартиры.
— Расскажи, как ты появился в Харькове?
— Я решил остановиться у Женьки. Его мама приготовила мне комнату. Ночью я вскочил, включил свет — о ужас! — вся простыня усеяна огромными длинными клопами. Их было несметное множество. Я так испугался, схватил брюки и бегом к тебе.
— Почему ты мне не позвонил?
— Корочка, я только слышу голос телефонистки: номер не отвечает. Почему у тебя появилось столько причин откладывать свой приезд в Москву? Ты уже не хочешь выходить за меня замуж?
— Очень хочу, но без Женьки.
— Корочка, без твоего согласия я не решился бы его пустить. Ты разве забыла? В один из твоих приездов я получил твое согласие, и, как мне показалось, ты этому не придала никакого значения.
— Я не могла себе представить, что это навечно, да еще с женой и домработницей.
— Я совсем не узнаю свою Корушу. Была такая преданная, добрая, а сейчас изводишь меня. У меня совсем мало осталось жизненных сил, сжалься, брось бузить. Я не могу сейчас выгнать Женьку, я не могу менять свое слово! Кстати, они заняли низ, а мы с тобой будем жить наверху. Верх и низ, сама хорошо знаешь, изолированы!
Квартиры в так называемом «капичнике» (так Дау называл Институт физпроблем), здание института и личный особняк Капицы были точной копией института Резерфорда в Кембридже. Петр Леонидович Капица приехал работать в Россию и, по его желанию, институт был построен именно так. Все зарубежные физики ахнули, когда Резерфорд свое блестящее по тем временам уникальное оборудование продал Советскому Союзу. Резерфорд отвечал так: «Петр Капица должен продолжать научные изыскания, начатые у меня, ему это оборудование необходимо, он работает на науку».
Квартиры для сотрудников были отделаны на английский манер. Вход в каждую квартиру отдельный со двора, внизу очень большая гостиная и столовая, из {121} передней полувинтовая лестница наверх — там три спальни.
Внезапный приезд Дау в Харьков — и все мои сомнения исчезли. Теперь он настаивал: «Корочка, мы должны быть каждый день вместе, я не могу жить больше без тебя! А насчет Женьки договоримся так: если тебе не понравится, что они у нас живут, тогда у меня будет причина их выселить. Это будешь решать ты, но уже после приезда в Москву. А пока они мне очень полезны, они меня кормят. Когда я углубляюсь в науку, я забываю все: я теряю время, забываю поесть, а сейчас это мне противопоказано, ведь я только по-настоящему начинаю выздоравливать. У меня к тебе очень большая просьба, очень серьезная просьба, очень жизненно важная просьба. Даже, вернее, это не просьба, а условие: это будет фундаментом нашего брака — личная человеческая свобода! Несмотря на проверенную и безграничную влюбленность в тебя, даже твоим рабом я никогда не смогу быть! Никогда, Корочка! Запомни: никогда ни в чем мою личную свободу стеснять нельзя! Я врать не умею, не хочу, не люблю, чего не могу сказать о тебе! Пока все мои разговоры о любовницах носят, к сожалению, только теоретический характер. Ты на моем пути встретилась такая, ну просто женское совершенство! В литературе о тебе сказано так: бог сотворил и форму уничтожил. Запомни одно: ревность в нашем браке исключается, любовницы у меня обязательно будут! Хочу жить ярко, красиво, интересно, вспомни «Песню о Соколе» Горького — ужом я жить не смогу. Смотри, на мою свободу покушаться нельзя! В детстве меня угнетал и подавлял отец какими-то уродливыми взглядами на жизнь, я был близок к самоубийству. На ногах устоял только потому, что сам понял, как правильно жить. И запомни: ревность это позорный предрассудок. По своей природе человек свободен!».
Не сознавая, я пошла на преступление. Я дала ему слово и клятвенно заверила своей любовью — ревновать не буду, не посмею, живи свободно, красиво, интересно! Так, как жил ты на своей далекой звездной планете. Ты слишком чист и необычен для нас, землян! И сверкающие глаза твои так красивы, необычны, они {122} излучают сияние, так, наверное, сверкают самые драгоценные черные бриллианты, и сам ты какой-то хрупкий, как редчайшая драгоценность!
А много лет спустя друг Дау, поэт Николай Асеев, когда наш сын из детства вступал в юность, написал о Дауньке стихи. Они мне очень дороги тем, что Николай Асеев не знал и не мог знать, что еще до заключения нашего брака с Дау я самостоятельно решила, что Дау — человек не нашей планеты.
Вы как будто с иной планеты
Прилетевший крылатый дух:
Все приметы и все предметы
Осветились лучом вокруг.
Вы же сами того сиянья
Луч, подобный вселенской стреле,
Сотни лет пролетев расстоянье,
Опустились опять на Земле.
В Москву я совсем переехала только в 1940 году. В Москве за Старой Калужской заставой нашла я счастье и большую любовь. Даунька, нежно воркуя, вызывал во мне нежность и снисходительность, которую может вызвать только любимый ребенок. Его горячий влюбленный взгляд был прикован только ко мне. Он возил меня по Москве: «Посмотри, Коруша, это здание 1-й градской больницы, здание прошлого века, умели строить. Как они чувствовали красоту. Эти величественные колоссальные каменные колонны кажутся воздушными, невесомыми. Имей в виду, это одно из красивейших зданий в Москве!».
В театре он усаживал меня на наши места, а сам исчезал, появлялся с последним звонком, восторженно счастливым шепотом сообщал: «Обежал весь театр, осмотрел всех девиц, ты самая красивая. Таких, как ты, нет». {123}
— Даунька, ты помнишь, в Харькове обещал мне, когда я приеду совсем в Москву, мы один раз с тобой сходим в Большой театр на «Спящую красавицу».
— Помню, но я решил просить тебя поменять эту одну «спящую красавицу», тем более она совсем не красивая, на десять посещений настоящих хороших театров: МХАТ, Малый, Вахтангова. Я очень, очень люблю драматический театр. На сцене театра должно происходить реальное действие яркой жизни, осмысленной деятельности, интересной, захватывающей отдельные моменты жизни человека или даже эпохи. Но когда на сцене вокруг собственной оси долго и бессмысленно вертится балерина — очень скучно смотреть. Опера еще бессмысленней балета. Какой-нибудь баритон поет, как он нежно любит, целует и обнимает свою возлюбленную, а сам стоит как пень и ограничивается собственными трелями, а партнерша вторит ему тоже о безумной любви, ограничиваясь только завыванием. Только музыковеды находят в этом смысл. Эта профессия простительна только женщинам, а я физик, мне все это невыносимо скучно! Скука самый страшный, просто смертельный человеческий грех. Жизнь коротка, я счастлив сейчас. Ты со мной и больше не уедешь.
Концерты Утесова не пропускали. Дау очень любил Утесова: «Он очень талантлив и очень артистичен. На его концертах очень весело», — так Дау говорил об Утесове. Ну, а когда Даунька вел меня на выступления Аркадия Райкина, он был даже как-то необычайно торжественен. Он еще предвкушал, что может показать мне такой шедевр артистического искусства. Райкиным я, конечно, была покорена навек, он уже тогда достиг зенита славы. Так удивительно счастливо, удивительно беззаботно и безмятежно складывалась моя жизнь с Даунькой в Москве.
— Коруша, у меня завтра с утра ученый совет. Какие у тебя планы?
— Я поеду в ЦУМ.
— Туда я тебе не попутчик. Терпеть не могу магазинов. Как у тебя с деньгами? Возможно, тебе понадобятся деньги?
— Нет, у меня много своих. {124}
— Я все время хотел спросить: как ты умудрялась на фабрике в месяц получать до трех тысяч рублей, гораздо больше, чем я. Все, кто работает на производстве, жалуются на низкую заработную плату.
— Это смотря как работать. Это лодыри жалуются. На фабрике я была одна с университетским образованием, я много читала лекций пищевикам по пищевой химии.
В Харькове, встретясь с Дау, я слушала с открытым ртом от удивления: как я красива! Придя в шоколадный цех, я увидела: все работающие в цехе, даже молодые, женщины давно потеряли талию. По роду своей работы я должна была дегустировать массу очень вкусных вещей. Я очень испугалась за свою талию. В те годы она была 63 см, и мне пришлось ввести в свою жизнь жесткую утреннюю гимнастику с 6 до 7 часов утра. Достав старинную брошюру Мюллера «Как сохранить молодость и красоту», я усовершенствовала ее по своему усмотрению. С тех пор утренняя гимнастика навсегда вошла в мою жизнь.
А когда на фабрике я стала зарабатывать уйму денег, то, собираясь к Дау в Москву на любовные свидания, тщательно обдумывала свои туалеты. Модели я придумывала сама. В те годы быт советских граждан не засоряли ультрамодные европейские журналы мод. А наши шелковые чудесные ткани всех оттенков были в большом выборе. Особенно я любила шифоны всевозможных расцветок. Этот прозрачный шелк вмещал в себя все четыре принципа Дау, как должна одеваться женщина. В Москву я привезла богатый гардероб красивой одежды. Где бы я ни появлялась с Дау, все оборачивались, рассматривая меня, вслед неслись комплименты: какая прелесть. Пламенные глаза Дау сияли гордостью, счастьем. Он шептал мне: «А если бы они увидели тебя раздетой!».
Особенно к лицу мне были летние яркие солнечные дни. Волосы, не тронутые перекисью, золотились короной. В сквере у Большого театра девочки-дошкольницы с восторгом провожали меня глазами, с детской непосредственностью восклицая: как невеста! это фея! чур моя! принцесса из сказки! Вот эти комплименты {125} приводили меня в восторг. Нет, я никогда не считала себя красивой. Производимое мною впечатление относила за счет своих туалетов, за счет умения одеваться. Только Даунька ставил меня в тупик, утверждая, что без одежды я гораздо красивее. Но у Дау на все были свои экзотические взгляды.
Из поездок в центр я возвращалась счастливая, всегда в приподнятом, веселом настроении. Садились обедать все внизу у Лившицев в столовой. В одной комнате Леля и Женя сделали спальню, вторая осталась столовой. Мы с Дау там завтракали, обедали и ужинали. Леля вела все хозяйство, выясняя отношения со своей домашней работницей. Дау только оплачивал тот счет, который ему предъявлял Женька. В этот счет входило половинное содержание домашней работницы, что особенно восхищало Женьку. «Как выгодно, как экономно жить вместе! При своем переезде в Москву я даже представить себе не мог, что у нас с Лелей будет так мало уходить на жизнь».
Привычку копить деньги Евгений Михайлович унаследовал от своего отца-медика. Когда сыновья подросли, их отец сказал так: «Раз «товарищи» уничтожили у нас, врачей, частную практику, сделав в Советском Союзе медицинскую помощь бесплатной, мои сыновья станут научными работниками». С большой гордостью об этом рассказывал сам Женька, восхищаясь прозорливостью своего отца. «Действительно, папа оказался прав, ведь самая высокая заработная плата у нас, у научных работников». И, как ни странно, младший сын медика Лившица Илья тоже вышел в физики.
— Ну, как, — говорил Дау, — Коруша, будем выселять Женьку?
— Нет, Дау, с Лелей легко ладить.
— Коруша, я очень рад. По-моему, ты даже к Женьке стала относиться лучше.
— Даунька, к его манере держаться привыкнуть трудно.
— Почему?
— Твой Женька без конца гладит то место в брюках, где застежка.
— Наверное, проверяет: застегнул ли он все пуговицы. {126}
— Это можно делать без многочисленных свидетелей. Потом он за столом все куски перетрогает руками, прежде чем выбрать себе.
— Согласен, Женька очень плохо воспитан.
Если Женька находился у нас наверху и вдруг слышал, что в кухне зашумело масло на сковородке, он стремительно бросался вниз с воплем: «Леля, Леля! Я сколько раз говорил: нельзя столько масла расходовать. Вот, смотри, я половину масла сливаю со сковородочки, и вполне достаточно. Леля, ты должна следить за домработницей, чтобы она не расходовала лишние продукты». Леля кричала снизу: «Дау, бога ради, забери Женьку из кухни, он мешает готовить обед».
Иногда перед ужином Женька продолжительное время сидит у нас наверху. Спускается вниз только когда Леля всех нас приглашает к ужину в столовую. Как правило, там уже всегда находится Рапопорт — Лелин научный руководитель: она в те годы была аспиранткой патолого-анатомической кафедры.
— Коруша, как тебе понравился Лелин шеф?
— Он никому не может понравиться. Он очень рыжий, еще и лопоухий.
— А Леле он очень нравится, ведь пока Женька находится у нас наверху, Леля внизу в это время отдается своему научному руководителю.
— Этого не может быть, он старый и очень, очень страшный. Он даже хуже Женьки!
— Коруша, у Женьки и Лели очень, очень культурный брак. Без ревности и без всяких предрассудков. Это я научил Женьку, как надо правильно жить. Он оказался способным учеником, только не по физике. Да, звезд с неба по физике Женьке не суждено доставать. Но жизнь тоже серьезная наука. Женька очень оценил мою теорию и с помощью Лели осуществил и экспериментально подтвердил мои теоретические выводы! В этой любовной троице только любовник и введен в заблуждение, а муж в большом выигрыше. Леля знакомит Женьку с усовершенствованиями, достигнутыми большим опытом ее шефа в делах любви. Все держится в большом секрете от шефа!
— И твой мерзкий Женька, вероятно, считает, что натянул нос любовнику своей жены? {127}
— Да, в какой-то степени это так и есть. Здесь в дураках сам любовник. Когда тебя не было в Москве, после ухода Рапопорта Леля рассказывала много интересного! Все интимные подробности.
— Дау, прекрати, я не хочу этого слышать. Это не любовь, это отвратительный секс. Леля так скромна на вид, так прилично выглядит. Раньше я только слыхала, что медички бывают очень развратны. Дау, все-таки твой Женька удивительно омерзителен!
Вскоре наедине Леля меня спросила: «Кора, как вам понравился мой научный руководитель? Я Дау разрешила сказать вам про мои интимные отношения с ним. Это знает даже Женя».
— Леля, неужели он может нравиться?
— Что вы, Кора, я безумно в него влюблена. Он неотразим. Звук его голоса приводит меня в трепет. Он пользуется очень большим успехом у женщин, все студентки нашей кафедры влюблены в него.
Когда наступил очередной ужин с Рапопортом, наверное, мои взгляды, которые он ловил, были красноречивы. Сощурив свои белесые глаза, окаймленные красными ресницами, он сказал: «Вот Коре я не смог бы понравиться как мужчина». — «Да, вы не той масти». Все рассмеялись. Искренне и весело смеялся и Лелин шеф. Дау о нем говорил: он замечательный человек и очень крупный специалист в своей области. Часто, очень часто Даунька шутил: «Яков Ильич, вот когда я умру, вы по всем правилам науки вскроете меня!».
Прошли годы. Прошли десятилетия. Дау был намного моложе Рапопорта. Первая фамилия протокола вскрытия тела Ландау: Рапопорт.
После окончания университета я получила диплом химика-органика. Устраиваться на работу решила по возможности ближе к месту жительства. Когда я уже оформилась и пришла на собеседование к своему шефу, он меня спросил:
— Вы кончали Харьковский университет?
— Да.
— А почему, переехав в Москву, вы решили работать у меня?
— Я живу рядом.
— О, святая наивность! — воскликнул он. {128}
Я не поняла, причем здесь наивность.
— Даунька, почему этот членкор так сказал?
— Неужели ты не понимаешь?
— Нет.
— Коруша, ты должна была ему ответить: ваши работы всемирно известны, как только я появилась на свет, у меня была одна мечта — работать под вашим руководством!
— Дау, я раньше о нем ничего не слыхала.
— Это не важно, в системе Академии наук очень любят лесть.
Вместе с Женькой и Лелей мы прожили около года. Женька съездил в Харьков, привез кое-что из своей харьковской мебели. Дау ему говорил: купи здесь новую. Он отвечал: «Дау, ты в этом ничего не понимаешь. Новая мебель плохая и дорогая, а перевезти из Харькова стоит гроши. Я не люблю тратить зря деньги».
Когда харьковская мебель пришла, через некоторое время испуганный вопль Дау разбудил меня ночью. «Коруша, смотри, это та самая порода лившицких харьковских клопов. Как они жалят! Посмотри, какие они огромные, а форма у них продолговатая. И убежать теперь от них невозможно!».
Еле дождавшись утра, Дау побежал в институт, пришли рабочие, вынесли Женьку с заклопленными харьковскими вещами. Капице было доложено о бедствии Ландау в связи с нашествием лившицких клопов из Харькова. Капица разрешил поселить Женьку в гостевой квартире. Вот так без малейшей интриги с моей стороны Женька был выселен.
Хозяйственный отдел института быстро организовал бригаду, и Женька вместе со своим скарбом был тщательно обработан во дворе института на виду у всех, прежде чем ему разрешили поселиться в гостевой квартире. Все испугались, нельзя было заклопить институт, выстроенный на английский манер! Потом Женька прибежал к Дау, отчаянно, визгливо рыдал: «Дау, как ты мог так меня опозорить в институте». — «Женька, ты меня прости, я не думал вызывать такой шум, просто я очень боюсь клопов, их не было даже в {129} тюрьме. Как ты и вся ваша семья их переносите? Вы что, привыкли к ним с рождения? Ты что, плачешь по своим потомственным клопам? Тебе жаль, что их уничтожили?».
В квартире я выжигала клопов газовой паяльной горелкой. Особенно их было много в лившицкой спальне.
— Даунька, а Женька упер с окон нашей квартиры рамы металлических сеток от мух, которые нам недавно сделали.
— Не может быть.
— Да, да, правда, пойди, проверь сам.
— Да, Женька не растерялся, сетки он упер. Я пойду к нему, скажу, чтобы он их вернул.
Вернувшись от Женьки, он сказал:
— Коруша, Женька обнаглел и нахально заявил, что он наши сетки от мух не вернет, так как ему такие сетки делать никто не будет, а мне по моей просьбе могут сделать еще раз. Корочка, мне пришлось с ним согласиться.
Когда я полностью привела квартиру в порядок, Дау решил пригласить свою маму. Она очень хотела познакомиться со мной. Я уговорила Дау устроить званый большой вечер человек на двадцать, нечто вроде нашей запоздалой свадьбы. Маму Дау я заочно уважала и даже преклонялась. Она дала жизнь такому человеку!
Тщательно готовила ей комнату.
— Коруша, ты что здесь все время усиленно трешь? Ты думаешь, мама это оценит? Она к бытовым мелочам безразлична.
Я знала, мама Дау была профессор, имела печатные труды, заведовала кафедрой, читала лекции студентам. Но когда она прожила у нас неделю, я была покорена. Так вот откуда у Дау это очарование, это обаяние. Нет, это был не профессор в преклонном возрасте, это была комсомолка, комсомолка 20-х годов. Так она воспринимала жизнь, такие передовые были у нее взгляды. Так она была молода не по возрасту, а по своей сути.
Свадебный подарок она не забыла привезти. Она подарила мне старинное столовое серебро. О таких {130} свадебных подарках я только читала в романах. Она была очень рада, что ее сын, наконец, женился.
— Дау, почему мама приехала одна? Твой папа заболел?
— Нет, он здоров. Я просто его не приглашал. Он зануда, он разводит скуку, я его не выношу!
Когда наступил наш первый званый вечер, стол был накрыт, Дау весь светился и сиял. В порыве восторга он обратился к маме: «Мама, ну, наконец, скажи правду. Может быть, я все-таки дитя любви? Неужели ты такому скучнейшему типу, как мой отец, ни разу не изменила? Я все-таки надеюсь: ты просто не хочешь признаваться. А на самом деле я есть «дитя любви».
Еще гостила у нас Любовь Вениаминовна, вдруг ночью меня как током подняло с постели. Неясная тревога. Тихонечко, приоткрыв дверь в спальню Дау, увидела — постель не смята и пуста, осмотрела всю квартиру — его нигде нет. Накинув легкий халат, понеслась в институт. Дау появляется спокойный, сияющий в дверях института, освещенный алой зарей встающего солнца.
— Ты почему не спишь? Что тебе здесь надо?
— Дау, ты вчера так и не лег спать? После ужина ты сказал: «Коруша, ложись, я на минутку зайду в библиотеку института».
— Коруша, но моя минутка несколько затянулась. Смотрю, уже светло, взошло солнце.
Его мама встретила нас на пороге.
— Что случилось, почему Кора плачет? (Видно, я ее разбудила, когда искала Дау по квартире.)
— Коруша плачет по глупости. Я с вечера засиделся в библиотеке, она перепугалась, решила, что меня украли!
После 1968 года ученики Ландау не раз писали, что Дау на семинарах, слушая их доклады, узнавал о новых работах зарубежных физиков. У Дау просто был ключ от библиотеки института. Нередко он проводил там долгие неурочные часы. Кроме того, зарубежные ученые присылали ему на домашний адрес свои новые работы еще до их публикации. {131}
Уложив Дау спать, я спустилась в кухню. Любовь Вениаминовна не спала, мы решили выпить чаю и очень хорошо, сердечно поговорили. Не знали мы, что это наш первый и последний разговор: вскоре она умерла. Удар случился на лекции, которую она читала студентам. Так красиво ушла из жизни мать Дау.
В то утро мы проговорили несколько часов. Она меня спросила:
— Кора, скажите, вы согласились стать женой Левы — вы согласны с его взглядами на брак?
— Что вы, с этим согласиться невозможно! С этим можно только примириться. Особенно сейчас. Его здоровье подорвано. Я так счастлива, что выселился Женька с женой, они очень любили соблюдать экономию. Прошло мало времени, а Дау уже так поправился. Мне удалось ликвидировать его фурункулез. В Харькове я читала курс лекций по пищевой химии и очень слежу за его питанием. Работаю я рядом, с утра готовлю обед и в перерыв прибегаю кормить его.
— Кора, почему вы не возьмете себе домашнюю работницу?
— Я с ними не умею обращаться, а потом я сама очень люблю домашнюю работу: заботиться о Дау, ухаживать за ним — это не работа, это большое наслаждение. Я так давно мечтала стать его женой и передать свои функции постороннему человеку не могу. Дау очень нравится, как я готовлю, он тоже считает, что без посторонних жить уютнее.
— Кора, Лева со мной очень откровенен. Он в вас влюблен с 1934 года. И пока все его любовницы существуют только теоретически?
— Да, пока это так. Когда он переехал в Москву, он стал меня «воспитывать». Я сначала взбунтовалась. Потом в этот страшный год я поняла, что бывают в жизни вещи пострашнее ревности и любовниц, особенно любовниц, существующих теоретически. Он более, чем другие, восприимчив к женской красоте, и это не порок!
«Колоссальная сила — любовь любимого». Не помню, где писал об этом Бальзак, но суть в том, что сила любви прямо пропорциональна значимости личности. {132} После смерти Дау его назвали гением. Сила его любви к женщинам была велика, а пока всех женщин олицетворяла я одна.
После выселения Женьки наше счастье стало поистине безоблачным. Дау по субботам решил устраивать нечто вроде вечеринок. Собиралось очень много интересных, веселых, остроумных людей. А Женька еще с харьковских времен усвоил привычку подшучивать над Дау, выставляя на смех его неловкости. Все эти подшучивания Женьки над Дау мне ужасно не нравились.
В одну из суббот он, выпив лишнего, здорово «перегнул палку» в своих паясничаниях. Проводив гостей, я бегом поднялась наверх: спешила выплеснуть свое негодование. Женька был с Дау. Подлетев к Женьке, я надавала ему звонких пощечин, приговаривая:
— Не сметь из Дау строить шута!
Даунька, улыбаясь, наблюдал эту сцену. Сдачи Женька мне дать боялся, он возопил:
— Дау, скажи, я ведь шутил! И Дау сказал:
— Кора права. Мне эти твои дурацкие шутки давно надоели. Теперь ты усвоил, надеюсь, больше они повторяться не будут?
Женька ушел. Я повисла на шее у Дау и разрыдалась:
— Даунька, ненаглядный мой, как он посмел так издеваться над тобой?
— Успокойся, Коруша, у тебя это очень красиво получилось. Я бы не догадался отучить его таким путем. А потом ты ошибаешься: я не «ненаглядный», я — наглядный, я — квантово-механический!
Как-то были у нас физики и математики. Все с восхищением говорили о сверхъестественной работоспособности Дау и о той счетной машине, которая находится {133} у него в мозгу. Тогда я впервые узнала, что Дау никогда в своих расчетах не пользуется ни логарифмической линейкой, ни таблицами логарифмов и никакими справочниками. Все эти сложнейшие математические расчеты он производит моментально сам. И я решила: те клетки мозга, которые у нас, смертных, занимают ревность, зависть, корысть, злобность и разные другие низменные черты характера, этих клеток у Дау нет, его мозг составляет мощная машина железной логики и еще счетно-математическая машина. Хорошо, что осталось место для клеток любви к женщинам, в том числе и ко мне.
— Даунька, посмотри, какой я тебе купила кожаный красивый портфель.
— Да, красивый, только он мне не нужен. Я в баню не хожу. Предпочитаю домашнюю ванну.
— Разве портфели нужны только для бани?
— А зачем они еще?
— Ты в МГУ читаешь лекции студентам, разве у тебя нет конспектов к лекциям?
— Конечно, нет. Никогда у меня нет никаких тезисов. У меня все в голове. Даже когда я на заседании Академии наук докладываю о своей новой работе, она у меня только в голове. Портфель — обременительная вещь, я никогда не пользуюсь «шпаргалками».
— Даунька, ты сегодня вечером свободен?
— У меня сегодня лекция докторам физико-математических наук.
— Но ведь на прошлой неделе ты мне сказал, что читаешь последнюю лекцию.
— Да, та лекция должна была быть последней. Но они меня так просили, они только начали кое-что понимать, материал оказался для них очень трудным, я согласился повторить цикл лекций.
— И этот трудный цикл лекций докторам наук ты тоже читаешь без шпаргалок?
— Ну конечно. Я просто хорошо знаю предмет, который читаю.
Как прекрасна была весна 1941 года, счастливая поpa {134} моей жизни. Пошел второй год, как я стала женой Дау. Он все так же в меня влюблен, все так же обещает, что скоро заведет новых любовниц, а сам не может отвести своих пламенных глаз от меня. Я таю в его объятиях, и кажется, что могу вся раствориться и улететь.
Сегодня выходной день, в который пришлось отменить утреннюю гимнастику. По выходным дням я должна крепко спать, пока не проснется Даунька. Он тихонечко начнет открывать дверь в мою спальню — сначала появится голова — убедившись, что сплю, весь засияет. Ему надо дать возможность разбудить меня поцелуем. Оказывается, это было его заветной мечтой много лет. Я живу в каком-то сказочном сне, как только выселился Женька со своей женой и домработницей. «Коруша, какой я был дурак, я не замечал, что они так нам мешают. В любви свидетели излишни. Какое счастье, что ты каждый день со мной. А женитьба мне принесла выгоды: ты теперь сама покупаешь себе цветы, сняла и эту заботу с меня».
Любовь. Дау. Москва. Я живу в Москве с Дау. И, наконец, я его жена. Все введенные Женькой экономии выброшены вон. В выходной день, пока Дау принимает ванну, я готовлю завтрак. Чашку шоколада к завтраку Дау приготовляла по науке, ведь я стала еще и кондитером. Столовая на первом этаже, огромное окно выходит во двор. Яркий солнечный день.
— Коруша, смотри, какие красавцы. Целых два офицера. Откуда эти военные взялись у нас в институте?
— Дау, это они меня вчера провожали из центра, когда я ехала к портнихе на примерку. В центре у меня была пересадка, и они меня проводили до самого порога моей Муси. На примерке я была больше часа. Вышла, а они не ушли. Опять безмолвно последовали за мной через всю Москву до самых ворот нашего института.
— «Безмолвно». Как тебе не стыдно! Почему сама не заговорила, почему не пригласила их к себе? Они действительно кого-то ищут.
Дау быстро выскочил на порог, подошел к военным, пригласил их, говоря: «А я знаю, кого вы ищете. Пойдемте, я вас с ней познакомлю». {135}
Смущенные офицеры представились. Дау очень гостеприимно усадил их завтракать. Очень весело поговорил с ними, а потом заявил, что у него срочная работа в библиотеке института на несколько часов и быстро смылся, оставив меня с моими «поклонниками». Яркость, доброжелательность, приветливость, искренность Дау, видно, поразили моих гостей. Они в один голос спросили:
— Кто это?
— Он же вам сказал, что он Дау.
— Этого мало.
— Он мой муж, физик.
— Ваш муж?
Оба как по команде вскочили, стали извиняться.
— Вы так молоды и уже замужем. А почему ваш муж сразу ушел?
— Он даже поставил нас в известность, что будет отсутствовать несколько часов, предоставив вам возможность флиртовать со мной.
Озадаченные и несколько испуганные гости стали пятиться к выходу. Видно, испугались какой-то западни. Я с удовольствием пошла их провожать. Остановка автобуса № 10 тогда была у наших ворот, но ходил он редко. Скованность прошла, на прощание они спросили:
— Вы со школьной скамьи и прямо замуж?
— О, нет. Сколько мне дадите лет?
— Восемнадцать.
— Беру с восхищением, — сказала я. Дау восторженно встретил меня.
— Какого ты выбрала? Надеюсь, ты назначила свидание?
— Даунька, у них, вероятно, были серьезные намерения. Как только узнали, что ты мой муж, они удрали.
— Коруша, ты все врешь! Ты должна заводить поклонников, должна флиртовать! Помни, «от белого хлеба и верной жены мы бледною немощью заражены».
— А ты, конечно, уже сбегал к Женьке и сообщил ему, что ко мне пришли целых два «Рапопорта». Нет, Даунька, тебе не придется отсиживаться у Женьки.
— Как? Ты не будешь заводить любовников? {136}
— А где твои обещанные любовницы?
— Коруша, я стараюсь, я ищу, но мне трудно найти. Ведь я чистейший красивист. Я в девках засиделся до 27 лет! Позор! Коруша, по-настоящему красивых женщин очень мало. Все время удивляюсь: как мне еще повезло с тобой. Главное, ты обладаешь поразительным свойством: с годами все время хорошеешь. Когда в течение года я вынужденно не видел тебя, при встрече ты превзошла все мои мечты. Я понял, почему у сказочных красавиц во лбу звезда горит: от тебя исходит сияние. Но я не лодырь, я ищу! Ада по-настоящему красива, Танька — стерва — тоже, но я явно не в их вкусе. Они отпадают. Еще я встречал очень хорошеньких официанточек, но они с большим презрением отвергали меня. Между прочим, я провел статистику: самый большой процент хорошеньких девушек среди официанток, но, увы, я им не импонирую. Женька обещал помочь, я с ним договорился так: если он меня познакомит с красивой особой, независимо, освою я ее или нет, он получает премию в 500 рублей.
— И он согласился?
— Он уже заработал 1500 рублей.
— Даунька, мягко выражаясь, твой друг оригинален.
— Корочка, но тебе ничего не стоит завести любовников. За тобой пойдет любой мужчина. Вот этот офицер синеглазый. Я в мужской красоте плохо разбираюсь, но Леля его видела в окно и сказала: «красавец».
— Дау, Петя тоже был красавец, а вот такой взбаламученный Даунька только один на всей планете! Мой наглядный, квантово-механический. Скажи, можно без любви заводить любовника?
— Нет, без любви нельзя.
— А вся моя любовь, вся моя влюбленность захвачены, как вихрем, тобой, на долю любовников не остается ничего!
— Так мало у тебя такого великого чувства? Хватает только на одного законного мужа? Это, Коруша, чушь! Было простительно, когда мы были любовниками. Я и сейчас до чертиков влюблен в тебя, но я очень хочу еще хотя бы одну любовницу. Послушаешь тебя, придешь просто в ужас. Что бы делали бедные мужчины, {137} если бы все жены были верными?! Но мужчины изменяют своим женам с чужими женами, этого не следует забывать! Ты помнишь мой любимый анекдот о женской логике: «Мне мой муж так изменяет, так изменяет, что я не знаю, от кого у меня дети!».
Воздушная легкость характера. Как с ним было легко! Даже упреки воспринимал с сияющей улыбкой.
— Дау, ты опять из ванны вышел мокрый, босой, испортил весь паркет, — говорила я, ликвидируя изящные следы его босой ноги. Кисти рук тоже были трогательно изящны. Все безгранично покоряло, в нем не было изъянов.
Его яркая личность озарила всю мою жизнь. Все освещалось его присутствием, его любовью. Но где-то таилась тревога: а вдруг за этот величайший источник счастья, неземной радости придется расплачиваться жесточайшими страданиями? Боги злы, завистливы и очень коварны!
Грянула Великая Отечественная война. В прекрасное его, в прекрасное утро грянул гром страшнейшей из войн. Институты Академии наук СССР имели броню. Секретарь парткома нашей партийной организации, где я работала, сказал мне: «Кора, у тебя сейчас одна очень серьезная партийная нагрузка — береги мужа. Ландау очень нужен нашей стране».
Значимость Дауньки меня поразила, но не оправдала. Моя совесть была нечиста. Правда, военной специальности у меня не было, мобилизации я не подлежала, но была молодость, было здоровье, была война, был фронт. Особенно, когда я встречала раненых, было очень стыдно. Но был еще и Дау. Опасность обострила любовь. Добровольно уйти на фронт, оставить Дау — это было выше моих сил. Я стала предательницей перед лицом моей комсомольской юности. Партийное поручение секретаря ревностно выполняла, особенно в {138} эвакуации в Казани. Выполняла еще много партийных поручений. Даже была зачислена в штат инструктором райкома партии в Казани в 1943 году, но мы уже уезжали в Москву, домой.
В 1943 году Дау получил свой первый орден «Знак Почета». Этой первой награде Родины во время войны Дау радовался более всех наград, полученных им потом. Счастлив он был тем, что его работы в военной области заслужили награду.
Сейчас, сопоставляя отдельные факты из казанской жизни, я думаю, что Дау имел какое-то отношение к созданию знаменитых «катюш». Он тогда много работал над техническими расчетами. Он молниеносно решал и исправлял военные математические задачи.
Осенью 1942 года в Казань из Харькова приехал Илья Лившиц, хотя их институт был эвакуирован в Алма-Ату. Вечером от Женьки Дау вернулся очень возбужденным:
— Коруша, какую массу золота я видел у Женьки! Первый раз видел золото царской чеканки. Продемонстрировав мне свое золото, Женька и Илья стали меня уговаривать сейчас под шумок пробираться к персидской границе, а когда немцы возьмут Волгу, перейти границу и пробираться в Америку. Золото-то поможет до Америки добраться.
— Дау, а причем здесь ты? Пусть бегут со своим золотом в Америку.
— Коруша, им необходимо мое имя в пути и особенно в Америке. Нет, ты не бойся, я никуда бежать не собираюсь, но я никак не мог доказать Лившицам, что немцы Волгу не перейдут и что Россию завоевать невозможно! Почему-то забывают историю. Армия Гитлера погибнет, как погибла армия Наполеона.
— Дау, а ты не посоветовал Женьке сдать свое золото в фонд победы?
— Коруша, мы победим без Женькиного золота, но про золото ты знать не должна. Я дал слово о золоте тебе не говорить. А главнейшее — я сейчас нужен стране, я ведь тоже работаю на Красную армию.
Об этом говорит еще и тот факт, что в 1945 году в докладах Академии наук появились три статьи Дау о детонации взрывных веществ. В справочниках наряду с {139} адресом Института физических проблем был еще адрес Инженерного комитета Красной армии.
Илья с семьей уехал в Алма-Ату, а Женька остался при Ландау. Уговаривать меня бежать в Америку Женька не решился. Когда же в 1943 году мы вернулись в Москву, опять пришлось поселиться в одной квартире с Женькой.
Учитывая ценность продуктов питания во время войны, Женька перестал мыть посуду после еды: он тщательно вылизывал языком все тарелки, ложки, вилки и даже сковородки, только не горячие.
Дау ему говорил: «Женька, как ты здорово лижешь! Твоя посуда совсем чистая». Такие эксцессы очень веселили Дау.
Рубашки Женька носил два срока. Когда воротник и манжеты становились грязными, он выворачивал и носил наизнанку, утверждая, что этим он удлиняет их жизнь, считая, что белье в основном изнашивается только в стирке. Чем реже стирать, тем оно дольше будет служить. Чем не Плюшкин?
Пайки по карточке у нас были более чем приличные. Женьку поразила разница твердых цен по карточкам и цен на черном рынке. Он решил обогатиться. Продавал все, даже мыло. Вскоре заработал чесотку. Ходил забинтованный, промасленный дегтем. Теперь ему уже мыться было нельзя. Я боялась, что он заразит Дау. Но, к счастью, вскоре из институтских квартир выселили всех временно проживавших. Даунька меня спросил: «Коруша, какую ты хочешь занять квартиру?» — «Дау, я мечтаю жить в квартире № 2. Дверь квартиры № 2 в нескольких шагах от входной двери в институт. А ты зимой бегаешь раздетый много раз в день». Мы заняли квартиру № 2. А Женьку отселили и, наконец, уже навсегда. От чесотки мы убереглись.
— Коруша, имей в виду, мой — верх, а ты занимаешь низ. Будем жить, как до войны. На разных половинах, война кончится, мы еще увидим небо в алмазах. Будем жить ярко, весело, интересно! Надо наверстать упущенное. Моя комната будет бывшая Женькина, там хороший стенной шкаф. Вторая большая комната наверху будет гостевая, а в маленькой балконной комнате наверху поставим телефон. В ней очень плотно {140} закрывается дверь, когда я буду разговаривать со своими девицами, ты не будешь слышать. И когда ты будешь разговаривать со своими поклонниками, можешь не опасаться, никто не услышит.
Высокие стены маленькой балконной комнаты, ставшей впоследствии библиотекой, слышали все интимные разговоры физиков нашего института. Все знали: только у Дау по телефону можно поговорить без свидетелей с другом, с женой, с подругой. Самым активным гостем был Аркадий Мигдал, а самым верным мужем — Яша Смородинский: он никогда не пользовался нашим телефоном. Дау очень гордился телефонной комнатой, особенно когда ею пользовались не члены нашей семьи.
С ремонтом я справилась одна. Побелить стены и потолок с добавлением синьки и охры было нетрудно. Но в комнате Дау надо было соорудить очень тяжелую, задергивающуюся шнурами штору, смягчающую шум с улицы. Дау всегда очень плохо спал. Во время эвакуации кому-то понадобились клыки над окном у Дау, на которые вешают шторы, и их вынули вместе с кирпичами. По моей просьбе слесарь института выковал два добротных костыля, и я вмуровала их в стену цементом с кирпичами.
Прошли годы, отгремела война. Лившицу дали верх первой квартиры, три комнаты. Ему понадобились клыки — повесить штору. Я готовила обед, слышу — наверху грохот. Я решила: вероятно, ремонтируют крышу. Но Дау зашел в кухню и сказал: «Коруша, там Женька наверху в моей комнате забирает свои гвозди, очень стучит, я позанимаюсь у тебя внизу». — «Так это он выколачивает мои клыки, их вынуть невозможно!».
Через несколько секунд я была в комнате Дау. Сорванная штора валялась на полу. Женька в ботинках на письменном столе Дау пытался выбить клыки принесенным молотком. Объясняться было некогда. Я столкнула его со стола, он упал. Увидев меня разъяренной, он на четвереньках быстро пополз к лестнице. При помощи ноги я помогла ему преодолеть спуск в один миг. Дау вышел на шум в коридор, Женька распластался у его ног. {141}
— Коруша, в чем дело?
— Твой Женечка ошибся, эти гвозди мои, я их заделала цементом и кирпичами после эвакуации, выбить их невозможно. Дау, как он посмел сорвать штору и учинить такое свинство?
— Женька, так эти гвозди не твои? Виноват ты. Проси прощения у Коры.
— Его извинения мне не нужны. Как ты можешь, Дау, терпеть эту тварь возле себя?
— Коруша, я согласен, Женька очень плохо воспитан. Я стараюсь его перевоспитать, но он бывает забавен. Ведь он по-настоящему терзается, когда ему нужно разменять рубль.
Когда я собралась родить, я оставила работу. Дау тоже очень хотел ребенка. Его нежность и заботы обо мне возросли. Он выяснил, что по этому профилю лучший врач страны — Сперанский, родственник Петра Леонидовича Капицы. Дау сам повел меня на прием к Сперанскому. Сперанский его успокоил: все в норме, ваша жена здорова, сложности и опасности исключаются. Он гарантировал, что у нас родится дочь.
— Даунька, дочку назовем Леночка.
— Я не возражаю. Но, Коруша, имей в виду, у нашей Леночки будет мой нос.
Когда я услышала слова: «У вас родился мальчик, посмотрите на него», меня захлестнуло счастье. Мальчик, мальчик! Такое гордое, такое безбрежное счастье я испытывала впервые. Впилась глазами в лицо малыша — крутой лоб и рот Дау. О таком счастье я даже не смела мечтать. «Доктор, а почему он так кричит?» — «Это самое лучшее, что он сейчас умеет». Я так хотела Леночку, почему же я так гордо затрепетала, когда сказали «мальчик»? Я стала более высокого мнения о самой себе!
Произошло это событие 14 июля 1946 года. {142}
— Коруша, как ты умудрилась родить сына в такой знаменательный день — вся Франция празднует эту дату!
Дау был горд и счастлив, он сам дал сыну имя Игорь.
— Коруша, а дома будем звать его Гарик.
— Даунька, а нос у нашего мальчика — мой.
— Все равно, Коруша, он у нас гибрид. Мы в разумном возрасте завели ребенка, все выдающиеся люди, по статистике, рождались от поздних браков или были младшими детьми в семье. Конечно, в большинстве случаев от довольно талантливых родителей. Коруша, возможно, ты родила гения! Я достаточно талантлив, чтобы быть отцом гения?
Дау не предполагал, что после смерти его именно так и назовут. Но у гениальных отцов, по статистике, гении не родятся, и у их сыновей, даже одаренных, очень трудная жизнь. Тогда я тоже этого не знала. Вся ушла в бытовые мелочи: пеленки, кормление сына. Когда мальчику исполнился месяц, я слегла от простуды. Болеть было некогда, белый стрептоцид не принимала: боялась испортить молоко. Через три дня все прошло.
А некоторое время спустя на ноге в области вены обнаружилось странное вздутие, безболезненное, и я не обратила на него внимания. На той же ноге, опять на вене, появилось еще одно безболезненное вздутие. Показала врачу: диагноз серьезный — послеродовой тромбофлебит. Лечения никакого, только строгий постельный режим. Если тромб оторвется — моментальная смерть. К счастью, приехала моя мама. Дау очень испугался, созвал всех знаменитых врачей ко мне. Пришли профессора медицины, возле моей кровати увидели младенца. Да, это послеродовой тромбофлебит. Абсолютный покой, лечения никакого. Но потом эти загадочные шарики выступили повсюду, уже не на венах, раздулись колени, ноги отекли, вся плевра легких покрылась эритематозными узлами. Оказалось, консилиум профессоров ошибся.
Выяснилось, что после ангины у меня возникло осложнение — системное заболевание — эритеманозозум, или узловой кожный ревматизм. Думаю, что если {143} бы я обратилась в простую районную поликлинику, мне бы дежурный врач прописал аспирин три раза в день, на пятый день я была бы совсем здорова. А так я в течение года не могла ходить. Потом два раза в год Мацеста. Я кое-как встала на ноги. Но навсегда запомнила: медицина несовершенна. Врачам надо верить с опаской и не всегда.
Когда волею судеб трагедия дорожного происшествия с Дау ворвалась в мою жизнь и столкнула с профессорами медицины, мне было трудно найти с ними контакт, я им очень мало верила, сомнения терзали меня, но с этим никто не считался, ни медики, ни физики. Я оказалась права: так произойдет, что именно тромбофлебит после насильственной выписки Дау из больницы (как я протестовала!) станет причиной рокового исхода.
После войны жизнь набирала темпы. Все наслаждались обретенными миром и трудом. Послеродовой тромбофлебит приковал меня к постели. Узлы кожного ревматизма спустились в коленные суставы.
Как-то вечером Дау вошел ко мне в спальню, торжественный, сияющий:
— Коруша, можешь меня поздравить с избранием в академики!
— Но ты не был членом-корреспондентом?
— И тем не менее я уже академик. Сейчас Абуша Алиханов мне сообщил интересные подробности. Перед голосованием за мою кандидатуру выступил сам президент Академии С.И.Вавилов. Он сказал: «Я не знаю, как остальным физикам-академикам, но лично мне стыдно, что я академик, а Ландау нет!». Еще, Коруша, мне очень приятно было услышать, что за меня при тайном голосовании проголосовали все сто процентов. Я избран единогласно, а это не очень часто бывает. {144}
Приняв шутливую театральную позу, он произнес: «Вот какой у тебя муж!».
И я вспомнила, как еще далеко до рождения Гарика Даунька с радостью сообщил мне:
— Коруша, ученый совет нашего института выдвинул меня в членкоры Академии наук.
— И ты согласился?
— Да, конечно.
— А если я не хочу, чтобы ты был членом-корреспондентом?
— Это почему?
— А хотя бы потому, что я выходила замуж за самого благородного профессора в нашей стране!
— Верно, из профессоров я самый благородный!
— Понимаешь, Даунька, я выросла в провинции, и в моем простом понимании профессор это очень много, а самый благородный профессор во всем Советском Союзе — мой муж! Дау, пойми, я говорю серьезно, очень серьезно. Ты — моя гордость. А что такое член-корреспондент Академии наук СССР? Во-первых, это очень длинный титул, но, главное, я не понимаю, что он значит. У нас в институте вечный членкор Дерягин. Но ведь тебя и Дерягина разве можно поставить в один ряд?!
— Коруша, что ты, конечно, нет! Но учти, членкор это три тысячи к зарплате.
— Нет, нет, нет! Я не хочу. Пойди и откажись.
— Коруша, ты это серьезно?
— Да, Даунька, наглядный, квантово-механический! Очень, очень прошу, пойди откажись.
Я была счастлива, когда Даунька отказался от членкорства. Я опасалась: высокие звания слишком ценит слабый пол, а Даунька слишком ценит красоту слабого пола. В те времена Дау ни в чем мне не отказывал. А сейчас он мне сообщил, что он академик. Радости я не почувствовала. Впервые я испытала страх его потерять. Кругом столько молодых, красивых девушек, а у меня болезнь — мои ноги не ходят. Кожные эритемные узлы поразили мои коленные суставы. Что поделаешь! Так лечат именитые профессора.
— Коруша, ты совсем не радуешься, что я пролез в академики? {145}
— Зайка, милый, у меня так болят ноги, — сказала я вслух. А про себя подумала: «Вот, вот, только этого мне сейчас и не хватало. Красивые девушки так падки на академиков, а я? Я уже не Юнона!».
Дау много работал, был очень весел, очень жизнерадостен, часто забегал ко мне, без конца наклонялся над сыном. Клацкая зубами, говорил:
— Я сейчас его съем, он очень круглый, очень аппетитный и, наверное, очень вкусный. Коруша, ты только посмотри, он сосет на ноге большой палец. Ужас, Коруша, ведь он сломал палец, у него сгибается большой пальчик там, где нет сустава.
— Как нет? Ну, Дау, ты меня пугаешь, нормальный пальчик, нормально сгибается.
— Что ты, Коруша, вот посмотри!
Дау быстро сел на пол, снял туфлю и носок и, действительно, большой палец на ноге Дау сгибался только в ногтевом суставе.
— Даунька, так это у тебя патология.
Я продемонстрировала, как работают суставы большого пальца на ноге у меня. Дау был очень удивлен.
А медики в своем диагнозе приписали этот врожденный, ничего не значащий физический недостаток параличу каких-то мозговых центров. Недоумение профессоров, обнаруживших это явление, фотокорреспонденты зафиксировали на снимке, который свидетельствует о том, какое важное значение придали этому явлению медики. Неудивительно, что младенческая кроватка у моей постели дала возможность медикам наградить меня послеродовым тромбофлебитом.
С прибавкой в весе, на отечных ногах я пробовала ходить, было нестерпимо больно. Физическую боль преодолеть можно, но как преодолеть ту внутреннюю неистовую щемящую боль в сердце, которая вызвана ревностью. Я все время твердила себе: я не имею права ревновать, особенно сейчас, когда заболела, разжирела! А Даунька все тот же: легок, изящен, беспредельно жизнерадостен. Он имеет полное право любоваться красотой молодых, здоровых женщин. А как он может восхищаться и любить прекрасное молодое женское тело — это я знаю! {146}
Он стал систематически один раз, реже — два раза в неделю тщательно одеваться с помощью Женьки. В этих случаях командовал Женька: «Нет, Дау, к этому галстуку только осел может надеть такие носки. Надень вот эти, а эта рубашка подойдет к тому костюму».
Уходя, Дау нежно целовал меня, говоря: «Корочка, я сегодня ужинаю не дома, вернусь, вероятно, поздно». А в огненных глазах ясность и безупречная чистота человеческой души и сиянья луч, тот самый, который покорил меня, когда я впервые заглянула ему в глаза. Ему и в голову не могло прийти, что эти пять-шесть часов его отсутствия превращаются для меня в мучительные, бесконечно длинные часы пыток. Он совсем не знал, что такое ревность. Работал он напряженно, много и целеустремленно! Но мозг должен отдыхать, он не пил, не курил, не был гурманом, был абсолютно равнодушен к роскоши. Был только властно захвачен проблемами науки, еще не разгаданных тайн природы, ведь он первооткрыватель!
А вся красота природы для него сливалась в образ прелестной женской красоты! Тем полноценней отдых, тем плодотворней труд! Я поднялась до понимания этого, но как с этим смириться? Был сын — это ли не богатство? Да, это счастье, а слезы текли очень горькие. Этих слез он не видел, очень трудно было скрывать приступы преступной ревности, необходимо скорее выздоравливать и вернуть себе прежнюю форму.
Гимнастика, лежа на спине — 40 минут, лежа на животе — 20 минут, жесткий самомассаж 1 час, горячие ванны два раза в день, тяжелая погоня за красотой и молодостью! Что поделаешь, если у тебя такой незаурядный муж.
Стала искренне все оправдывать величием его души, открытым благородством, его пылкой натурой, без страсти не бывать гениальности!
Дау был прав: ревность — это злобная жестокость, зависть и мстительность без предела, ревность была в противоречии с «Брачным пактом о ненападении». Личная свобода настоящего человека начинается у себя дома!
Все, что веками приписывалось сердцу, находится в {147} голове, ум, постигающий действительность, требует абсолютной свободы!
Дау есть настоящий сын природы, она наделила его гениальным мышлением, только гений видит невидимое и может осязать еще не существующее!
Как-то, еще в харьковские времена, я прочла в газете «Известия» небольшую заметку о том, что Л.Д.Ландау предсказал что-то о нейтронной звезде, эту его новую теорию в астрономической науке назвали «изящной работой».
При встрече я упомянула эту заметку, лично меня поразило, что о Дау пишут в центральной прессе. «Корочка, я не астроном, это незначительная моя работа, только годы могут указать на ее ценность». Прошли десятилетия, и в 1983 году в «Неделе» № 8 опубликована статья
ОТ НЕЙТРОНА К НЕЙТРОННОЙ ЗВЕЗДЕ
Я.Зельдович, академик, трижды Герой Социалистического Труда
И.Халатников, член-корреспондент АН СССР, директор Института теоретической физики имени Л.Д.Ландау
В этом году мы отмечаем семьдесят пять лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий, лауреата Нобелевской премии, академика Льва Давидовича Ландау. Это был человек необычайно насыщенной и яркой судьбы.
В двадцать лет — мировое признание.
В пятьдесят четыре года Ландау попал в тяжелейшую автомобильную катастрофу, борьба за его жизнь стала примером солидарности ученых всего мира.
В шестьдесят лет его не стало... Однако сегодня мы еще и еще раз убеждаемся, сколь велик его вклад в современную науку: от физики твердого тела до астрономии. Остается непревзойденным задуманный и вдохновленный им «Курс теоретической физики», переведенный почти на все языки мира. Активно действует созданная им научная школа. Идеи Ландау живут и развиваются. Один из примеров тому — нейтронные звезды. {148}
Человеку, далекому от физики, порой трудно представить, сколь фантастична и сколь неразрывна связь микро- и макромира — мира элементарных частиц и мира Вселенной. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что открытие таких фундаментальных положений, как скорость света и закон всемирного тяготения, было основано на астрономических исследованиях Солнечной системы!
Поэтому неудивительно, что, когда пятьдесят лет назад учеником Резерфорда Дж. Чедвиком был открыт нейтрон, это произвело настоящую революцию в астрономии. Однако не будем торопиться...
Итак, было известно, что при облучении бериллия альфа-частицами радия получается излучение со странными свойствами, которое легко проходит через свинец и вызывает сильную ионизацию в водороде. В 1932 году удалось доказать, что оно состоит из нейтральных частиц с массой приблизительно такой же, как и масса атома водорода...
...Сохранился рассказ о том, как молодой (24 года) Лев Ландау, находившийся тогда в Дании у Нильса Бора, уже в день получения известия об открытии нейтрона сделал вывод о существовании нейтронных звезд. Представьте себе Солнце, сжатое до размеров в 12—30 километров, Солнце, в котором почти все вещество превратилось в нейтроны, — это и есть нейтронная звезда.
На чем же основано замечательное предсказание? В 1932 году теория электронов уже была достаточно хорошо разработана. Ученые знали, что электроны могут двигаться с большими скоростями даже в том случае, когда температура низка. Если в каком-то объеме два электрона находятся в состоянии покоя, то уже следующая пара обязана двигаться с определенной энергией, следующая за ней — с еще большей энергией и так далее. Короче, две пары не могут находиться в одинаковом состоянии — это фундаментальное свойство электронов, так называемый принцип запрета. Отсюда важнейшее следствие: в сжатом веществе обязательно должны присутствовать электроны с высокими энергиями. Если одну тонну вещества сжать в объем, равный одному кубическому сантиметру, то энергия электронов {149} станет настолько большой, что их масса удвоится. Однако для этого понадобится давление в миллиард атмосфер.
В земных условиях подобное невозможно. Только звезда, такая, как Солнце, может после исчерпания ядерной энергии остыть и сжаться до размеров Земли. Но это еще не нейтронная звезда, а лишь первый шаг на пути к ней. Такова теория звезд-карликов, которую независимо развили Л.Д.Ландау и американский астрофизик С.Чандрасекар.
В февральский вечер 1932 года Ландау пошел дальше. Он поставил вопрос о том, что произойдет со звездой тяжелее солнца. Простой ответ: вещество сожмется еще сильнее, энергия электронов еще увеличится. Принципиально новая идея Ландау состояла в том, что следствием этого обязательно должно быть еще и превращение обычного вещества в нейтроны. Таким образом на последнем этапе эволюции должны рождаться нейтронные звезды. При массе больше массы Солнца плотность вещества такой звезды достигает сотен миллионов тонн в кубическом сантиметре.
Более того, превращение обычной звезды в нейтронную, то есть сильнейшее сжатие звезды, согласно теории, сопровождается выделением огромнейшей энергии и сбрасыванием внешней оболочки звезды, другими словами — взрывом. Именно так теперь объясняется появление «сверхновых» звезд, которые иногда — несколько раз за тысячу лет — вспыхивают так ярко, что видны даже на дневном небе. Упоминание об этом встречается в древних летописях.
Долгое время казалось, что вскоре после своего бурного рождения нейтронная звезда должна остыть и превратиться в мертвое тело, не представляющее интереса для астронома-наблюдателя. Положение изменилось лишь в начале шестидесятых годов, когда советские теоретики начали целеустремленный поиск методов обнаружения сверхплотных небесных тел, и в частности нейтронных звезд.
Самый простой, но ненадежный способ — обнаружить и следить за движением обычной звезды, рядом с которой находится сверхплотная. Можно, конечно, определить массу второй звезды, но трудно доказать, что {150} она действительно сверхплотная. Но есть и другая идея. Нейтронная звезда после своего образования еще настолько горяча (температура поверхности достигает миллионов градусов), что должна обязательно испускать рентгеновские лучи. Однако она остывает быстро, за несколько месяцев, и становится невидимой. Значит, надо искать такое излучение или сигналы, которые продолжались бы многие тысячи лет.
В 1967 году были открыты пульсаторы — своеобразные источники пульсирующего, периодически меняющегося радиоизлучения. Сейчас можно утверждать: пульсары — это не что иное, как нейтронные звезды. Так подтвердилось блестящее предсказание Ландау. Однако, как часто это бывает в науке, задача постепенно обрастала все новыми и новыми сложностями. Например, поначалу думали, что нейтронная звезда — некий «спокойный», то есть невращающийся шар, который к тому же и не имеет магнитного поля. А ведь оказалось, именно эти два ее свойства, написанные нами с частицей «не», ответственны за радиоизлучение, которое удается наблюдать.
Так появился вопрос: почему нейтронная звезда быстро вращается и почему ее магнитное поле велико? Ответ заключен все в той же причине ее рождения — сжатии обычной звезды. А увеличение угловой скорости вращения при сжатии — хорошо известное явление, которым, кстати, часто пользуются балерины и фигуристы, прижимая руки к телу. Аналогичный закон имеет место для магнитного поля. При сжатии магнитное поле возрастает в той же пропорции, что и угловая скорость вращения, и возникает поле, в миллион миллионов раз больше поля Земли и Солнца.
При быстром вращении и при наличии магнитного поля электроны разгоняются до чудовищной энергии и вступают в действие особые свойства сверхсильного магнитного поля: заряженные частицы испускают фотоны — кванты электромагнитного излучения, те в свою очередь рождают пары электронов и позитронов. Именно их колебания и дают то направленное радиоизлучение, которое воспринимается антеннами астрономов. Теряя энергию вращения, пульсар, естественно, постепенно замедляется. Но внутри {151} пульсара находится сверхтекучая нейтронная жидкость, которая не сразу воспринимает изменения в скорости вращения. Поэтому при анализе этих явлений понадобилась теория сверхтекучести — замечательного свойства квантовых жидкостей, теоретически исследованного Л.Д.Ландау.
Еще через несколько лет был обнаружен новый тип пульсаров — рентгеновские. Их можно было наблюдать только с помощью аппаратуры, выведенной в ближний космос (рентгеновское излучение поглощается атмосферой). Эти пульсары испускают рентгеновские лучи, и общий поток энергии от каждого такого объекта в сотни тысяч раз больше излучаемой Солнцем. Откуда же они черпают энергию? Оказывается, такие пульсары входят в состав двойных систем, то есть находятся рядом с обычными звездами. Нейтронная звезда перехватывает газ, истекающий с поверхности соседствующей нормальной звезды. Под действием тяготения газ ускоряется, нагревается и выделяет огромную энергию как раз в виде рентгеновского излучения. Процесс этот был предсказан теоретиками еще до открытия пульсаров.
И тут мы вновь должны обратиться к работам Ландау: в теории рентгеновских пульсаров важнейшую роль играет квантование движения электронов в магнитном поле, предсказанное Ландау. Именно путем наблюдения так называемых уровней Ландау в спектре рентгеновского излучения удалось определить величину магнитного поля пульсаров.
Прошло более пятидесяти лет с того дня, когда Ландау сделал первое предсказание о существовании нейтронных звезд. Многолетние усилия ученых подтвердили эту гипотезу, изменив тем самым лицо современной астрономии. Революционны были и многие другие работы Ландау. И потому сейчас, с высоты настоящего, нам особенно отчетливо виден научный подвиг Льва Давидовича.
К сожалению, его нет с нами... Но для нас он навсегда останется нашим учителем, примером преданного и плодотворного служения науке».
| {152} |
— Коруша, сегодня в Химфизике, по соседству, праздничный вечер. Хочешь, вместе пойдем. Только имей в виду, я буду бегать, искать хорошеньких девиц. А ты должна искать себе поклонников.
— Нет, Дау, иди один, бегай за девицами, а я с удовольствием натру полы в квартире.
Когда я кончила натирку паркета в передней, Дау вернулся с вечера.
— Ты что так рано? Там бал, вероятно, в самом разгаре?
— Да, Коруша, но ни одной хорошенькой девицы!
Как-то с очередной вылазки на «охоту» Дау вернулся очень расстроенный: погасла улыбка, а в глазах — отчаяние. Шуба нараспашку, кашне волочит по полу.
— Даунька, что случилось?
— Коруша, ужас! Я обхамил девушку.
— Ты? Дау, этого не может быть! — подавляя восторг, сказала я.
— Представь себе, очень миловидная девушка. Фасон платья много обещал и так культурно прижималась, полез за пазуху — и ничего нет. Не то что мало, а просто ноль. Ну я от нее, как от лягушки, удрал, не попрощавшись даже. А сейчас угрызаюсь! Здорово Сологуб написал об Ахматовой:
Любовь к пленительной Ахматовой
Всегда кончается тоской,
Как ни люби, как ни обхватывай,
Доска останется доской!
Но главное, Коруша, когда эти строки дошли до Ахматовой, она наивно удивилась, сказав: «Откуда он это знает?».
Гарику три года. В подарок от правительства мы получили роскошную дачу под Москвой в звенигородских лесах, в два этажа о шести комнатах. Со всеми удобствами и даже с центральным отоплением, как в Москве.
Собираясь жить на даче с Гариком, мама мне сказала: {153}
— Кора, дача большая, а Гарик маленький. Я одна не справлюсь, мне нужна помощница.
— Хорошо, мама, я буду искать няню для Гарика.
— Кора, я ее нашла. Лена, домработница Лившицев, очень просит взять ее, такая хорошая девушка. У Лившицев ей очень плохо, спит на полу в кухне, а потом ей уже 18 лет, а Елена Константиновна ей не дает выходных, оберегает ее нравственность, не пускает вечерами в кино.
— Мама, это неудобно — переманивать домашнюю работницу только на том основании, что у нас у нее будет отдельная комната.
— Кора, я уже спросила у Дау, он сказал, что если девушке не нравится жить у Лившицев, она имеет полное право распоряжаться своей судьбой.
Я спросила у Дау:
— Дау, ты считаешь, что можно у Лившицев сманить их Леночку?
— Коруша, естественно, если сама Леночка этого хочет! Она не обязана заботиться о благополучии Лившицев, если они не могут создать ей приличных условий для жизни.
Так Леночка поселилась у нас. Однажды утром она, рыдая, вбегает ко мне в комнату: «О, простите, простите меня, ради бога, я больше никогда не буду забывать вынимать газету из почтового ящика и класть у дверей Льва Давидовича».
— Леночка, что с тобой? Да ты успокойся.
— Как же успокоиться, когда Лев Давидович спустился вниз и вынул газету из почтового ящика сам.
— Леночка, но он это проделывает каждое утро. Мне непонятно, почему это тебя так взволновало?
— Меня Елена Константиновна учила, что Евгений Михайлович очень важный профессор. Когда он проснется, газета должна быть у его двери. А когда я забывала вынимать газету для Евгения Михайловича, она очень сердилась: если ты еще раз забудешь вынуть газету для профессора, я тебя выгоню. А ведь Лев Давидович — академик, он поважнее Евгения Михайловича, а я забыла достать для него газету.
— Леночка, запомни одно: газету достает тот, кому она нужна. Ты ведь ее не читаешь? {154}
— Нет.
— Так зачем же ты будешь о ней помнить?
Леночку мы поселили в маленькой балконной комнате, а телефон перенесли в кабинет Дау. Леночка вечерами и в выходные дни стала свободной, у нее появились поклонники. Вдруг как-то днем Дау стремглав сбежал с лестницы:
— Коруша, где Леночка?
— Она в парке, гуляет с Гариком.
Дау, не дослушав меня, что есть мочи пустился бежать в парк. Я следом за ним. Через некоторое время мне навстречу бежала Леночка. Дау я нашла в парке. Он шел с Гариком.
— Дау, объясни, что случилось?
Его глаза сияли:
— Коруша, Леночку позвал к телефону ее мальчик!
Я забрала у него Гарика, примерно через час пришла мама. Гарика я оставила на маму, вернулась домой. Дау сидел на ступеньках нашей лестницы, а Леночка беседовала со своим мальчиком по телефону в кабинете Дау.
— Дау, это Лена воркует по телефону со своим мальчиком целый час?
— Нет, Коруша, только сорок минут, — сказал он, посмотрев на часы и сияя улыбкой.
— Дау, может быть, ей напомнить о времени?
— Что ты! Как можно! А вдруг это первая любовь?
Это действительно оказалась первая любовь, за этого Ванечку Лена впоследствии вышла замуж.
Однажды после обеда Гарик и бабушка спали у себя наверху. Я неосторожно попросила Леночку помыть в кухне пол, меня засек Дау. Он сейчас же с лестницы позвал меня строгим голосом к себе наверх, плотно закрыл дверь, с упреком сказал мне: «Коруша, я от тебя этого не ожидал. Девушка сидит, читает «Анну Каренину», а ты к ней пристаешь с каким-то полом. Побойся бога. Чистота в квартире нужна в основном тебе: ты и убирай!».
Я и убирала: помыв все шесть трехметровых окна в нашей квартире, я попросила домашнюю работницу вымыть одно окно, самое маленькое, в кухне. Опять проявила неосторожность. Дау опять вызвал меня наверх. {155} Я подверглась более сильной проработке: «Коруша, как ты можешь так издеваться над девушкой? Мыть окна — это очень трудно, а потом эта работа не имеет никакого смысла. Ты моешь свои окна и от этого получаешь моральное удовлетворение. Ты дошла даже до такого абсурда, что вытираешь пыль под кроватью, а она никому там не мешает, но ты все это проделываешь для собственного удовольствия. Но над посторонним человеком ты не должна издеваться». Я мыла в кухне пол, а Леночка только поджимала ноги, не отрываясь от «Анны Карениной». Хорошо, что «Войну и мир» она начала читать уже на даче.
Возвращаясь из Крыма, заехала сестра Дау Соня со своим мужем Зигушем. Соня работала, отпуск кончался. Мы все вместе поехали повидать Гарика на дачу. Соня и Зигуш от дачи пришли в неописуемый восторг. День выдался великолепный, яркий, солнечный, гуляли в лесу. Мама обильно и вкусно кормила. А вечером, возвращаясь в машине в Москву, Зигуш и Соня решили, что на следующее лето они всей семьей приедут отдыхать к нам на дачу. Но Дау сказал: «Ни в коем случае. Я вам не разрешу этого сделать!».
— Почему? — спросила Соня.
— Я вам достаточно даю денег, пользуйтесь курортами, там тоже неплохо. А обижать Татьяну Ивановну не дам, представляю, как расстроилась бы бедная старушка, если бы вы все нагрянули к ней на дачу, да еще на все лето.
Я вела машину, не включаясь в разговор. Вспомнила, как только бабушка с Гариком обосновались на даче, а Женька уже тут как тут и, как всегда, стал действовать через Дау.
— Коруша, скажи, в какие дни ты возишь продукты на дачу?
— В пятницу и во вторник.
— Понимаешь, Коруша, Женька меня очень просит одну комнату на даче. Он будет ездить два раза в неделю со своей Зиночкой, любовь в машине стала опасной. Он мне рассказывал: как-то в лесу к его машине подошел милиционер и попросил предъявить права. К счастью, Женька был уже в брюках. Он просит субботу и четверг. {156}
— Как? Свой танец любви систематически, регулярно и навек твой Женька хочет исполнять на нашей даче? Даунька, а не слишком ли жирно будет для их семьи? Зигуш с Лелей у нас в квартире, а теперь Женька и Горобец обоснуются на нашей даче?
— Коруша, в твоем голосе чувствуется злобное шипение змеи. Почему человеку не сделать добро? Даже не в ущерб себе. Сама ты на даче бываешь два дня в неделю. Там шесть комнат, а постоянно живут только три человека. Кому может помешать приезд Женьки и с Зиночкой на два-три часа раза два в неделю? Я говорил с твоей мамой. Она не возражает. Причем в ее голосе я совсем не почувствовал злобности. Почему не подарить людям счастье?
— Потому, что мне просто отвратительна эта белобрысая гусыня с птичьими глазами. И твой слизняк Женька!
— Коруша, если ты сейчас же не попросишь прощения за свою бестактность влезать в чужие дела, штраф пятьсот рублей. Высчитаю из очередной зарплаты.
— Не попрошу и еще добавлю: твой гнусный Женька и любовь несовместимы!
— Коруша, штраф 100 рублей. Если через пять минут не придешь просить прощения, штраф в тысячу рублей высчитаю из очередного гонорара за мои книги.
Штраф был высчитан полностью. Но избавить дачу от Женьки я не смогла. Мне по «злобности» только удалось его субботу перенести на понедельник. В понедельник и четверг Евгений Михайлович Лившиц исполнял свой любовный танец у нас на даче в Мозжинке не один год.
— Даунька, представь себе: Леля выгнала Женькину Зиночку, когда та нанесла ей очередной визит.
— Да, об этой наглости мне Женька рассказал. Вот у Лели тоже много злобности. Как мило Женька встречает Зигуша и остальных Лелиных мальчиков, ведь когда Леля решила освоить Витю, чтобы скрасить его одиночество, Женька помог Леле. Витя пробовал сопротивляться. Но Женька ему сказал, что он почтет за честь уступить ему свое брачное ложе. Этим проявлением дружбы Витя воспользовался и очень высоко оценил {157} Женькин поступок. С тех пор он стоит за Женьку горой, считая его своим самым близким другом!
— Как «побратался» твой Женька с Витей, мне Леля рассказала. Все эти интрижки умиления во мне не вызывают, а действующие лица скорее анекдотичны, это не герои романов!
— Коруша, а я тоже анекдотичен?
— Нет, ты герой романа! Ты романтик! У тебя такая же мятущаяся душа, как и у твоего любимого поэта Лермонтова. Твой любимый художник Рембрандт. Это ли не совершенство вкуса!
— Ты, Коруша, не подлизывайся, твои грехи я простил! Но не забыл. Как ты могла нанести мне такой предательский удар ножом в спину! Исподтишка! Как враг!
— Даунька, если простил, не пили, умоляю!
— Корочка, я так боюсь, а вдруг ты опять сорвешься.
— Нет, клянусь, этого теперь не может случиться, у меня есть Гарик. Лишить сына такого отца невозможно. Даунька, ни в руках, ни в сердце у меня нет больше предательского ножа против тебя!
А случилось вот что. Весной, еще в 1946 году, когда я ждала Леночку, моя мама еще не приехала, а Зигуш временно пребывал в Ленинграде.
Даунька влетел в мою комнату, крепко обнял меня, звонко поцеловал в нос, объявил: «Корочка, я к тебе с очень приятной вестью, сегодня вечером в двадцать один час я вернусь не один, ко мне придет отдаваться девушка! Я ей сказал, что ты на даче, сиди тихонечко, как мышка в норке, или уйди. Встречаться вы не должны. Это ее может спугнуть!Пожалуйста, положи в мой стенной шкаф свежее постельное белье».
Объятия крепкие и очень нежные разомкнулись, и Даунька исчез. Я не упала только потому, что окаменела.
Непреодолимое, жгучее, болезненное любопытство охватило меня, вместе со свежим постельным бельем в стенном шкафу осталась и я.
Трепет, боль и бешеный стук сердца были так сильны, а ожидание запретного, в каковое я посмела {158} вторгнуться, слились в мощный поток нездорового любопытства — преодолеть его было немыслимо!
Вдруг он ей скажет те самые слова, что говорил мне?
Но слова были другие, говорил не он, щебетала она, ее слова не имели смысла.
Очень скоро понадобилось постельное белье.
Дау открыл шкаф, из шкафа вышла я, молча, гордо подняв голову: он ей не говорил слов любви!
Я ушла из дома. Долго бродила по Воробьевке. Итак, я нарушила наш брачный пакт о ненападении. Жалела? Нет! Бродила по Воробьевке и думала, что не вернусь к Дау, уйду навсегда из этого, ставшего не моим, домом.
Вернулась очень поздно. Из гущи цветущей сирени наблюдала за окнами квартиры. Наверху горел свет, вышел Женька, видимо, Дау призвал его на помощь для очередных советов. Напрасно! Расплачиваться буду я одна!
Все окна нашего дома давно погасли. Уснул «капичник». Вероятно, очень поздно. Наконец, наверху у Дау погас свет. Теперь я могла войти в квартиру, взять самое необходимое и уехать в Харьков. Подальше от Академии наук. Как много «Лившицев» в этой системе и какая здоровая обстановка на производстве. Там настоящие люди.
Босиком, неслышно пробралась в квартиру. Хорошо, что мои комнаты внизу, лестница наверх так скрипит! Только бы его не увидеть! Пока укладывала чемодан, стало совсем светло, вдруг до боли застучало сердце: вошел он. Босой, в ночной рубашке. Ниже склонилась, застегивая чемодан. Нет, не могу встретить его взгляд, говорить не о чем, я в силах перечеркнуть все! Но только, только без объяснений! Стараюсь игнорировать его приход. Спокойно, замедленным движением ставлю закрытый чемодан.
Заговорил он:
— Вижу, закусила удила всерьез? Ты куда собралась?
— У меня свои планы.
— А ребенок?
— Он уедет со мной.
— Ты не просишь прощения? {159}
— Разве можно такое простить?
— А ты попробуй, черт возьми! Человек, совершивший бестактность, должен просить прощения!
— Даунька, я сама себе это простить не могу! Неудержимым потоком беззвучно хлынули слезы.
Заключив меня в объятия, он сказал:
— Глупенькая ты моя дурочка, ты самая драгоценная, я не могу тебя разлюбить! Когда ты, наконец, поймешь, что ты для меня значишь! Скажи, что подобное никогда не повторится!
— Даунька, это не может повториться: второй раз пережить такое нельзя! Немыслимо!
— Ты противоречишь здравому смыслу. Я уверен, ты меня любишь, в моих объятиях ты вся трепещешь, ты мне ничего не жалеешь, все лучшее подсовываешь только мне! И вдруг ты пожалела для меня какую-то чужую, совсем тебе не нужную девушку. Где логика? Ведь ты не можешь желать мне зла, если я стал преуспевать у девушек, ты должна радоваться моим радостям, моим успехам! Я так боялся жениться. Я, вероятно, плохой муж, но врать, что-то придумывать я не умею и не хочу, пойми, это просто омерзительно! Я ничего дурного не делаю, у меня нормальное влечение к красивым женщинам, не в ущерб тебе, в тебя я влюблен навек, я полностью принадлежал только тебе целых двенадцать лет. Это ли не верность? Ты появилась слишком поздно, в мои двадцать семь лет, все двенадцать лет ты олицетворяла для меня всех женщин мира! О других, разных я только болтал, а сейчас пришло время, я очень хочу изучать на деле, как устроены другие женщины. Помни, не в ущерб тебе, не в ущерб нашей любви. Но как тебе могло прийти в голову уехать?
— Дауличка, милый мой, прости, прости меня, я раскаиваюсь, я больше никогда не посмею посягнуть на твою свободу и никогда не вмешаюсь в твои интимные дела.
А некоторое время спустя он спросил: «Коруша, я могу располагать своей половиной квартиры?» — «Да, конечно, я буду оставлять ужин на двоих и уходить».
В середине лета талия исчезла, уходить на несколько часов стало трудно. Я запиралась у себя внизу, моя {160} спальня под кабинетом Дау, его окно над моим. Тогда против нашего дома не было жилых домов. И Дау не имел привычки задергивать штору вечером. Его окно открыто, сноп света золотит верхушки липы, стройные молодые побеги липы смотрят в открытое окно Дау, шелковистые молодые листья нежно шелестят, они все видят. Не отрываясь, пристально и напряженно я смотрю на освещенную макушку липы. О, как я ей завидую, я изучаю ее движения, хочу понять, о чем говорят ее листья?
Я так жадно жду, чтобы закончился этот танец листьев, так вызывающе золотящихся в снопе электрического света, момент — и все погружается в ночной мрак.
Этот момент приносит невыразимое облегчение и даже счастье! Вместе со светом гаснет буря «примитивных» чувств. Щелкает английский замок: она ушла.
Оцепенение исчезает: там, наверху, акт любви окончен. Дау дома, он со мной, он мой! Очень скоро у меня будет его ребенок. Несмотря ни на что, я выбрала хорошего отца для своего ребенка: он чист и честен не только в науке, но и в жизни, он говорит то, что думает, а его слова никогда не расходятся с делом. Перед сном погружаюсь в сказочно счастливые времена своей жизни, когда отселился Женька, и мы с Дау остались вдвоем на всю нашу роскошную пятикомнатную квартиру, тогда еще даже Зигуш не селился у нас со своей страстной любовью к чужой жене. Фантастически счастливые времена!
— Коруша, бросай все, иди ко мне наверх, я тебе буду читать английское издание Киплинга по-русски.
Полулежа, прикорнув уютно на его плече, слушаю Дау: «Где-то в Африке молодой английский офицер на охоте в джунглях находит младенца орангутанга. От безделья он его выходил, выкормил эту огромной силы обезьяну. Орангутанг отплатил своему хозяину беззаветной преданностью и любовью. Друзьям офицер рассказывал: «Поймите, это не зверь, это друг, он всегда у моих ног, я только подумаю закурить, он подает мне трубку, он понимает каждый мой взгляд, как тень всюду следует за мной. Когда офицер задумал жениться, собрался в Англию за своей Мери, ему советовали сначала {161} убрать зверя, а потом привозить жену. Зверя он не убрал, а, отлучившись однажды из дома и вернувшись, вместо Мери он нашел мокрое месиво и только белокурые окровавленные локоны говорили о том, что это была Мери».
Так, если сказать правду, в те тихие вечерние часы, когда в гости к Дау приходила девушка, готовя им ужин, я завидовала орангутангу. В меня вселялся тот самый зверь, он мог стереть с лица земли соперницу.
И кто знает, не сорвись я тогда, не останься в стенном шкафу, во что бы еще вылились приступы моей ревности!
О, сколько, сколько раз, стиснув руки, устремив взгляд на освещенную верхушку липы, мысленно я повторяла поступок орангутанга. Вот так, растерев до месива соперницу, казалось, можно было достигнуть удовлетворения своих «пламенных» страстей!
Зверю хорошо: совершив злодеяние, он удрал в джунгли, мой удел был — совершать злодеяния мысленно. Соблазн был велик, но я держала себя в крепкой узде: за этим стоял Дау, его здоровье, его сон, его наука. После моего «заседания» в стенном шкафу он с трудом оправился, серьезно проболев две недели. Это не должно было повториться.
Переселившись в Москву, я пробовала, конечно, вызвать его ревность. Появился поклонник: красивый, молодой. Ревности не вызвала. Даунька воспользовался моим поклонником для знакомства с новыми красивыми девушками. Что делать? Примириться? Нет, невозможно, все во мне бунтует!
И я опустилась до низкого шпионства и выслеживания. Я даже не понимала, зачем я это делаю. С большим напряжением всей нервной системы, строжайше соблюдая конспирацию, за много «сеансов», я, наконец, увидела, в какую дверь вошла моя соперница в красивом старинном доме на Каляевской.
А потом, когда Дау уехал на юг, получив его первое письмо, взяв дорогой мне конверт с милыми каракулями, обожгла мысль, а вдруг и ей он написал. Не вскрывая своего письма, я помчалась на Каляевскую в тот красивый старинный дом. В голубом почтовом ящике {162} на ее двери в нижних круглых отверстиях виднелся конверт с почерком Дау! Как добыть конверт? Помогла специальность химика: в мозгу возникли длинные тигельные щипцы. Помчалась на Б. Калужскую в магазин химтоваров.
И снова я у голубого почтового ящика на Каляевской, конверт еще там, руки дрожат, металлические тигельные щипцы выбивают тревожную звонкую дробь, соприкасаясь с жестью почтового ящика.
Как было страшно, сердце так стучало, голова кружилась, но вот заветный конверт у меня в руках.
Я уже дома, над кипящим чайником очень искусно вскрываю оба конверта, взволнованная, трагически настроенная, читаю письмо к ней, ничего не понимаю, перечитываю очень внимательно еще раз. Письмо совсем пустое. В нем нет оснований для такой ревности. Он спрашивает ее, как она встретилась со своим женихом и когда их свадьба. Странная невеста, подумала я.
В письме ко мне, как всегда, нежность, любовь! Недолго думая, я в конверт с ее адресом вкладываю письмо Дау, адресованное мне, запечатываю и, удовлетворенная после совершения этой подлости, опускаю письмо в ее почтовый ящик уже не дрожащей рукой.
Вернувшись с юга, Дау, смеясь, сказал: нельзя в один день писать письма жене и любовнице.
— Коруша, эта девица вышла замуж и уехала из Москвы.
С чувством глубокой вины я слушала Дау, а сама думала: девица поняла из письма, адресованного мне, что этот академик любит жену, и, пока есть жених, поспешила замуж. Все девушки хотят замуж, эта традиция моде не подвластна.
Мир и счастье опять воцарились у нас в доме. Год, два, три Дау ужинает дома с друзьями или со мной, только один раз в неделю уходит. Я не интересуюсь куда. От счастья я расцвела.
| {163} |
Гарику пять лет. Я все еще пользуюсь успехом, молодые парни пристают на улицах Москвы, все называют девушкой. Я тщательно слежу за собой. Мне нужно соревноваться с молодыми и красивыми девушками Дау. С какой жадностью я ловлю взгляды Дау, когда его глаза искрятся. Я чувствую, что он мной любуется, я горда. Все свои свободные деньги трачу на тряпки и портных. Стала очень вежливо и доброжелательно высказываться о Женьке, его Зиночке и Зигуше, чтобы избежать крупных штрафов за каждую сказанную злобную шпильку в адрес его друзей. Иногда сдержаться очень трудно, не удержишься, съязвишь, но через пару минут раскаиваешься. Прошу прощения у Дауньки, и штраф отменяется. Дау рад и горд, что так меня «отшлифовал». Он был горд, что приобщил меня к настоящей культуре!
— Смотри, Коруша, как ты воспиталась. Давненько я тебя не штрафовал, давай я тебя профилактически оштрафую на пару тысяч, чтобы ты вдруг не начала меня снова ревновать.
А потом вдруг, как снег на голову, нашлись «друзья», которые сочли нужным открыть мне глаза. Оказывается, у Дау уже четыре года роман с Верочкой Судаковой. Вспомнила, давно вошло в систему: Дау, Гарик, чета Судаковых на выходной день выезжают на нашу дачу и ходят на лыжах.
В очередной приезд к маме на дачу я ее спросила:
— Мама, скажи, эта Верочка очень красива?
— Ты что, уже узнала?
— Да, узнала!
— И кому это понадобилось рассказывать тебе?
— Мама, это совсем неважно. Она красива?
— Да, красива, Корочка, она лучше тебя и совсем еще молодая.
Я ощутила унизительное чувство своей неполноценности: она еще молода, а я стою на пороге уже второй молодости! Надо примириться, покориться. Гарик уже школьник, ему отец нужнее меня. Когда сын вырастет, я ему скажу: отца я тебе выбрала замечательного. Главное {164} для меня было сохранить отца для сына. Я безгранично верила Дау, знала: если я не нарушу нашего брачного пакта о ненападении, он никогда не оставит меня, и ни одной раскрасивой красавице, обладающей неоценимым даром молодости, не удастся его женить на себе. В этом я была уверена так же, как и в том, что завтра опять взойдет солнце. Ужасно, когда на склоне лет академики оставляют своих жен и женятся на молодых.
— Корочка, что случилось, почему ты такая грустная, опять забыла о том, что ты самая счастливая женщина? Давай на всякий случай оштрафую за грустное выражение лица!
Приходилось врать:
— Даунька, у меня болят ноги. Прости, что же делать?
— Я вызову врача.
— Нет, Дау, не надо, уже поздно.
— Все равно, ты очень виновата, врачи настоятельно тебе советовали курортное лечение каждый год, а ты в прошлом году пропустила, твое тело — это моя собственность, и я не могу допустить, чтобы ты так небрежно относилась к тому, что мне так дорого. Вот, слушай мои условия: если ты не поедешь в этот сезон на курортное лечение Сочи — Мацеста, штраф в пять тысяч рублей высчитаю из первого книжного гонорара. Если едешь лечиться, вся стоимость курорта из моего личного фонда.
— Как? И девушкам на шоколад и цветы меньше останется?
— Да, Коруша, но ведь и ты моя девушка, так что все твои курортные расходы за мой счет.
— Коруша, когда ты сегодня была на даче, из Ленинграда звонила Соня, она очень просила, чтобы Эллочка погостила это лето у нас. Этой весной Элла кончает институт.
— Даунька, а можно устроить так: когда Элла приедет к нам выходить замуж, Зигуш воздержится от своих командировок в Москву.
— Конечно, он не заинтересован посвящать дочь в свои интимные дела. {165}
Эллочка сразу завела роман с одним из учеников Дау, приезжать стала часто. Зигуш приедет — Элла уедет, Элла уедет — Зигуш приедет.
Что делать? У всех любовь, у всех романы, а я должна всех их обслуживать! И мне стало тошно! Всему есть предел.
— Корочка, тебе не надоело до сверкающего блеска натирать полы? Я все равно всем рассказываю, что ты так же развлекаешься, как и я, но с большим успехом. Сбилась со счета своих любовников.
— Даунька, в романах друзья дома становятся любовниками жен, а твои друзья — просто зверинец!
— Почему ты молчала? Сам я не догадался. Я посоветуюсь, кого мне пригласить для тебя.
И через несколько дней...
— Корочка, задала ты мне работу! Но мне удалось выяснить: есть неотразимый мужчина, он славится на всю академию. Я опросил множество девиц. Все назвали Л.. Но спрос на него велик, к нему девицы стоят по нескольку лет в очереди. На завтрашний вечер я коекого приглашу, придет и Л..
— Дау, это тот самый Л., который, когда его по просьбе жены ее дяди, генералы, вернули с фронта в Казань, он с вокзала до Казанского университета добирался больше месяца, т. е. дольше, чем шел на фронт? До которого так и не дошел!
— Коруша, это не его вина, его по дороге с вокзала до университета перехватывали девицы.
— Да, к такому верному мужу, как ты, мне только не хватало такого любовника, как Л..
— Ты опять недовольна?
— Даунька, я просто избегаю очередей.
Неотразимый мужчина явно растерялся, когда впервые пришел к нам. Он не понимал, зачем он понадобился Ландау.
Дамы отсутствовали (хозяйка не в счет), танцы тоже отсутствовали. Ужин, легкий светский разговор. Прославленному танцору и кавалеру негде было развернуться. В его глазах был вопрос к Ландау, были цепкость, жадность к успехам. А когда все разошлись, Дау спросил: {166}
— Корочка, он тебе не понравился? Ты совсем с ним не кокетничала.
— Даунька, этот Л. с тебя глаз не спускал. Вероятно, он ждал, чтобы ты с ним заговорил о науке. По-моему, у него большая жадность к спецзаданиям. Он все пытался перевести тебя на этот разговор.
— Да, Курчатов их институт игнорирует, но говорить с Л. о науке мне и в голову не пришло.
Через несколько дней, когда Дау был дома, я отлучилась и несколько раз подряд из автомата телефонной будки набирала наш номер телефона. Услышав голос Дау, я опускала трубку на рычаг. Проделав такую операцию в течение нескольких дней, я достигла цели.
— Коруша, когда тебя нет, раздаются телефонные звонки, по-видимому, адресованные тебе. На мой голос поспешно трубка опускается на рычаг.
— Дау, это просто случайные звонки, мне звонить некому.
— Нет, Корочка, эти звонки стали довольно часто повторяться и как назло, когда тебя нет дома. Кто-то явно добивается тебя!
А однажды, воспользовавшись тем, что Дау больше обычного не было дома, на следующее утро я стала отчаянно врать ему (не могла же я допустить, чтобы знаменитый бабник Коля Л. так мною пренебрег на глазах у Дауньки, нельзя допустить, чтобы Дау усомнился в моем совершенстве):
— Дау, ты оказался прав, мне вчера вечером позвонил Колечка. Он сказал, что наконец-то услышал мой голос. Он пригласил меня в кино.
— Ты пойдешь?
— Я побегу!
В нашем брачном пакте о ненападении в основу была положена двусторонняя свобода личной жизни, я не имела права вмешиваться в его интимные дела, а врать о своих личных делах я имела право. Вот таким путем, сходив несколько раз в кино и один раз в театр, я испугалась: ведь может случиться и так, что Дау со своей девицей будет в театре или в ресторане и встретится {167} там с Колей, которого будет сопровождать его очередная дама. Ведь Л. не знал, что он мой поклонник.
— Даунька, мне звонил сегодня Колечка, он предложил мне поехать к нам на дачу в Мозжинку.
— Отлично, Корочка, следовательно, ты его скоро освоишь?
— Даунька, но сегодня понедельник, и на дачу поедет Женька со своей Зиночкой. Я не посмела ставить Колю в известность о том, что у нас на даче очередное любовное свидание твоего друга, начала путано отказываться. По-моему, Коля обиделся. А вдруг он мне больше не позвонит?
— Корочка, мне очень жаль, что так получилось, но ты не печалься. Если у тебя возникла такая ситуация, я скажу Женьке, чтобы он прекратил свои любовные поездки на дачу.
Встревоженный Женька примчался ко мне. Он по-деловому решил установить очередность. Но уже с разрешения Дау диктовала я: «Нет, Женя, точность расписания и очередность исключается. Я заранее никогда не знаю, когда мне позвонит Коля и когда у меня возникнет необходимость поездки с ним на дачу».
Потом долго не верилось, что так легко, буквально не сходя с места, мне удалось отвадить Женьку от дачи. Окрыленная успехом, я обнаглела. Когда Дау стал собираться на юг, так как я сама, что называется, завертела хвостом, то он уже не скрывал, что едет в отпуск не один, а с какой-то новой девицей.
— Как, Даунька, милый, ты разлюбил Верочку? — спросила я с нескрываемым восторгом. — А говорят, что она так красива.
— Была очень красива, а сейчас уже подурнела, и потом она досковата. Это ведь только ты умудряешься с возрастом хорошеть. Коруша, очень трудно оставлять девицу, мне очень жаль Верочку, я ее разлюбил, а она продолжает меня любить. Она очень добрая и очень хорошая, пытается сохранить нашу дружбу.
— В отпуск ты едешь с Герой?
— Да, с ней, только ты теперь не прибедняйся, ты покорила самого Л.
— Я в этом еще не совсем уверена, на прошлой неделе он звонил, спрашивал, когда ты уезжаешь в отпуск, {168} и больше не звонит и никуда не приглашает, может быть, он ждет твоего отъезда. Я очень боюсь, только ты уедешь, а ко мне нагрянут твои родственники, а вдруг Колечка захочет у меня переночевать? Даунька, у меня может сорваться еще не начавшийся роман. Пожалуйста, напиши в Ленинград, чтобы они не приезжали ко мне, хотя бы в то время, когда ты отсутствуешь.
— Коруша, мне лень им писать, а если они приедут, ты скажи сама, что у тебя в постели лежит голенький любовник и они тебя стеснят.
— Даунька, ты мне разрешаешь так им сказать?
— Да, конечно, твой роман имеет первостепенное значение, это я скажу своим родственникам, когда буду в Ленинграде.
Наконец! Наконец, на моей улице праздник! Как счастливы были те времена.
В выходной день навела в квартире потрясающую чистоту, полураздетая нежусь в постели с интересным романом и большой коробкой шоколада. Зазвонил звонок входной двери. Я уверена, приехал Зигуш: его очередь. Приоткрыла дверь. Да, это он с чемоданчиком.
— Зигуш, простите, я не одета. Дау нет, а у меня мой возлюбленный.
Хотела захлопнуть дверь, он попытался вломиться.
— Кора, я не собираюсь вам мешать, я тихонько пройду в свою комнату.
— О нет! Нет! Мой любовник очень застенчив, — сказала я, с силой захлопнув дверь. Казалось, моему счастью не будет конца. Я даже перестала бояться Дау, если просочатся к нему сведения о настоящих любовных связях этого неотразимого мужчины. На этот случай я приготовилась разыграть бедную, брошенную. Выигрыш был велик. По дошедшим до меня сведениям, ленинградские родственники никогда уже больше не переступят порог моего дома. Они не могут мне простить мое недозволенное поведение.
Дау, вернувшись из отпуска, очень обрадовался. Он сказал:
— Твой роман с Л. сослужил мне службу. Теперь, когда кончился мой роман с Верочкой, мои новые {169} девицы будут приходить ко мне в гости, а эти длительные наезды родственников очень мешали жить.
— Даунька, а почему за пять лет романа с Верочкой она ни разу не пришла к тебе? Только потому, что ее все знают в институте?
— Твой «Китаец» (Китайгородский) имеет много любовниц?
— Да, он пользуется большим успехом у девиц. Но, когда Зана не в отъезде, они домой к нему не приходят.
— А я не такая, я иная, и вся из блесток и минут!
— Даунька мой, «наглядный, квантово-механический», ты действительно не такой, как все, ты взаправду весь из блесток и минут. Сейчас можешь быть спокоен, раз у меня самой такой интересный роман, мне не до твоих девиц, пусть приходят, я буду готовить вам ужин.
Одержав такие две крупные победы — изгнание Лившица и Зигуша, я стала великодушной, я потеряла острое любопытство к девицам Дау. Он сам мне показал фотографии Геры, очень простенькая, в раздетом виде несколько лучше, но не Венера.
Наступила ранняя осень. Я ломала себе голову, как мне преподнести Дау разрыв моего романа с Л.. Но неожиданно в выходной день произошло следующее. Дау вместе с Женькой и девицами с утра уехали за город на пикник. Уезжая, Дау сказал: «Корочка, я буду обедать в четыре часа».
Я сижу во дворе института на парапете, рядом со мной сидит Шурка Шальников, вдруг въезжает новенькая машина, из нее выходит, угадайте, кто? Сам Л.! Небрежно вертя в руках ключи от машины, он подсаживается к нам на парапет и заводит такую речь: «Кора, не хотите проехаться за город?». Я незаметно ущипнула себя: нет, это не сон, это явь! Радость я скрыть не могла: «Я с восторгом принимаю ваше предложение. Разрешите в честь этого надеть самое красивое платье». Через несколько минут я была готова. Садясь в машину к Л., я сказала Шальникову: «Шурочка, Дау приедет обедать в четыре часа. Пожалуйста, передайте ему, обеда нет, а я уехала с Колей за город, вернусь не знаю когда». {170}
Шальников вскочил, начал вертеться волчком, подпрыгивая, он аплодировал и кричал: «О, это я Ландаю передам с огромным удовольствием. Давно бы пора вам, Кора, оставлять его без обеда! Ура!». Под это восторженное «ура!» мы выехали из института. Оглянувшись из окна машины на наш жилой дом, я увидела в каждом окне по голове с открытым ртом.
— Ну, знаете ли, я избегаю таких сенсаций, — сказал Коля. — Чего они все так всполошились, чему так радовался Шальников?
— Это надо спросить у самого Шальникова. Дау его считает другом и честнейшим человеком, но почему друг так радуется, что я Дау оставила без обеда, мне непонятно.
— Кора, мне тоже непонятно, почему вы при Шальникове, на виду у всего института продемонстрировали свои эмоции при моем внезапном появлении?
Он окинул меня взглядом, в глазах было беспокойство, подозрительность и настороженность. Я весело и беззаботно рассмеялась. Бедняга не знал, что уже давно слывет моим поклонником.
— Коля, милый, как давно я так не смеялась.
— Вы смеетесь и всем улыбаетесь, чтобы показать, как ослепительно красивы ваши зубы. Я это заметил давно.
— Давно заметил и ни разу не позвонил?
— Я звонил много раз, но ваш повелитель и бог просто дежурит у телефона.
Я уже задыхалась от смеха. Так Дау был прав, следовательно, звонки были не только мои.
— Коля, когда вы были у нас, я решила, что вы просто не заметили меня.
— Не заметить вас невозможно, при яркой, броской красоте еще эти невыносимо кричащие одежки. При вашей наружности вам надо носить черное.
— Ненавижу черное, люблю яркие, красивые сочные тона, а черное оставлю на старость.
— Кора, вы мне не ответили на мой вопрос.
— На какой?
— Почему вы так обрадовались моему появлению?
— Было очень скучно сидеть с Шальниковым на парапете. Я очень обрадовалась и была бы совсем {171} счастлива, если бы вы еще несколько раз заехали за мной.
— Я не любитель свиданий с красивыми дамочками под «ура» и аплодисменты свидетелей.
— Я готова на все, приходите под покровом ночи.
— Если я зайду завтра вечером, у вас найдется несколько тысяч рублей на длительный срок?
— Конечно, найдется, до пяти.
— Мне достаточно трех.
— Вы их завтра получите.
— Кора, я зайду завтра вечером к вам ровно в восемь часов вечера. (Отношения сразу прояснились: ему срочно нужны деньги.)
Какой сияющий, весь искрящийся от счастья встретил меня дома Дау! Сколько открытого, чистого доброжелательства, никаких признаков ревности! Почему? Он меня разлюбил? Нет. Целует очень горячо.
Конечно, от Дау я скрыла, что за свидание Коля потребовал непомерно большую сумму «чистоганом». За первый свой визит ко мне он получил деньги и отлично сервированный роскошный ужин. «Неотразимый мужчина» вначале был пленен сервировкой стола, потом с ужасом воззрился на широкую темную щель в окне. Ширина окна — три метра, ширина шторы — 2 метра 80 сантиметров. И это на первом этаже...
— Кора, это вы меня нарочно посадили как на сцене, чтобы я всем был виден? Даже нельзя выпить на брудершафт...
— Коля, можно ужинать на кухне, но там я накрыла стол для Дау. Вдруг он вернется очень поздно. Я не знаю его планов.
— Ничего себе обстановочка. Сидишь, как на сцене. Штора, видите ли, не задвигается, и еще угрожают неурочным возвращением мужа!
А физики тоже не зевали. Александр Компанеец, один из первой пятерки харьковских учеников Дау, был не только одаренным физиком, но и поэтом. Буквально на второй день где-то в узкой компании физиков он прочел стихи, сочиненные в мою честь:
Увы, прозрачной молвы укоры
Попали в цель. {172}
Вчера я видел, как был у Коры Коля Л.!
Неплотно были закрыты шторы —
Зияла щель.
И в глубине манила взоры
Ее постель.
К чему сомнения, к чему все споры
И канитель?
Я сам увидел, как был у Коры
Коля Л.!
Не моя вина, что репутация у Колечки была блестящая: пришел, увидел, победил.
Только вскоре после публичной читки обо мне этих своих стихов Компанеец, спускаясь от Дау со второго этажа нашей лестницы, ввалился ко мне в кухню, пытаясь выйти наружу сквозь ее стенки. Я с трудом направила его к входной двери, обратив внимание, что его щеки были пунцового цвета, а глаза выпучены.
— Дау, — крикнула я снизу, — что ты сделал с Компанюшей?
— А что? — ответил мне Даунька с верхней площадки лестницы.
— Он хотел сквозь стену из кухни выйти на улицу.
— А ты меня совсем не боишься. Вот, как я умею прорабатывать своих учеников.
— За что ты его так? По-моему, он даже свихнулся!
— Он посмел написать очень плохие стихи о тебе.
— А ты говорил, что он хорошо пишет стихи.
— Коруша, в общем я ему объяснил, что ты есть моя жена!
Мой роман с Колечкой продолжал развиваться. Молве об этом очень помог Компанеец со своими стихами, а также то, как его проработал за это Дау. Кто знал Л., тот больше не мог сомневаться в наших интимных отношениях. Теперь, когда я готовила ужин для девиц Дау, я могла быть грустной и даже могла разрешить себе поплакать, не опасаясь, что мне грозит штраф.
— Коруша, почему ты такая грустная? У тебя слезы?
— Даунька, меня Коля обхамил.
— Как? {173}
— Уже целую неделю мне не звонит. А вдруг он меня бросил?
— Корочка, а ты очень в него влюбилась?
— Да, очень! — рыдаю я.
И Даунька мне сочувствует. Он так и не узнал, что я рыдала от ревности. От того, что, уставясь на освещенную макушку липы, с отчаянием и тоской, в припадке безумной ревности, буду молча глотать слезы и напряженно ждать, когда вся липа погрузится в ночную мглу. Тот момент, когда липа теряет свою золотую корону и становится темным скромным силуэтом, этот момент приносит блаженное облегчение. Во мне уже не клокочет зверь ревности, заставивший залезть в стенной шкаф и извлекать письма из чужого почтового ящика, исчезло также жгучее желание превратить в месиво ту, что пришла по зову секса (ненавижу это слово, оно не имеет ничего общего с любовью!).
Далеко от Москвы, в бархатный сезон, нежась на пляже в ярких лучах нашего субтропического солнца, мне кто-нибудь из пляжных приятельниц говорит:
— Кора, академик Ландау, правда, ваш муж?
— Да, мой муж физик.
— Кора, вы меня простите, но все здесь на пляже говорят, что он вам так изменяет!
— Вот это чушь, просто сплетни из зависти. Дау обожает одну меня!
— Кора, в это мне легче поверить. Помните, когда мы с вами поселились и вышли на прогулку в Сочи, как стремительно подлетел ко мне тот паренек и выпалил: «Ваша спутница — иностранка и по-нашему ничего не понимает, а вы, я вижу, русская, так вы ей передайте: красивее девушки я отродясь не видал! И уродится же такая красота!».
Это было очень неожиданно, очень пылко и искренне сказано, соответствовало его молодости. Я быстро прошла вперед, надо было сохранить невозмутимость иностранки, не знающей русского языка. Пожалела, что Даунька не слыхал, какой комплимент преподнесла мне сама молодость.
Нет, нет, не зря я встаю по расписанию, час гимнастики, самомассаж и горячие ванны с жесткими щетками. Результат налицо. Я должна задерживать жадный к {174} женской красоте взгляд моего Дауньки. Пусть, когда он изучает их телосложение, находит недостатки в сравнении со мной.
— Даунька, скажи, ведь твои девицы спрашивают, любишь ли ты свою жену?
— Конечно, спрашивают.
— И ты им смеешь говорить, что не любишь меня?
— Ну, нет! Я врать не могу. Я им говорю — моей жене 40 лет. Они сразу к тебе теряют интерес. Где бы я ни был, с кем бы я ни был, я всегда скучаю по тебе. Оцени этот факт, Коруша. На юге с прелестной спутницей я тайком от нее мчусь на местный почтамт в жару писать тебе любовные письма и слать телеграммы.
— Зайка, когда я получила твою телеграмму из Сухуми: «Целую самую любимую, целую самую красивую. Дау», как я была счастлива! Наверное, ты прав, так и надо строить семейную жизнь.
Такая телеграмма не допустит опуститься, разжиреть, состариться. Я, как в бою, должна быть на страже своей женственности, своей физической формы. Уж коль судьба подарила мне такого мужа, а иного мне хотеть теперь невозможно. Тогда я не знала, что луч сияния его глаз — священный огонь его творческой мысли!
Первое десятилетие после войны жизнь мчалась. Все спешили жить, наверстывали упущенное. Четыре года войны тянулись, как столетие, а послевоенные годы мелькали, как день или месяц.
— Даунька, вот этот листок, исписанный, но без цифр и формул, я нашла в передней на полу. Он тебе нужен?
— Нет, можешь выбросить. Вчера ужинал в ресторане, и доброжелатели прислали дружеский шарж, а моя спутница засунула его мне в карман.
— Дау, а мне прочитать можно? {175}
— Читай.
— Посвящается Л.Д.Ландау.
Давно забыты электроны
За этим кругленьким столом,
Труды и звания забыты!
Все мысли, думы лишь о том,
Чтоб восхититься дивным станом,
Очаровать — но чей черед?
Гулять и пить по ресторанам —
Наука же идет вперед.
Доброжелатели
— В ресторанах ты пьешь вино?
— Нет, все вина очень невкусны, а коньяк — это настойка на клопах. И ты отлично знаешь, алкоголиком я не стану. Девицы лакают коньяк, а я пью фруктовую воду.
— Почему же твои доброжелатели написали, что у тебя запои по ресторанам чередуются с наукой?
— Вот именно, знаешь ведь хорошо, как я люблю ресторан, или захотела оштрафоваться, так я быстренько с очередной получки высчитаю тысчонку. Коруша, без ресторана не освоишь красивую девицу.
— Ты всегда говорил, что с неосвоенными девушками любишь ходить в кино.
— Кинотеатры просто созданы, чтобы водить туда неосвоенных девиц! Там так удобно их тискать. Но некоторые девицы не хотят в кино, хотят в рестораны. Что поделаешь? Скучно смотреть, как другие ее танцуют, а я сижу и пью какой-нибудь лимонад. Я не лодырь, я привьж трудиться и, как ни труден для меня ресторан, я эту трудность преодолеваю ради прекрасного пола.
— Коруша, мне надо с тобой проконсультироваться. У меня была одна девушка-рижанка. Она актриса. Около года с небольшим она была моей возлюбленной, потом ее пришлось оставить. Уж очень активно она хотела меня женить на себе. Когда их театр был в Москве на гастролях, она мне стала угрожать по телефону, что повесится. Я послал Женьку в два часа ночи к ней в гостиницу. Он это дело уладил. Женька ей {176} объяснил, что я с ней встречаться больше не могу. Это было несколько лет тому назад. Сейчас я узнал, что у нее после меня был очень неудачный роман, в результате она родила ребенка, а субъект сбежал, не женившись. Она вернулась на сцену, и живется ей сейчас нелегко. Как ты думаешь, если я ей пошлю пять тысяч — этого достаточно?
— Нет, Дауля, она актриса, ей нужны туалеты, у нее ребенок. Пошли ей тысяч десять, тем более, свою угрозу она не осуществила — не повесилась.
— Ты думаешь, ей так много надо?
— Ну конечно. Ребенок без отца.
Я была великодушна к брошенной любовнице. Тем меньше достанется его теперешним девушкам.
Как-то к обеду Дау привел гостя: «Коруша, знакомься, это мой школьный преподаватель по математике».
— Лев Давидович, я на старости лет решил вас разыскать, чтобы сказать: за всю свою преподавательскую жизнь у меня был только один ученик, которого я очень боялся. Он был тогда очень мал ростом, очень худенький, с огромными сверкающими глазами. Обыкновенные школьные задачи по математике он всегда решал правильно, моментально, но какимто необыкновенным путем. Я никогда не мог понять способы его решения задач. Лев Давидович, я всегда со смутным страхом шел в класс на урок, я избегал вызывать вас к доске: вы, не ведая того, могли поставить меня в тупик перед классом. Я знал, что столкнулся с огромным врожденным математическим талантом. Но это не оправдание для преподавателя, я очень боялся ваших вопросов. Но вы мне их никогда не задавали. Мне сейчас не стыдно спросить: ведь я только скромный преподаватель, а вы прославленный академик. Почему вы никогда не задавали мне вопросов? Вы тогда, в том возрасте, понимали, что я вам не смогу ответить?
— О, это было так давно. Я просто не помню.
На меня визит этого совсем седого, но еще стройного человека произвел очень большое впечатление. {177}
— Даунька, а если бы ты влюбился и женился на Кюри, ты бы взял ее фамилию?
— О нет, никогда! Возможно, в России другие традиции. Жолио сам неплохой физик, на его месте я бы остался Жолио. Ведь мой ученик Халатников, женившись на Вале Щорс, остался Халатниковым, хотя все мы преклоняемся перед именем героя.
Я подумала: вот Колечке надо было взять фамилию своей жены. Бедный Л. очень тяготится своей фамилией, говоря: «При моем чисто арийском виде и вдруг такая фамилия. С рождения до поступления в вуз я носил фамилию матери, при поступлении в вуз надо было взять фамилию отца, а материнскую скрыть. Она принадлежала к роду крупных помещиков, мой дед владел большим куском Курской губернии».
Так говорил Коля, кичась своим полудворянским происхождением. Тот самый Коля, который уже считался моим возлюбленным, которому я самозабвенно и бесконечно объяснялась в любви. А что мне оставалось делать? Не могла же я допустить, чтобы мой Даунька усомнился в моем женском очаровании и этот знаменитый бабник Л. через месяц-другой меня оставил и переключился на новый объект. Вспомнился рассказ Лондона «Когда боги смеются». Терять мне было нечего. У Лондона в игру с богами вступили смертные, я же затеяла, как мне тогда казалось, безобидную игру с самовлюбленным бабником, который очень переоценивал свою человеческую значимость. Уж очень много было в нем жадной цепкости к карьере. А как он любил лесть!
Вот я и шпарила цитатами из Лондона: «Любовь, жаждущая утоления, найдя его, умирает» или «Великая любовь таит несметные сокровища. Их надо беречь, лелеять, нельзя допустить оскудения чувств и задушить любовь ласками, отнять у любви жизнь поцелуями и похоронить ее в могиле перенасыщенности». Коля, как оказалось, никогда этого рассказа Лондона не читал. Он решил, что эти мысли и слова принадлежат мне.
— Кора, вы меня очень удивили. Очень рад вашим взглядам. Остальные бабы, которых я встречал на своем пути... — тут послышались имена женщин — знакомые и незнакомые, — и особенно досталось последней {178} Колиной возлюбленной, некой Лине. Оказывается, те три тысячи, одолженные у меня, пошли на приобретение шубы для Лины. Его пылкие речи о прекрасном слабом поле были насыщены солеными, чисто «морскими» оборотами, проще — ругательствами, которые непривычно резали слух.
— Колечка, милый, успокойтесь. Расходы на шубу беру на себя. Вы не представляете, как мне необходима была ваша свобода. Не откупись вы шубой, вы бы не были сейчас со мной. Мне очень сложно и трудно объяснить, но вы просто осчастливили меня своим вниманием, своими свиданиями. Они мне необходимы, как воздух, как дыхание, как жизнь!
— Коруша, «нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок», тебя с Колей все видят.
Это сказал сам Дау. Теперь он не сомневался, что Л. мой любовник. Я пристально смотрю на него: улыбка добрая, благожелательная. Нет, чувство ревности ему неизвестно.
— Корочка, я рад твоему успеху. Но вы в порыве влюбленности потеряли бдительность. У тебя очень культурный муж, но ведь у Коли есть жена, которая живет рядом.
Я подумала: перед Таней совесть у меня чиста. А Дауньке ответила:
— Учту твой совет. Но мой Колечка в обиде на тебя: когда бы он ни позвонил по телефону, он слышит только твой голос и в страхе бросает трубку.
— Это правильно. Любовник должен бояться мужа, иначе он может обнаглеть! У меня как-то с Л. был разговор о музыке, я ему объяснил, что лишен слуха и музыку не понимаю. Так вот, ты ему скажи: «Дау полностью лишен слуха, не любит музыку и не узнает ни одного голоса по телефону».
Я это очень быстро осуществила. Колечка легко поверил этой «утке», стал нахально просить Дау звать меня к телефону. Даунька умно ухмылялся. Хотелось броситься ему на шею, сказать, что эту комедию с Л. разыгрываю ради его же пользы. Страх сорваться в порыве ревности терзал меня, а для ревности причин было достаточно. {179}
Однажды раздался телефонный звонок наверху у Дау. Он снял трубку и, не отходя от телефона, крикнул мне вниз: «Коруша, тебя просит Витька Гольданский к телефону». А в трубке телефона я услышала Колин голос. Он меня попросил выйти на липовую аллею. Звуку металла в голосе я не придала никакого значения. И вот на нашей липовой аллее я узнала, что такое и как искры сыплются из глаз: сначала блеск, вспышка яркой молнии в мозгу, в черной мгле водопады ярких искр. Еще одна вспышка молнии, еще водопад ярких искрящихся звезд. Небольшое отупение, очень закружилась голова, донеслись слова Колечки:
— Из меня делать дурака? Я попросил Витьку набрать номер. Если подойдет он, подозвать тебя, если подойдешь ты — молча передать мне трубку. Когда Витька позвал тебя, я стоял рядом и сам взял трубку и слышал, как Дау кричал: «Коруша, тебя Витька Гольданский просит к телефону».
Еще раз меня качнуло крепким соленым морским ветром: это профессор университета Л. словесно подкреплял свое возмущение по поводу того, как я посмела из него сделать дурака.
Тихо повернулась, пошла домой. Он попробовал меня вернуть, я молча протянула ему окровавленный носовой платок. Я шла домой умиротворенная, во мне не было обиды. Я получила отпущение грехов за свое недостойное поведение, за то, что дурачила не только Колю, но и Дау! Попав домой, я расхохоталась. Даунька моментально на мой смех слетел вниз ко мне. Увидев мое окровавленное лицо, он обомлел:
— Коруша, что с тобой?
— Меня побил Колечка, — весело ответила я.
— Коруша, расскажи подробнее, это ведь так интересно. Значит, это правда, когда бьет любимый, это действительно может быть приятно?
— Да, Зайка мой любимый. Я очень счастлива. А ты за столько лет нашего романа не догадался угостить меня ни одной оплеухой. А теперь я знаю, как сыплются искры из глаз, это очень красиво!
Я жадно впилась глазами в лицо Дауньки, в нем светилась чистота красивой, светлой человеческой души. {180} Что-то удивительно детское, удивительное прекрасное выражала его улыбка. Я потянулась к нему. Мы были в тот вечер очень счастливы.
Смеясь, Даунька говорил: «Что ты есть? Ты есть жена. А что такое жена? «Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены». Конь и тот в сравнении с женой не имеет цены. А кому нужен конь? В наши времена? Так что ты, жена, совсем обесценилась. Ты есть моя жена, и уже много лет, а я все влюблен в тебя, ты самая красивая, разлюбить тебя невозможно. Я так счастлив, что отучил тебя от ревности, что мне от тебя ничего не надо скрывать, наоборот, вместо злобности я рассчитываю на твой добрый совет. Я счастлив нашей любовью, но любовницы у меня есть и еще будет много других. Только вот моя Гера начала бузить: наверное, она меня просто не любит».
Выслушав наивные жалобы на его возлюбленную, сфальшивить я не смогла. Уж коль он мне так доверяет, надо быть справедливой, даже в ущерб себе:
— Нет, Даунька, она тебя любит. Узнав тебя, не любить тебя немыслимо. У нее естественное желание женить тебя на себе.
— Но ведь она знает, что я женат.
— Но твоей жене 40 лет, а ей 25. Ей тоже нужен муж, ей тесно жить в родительской квартире. Даунька, сейчас в моду входят кооперативные квартиры. Подари ей квартиру.
— Этого я сделать не могу. Это все равно, что покупать любовь. Вот когда она меня бросит и если ей будет плохо, но она не будет моей любовницей, тогда я ей подарю квартиру.
Однажды в обыкновенный рабочий день раздался звонок. Открываю: «Академика Ландау можно видеть?». Молодая женщина, миловидная, но вызывающе дерзкий вырез на платье, в рабочее время дня — платье вечернего покроя.
— Дау, к тебе пришли, — сказала я, пропуская гостью вперед. Волна приторных духов. «Таких физиков не бывает!» — подумала я.
А вечером за ужином спросила Дау:
— Что это за девица была у тебя? {181}
— О! Это с радио. Она пришла брать у меня интервью. Потом ей стало жарко, она попросила расстегнуть ей лифчик и так легко, без всяких проволочек отдалась мне.
— И ты раньше с ней не был знаком?
— Ну, конечно, нет. Первый раз в жизни встретил высококультурную девицу. А мне, Корочка, это сейчас очень кстати. Вчера вечером мне Гера объявила, что она выходит замуж за Акпера. У него очень хорошая квартира. Приличный мужчина не должен жить без любовницы. У этой девицы с радио красоты не хватает, но грудь хороша, при том она так легко мне досталась, пока не подвернется что-нибудь более приличное, можно перебиться. Правда, мне потом показалось, что она не очень чистая. Ее надо перед употреблением мыть в ванной.
Все познается в сравнении. Когда появилась Гера, я была тронута тактом Верочки. Верочка не приходила к Дау домой. И я не переживала мучительные часы, созерцая освещенную макушку липы под окном. Но когда появилась эта Ирина Рыбникова с радио, я с опозданием оценила достоинства Геры. Гера не пользовалась ванной, вела себя тихо. Она без скандалов хотела женить Дау. Не получилось. И она с достоинством вышла замуж.
Ирина с первых посещений решила вызвать скандал между мной и Дау. Вероятно, нарочно перепустила воду в ванной, втоптала грязными туфлями большие купальные простыни и полотенца, а постельное белье у Дау старательно измазывала губной помадой. Но в наши мелкие женские отношения я Дау не посвящала. Просто перед ее приходом я чистое постельное белье у Дау заменяла грязным, простыни и полотенца доставала тоже из грязного белья. Ей, видимо, чистота постели не была знакома. Ну, а Дау был намного выше мелочей быта.
Мы обе получали, видимо, одинаковое удовлетворение. Только с того часа, когда Дау объявил мне так просто о своей близости с этой вульгарной девицей, внутренне я вся ощетинилась. Мне показалось, что у меня возникло брезгливое чувство даже к Дау. {182}
Наши спальни помещались на разных этажах квартиры. Первое время под разными предлогами я избегала близости с Дау. А потом:
— Коруша, а не забузила ли ты? Я так боюсь, вдруг опять начнешь ревновать?
— Я ревновать? Ну что ты, к этой грязнуле?
— О, Коруша, это не один ее недостаток. Она не очень красива, а уж как глупа! Она не просто глупа — глупых девушек много, — она феноменально глупа.
— Дау, стыдно говорить сорокалетней жене так неуважительно о своей любимой девушке.
— Моя любимая девушка — ты. Этой Ирине я не говорил слова «люблю». Я не мог обхамить девицу, если она пришла с целью отдаться мне.
— Даунька, я никаких претензий к тебе не имею, но, кажется, сегодня она должна прийти. Пятница — это ее день.
— Корочка, я с трудом перенес ее свидание на понедельник. Очень соскучился по тебе. Хочу побыть с тобой, ничего не могу поделать. Я свою сорокалетнюю жену люблю гораздо сильней, чем всех вместе взятых молодых любовниц.
А мною овладел снова зверь ревности. Хотелось броситься на Дау, избить его, исцарапать. Сегодня и завтра он захотел быть со мной, а в понедельник эта тварь явится опять! Нет, нет. Только бы он не заметил моей злости, надо играть.
— Даунька, милый, — елейно залепетала я, — сейчас у меня свидание с Колечкой, и потом, Даунька, я до чертиков в него влюбилась. Я не могу больше и с тобой, и с ним. Я предпочитаю его одного без тебя!
— Корочка, это твое законное и святое право, — сказал, поникнув, Дау.
Да, я имела право так сказать мужу!
Выскользнув из дома, я бросилась на темную липовую аллею. Рыдания душили, свежий ветер, шум лип успокаивал. Да, но этот хам Коля после мордобоя ни разу не позвонил. Даже не извинился. Черт с ним, уж очень глуп. Почему он пользуется успехом у женщин? Нет, он не мой герой, и очень мелкий человек. В первые дни нашего знакомства одолжил деньги. Все в нем было {183} отталкивающим. Как Дау мог поверить, что я полюбила этого ничтожного, виляющего бабника? Мне стало тошно жить, сама себе была противна.
Вдруг слышу шаги.
— Кора, здравствуйте.
— Коля, вы?
— Я не первый вечер провожу под вашими освещенными окнами в надежде, что вы догадаетесь выйти. А вы все ублажаете своего повелителя?
— А почему вы не позвонили мне?
— Посмейте еще раз сказать, что ваш повелитель не узнает голосов!
— Ну, случайно узнал Витьку. Коля, почему вы придаете такое значение малозначительным фактам?
— Делать из меня дурака — это малозначительный факт?
— Вы преувеличиваете мою значимость. Подумайте, в состоянии ли я переделать природу? — сказала я, на всякий случай быстро отступив. — Что, еще драться будете?
— Нет, постараюсь больше не драться. Кора, где ваш сияющий вид, почему вы не смеетесь? Сегодня у вас уже нет радости от встречи со мной?
— Коля, если говорить очень серьезно и очень искренне, вы слишком, слишком большое место заняли теперь в моей жизни. Я никогда не была легкомысленна, а знаю вас так мало, мне очень не понравилось, когда вы без каких-либо вопросов с моей стороны так некрасиво осветили свои интимности с некой Линой и другими дамами. Согласитесь, это не по-рыцарски: честь дамы сердца должна быть священна и в прошлом, и в будущем, и в настоящем! Вы мне очень нужны! Но как с вами можно иметь дело, если вы уже впутали в наши отношения Витьку Гольданского. Мордобой простить и перенести легче, чем предательство. Витька не очень серьезен, и ради каламбура и шутки он продаст самого себя. Коля, у меня к вам появилась серьезная настороженность! Наши отношения еще не успели перешагнуть никаких границ, вы не имели права так поступать.
Стратегия моего хода нападения победила, этот хам стал серьезно оправдываться, наглость исчезла. А {184} вдруг он по-настоящему еще влюбится? Нет, не это мне нужно, но поставить на колени прославленного бабника — в этом что-то есть.
Я не была уверена в правильности выбранного мною пути. Что делать? Так трудно мириться с непримиримым. Попробуйте не ревновать любимого, когда, мягко выражаясь, основания есть.
— Кора, что с вами сегодня, вы неузнаваемы. Молчаливы. О чем вы думаете?
— Коля, о любви! Только о могучей, только о беспредельной, всепокоряющей и всепрощающей любви!
— А разве такая бывает?
— Коля, должна быть!
— Кора, у меня путевка с 1 августа в Сочи, санаторий «Правда». Если бы вы захотели, вы бы достали себе путевку на тот же срок.
— Я уже захотела и обязательно достану путевку туда же, на тот же срок, — сказала я, а про себя подумала: «Чудесно. Спутник, таскающий чемодан. А в Сочи на «Мацесту» я должна ехать за счет девиц Дау».
— Даунька, у Коли путевка в Сочи в санаторий «Правда» с 1 августа. Ты мне сможешь достать путевку туда же?
— Коруша, конечно, смогу. Я очень рад, что у тебя все так отлично устраивается.
— Ты ведь тоже не один едешь отдыхать?
— К сожалению, не с Герой.
— Но вчера у тебя была Гера.
— Ты смела подглядывать?
— Ни боже мой! Просто в ванной никто не шумел. Все было совсем пристойно. Это почерк Геры.
Чтобы не нарваться на штраф, я говорила улыбаясь, очень тихо и спокойно. И этот взрослый младенец поверил, что я примирилась с этой Ириной!
— Да, Коруша, кое-как я преуспел. У меня сейчас две любовницы. Теперь замужняя Гера бегает ко мне на тайные любовные свидания.
В омут! К черту в зубы бросишься! Предстоящее путешествие с Колей к берегам пламенной Тавриды показалось мне невинным пустяком. {185}
В санатории моей соседкой по комнате оказалась молодая обаятельная женщина, прокурор из Магадана. Она была умна. Очень приятно общаться с умными людьми. Мое место в столовой имело преимущество: через несколько столиков по прямой я спокойно созерцала Колечку. У него соседкой по столу оказалась молодая блондинка. Когда после обеда он встал из-за стола, блондинка повисла у него на руке и энергично поволокла его из столовой. Не спеша, из столовой вышла и я. Но их и след простыл. У своего корпуса я встретила прокурора, она шла в палату.
— А где же ваш спутник, с которым вы прибыли из Москвы?
— Увели! А вы прокурор на отдыхе?
— Ничего не поделаешь. У меня серьезная профессия.
Не успели раздеться, стук в дверь. Я моментально нырнула в платяной шкаф: «Умоляю, вы меня не видели».
Вошел Коля: «Извините, где ваша соседка?».
А умница прокурор его усадила, говоря: «Подождите, она, вероятно, сейчас придет. Скоро начнется мертвый час. Пляж закрыт, она скоро появится». Остроумно ведя беседу с Л., она явно издевалась надо мной. Не скоро я выбралась из темного, душного шкафа в послеобеденную сочинскую жару августа.
— А вы еще живы?
— О, прокурор, я в людях очень ценю чувство юмора.
— Кора, объясните этот цирк.
— Это совсем не просто. Я сама себя запутала. Пойдемте лучше на пляж, после бани в платяном шкафу я хочу в море.
Я любила заплывать далеко, особенно вечером при закате, когда огненный диск солнца, у горизонта погружаясь в море, зажигает его сказочными соцветиями, а волны моря, сине-зеленые, чистые и прозрачные, вдруг пламенно искрят.
Неделю спустя я почувствовала, что кто-то плывет за мной.
— А, Колечка! Давно вас не видела. Здравствуйте. А где же ваша блондинка? {186}
— Этой блондинкой я уже сыт по горло. А вы что, решили играть здесь со мной в прятки?
«Вероятно, прокурор выдала меня», — пронеслось у меня в голове.
— Коля, меня Дау учил, если у мужчины назревает любовная ситуация, мешать нельзя!
— Вы можете хоть здесь не упоминать имя своего бога и повелителя? Вы насквозь пропитаны его пошлыми идеями.
— Вы с успехом эти идеи претворяете в жизнь, Коля. Ведь не побрезговали, подобрали эту блондинку сразу, с первой встречи.
— Ревнуете? Ну что же, это приятно. Кора, эта блондинка знает, что мужчине нужно для отдыха. Я совсем не хочу ссориться с вами, вы мне очень нужны. С вами можно поговорить серьезно об очень серьезном деле?
— Говорите, я слушаю.
— Не здесь, разговор деловой и серьезный. Завтра у вас «мацесты» нет. Давайте пообедаем в ресторане.
— Давайте еще захватим прокурора.
— Ну нет, разговор серьезный, деловой и секретный. Вы что, боитесь быть со мной наедине?
— Нет, я вас не боюсь. Только не забыла тяжести вашей руки.
— Кора, ваш ангельский вид обманчив. Давайте не ссориться. Мне нужна ваша помощь и даже умный совет.
— Хорошо, завтра обедаем в ресторане. Мне ведь очень нужен этот громоотвод!
Дорога в ресторан на самую вершину горы Ахун была длинная, но романтично красивая. В открытой машине упругий ветер заставлял щуриться глаза, пронизывал лицо и тело. В сочинский дневной зной это было наслаждение. Если бы мой Даунька был нормальным человеком, он мог бы быть моим спутником в этой поездке. Но, может быть, когда ему и мне перевалит за пятьдесят, он возмужает, поумнеет и, наконец, ему надоест повторять: «В Тулу с собственным самоваром? Никогда! Я не осел и не подкаблучник. На это способен только мой ученик Абрикосик. Ему очень удобно помещаться под Таниным каблуком, а мне нужны {187} горизонты Вселенной. Я не такая, я иная, я вся из блесток и минут».
Да, он не был похож на других. Дорогой мечтала, что когда придет старость, я буду еще нужна Дау, тогда мы будем много вместе путешествовать. У нас будет длинная счастливая старость. Не ведала тогда, что мой Даунька до старости не доживет.
— Кора, о чем вы думаете?
— О вас. О том, что вы не обладаете хорошим вкусом. У вашей блондинки красивые волосы, но толстые ноги.
— Что поделаешь, если красивые блондинки со стройными ногами прячутся в шкаф.
Прокурор — и выдала! Прокурорша — баба умная, симпатичная, у нее мужская профессия, поэтому с мужчинами она легко находит общий язык. Я всегда завидовала женщинам с железным характером.
— Коля, а могли бы вы ей заехать оплеуху?
— Кора, хватит. Хотите испортить мне эту поездку? У вас садистские приемы. Женщине вредно быть злой. Добродетель женщины — доброта.
— Доброта это добродетель человечества, а частный случай доброты женщин к вам носит другое имя.
— Кора, умоляю, смилуйтесь. Еще одно слово, и я брошусь в пропасть. В объятия этой блондинки меня толкнули только вы.
— Ну, хорошо, больше не буду. Когда сели за столик:
— Кора, нам давно надо перейти на «ты». Давайте выпьем на брудершафт. Такое трудное завоевание на «ты» с бабой у меня впервые, и даже интересно, что ты, Кора, такая колючая. Ты со мной в Сочи, а мы потеряли уже неделю, тем больше счастья впереди. Твой бог и повелитель не маячит, нам больше не мешает.
«Ну и самоуверенность», — подумала я.
— Коля, а в чем нужна моя помощь вам, или это был предлог?
— Нет, мне хотелось бы иметь друга, которому я мог бы рассказать обо всем. Кто не будет осуждать, кто будет мне беспредельно предан, не спрашивать: что, зачем и почему. Верить в меня и помогать мне. Я задумал грандиозный маневр: мой шеф Н.Н. одобрил мой план. {188} Он великий знаток, где пахнет жареным, а ведь я его ученик. Две великие державы — Советский Союз и Америка — заключили соглашение по борьбе с раком. Как только я прочел об этом в газетах, я сейчас же обзавелся медицинскими книгами о раке и уже имею понятие, о чем, где и как нужно говорить по этой проблеме.
— И вы считаете, этого достаточно?
— Не вы, а ты. Для начала достаточно. Ведь я не собираюсь победить рак. Тому, кто совершит этот подвиг, человечество при жизни отольет памятник из чистого золота. Ну, а у меня желания поскромнее: я хочу быть академиком.
— Коля, я голосую за ваше избрание.
— Кора, не превращай серьезную беседу в легкий разговор. Не забывай, я рассчитываю на твою, Кора, помощь.
— Я вся внимание.
— Вот так-то лучше. Здесь, в районе Сочи, отдыхает один человек, некто Жеребченко. Я хочу завербовать его в союзники. Он мне нужен. Я сюда, в Сочи, приехал из-за него. Случайно узнал место и срок его отдыха. Я завтра очень рано утром еду к нему и, если с ним столкуюсь, завтра же здесь ужинаем втроем. Согласна?
— Да, согласна.
— Быть не только моим союзником, но и помощником?
— Коля, но в этом деле я профан.
— То, что я попрошу, в твоих силах.
Когда мы вернулись из ресторана, из кустов возле санатория вынырнула блондинка и ринулась навстречу Коле, а я поспешила не мешать их объяснению.
На следующий день он встретил меня на «мацесте»:
— Кора, я приехал сюда поговорить с тобой. Очень боюсь, опять будешь прятаться от меня.
— Коля, мне просто жаль эту беленькую девочку.
— Так ты что, хочешь устроить цирк в санатории? Я бегаю за тобой, эта блондинка за мной, а все посмеиваются.
— Когда она уезжает? {189}
— К сожалению, не скоро. Кора, я хотел вызвать твою ревность, проверить твою любовь, а ты так легко уступила меня этой, как ты ее называешь, девочке. Только эта «девочка» сама забыла, когда она ею была. Ваш повелитель приучил вас к параллельным девицам.
— Так вот почему вы завели параллельную. Ничего не имею общего с вашей параллелью.
— Забыла, что мы перешли на «ты»? Почему же Дау можно параллельную, а мне нет? И потом, ты забыла: мы сегодня ужинаем в ресторане, ты дала слово.
— Вам удалось договориться с этим Жеребченко?
— Нет, Кора, он категорически отверг сотрудничество со мной, да еще назвал меня авантюристом от науки. Но ты ведь мой друг, обещала сегодня ужинать в ресторане. Жеребченко отпал, но здесь отдыхает наш химикакадемик с женой. Ты и я сегодня поедем ужинать. Тебе вчера там понравилось. Я с ними уже договорился.
После ресторана вернулась поздно ночью, мой прокурор еще не спала.
— Кора, совсем загуляла. Вчера не обедала, сегодня не ужинала в санатории. Скажите, ваш муж — академик Ландау?
— А вы его знаете?
— Не знакома, но его знает весь культурный мир. Он был вчера проездом в Сочи.
— Он приходил ко мне сюда?
— Все дело в том, Кора, что он, пробью в Сочи сутки, к вам не зашел.
Разрыдавшись, как подкошенная, я упала на постель. Было нестерпимо больно, обидно, и такой постылой показалась игра в любовников с этим «авантюристом от науки».
Даунька, единственный, любимый, ты хотел меня видеть. Я это знаю, я это чувствую, но твой такт и твое несравненное благородство удержали тебя. Ты побоялся нарушить мою идиллию.
Энергично затянувшись табачным дымом, прокурор воскликнула:
— Я ничего понять не могу!
Если прокурор и тот в тупике, а попробуйте все это описать! Сочинить такое трудно.
| {190} |
Если родился человек, которому тесно и душно в устарелых рамках обыденности, он, отбросив стандартную обыкновенность, стремится ввысь, к необыкновенному, к прекрасному. У него на все свои суждения и взгляды. Выводит на бумаге короткие физические формулы, в них сосредоточены истины физической науки. Истины этой науки даются титаническим трудом левого полушария мозга, там работает сложнейшего построения машина. Заменить ее невозможно, немыслимо. Запрограммировать сверхталант не удастся никогда.
Хрупкий, бледный человек с огненными глазами, свернувшись на постели, теряя сон, забывая поесть, наносит на чистые листы бумаги знаки, понятные только ему одному. В этом труде он находит наслаждение, ни с чем не сравнимое. Труд! Творческий, изнуряющий, тяжелый труд. Но только в этом труде для этого человека и заложено высочайшее наслаждение жизнью. Это то необыкновенное, прекрасное, к чему он стремится всю свою жизнь. Что-то сделать, оставить свой след для потомства. Храм науки воздвигается веками чистыми руками истинно талантливых людей, время отметает авантюристов от науки!
Но жить только поисками истин в науке такому человеку невозможно. Быт бесцеремонно врывается в процесс его мышления. Мыслить мелко, хитрить он не умеет: не так устроены клетки его мозга. Вот он и разрешает будничные, бытовые проблемы со своих высот.
Война, Казань, перенаселение эвакуированных не имеет границ. По карточкам мясо практически не выдавалось. Вдруг в Институте физпроблем ловкач Писаржевский, референт П.Л.Капицы, достает для сотрудников мясо! Дау радостно сообщил: «Коруша, завтра в институте по всем мясным талонам выдадут мясо!».
Снабдив Дау утром всеми накопившимися талонами на мясо, я сказала, что буду очень счастлива, если он действительно принесет мясо, но это граничит с чудом. {191}
В те годы наш институт был малочислен, выстроилась небольшая очередь, в которую встал и Дау вместе с Женькой. Как шелест ветра, по очереди пронеслось: «Привезли баранину!». У Дау сразу возник вопрос: «А баранина это мясо?» — разрешить этот вопрос он не мог, здесь его мозг был бессилен. Он спросил одну из сотрудниц: «Баранина это мясо?».
«Дау, мясо это говядина, а баранина это баранина».
Дау растерялся: «Коруша ждет мясо, я обещал принести мясо». Вывод из завязавшейся в маленькой очереди большой дискуссии на эту тему гласил: «Мясо это говядина, а баранина это баранина».
Идти против истины Дау не мог, очень расстроенный, он вышел из очереди. Грустный принес домой все нереализованные мясные талоны, которые потом выбросили.
Женька же принес почти целую тушу молодого барашка. Злорадно ухмыляясь, сказал:
— Дау, ты законченный идиот. Сам не смог решить такой ерунды. Ведь баранина вкуснее говядины.
Стерпеть я не смогла:
— Женя, когда мы вместе столовались в Москве, вы отлично знали, что Дау и я всегда предпочитали говядине баранину. Почему же вы там, в очереди, не подсказали этого Дау?
— Коруша, Женя не виноват. Я действительно свалял дурака. Я ведь тоже хорошо знал, что баранина вкуснее говядины. Но ведь ты сказала, что хочешь мяса!
Дау не разбирался в людях и ошибался в подборе друзей. А сама я? Я, которую он любит, которой доверяет, назвал своей женой? Любящая, преданная — так мелко разменялась, вконец изолгалась.
Даунька легко, слишком легко, простил мне Колю. Но все оправдывает любовь, а если нет любви, есть только одна ложь. Дау преклоняется перед любовью и не выносит лжи. Вероятно, поставить рядом любовь и ложь преступно, и я действительно чувствую себя преступницей перед Дау. Мне было так страшно, что Дау вдруг уличит меня во лжи. Вот и оказалась на курорте с Колечкой, демонстративно посещаю рестораны!
Будучи с ним в одном санатории, но в разных {192} корпусах, легко избавиться от встреч. К тому же в этом мне очень помогла молоденькая блондиночка, следовавшая за Колечкой по пятам.
Меня мутило от той фальшивой роли, которую я вначале с такой радостью и даже с каким-то молодым озорством взвалила на себя, делая вид, что плюю на общественное мнение. О, это было далеко не так просто! А что делать? Если надо уверить любимого мужа в существовании несуществующего любовника, охраняя его покой и здоровье? Не ревновать! Не сорваться, погасить в себе желание превратить в месиво какую-нибудь Ирину. Невозможно не фальшивить. Разлюбить Дау — тоже невозможно. Жизнь, судьба, рок, переплетаясь, иногда ставят тебя в такие ситуации, которые преодолеть не под силу. Его слова: «Коруша, что может быть прекраснее красивой молодой женщины!». Я всегда помнила их, они подхлестывали меня, поднимая рано в постели для изнурительной гимнастики, они вывели меня на фальшивую дорогу, они заставили меня плевать на общественное мнение!
Но, вероятно, я не совсем достойный человек, я очень хорошо научилась лгать и притворяться, клятвенно заверяя Колечку, что безумно в него влюблена. С Колечкой я встретилась близко в день отлета из Сочи. Билеты из Москвы я брала с обратным рейсом за свой счет. Надо было оплатить доктору наук за таскание моего чемодана. Но на аэродроме меня ждал приятный сюрприз: Колин знакомый попросил доставить дочь-школьницу в Москву.
Рейсы самолетов задерживались, пришлось обедать в ресторане аэропорта Адлера. Школьница последнего класса провела несколько часов со мной и Колей. Все это время было так насыщено нашей с Колей пикировкой, нашими иносказательными рассуждениями. О, мы с Колей изощрялись в остроумии, запускали друг в друга шпильки в самых изысканных выражениях, даже мифология пошла в ход! Ярко блестевшие глаза молодой загорелой девочки едва успевали перебегать с одного лица на другое. Она с удивлением смотрела на своих спутников. Наконец, задыхаясь от любопытства, она произнесла с мольбой:
— Подождите, я ничего понять не могу. О чем вы {193} говорите? Мне все это так интересно. Ни в театре, ни в кино, ни в книгах я такого не встречала! Но мне все, все непонятно: о чем у вас дискуссия, объясните, ну, пожалуйста! Отдельно все слова понятны, но смысл ваших фраз таинственен, и совершенно невозможно понять смысла сказанного!
Мы с Колей единодушно, неприлично громко засмеялись. Все обедавшие в ресторане с удивлением оглянулись на наш столик. В глазах милой школьницы была такая жажда жизни!
— Вероятно, вы в школе этого не проходили?
— Мы даже мифологию в школе не проходили!
Мне стало легко и весело, а выпитый стакан вина заставлял смеяться:
— Милая девочка, вот закончите школу, вступите в жизнь, и все станет понятным!
— Кора, вы так замечательно загорели. Как идет вам загар! Вы просто Кармен, да, Кармен-блондинка. Смотрите, все мужчины в ресторане заглядываются на вас!
— Смеется она всегда, демонстрируя свою сверкающую пасть, — громко и зло сказал Коля и тихо прошипел: — Кулаком бы в зубы, чтобы не улыбалась всем.
Прибыв в Москву, я сразу уехала на дачу. А через несколько дней с балкона вижу: подъехала машина, и выходит из нее Коля. Я бросилась к маме: «Мамочка, там подъехал «Маркович». Скажи, что я два часа назад уехала в Москву». Так повторилось несколько раз. Я его избегала. Он мне так надоел в Сочи!
В Москве меня застала большая почта из Звенигорода от Колечки и одна телеграмма — но какая! — от Дау: «Целую самую красивую, самую любимую. Дау». Стою как зачарованная у входной двери, упиваюсь словами «самую красивую, самую любимую». Звонок в дверь. Открываю — вваливается Колечка: «Наконец застал тебя». Не успела опомниться, он выхватывает телеграмму из моих рук. Читает вслух: «Целую самую красивую, самую любимую».
— Ах, вот вам какие слова были нужны, а я не догадался в Сочи, что вы ждете красивых слов. {194}
Он с остервенением стал рвать на мелкие кусочки телеграмму. Я попыталась отнять.
— Как ты посмел порвать телеграмму! Она тебя не касалась. Она — моя!
— Ах так! Меня водить за нос, издеваться, насмехаться, из меня делать дурака и быть преданной женой своему повелителю. Делаешь из него бога!
Он в бешенстве стал наносить мне удары. Я упала на пол и прижалась лицом к полу в передней. Он не раз угрожал выбить мне зубы. Руками я пыталась защитить голову. Он стал топтать ногами, целясь в голову. Я не на шутку испугалась: ведь может изувечить. От страха притихла. Он опомнился, отступил к порогу, испуганным голосом позвал меня. Я прикинулась «убитой». Он, пятясь, вышел, прикрыл дверь, щелкнул спасительный английский замок. Я села на пол, встать было трудно, голова кружилась. Жгучая боль на тыльной стороне кистей рук. Защищая голову, получила ссадины на руках от его каблуков. Но особых увечий нет, кости все целы. Счастье, что у этого профессора МГУ мягкие кулаки: слишком многим женщинам уделял он внимание, на спорт не оставалось времени.
Что же, придется уверить Дау, что от побоев «милого» получила максимум наслаждения. И он поверит! С удивлением, но поверит, скажет: странные существа эти женщины. Но насколько я успела узнать Колечку, он трус, и поэтому я решила: сумерки, я не задерну шторы, не зажгу света, и он решит, что потеряла сознание, а если моя квартира не проявит признаков жизни и ночью, то он наделает в штаны, решит, что он убийца. Когда приедет Даунька, он побоится врываться в квартиру. Тихонечко подползла к окну в кухне, боясь колыхнуть занавеску, осторожно выглянула: Колечка маячит у моих окон, тщетно пытаясь зафиксировать признаки жизни. Еле добралась до постели.
Вдруг у окна моей спальни слышу голоса. Шурка Шальников говорит:
— Коля, почему вы решили, что с Корой что-то случилось? Ее просто нет дома, все форточки закрыты, ни одно окно не откроешь. Ну, если вы так настаиваете, пойдемте со двора. Возможно, мне удастся открыть дверь. {195}
Я знала, что Шальников сможет открыть любую дверь без ключа, и, пока они обходили кругом, успела закрыть замок на предохранитель.
Утром на следующий день Шальников подлетел ко мне:
— Кора, а почему вы вчера «Шляпу» не впустили к себе? (Шурка уверял, что, кроме шляпы, у Колечки ничего человеческого нет. Конечно, Шурочка был прав.)
— Шурочка, вам что? Разве вы не знаете: милые бранятся — только тешатся?
На следующий день телефон звонил без конца, трубку не снимала. Вечером только включила свет в коридоре — раздался продолжительный нахальный звонок в дверь, а потом дребезжащий стук в окна квартиры на первом этаже. Решила: Колечка или спятил, или пьян. Очень долго простояла затаившись у окна. Наконец, звонки в дверь, стук в окна прекратились. Вижу: он вышел не совсем твердой походкой из ворот нашего института. Да он пьян! Дофлиртовалась! Мне стало и стыдно, и тошно. И все это на глазах у всего института!
Спасителен был приезд Дау. Жизнь снова закипела у нac в доме. «Дау, тебя к телефону». Он приветливо говорит в трубку: «Если вы хотите стать физиком, совсем необязательно иметь высшее образование. Обязательно любить предмет. Но если вы серьезно решили стать физиком-теоретиком, приходите ко мне домой. Сейчас посмотрю, когда смогу с вами поговорить. Вас устроит, если это будет пятого, в четверг, в четыре часа дня? Только, пожалуйста, без опозданий. Вначале я просто проверю ваши знания по математике, потом дам вам список литературы. Будете заниматься и приходить ко мне домой на экзамены».
— Коруша, имей в виду, завтра у нас будет обедать мозг мира. {196}
— Даунька, а вчера, когда у нас мозг мира ужинал, все вина и коньяки остались нетронутыми. Они пьют соки и минеральную воду. А я-то думала, что ты один исключение, употребляешь только безалкогольные напитки.
Когда Ландау работал в Цюрихе у Паули, Паули о Ландау сказал: «Я знаю, почему Ландау не пьет. Он пьян всегда, он опьянен самой жизнью, ему не нужен алкоголь».
Физики, известные всему миру, встречаясь с юным Ландау, говорили: «Этот молодой ученый интересуется всем. И очень интересен сам. Но его мальчишеские выходки приводят к тому, что вначале все, что он говорит, абсолютно непонятно. Но если с ним поспорить, то чувствуешь себя обогащенным».
Физики, знавшие Паули и Ландау, отмечали сходство в характере мышления, в подходе к физическим проблемам и даже в стиле научного творчества. Оба они, невзирая на лица, в острых, критических ситуациях не подбирали мягких слов, не стеснялись в выражениях, были язвительны и остроумны, но содержание их критики было важным и полезным. Даже Бору доставалось от Паули. Однажды он крикнул Бору: «Замолчите, не стройте из себя дурака». Бор мягко ответил: «Но, послушайте, Паули...» — «Нет, не буду слушать, это чушь!».
Сам Дау всегда с большим восторгом отзывался о Вольфганге Паули. Еще в детстве у Дау возникла потребность самостоятельно разобраться в устоявшихся жизненных представлениях окружающих. Он все воспринимал по-своему, все переосмысливал, создавал свои системы, находил свое собственное решение. Поражало это упорное стремление ребенка самому разобраться во всех вопросах. С годами это свойство натуры привело его к построению своих оригинальных теорий в науке.
Его логическое мышление, опирающееся на очень широкую эрудицию, его прославленный универсализм в науке нашли свое отражение и во взглядах на человеческие отношения. Отсюда теория о том, как правильно жить, и брачный пакт о ненападении. Ревность покушается на внутреннюю свободу, унижает человеческое {197} достоинство, ревность — порок, не имеющий никакого отношения к любви. И он исключил этот порок полностью из собственного сознания.
Ландау своим ученикам всегда говорил: «Бойтесь растратить отпущенное вам время на мелкие, недостойные человека дела». И еще Дау глубоко верил, что человек рожден для счастья на земле. Человек сам должен научиться быть счастливым. Дау был учителем, что называется, с большой буквы. Он стремился научить всех быть еще и счастливыми. Его всегда будоражила мысль — как сделать, чтобы на свете было как можно больше счастливых людей.
— Дау, эта совсем молоденькая девушка, зачастившая к тебе, неужели она физик?
— Это моя новая ученица, и учу я ее счастью. Она страстно влюблена, а ее возлюбленный жениться не хочет. Я помогаю ей женить его на себе.
— Как? Ты способствуешь открытию мелкой лавочки?
— Понимаешь, Коруша, здесь такая ситуация, что его надо женить для его же счастья.
Несколько месяцев спустя сияющий Дау мне сообщил: «Коруша, они уже поженились. Я был у них в гостях. Более счастливого мужа не встречал!».
Как-то вечером в конце войны к нам зашел Алиханьян, сели ужинать. Дау вскочил, сказав: «Артюша, я больше не могу переносить твоего кислого вида! Хочу видеть тебя счастливым! У тебя есть все для счастья! Столько девушек мечтает о твоем внимании. Нита сейчас уже живет в Москве. Ты ей звонил?».
— Ну что ты такое говоришь, Дау. А вдруг к телефону подойдет Митя?
— Митя сидит за роялем и телефонных звонков не слышит. Тогда это я сделаю я. Кстати, я и Мити не боюсь. Нита физик, она не работает. Митя слишком переполнен музыкой, а вдруг она скучает?
Дау подошел к телефону, под диктовку Артюши набрал номер: «Ниточка, приветствую вас в Москве. Говорит Дау. Сейчас у меня сидит Артюша и очень скучает. Если вы свободны, приезжайте к нам ужинать. Коpa {198} очень хочет с вами познакомиться. Ваш шофер знает, где наш институт. Квартира два. Мы вас ждем».
Минут через 20 к нам приехала Нина Васильевна Шостакович, жена знаменитого композитора: золотоволосая с золотистыми глазами. Ужин прошел очень весело. Алиханьян — сиял! Вся наша квартира наполнилась звонким смехом Ниточки (так ее называли все). Как красиво она смеялась. Впервые я слышала в смехе и звон хрусталя, и переливы серебряных колокольчиков. Алиханьян поехал ее провожать. Проводив гостей, Дау рассказал мне, что Артюша впервые увидел Ниту, сбегавшую по лестнице Ленинградского университета к своему жениху Шостаковичу, поджидавшему ее. Она весело смеялась и навек покорила Артюшу.
Нита — физик. Она кончала физфак в Ленинграде, была влюблена в своего жениха, который еще мальчиком стал знаменитым композитором. Вскоре они поженились.
Артюша встречался с разными девицами, но своей первой любви был пылко предан все годы, вероятно, поэтому он не женился.
— Дау, но Нита этого стоит. Как смеется! Тряхнет головой, отбросив золото волос, и зазвенел хрусталь с серебром колокольчиков. Она бесконечно обаятельна.
На следующий день Алиханьян просто ворвался к нам: «Кора, Дау, Ниточка согласилась сегодня поужинать в ресторане, если будете вы и Дау! Нас угостят замечательным шашлыком по-карски. Я уже все заказал!».
Я Ниту искренне полюбила. Она у нас стала часто бывать. Ее младшему ребенку Максиму исполнилось 7 лет, и она поступила работать к Алиханьяну. Его лаборатория находилась на территории «капичника». Это были годы, когда Сталин нашел в музыке Шостаковича что-то несовместимое с социализмом. Она была «слишком» революционной. Звуки сатанинской силы чего-то требовали, куда-то звали. Но главное было в том, что Запад называл его гением века в музыке. В ответ на это Шостаковича лишили основной зарплаты, а к его произведениям цензура стала так придирчива, что пришлось начать преподавание в консерватории, чтобы содержать семью. Ниточкина зарплата понадобилась. {199}
Меня всегда тревожил аппетит Дау. Он очень мало ел. Бывало, в зимнюю пору достанешь свежую клубнику, поставишь перед ним: «Даунька, пожалуйста, съешь!».
— Подожди, Коруша, возможно, я ее съем, но позже.
Гости к обеду и ужину всегда меня радовали. Это прибавляло Дау аппетита. Раньше всегда у нас обедал Артюша. Теперь он приходил вместе с Нитой, ведь они работали у нас в институте.
В один прекрасный день мне удалось купить в комиссионном магазине импортный холодильник. Нита, увидев его, просто ахнула:
— Кора, откуда у вас холодильник?
— Из комиссионного. Хотите, я и вам куплю.
— Разве это так просто?
Когда мы с Нитой привезли им домой холодильник, Митя, конечно, сидел, уткнувшись в рояль. Когда же до его сознания дошло, что в их быт входит холодильник, он вскочил, бросил ноты на рояль, удивленно и радостно сказав: «Неужели я теперь смогу есть твердое сливочное масло!».
На семейных торжествах Шостаковичей всегда присутствовали Дау, я и Артюша. Митя никогда не угощал гостей своими произведениями. Всех притягивал роскошно сервированный стол. Сменялись разнообразные блюда и пироги, вызывая возгласы восхищения. Иногда в разгар веселья появлялся Максим в длинной ночной рубашке. Митя устрашающе громко говорил: «Нита, я давно говорю, Максима надо сдать на базу! На базу его! Если он не спит, безо всяких разговоров — сдать его на базу!». «База» заставляла малыша очень быстро залезать под одеяло.
Дау так понравилась реакция Максима на «базу», что он на следующее утро тоже пообещал своего годовалого сына сдать на «базу». Эта шутка повторялась до автомобильной катастрофы.
Часто после работы Нита и Артюша заходили к нам. Все вместе ходили в кино, театры, рестораны. Наконец, с Нитой я побывала в Большом театре на «Спящей {200} красавице» и других спектаклях. А Митя много работал. Он всегда был переполнен музыкой и без рояля не мог.
Был такой случай, когда он переехал из Ленинграда в Москву, а Нита еще не вернулась из эвакуации. Прошел слух, что Шостакович один и плохо устроен (хотя квартиру ему дали хорошую). Из Союза композиторов приехала комиссия, чтобы проверить эти слухи. На звонок в дверь Митя вышел сам, став на пороге, чтобы не дать войти в квартиру, и стал уверять, что ему ничего не нужно, он благодарит и категорически отказывается от всякой помощи. Члены комиссии были настойчивы и в квартиру вошли: в совершенно пустой квартире стоял рояль со стульчиком, около рояля — газеты вместо постели, на окне — бутылка из-под кефира. Митя был смущен и растерян: начнут устраивать его быт, следовательно, мешать, а ему ведь нужен только рояль!
Казалось, Митя не замечает отсутствия Ниты. Он был рад, что она стала работать. Хозяйство вели две домашние работницы. Быт Ниту никогда не интересовал. Когда мне случалось заходить к Ните запросто, Митя с грустной неудовлетворенностью вставал из-за рояля. Был всегда очень застенчив и как бы растерян.
Как-то из института Дау пришел вместе с Нитой. Он разводил руками в недоумении, говоря: «Нита, Долматовский очень плохой поэт, почему Митя должен писать музыку на его стихи?».
— Дау, неужели вы не понимаете? Стихи Долматовского нравятся Сталину. Митя просто счастлив: теперь цензура не будет запрещать его музыку — стихам Долматовского открыта зеленая улица.
Финансовые дела семьи стали поправляться. Америка попросила разрешения исполнить одно из новых произведений Шостаковича. Разрешили. Был заплачен гонорар в 10 тысяч долларов. Ните удалось даже попросить прислать за эти деньги одежду для семьи. Она стала щеголять в американских туалетах. Еще звонче зазвучал ее смех, а глаза сияли счастьем. Она еще больше похорошела, а за ней, как тень, всюду следовал Артюша.
Иногда я думала: Митя за музыку смеха так беззаветно полюбил Ниту с юных лет. Многие молодые {201} женщины, поклонницы таланта Мити, усыпая его квартиру цветами, горели желанием приручить гениального композитора. Цветы принимала Нита, а композитор сидел, уткнувшись в рояль. В один из вечеров тех лет Митя, Нита, я и Дау были у Миши Литвинова (сына Максима Максимовича). Его молоденькая жена Флора успела родить троих детей (будущих диссидентов). На Митю она смотрела как зачарованная. Все вышли на прогулку. Стояла дивная летняя ночь. Шли шеренгой. Дау рядом с Митей оживленно беседовали. Потом их обоих назовут гениями, а ведь гении не так уж часто встречаются на планете! Оба обладали обаянием таланта, чисто человеческим обаянием и, вместе с тем, были так непохожи друг на друга. Митя рассмеялся, остановился (это было на Малокаменном мосту): «Вы только послушайте! Мне Дау сказал, чтобы я обратил внимание на Флору. Я действительно боюсь на нее смотреть, ведь она может забеременеть от одного взгляда!».
На Черноморском побережье я всем санаториям предпочитала «Ривьеру», а Нита и Митя отдыхали в более комфортабельном — «Правде». Мы часто встречались. Однажды по дороге в «Правду» за мной увязался какой-то тип. Я не дала повода для знакомства. На белоснежной лестнице санатория меня встречала Нита. В это время радио санатория передавало музыку Шостаковича. Незнакомец, обращаясь ко мне и Ните, стал музыку поносить. Нита, звонко рассмеявшись, сказала: «Я лично физик, но многие восхищаются музыкой моего мужа Шостаковича». Тип в одно мгновенье исчез, как бы растворился под музыку Шостаковича.
Когда Нита приезжала ко мне на Ривьеру, как из-под земли появлялся Артюша и увозил Ниту на своем роскошном «Бьюике», который он купил у армян-репатриантов. За рулем сидел шофер, Артюша машину не водил. А Митя? Митя нашел в санатории рояль, был всегда окружен поклонниками своего таланта и просто не замечал отсутствия Ниты. Алиханьян организовал научные экспедиции на Алагез и стал увозить Ниту в Армению на несколько месяцев, преподнося ей все красоты Армении: Ереван с Араратом, Севан, фрукты незабываемых ароматов. {202}
Когда Ландау был приглашен Армянской академией наук, Дау и меня встречали Артюша и Нита. И мы побывали в библейских местах.
Приехав в Москву, я с большим огорчением узнала от общих знакомых, что кроткий, застенчивый, просто «святой» Митя вдруг обнаружил отсутствие Ниты. Он стал ревновать и даже бушевать, изливая свои чувства в музыке. Возвращение Ниты все расставило по своим местам.
Посещая Шостаковичей в обществе Артюши, я стала замечать, что Нита всегда старалась отодвинуть подальше от Мити рябиновую настойку. Гениальный композитор много работал, но в те годы его не ценили, как должно. Алиханьян же преуспевал сверх меры: армянский академик, член-корреспондент АН СССР, директор Ереванского физического института. Когда Капица был в опале, Артюша выстроил под свои московские лаборатории роскошное здание в конце парка, у пруда над Москвой-рекой. По-моему, он отстроился за счет Армии. Правда, когда Кентавр вернулся, он быстренько вытряхнул Артюшу и поселился там сам, но до этого момента было еще далеко.
Да, еще Берия подарил братьям физикам Абуше и Артюше Алиханьянам вагон имущества, вывезенного из Германии, и они приняли эти подарки. Их принципы не были такими строгими, как у Ландау. Тогда многие физики принимали щедрые подарки.
Главное — Митя был в загоне, а Алиханьян процветал. Ните импонировало видеть Алиханьяна у своих ног. Когда она бывала в Ереване вместе с экспедицией, ей отдавали должное и как жене великого композитора, и как спутнице Алиханьяна, которого Армения очень почитала и прочила ему большое будущее в науке. На каком-то торжественном ужине с шампанским у нас дома Нита бросила Артюше такую фразу: «Артюша, когда вы откроете новую частицу и станете нобелевским лауреатом, тогда я, возможно, оставлю Митю и выйду за вас замуж». Конечно, сказанное звучало шуткой, но во взгляде Артюши я прочла собачью покорность.
Через год приборы Алиханьяна на горе Алагез зарегистрировали новые частицы! В Физическом институте {203} Армении был устроен большой бум. А московские физики отнеслись недоверчиво, стали проверять. О, я помню, было много шума! Ландау стал горой на защиту Алиханьянов: это только ошибка, наврали приборы! Ошибки в экспериментах бывают, приборы соврать тоже могут, в честность же человека-физика Ландау твердо верил. А я вспомнила Ниточкину фразу, с кокетливым вызовом брошенную Артюше. Вероятно, он просто свихнулся от своей великой любви к чужой жене. Порой я замечала, как он с восточным пламенем ревновал Ниточку к самому Мите.
Приближалось время очередной экспедиции, Митя стал серьезно возражать против поездки Ниты: в последнее время она стала сильно терять в весе, талия стала совсем девичьей. Нита согласилась лечь в больницу на обследование. Две недели длилось обследование в кремлевской больнице. Врачи уверили Митю, что его жена совершенно здорова. Перед отъездом Нита и Артюша зашли к нам. Нита помолодела и была жизнерадостна. В Москве наступала зима, а в Ереване стояла золотая осень, такая щедрая на вкуснейшие плоды. Это время года Нита привыкла проводить в Ереване. Пошел пятый год, как она стала работать у Алиханьяна.
Осеннее солнце Армении всегда привлекает на гастроли артистический мир Москвы. В ту роковую для Ниты осень там были Вертинский, Утесов и многие другие. Когда экспедиция Алиханьяна спускалась с Алагеза, интеллигенция Еревана отмечала это событие банкетами вместе с артистами. Жена знаменитого композитора и Алиханьян были всегда в числе звезд. Едва под утро закончился банкет, Нита попала на операционный стол. Непроходимость кишечника, срочная, безотлагательная операция. Оперировали лучшие хирурги Армении. Непроходимость устранили, но потревожили злокачественную опухоль сигмовидной кишки. Это место в кишечнике — белое пятно для рентгена. Ведь несколько месяцев назад Нита прошла полное обследование, и опухоль не была обнаружена.
Уложив Ниту на операционный стол, Артюша помчался телеграфировать Мите. Шостакович с сыном мгновенно прилетели в Ереван. А Нита через два часа после операции пришла в сознание, сказала: «Какое {204} счастье, что операция уже позади», — улыбнулась, закрыла глаза и умерла. Легко, спокойно, как уснула. Артюша усадил Шостаковичей в самолет, а сам в специальном самолете один с пилотом сопровождал гроб с телом Ниточки. Гроб был свинцовый, как бы серебряный, с красиво изогнутой стеклянной крышкой, и мы увидели Ниточку как спящую красавицу в хрустальном гробу. Были белый снег и черная земля могилы, которую Артюша усыпал алыми розами. Все годы после смерти Ниты в день ее похорон могила всегда была усыпана алыми розами, пока жив был сам Артюша.
В тот трагический день на похоронах Митя крепко держался за Артюшу, чтобы устоять на непослушных ногах. И после похорон Митя ни на шаг не отпускал Артюшу. Целый месяц прожил Артюша у Мити, бережно выхаживая его. Их соединила любовь к прекрасной женщине.
Возвращаясь с похорон Ниты, Дау грустно читал стихи:
И перед пастью гильотины,
Достав мешок для головы,
Палач с галантностью старинной
Спросил ее: «Готовы ль Вы?».
В ее глазах потухли блестки,
И, как тогда в игре в серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: «Вот и все!».
Киношники Армении создали художественный фильм в честь Ниты и Артюши, только в нем Нита погибает на фронте, а Артюша опять «почти» открывает новые частицы. Однако при жизни открытия его обошли, из жизни он ушел тяжело — рак желудка.
Сейчас уже и Мити нет, есть Дмитрий Дмитриевич Шостакович — великий композитор века! И имя его, и музыка его — бессмертны! Он познал радость творчества, славу, большую любовь, без которой счастье человека не бывает полным. Узнал он и горечь несправедливости, всю беспомощность, когда приходится доказывать, что ты не «верблюд». Его не обошли муки ревности, настоящее человеческое горе — потерять горячо любимую жену. {205}
Сейчас, анализируя прошлое, я пришла к убеждению, что серьезного романа у Ниты с Артюшей не было и быть не могло: гениальная личность Мити бессознательно устанавливала расстояние между ними. Артюша был примитивен. Преклоняясь перед могучим талантом Шостаковича, он не мог себе позволить украсить голову Мити рогами, он стремился отвоевать Ниту у Мити. Его тщеславию очень бы импонировало, если бы Нита, оставив гениального мужа, предпочла его. Ниточку это только забавляло, а Артюшу бесконечно воспламеняло.
Была игра, как у нас с Колечкой. Ведь никто не сомневался в наших интимных отношениях. Разница только в том, что Артюша был действительно влюблен в Ниту, а Колечке позарез нужно было только имя моего мужа в корыстных, карьерных целях. Продираясь только локтями, он стал академиком. Сейчас с легкостью подписывается под работами своих талантливых сотрудников, достойно «водит руками». Так Дау говорил о руководителях такого класса, околонаучных работниках. И еще у Мити была обаятельная внешность, озаренная его гениальностью, чего никак нельзя было сказать о бедняге Алиханьяне: невысок, линия ног стремилась скорее к окружности, нежели к прямой линии, рано стал лысеть — наружность весьма заурядная.
— Даунька, сегодня за обедом ты, кажется, проповедовал иностранным гостям о свободной любви? Я уловила несколько слов, но ничего не поняла.
— Нет, Коруша, когда они все из института ввалились к нам, то устремились в ванную мыть руки. Потом стали хвастаться, что в их квартирах по нескольку ванн. Я им сказал, что у меня семья из трех человек, одной ванны нам вполне достаточно. И хотя у вас много ванных комнат в квартире, вы лишены элементарной человеческой свободы. Вот, к примеру, вы влюбились в жену вашего сотрудника по университету. Вы можете за ней поволочиться? «Ну что вы! У нас это строжайше запрещено. Я сразу попаду в «черный список». Наши попечители меня выгонят вон, никакие научные заслуги не помогут и конец научной карьере». А в нашей свободной стране интимная жизнь человека никого не {206} волнует. Я могу влюбиться в чужую жену, и никакие попечители мне не страшны. И ты знаешь, Коруша, они с трудом в это поверили.
— Дау, мне Женька сказал, что завтра в Москву прилетает твой издатель из Лондона Максвелл. Вероятно, я должна приготовиться к его приему?
— Нет, нет, что ты. Он только однофамилец великого физика, я с ним встречаться не собираюсь, он просто делец, миллионер. Говорить мне с ним не о чем. Вся техническая работа лежит на Женьке, а я «не такая, я иная, я вся из блесток и минут».
В один из дней Дау сказал мне:
— Коруша, сейчас был телефонный звонок из Министерства культуры. В Москву приехал американский писатель Митчелл Уилсон. Ты была в таком восторге от его последней книги «Брат мой — враг мой». Так вот, он в министерстве сказал, что хочет познакомиться с физиком Дау. Ему дали наш адрес, и сейчас он на пути к нам.
— Даунька, я не успею съездить в центр купить чтонибудь особенное к ужину? Все-таки такой гость!
— Нет, не успеешь, да и это лишнее. Американский писатель, вероятно, хочет узнать, как живут советские ученые, а живем мы неплохо. Пусть будет все как обычно, по-домашнему.
Ужинали на кухне. На ужин была жареная утка, яблочный пирог, зернистая икра и коньяк. Я была счастлива, когда наш гость сказал по-русски: «Какой чудесный домашний ужин! Я так давно не был дома, мне так надоела отельная еда».
Я была покорена его русской речью. Он рассказывал: «Когда моя книга «Брат мой — враг мой» вышла в Англии, я плыл из Англии в Америку. Вдруг в три часа ночи ко мне в каюту вломился здоровенный молодой мичман. Стоя на вахте, этот мичман узнал о пребывании на пароходе автора романа, который он только что прочел. Сменившись с вахты, он легко вынул меня из постели, стал сильно трясти, приговаривая: «Зачем ты убил Мэри?».
Все это было очень интересно услышать от самого автора столь знаменитого романа. {207}
— Даунька, опять этот звонок ровно в девять утра, возьми трубку сам.
— Я слушаю, — нежно проворковал в трубку Дау и, весело рассмеявшись, положил трубку на рычаг.— Опять этот изобретатель вечного двигателя. Он сегодня мрачнейшим голосом обозвал меня палачом, а вчера — иезуитом. Он каждый раз произносит одно слово и кладет трубку. К счастью, этот сумасшедший изобретатель неразговорчив.
— Даунька, почему Петр Леонидович все племя сумасшедших изобретателей поручил тебе? По-моему, с ними небезопасно иметь дело. Сегодня по телефону тебя обозвали палачом, а завтра стукнут тяжелым предметом. Мне страшно за тебя. Сумасшедший есть сумасшедший.
— Коруша, сумасшедшие изобретатели в большинстве случаев в жизни нормальные люди. У них мания гениальности, но не надо забывать, что среди этого племени, как ты сказала, могут встретиться и стоящие люди. На наших семинарах мы слушаем доклады не только по физике, но и обо всем новом и интересном, будь то медицина, биология или химия. Все, что я рекомендую для наших «сред», все, одобренное Петром Леонидовичем Капицей, после семинара может получить путевку в жизнь. Вот авторы всех «великих» открытий и стремятся сделать доклад в Институте физпроблем на наших «средах».
Эти сумасшедшие изобретатели осаждают и мешают работать многим. Иногда это кончается трагедией. Так, в 1972 году один такой «гений», придя на прием к сотруднику президиума АН СССР, занимавшемуся перепиской с подобными лицами, убил его. Войдя в кабинет, он запер за собой дверь, по-видимому, стукнул свою жертву, сидевшую за столом, по голове, и у живого человека, потерявшего сознание, по всем правилам хирургии отделил голову от тела специально принесенными медицинскими инструментами. Сотрудники, услышав подозрительную возню в соседнем кабинете, после безуспешных попыток войти, вызвали милицию. Милиция не успела взломать дверь, «гений», закончив свое злодеяние, водрузил голову на стол, открыл дверь и спокойно сказал, что осуществил справедливое возмездие.
| {208} |
Как-то вечером я включила телевизор. На экране — академик Н.Н., <...> Колин шеф. Он говорил, что они, химики, вступили в борьбу с раком, что крупнейшие медицинские открытия принадлежат не медикам. Привел в пример великие открытия Пастера. Пример с Пастером удачен, но Пастера на великий подвиг толкнула его гениальность, его безграничная любовь к человеку, стремление помочь страдающим, спасти умирающих. А тут авантюрист от науки, стремящийся использовать договоренность двух государств, с наглой мечтой стать академиком, вдруг «наткнется» на открытие и принесет еще пользу человечеству.
— Даунька, жаль, что тебя вчера вечером не было дома: по телевидению выступал Н.Н.
— Коруша, я знаю об их затее, но в Институте химфизики нет квалифицированных физиологов и биологов, а кадры решают все.
— Даунька, мне в Сочи Коля рассказывал, что когда приближался двадцатипятилетний юбилей Института химической физики, они собирались торжественно отметить эту дату. Он поехал в Ленинград поднять архив и привезти соответствующий материал. Коля в архиве нашел работу студента Харитонова. По его словам, эта работа была о цепных реакциях. Н.Н. эту работу Харитонова присвоил себе, а студента перевели в другую лабораторию, повысив в должности.
— Коруша, Коля не тот человек, которому можно верить, он из зависти может оговорить своего шефа. В Ленинграде было много сплетен, что работу «Цепные реакции» Н.Н. украл, пользуясь своим административным положением. Лично я этому не верю, есть такие ученые, которые за всю свою жизнь делают только одну хорошую работу. Н.Н. принадлежит к их числу.
— Дау, а за что ты исключил из своих учеников Вовку Левича? Ты с ним рассорился навсегда?
— Да, я его «предал анафеме». Понимаешь, я его устроил к Фрумкину, которого считал честным ученым, в прошлом у него были хорошие работы. Вовка сделал приличную работу самостоятельно, я-то это знаю. А в {209} печати эта работа появилась на подписями Фрумкина и Левича, а Левича Фрумкин провел в членкоры. Совершился некий торг. С Фрумкиным я тоже перестал здороваться. Вовка Левич перестал быть человеком, когда оставил свою очень симпатичную жену Наташу и женился на этой ужасной Татьяне.
— Какие разные вкусы у людей! Вовка Татьяну считает красавицей, а я нахожу ужасной Ирину Рыбникову!
— Захотела оштрафоваться?
— Нет! Прости, не буду.
— Коруша, если правду сказать, Ирина у меня сейчас как ширма. Герин муж очень ревнив. Чтобы усыпить его бдительность, я показываюсь, по совету Геры, с Ириной там, где могу их встретить.
Перед приходом Ирины к нам в дом, я убегала на липовую аллею, где меня довольно часто ожидал Коля. Мы выясняли свои отношения. Конечно, я петляла и путала, но в конце концов мне показалось, что я поставила его на колени и даже немного испугалась, что этот знаменитый бабник еще по-настоящему влюбится в меня. Но ларчик просто открывался.
— Кора, ты слушала выступление Н.Н. по телевидению? Мне сейчас очень нужна твоя помощь. Понимаешь, у меня есть интуиция ученого. Я знаю, что дело с раком у меня выгорит. Сейчас я взялся за белокровие и пичкал обреченных белых мышек, пораженных белокровием, химическими препаратами. У меня одна мышка полностью выздоровела.
— Колечка, я знаю, кто работает у тебя с мышками, она вполне могла дохлую заменить здоровой. Или ты это сделал сам?
— Ты мыслишь, как Жеребченко, а я доверяю своим сотрудникам. Все правильно оформлено, зарегистрировано полное выздоровление белой мыши от белокровия. Н.Н. берется устроить сообщение в эфир. Кора, будет сообщение ТАСС. Понимаешь, Кора, мне очень нужно для солидности работы вывести формулу. У нас привыкли верить только математическому расчету. Я-то ни одного интеграла не возьму, а мой теоретик Димка Кнорре в тупике! У него ничего не получается. {210} Вся надежда на тебя. Твоему Дау раз плюнуть вывести мне нужную формулу с правильным математическим расчетом. Кора, это мне нужно очень срочно. Завтра в 10 часов утра я своего Димку Кнорре пришлю к твоему Дау домой, а ты подготовишь Дау к приходу Кнорре. Для Дау это пять минут всего дела, а я буду спасен.
Мое молчание было принято за согласие. Конечно, я от Дау просьбу Колечки скрыла. А в 10 часов утра звонок: явился Дмитрий Кнорре. «Дау, к тебе пришли». А еще через несколько минут бедный Кнорре как ошпаренный скатился вниз по лестнице и долго тыкался в стены, пока нашел выход.
— Даунька, а что Кнорре от тебя хотел?
— Коруша, самое удивительно то, что он сам не знал, что ему нужно.
Дау так и не узнал, зачем к нему в то утро приходил Кнорре. Я спасала честь не столько Колечкину, сколько свою собственную! Вечером телефонный звонок. Колечка просил, чтобы я вышла в липовую аллею.
— Нет, не выйду. Вы будете опять драться, а я не виновата. Дау вечером явился поздно, утром чуть свет прибежал к нему Женька, только Женька ушел, я хотела подняться к Дау, а в это время уже пришел к нему твой Корре, — складно врала я.
— Ну, хорошо. Я уже формулу достал. Еще очень нужна твоя помощь. Пожалуйста, выйди, Кора, разговор будет очень деловой и серьезный. Я ведь тебе поклялся, что никогда больше не посмею поднять на тебя руку. Это удовольствие мне самому дорого обошлось. Я тогда решил, что убил тебя!
В липовой аллее он мне сообщил: «Скоро выйдет реферат моего доклада. Я его пошлю твоему Л.Д. Он решает, кто достоин докладывать на знаменитых «средах» вашего института» <...>
Когда был получен отпечатанный реферат Л. о борьбе с белокровием, теоретики прибежали гурьбой к Дау, давясь от смеха, сияя от избытка чувств, предвкушая, как они расправятся с автором анекдотической формулы в конце доклада.
Вдруг слышу голос Дау: «Я вам всем категорически запрещаю устраивать цирк!».
Теоретики подняли гвалт и вой, я уже не прислушивалась, {211} а когда они все ушли, я быстро поднялась к Дау и с возмущением спросила:
— Ты им запретил раздраконить Л. только потому, что он мой любовник?
— Ну нет! Что ты, Коруша. Рак, белокровие — громаднейшее бедствие. Эти болезни висят над человечеством, как Дамоклов меч, и нет никаких гарантий. Любой может стать их жертвой. Л. дельного по этому поводу ничего не может сделать, но они подняли шум, организовали лабораторию, добыли средства, на этот шум в их лабораторию со временем придет талантливая молодежь, которой суждено преуспеть. Так что твой Коля спокойно может приходить, я обеспечил ему в Институте физических проблем зеленую улицу, передай ему: он может спокойно приходить, докладывать. Я приветствую его начинание и ручаюсь: ни один теоретик его не укусит. Коруша, можешь ему все это передать.
— Неужели я могу не бояться Ландау и его банды?! Да, Кора, ты меня просто спасла. Я никогда не забуду, как твой Ландау в 1944 году зарезал без ножа нашего сотрудника Ратнера. Он тогда был ученый секретарь нашего института. У него родился второй ребенок, ему степень была нужна как воздух, он делал свою диссертацию, в основу которой положил формулу одного из величайших физиков. Вот только не помню, кого именно: не то Гей-Люссака, не то Бойля-Мариотта, но в общем эта формула имела столетний стаж и во всех школах мира ее изучали многие поколения. Наш ученый совет, конечно, не понял ничего, но одобрил ратнеровскую работу из векового уважения к гениальному автору этой формулы. И, представь, за три дня до защиты диссертации Ратнера Ландау опубликовал свой очередной научный шедевр, где точным математическим расчетом полностью уничтожил, ликвидировал эту формулу, перечеркнув заодно и диссертацию нашего Ратнера. Кора, после того как мне удалось полностью излечить белую мышку от белокровия, я очень хлопотал, чтобы мне дали для эксперимента обезьян, но эти звери очень дорого стоят. Мне выделили палату женщин, больных белокровием. Все шесть человек абсолютно {212} безнадежны, так что никто ничем не рискует. Мой препарат совершенно безвреден, их уже несколько месяцев пичкают моим препаратом, которым я излечил мышку. Я увеличил дозировку, но ни черта не помогает. Я решил их посетить, сам с ними поговорить, но это были уже не женщины, это просто лежачие коровы, они даже не отреагировали на мой приход. Я так тщательно одевался, я хотел произвести на них впечатление, но они остались равнодушны даже к тембру моего голоса.
Я привожу Колины слова в точности. Мириться с таким внутренним убожеством не было сил. Круто повернувшись, я бросилась бежать домой, крикнув ему: «Забыла выключить утюг!».
Доклад состоялся, народу было много, демонстративно пришла и я, хотя эти семинары никогда не посещала. Физики-теоретики с упреком и даже враждебно посматривали на меня. Когда все разошлись, Петр Леонидович Капица, с удивлением посмотрев на Дау, спросил: «Дау, как вы смогли пропустить этого прохвоста?».
Несмотря на преуспевание своего шефа, Дмитрий Кнорре уехал в Новосибирск. Он был молод, истины науки интересовали его гораздо больше, чем карьера. Колечка негодовал: «Представляешь, этот Кнорре уезжает в Новосибирск. Я его обеспечил шикарной квартирой, я ему создал блестящие условия для работы в Москве. У меня возникают такие грандиозные перспективы. Кнорре очень талантлив, он мне нужен, очень нужен. Уперся, как бык! Уезжает в Новосибирск».
Может быть, я ошибаюсь, но тогда я подумала: такой кратковременный визит Кнорре к Ландау за «липовой формулой» честного парня наставил на истинный путь. В 1974 году я случайно по телевизору услышала сообщение ученого, члена-корреспондента Академии наук СССР Дмитрия Кнорре. Мне очень понравилось это краткое, но деловое выступление.
А в тот далекий вечер Кодечка, негодуя на Кнорре, говорил:
— Я очень удачно составил деловой краткий доклад о том, как мне удалось достичь таких блестящих результатов в борьбе с белокровием. Я все эти материалы {213} отослал в соответствующие инстанции, я так спешил, чтобы успеть к отъезду Хрущева в Америку. Я давал такие карты в руки нашему представителю. Он мог бы козырнуть моей работой! Оказалось — все зря! Моей работой побрезговали, не взяли!
— Коля, ну ведь вам удалось вылечить только одну мышку, повторные опыты не подтверждались, и больше никаких результатов нет! Как можно козырять такой работой?
— Ну и что же? Я каждый день получаю сотни писем из всех стран мира, все стремятся повторить мой опыт. У них тоже никаких результатов.
— Коля, разве это не есть подтверждение того, что эта работа была липой? Если в искусстве неповторимость является ценностью, то неповторимость в научном эксперименте говорит о крахе!
В таких случаях Ландау говорил: «Наука умеет много «гитик».
— Коля, у тебя с белой мышкой не работа, а фокус! Ты не сердись, у тебя все еще впереди, сейчас тебе ведь строят новый корпус?
— Да, он уже почти готов. Я заказал зеркальные стекла для окон, так пожалели, не утвердили. Семенов здорово выкладывается на эти работы.
— Он так уверен в твоем успехе?
— Ну, знаешь, в мои успехи поверил даже сам Ландау, а ты, злючка, не веришь. Когда я переселюсь в свой новый корпус, я это торжественно отмечу, а к тебе у меня будет большая просьба. Уговори Ландау посетить мои новые лаборатории. Это мне необходимо для престижа. Если у меня в лабораториях побывает сам Ландау, те, кто сомневался в чистоте моих работ, умолкнут! Н.Н.Семенов — крупнейший ученый нашей страны, лауреат Нобелевской премии, но авторитета среди ученых он не имеет. А твой Ландау — непревзойденный авторитет. Мне очень нужна его помощь в моих начинаниях, чтобы меня не называли авантюристом от науки.
— Колечка, это потому, что Ландау не имеет привычки ставить свою подпись под чужими работами, чего не скажешь о твоем шефе. Дау его всегда называет балаболкой. Себя Дау ученым не считает. Он говорит: {214} «Ученым бывает пудель, человек может стать ученым, если его как следует поучат. Я просто научный работник». Еще Дау не любит выражение «жрец науки». По этому поводу он высказывается так: «Есть люди с печатью жреца науки, это значит, что они жрут за счет науки. Никакого другого отношения к науке они не имеют». Вот ты, Колечка, станешь настоящим «жрецом науки». Я уверена, ты преуспеешь, ты вынашиваешь в уме сложные, дерзкие планы, ты мечтаешь только о том, как с помощью интриг перехитрить весь мир. Ты уверен, что достигнешь небывалых высот, к своей заветной мечте стать академиком ты ползешь, крадучись по-кошачьи, настороженный, вооруженный отнюдь не научными знаниями. Сам говорил, не умеешь взять ни одного интеграла! Когда я слушала твой доклад о борьбе с белокровием в нашем институте, я убедилась — очки втирать ты умеешь. При этом держишься умно. Ты — дерзновенный человек, с которым уже все вынуждены считаться. Правда, ты очень многого достигаешь при помощи баб!
Я не ошиблась: Колечку интересовал только Ландау, я была для него лишь мостом к Ландау! И если говорить честно, я этому очень радовалась. Это его удерживало возле меня, а мне так была нужна молва, что знаменитый бабник у ног моих уже годы, так неотразима я!
— Даунька, Коля уже под свои работы получил целый новый корпус. Он очень приглашает тебя посмотреть его лаборатории.
— Ну нет, Коруша. Мне там делать нечего. Лягушку хоть сахаром облепи, я ее все равно в рот не возьму.
Приближался Новый год. О, этот праздник я не только любила, я еще старалась сохранить в себе суеверные чувства, поверить в чудодейственную силу первого числа Нового года. Поэтому в наш брачный {215} пакт о ненападении я внесла свой пункт: «Даунька, встреча Нового года только со мной, только в этот вечер в году ты не имеешь права увиваться за девушками». И этот день всегда был мой и самый счастливый в году!
Очень часто несколько семей научных работников двух соседних институтов физпроблем и химфизики собирались вместе на встречу Нового года. Было всегда очень весело: физики любят шутку.
Моему соседу по столу преподнесли новогодний подарок — изящная коробочка, читаю надпись: «Слабит нежно, мягко, не нарушая сна!». Может быть, это и не очень смешно, но я, переполненная счастьем и шампанским, так смеялась, что упала под стол, и мое длинное вечернее платье лопнуло.
Веселье разгоралось, я не могла не танцевать. Платье сняла, надела свою легкую меховую шубку, которая не доходила до колен, тогда не было моды на мини, золотые туфли вызывающе сверкали. У меня был только один судья! «Даунька, скажи: так прилично? Если я буду танцевать в таком виде?» — «Корочка, тебе очень идет без платья, шуба к лицу, ты просто неотразима».
Я имела большой, шумный успех. Колечка, забыв даже о карьере, все время старался быть возле меня. И когда в три часа ночи: «Коруша, пойдем домой спать», — сказал мне трезвый Дау, пьяный Коля с возмущением, вызывающе воскликнул: «Нет, вы только послушайте, что Дау сказал Коре: «Пойдем домой спать!». Ну кто бы из нас всех, здесь присутствующих, не захотел пойти спать с Корой?».
Конечно, он выпил лишнего.
«Коля, успокойтесь, — весело улыбаясь, доброжелательно, даже ласково сказал Дау. — Я имел в виду спать в прямом смысле, совсем не в переносном».
Я не прислушивалась, что там пьяный Коля говорил Дау. По дороге домой Даунька очень весело рассказал мне о своей «дискуссии».
Когда приблизился пятидесятилетний юбилей Дау, я спросила:
— Даунька, этот день твоего рождения надо отпраздновать. На сколько человек, хотя бы приблизительно, готовить стол? {216}
— Ни в коем случае, на таких юбилеях скучища: сиди, как осел, и слушай, как тебя хвалят. И речи не может быть. Но в институте не в моих силах отменить, хотя я поставил жесткие условия: ни одного торжественного адреса, ни одного хвалебно-подхалимного высказывания, только юмор и шутка! И никаких пригласительных билетов, никаких объявлений. Пусть все придут, кто захочет.
И народ стал валить в институт чуть ли не с утра. Заполнили конференц-зал, все вестибюли, коридоры, сидели на окнах и на полу между рядами кресел, что называется, маковому зерну негде было упасть. Поток поздравительных телеграмм и писем перегрузил почту и завалил нашу квартиру.
Пятидесятилетний юбилей Дау! Нет, описать это невозможно. Физики, студенты, молодежь свою любовь, свое преклонение, уважение преподнесли в подарок Дау, оформив все это в остроумнейший блестящий поток шаржей. Вот физик — серьезный, ни тени улыбки — преподносит Ландау «икону» со словами: «Дау, у нас, физиков, есть свой бог, этот бог Ландау».
У Дау была так высока мера человечности. В те дни я не подозревала, что природа создала его гением. Я тогда смела сравнивать Дау с окружающими людьми. И, конечно, все проигрывали! Вспомнила свою пошлую игру в любовь с Л.. Время от времени мы встречались. За это время он «освоил» пять чужих жен.
— Колечка, милый, если я стану твоей любовницей, ты так же быстро бросишь и меня, как Нину, Милочку, Наташу и других. И после меня следующим будешь говорить, как мне сейчас говоришь, о своих бывших возлюбленных. Когда я вижу тебя под своими окнами, я тебе верю, но уподобиться тем девицам, которые приходят к Дау, я не могу.
Так мы с Колечкой беседовали в небольшом пустынном скверике, который помещался напротив нашего дома.
— Кора, откуда у тебя такие изощренные методы издевательства? Порой мне кажется, что ты меня любишь, ты умна, я часто прибегаю к твоим советам в {217} своих делах. Но, поверь, я начинаю терять голову, я уже жить не могу, не видя тебя.
У меня мелькнуло в памяти что-то из Бальзака: «Заставить загореться одним из тех желаний, которые испепеляют». Жидковат он для таких желаний. Нет, он не мой герой!
— Ты, Коля, слишком избалован женщинами. А потом заявишь: «Я разлюбил тебя...».
— Слишком трезвая голова у женщины не украшает ее. Порой мне хочется послать тебя ко всем чертям. Разорвать те путы, которыми ты меня опутала!
— Коля, но с разрывом наших отношений моя жизнь может оборваться. Коля, я говорю очень серьезно. Я так ценю наши короткие встречи, я не могу обойтись без наших свиданий, в них заключается вся моя жизнь, — говорила я очень серьезно, а перед глазами стоял Дау!
— Ты любишь меня, а хранишь верность своему повелителю, несмотря на его параллельных девиц.
— Коля, с его параллельными я уже примирилась. А ты? Я поехала с тобой на месяц в Сочи, и тебя в первый же день увела новая блондинка.
— Кора, если я брошу все: Москву, семью, карьеру, возьму кафедру в Алма-Ате, ты уедешь со мной?
— О, Коля, на край света пойду за тобой! Одно условие: никаких параллельных. Только как же ты оставишь свой новый корпус? — ехидно спросила я.
— Да, я запутался. Что-то у меня не получается.
— Колечка, давай сбежим в Алма-Ату.
— Кора, это не шутка. Со всего мира идут письма. Мой эксперимент ни у одного ученого в мире не повторился.
— Коля, это естественно, они по правде хотели вылечить от белокровия своих подопытных мышей. Н. Н., выступая по телевизору, очень помог тебе составить карьеру.
— С Н.Н. я заключил договор: он меня проводит в академики, а я буду тянуть в академики его зятя Г., ведь ему неудобно протаскивать собственного родственника.
Ритуалы, навязанные Колечкой, мне осточертели. Иногда я забывала, что в такое-то время должна стоять {218} и смотреть, как он марширует под моими окнами, совершая оздоровительный моцион после ужина, то на его зов должна выскакивать на липовую аллею и выслушивать длинные нудные жалобы, как тернист путь в науке, когда пробиваешься только локтями. «Твоему Л.Д. вольготно: у него сто процентов еврейской крови, а я еврей только на 50 процентов. Мне наука дается с трудом» и т. д. и т. п.
В один из понедельников у нас в доме были иностранные гости. Я не смогла выскочить на 15 минут, как он просил, на липовую аллею. Я вообще стала избегать встреч, Колечка начал писать длинные записки, опуская их в почтовый ящик.
— Коруша, что ты сидишь все время дома? Сейчас, когда я подъехал к воротам нашего дома, Коля дежурил около твоих окон. Попытался незаметно улизнуть. Я, конечно, не подал виду, что заметил его.
— Понимаешь, Зайка, его не устраивает моя любовь! Я вообще не могу понять, что ему еще надо? Вот, прочти, что он мне пишет:
«Вчера вечером я сделал последнюю попытку внести какую-то ясность в наши отношения. Результат этой попытки можно было предвидеть заранее. Я, конечно, знал, что в понедельник вечером вы будете сильно заняты. Но, быть может, именно поэтому вы бы смогли показать, что 15 минут времени для встречи с человеком, которого вы любите, у вас всегда найдется. К сожалению, вы были верны себе и отказались от встречи. Отказались так, как вы всегда отказываетесь от встречи с неугодными вам людьми.
Хочу напомнить, что в воскресенье вы мне сказали, что с разрывом со мной кончится вся ваша жизнь. Однако первая же самая скромная просьба — встретиться, хотя бы на 15 минут, — и вы не смогли. О себе могу сказать прямо, что не было, кажется, такого дела, которое я не отложил бы ради встречи с вами. Я знаю, что это плохо, нельзя откладывать дела, но степень увлечения вами была слишком сильна, за отношения с вами я заплатил дорогой ценой. Нервная система расшатана до предела. Начиная с вас, я впервые по-хамски стал обращаться с женщиной. К вам у меня выросла глухая и глубокая ненависть. Так можно ненавидеть хозяина, {219} от которого зависишь, но который полностью подавляет тебя. Ведете вы себя потрясающе. Полное отсутствие какого-то ни было влияния на вас, ничто не вошло в вашу жизнь и в вашу психологию от встречи со мной, в вас внедрили психологию параллельных. Из вас сделали нечто, вообще не похожее на человека, вы просто красивая вещь. Весь идейный стиль ваших отношений был издевательством над моим внутренним миром. Это была адская ломка всех привычных понятий. Все ваши отношения ко мне были нечестными. И в последний понедельник вы не только не нашли возможность выбежать, как это сделала бы любая женщина в данных отношениях, на 15 минут, но даже не подошли к окну, что делали раньше. Я вас очень хорошо понимаю, Кора. Вас тяготит необходимость делить с кем-то душу. Вам нужно говорить, что вы самая красивая, самая лучшая, самая любимая. В ответ на это вы будете принадлежать человеку. Мне очень тяжело, но быть с вами, значит полностью презирать себя. Что же вы сделали, Кора, из отношений, которые могли тянуться, как голубое счастье, многие, многие годы».
— Коруша, ты собираешься ему отвечать на это письмо?
— Даунька, я просто не знаю, что ему написать. Из его письма я только усвоила, что счастье окрашено в голубой цвет.
— Давай я тебе продиктую.
— О, Зайка, пожалуйста.
— Коруша, пиши:
«Милый Коля! Не знаю, что писать тебе. Все это напоминает какой-то кошмарный сон, где понять ничего нельзя и все так безнадежно перепутано. К сожалению, ясно только одно: я напрасно мечтала о том, что ты влюблен в меня. Ты влюблен только в самого себя, а мои чувства и переживания тебе глубоко безразличны. Тебе приятно считать себя жертвой, а я, увы, только предлог. Во всем твоем длинном письме я тщетно искала хоть одно слово нежности и любви ко мне. Все только жалость к самому себе в воображаемом горе. Что же, ты прав, так продолжаться не может. Ты с какой-то злобной радостью топчешь в грязь мою любовь и все то красивое и благородное, что было {220} между нами! Можешь утешать себя мыслью, что причинил много горя «бедному извергу». Прощай, будь счастлив с другими. А если сказать правду, то этого товара у тебя по горло. Кора».
С каким злорадством я отсылала это письмо, продиктованное Даунькой. Моими были только последние 10 слов. Я всю жизнь берегу это письмо, продиктованное Даунькой от моего имени Л.. Стиль письма мне так дорог, я так много писем получала от Дауньки в таком же стиле. Он был у Дау более чем блестящ. Короткие, умные фразы, сказано сильно, и все уместилось на одной странице.
Москвичи чаще всего обращались к Дау по телефону. У Дау была специальная книжка, где строго записывалась очередность посещений, дни, часы, все минуты были рассчитаны, и наша комната-библиотека никогда не пустовала, кто-нибудь решал задачи. Посетителей Дау встречал внизу сам.
— С собой наверх возьмите только ручку, чистой бумагой я вас обеспечу, все книги и портфель оставьте внизу.
Как-то на очередной звонок открыла дверь я. Поднявшись к Дау, сказала: «Даунька, там к тебе пришел симпатичный мальчик-школьник». Этот школьник недолго просидел в библиотеке, а когда он ушел, сияющий Дау мне сказал: «Коруша, это не школьник, а студент первого курса, он на редкость талантлив, я из него сделаю настоящего теоретика». Это был Алеша Абрикосов.
Письма к Дау шли со всех концов страны. Писатели, студенты, школьники, пионеры, молодежь из армии. Приходили письма даже из мест заключения от молодежи. Международная почта была тоже обильной. Почтовый ящик не вмещал всей корреспонденции. Мне пришлось вместо почтового ящика прорезать щель для почты в двери. Писем было всегда много.
Дау на все письма отвечал сам. Этого общения с людьми он не мог доверить Лившицу как своему секретарю. У Дау мысль работала быстрее рук, он диктовал ответы на письма в секретариате института машинисткам. {221} Умные, доброжелательные слова слетали легко, четко, искренне, так же, как и его публичные выступления, они были блестящими, без подготовки, без шпаргалок! Как студенты любили его выступления! Он говорил коротко, но умно, дельно и красиво.
Для лекций Ландау в МГУ отводились самые большие аудитории, но мест всегда не хватало. Студенты сидели на полу, двери в коридор открыты, там тоже толпа студентов, тишина. Молодежь ловила каждое слово, сказанное Ландау. А Лившиц после смерти Ландау посмел написать в журнальной статье следующие слова: «Ему вообще было трудно излагать свои мысли». Какая ложь!
Все чаще приезжали ученые из разных стран, все чаще у нас дома были приемы. В те годы Дау очень много работал
— Коруша, я сегодня иду к Капице на ленч. Анна Алексеевна будет кормить мозг мира.
— Заинька, милый, ну, пожалуйста, постарайся запомнить, что ты там будешь есть. Мне надо знать, когда этот мозг мира придет к нам на ленч, чем его угощать.
— Постараюсь.
И когда вернулся домой:
— Дау, ты никуда не заходил после ленча?
— Нет, я прямо от Капицы.
— Но я вижу, ты чем-то расстроен.
— Да, пожалуй, за этим ленчем у Капицы мне было очень не по себе! Понимаешь, за столом много ученых со всего мира, и все, все наперебой говорили только о моих работах, расхваливая их. Неужели эти иностранцы не понимали: ведь неприлично, будучи в гостях у всемирно известного физика Капицы, без конца хвалить только работы Ландау, хотя у Капицы есть очень много хороших работ. К триумфу я безразличен, но {222} Анна Алексеевна могла убить меня молнией своего взгляда. А сам я плохо себя чувствовал перед Петром Леонидовичем. Я очень искренне и глубоко уважаю его, ведь он при сталинизме спас мне жизнь, я это всегда помню.
— Дау, что ты ел на ленче?
— Что я ел? Коруша, кажется, жареную лягушку. Ну как ты можешь спрашивать меня о такой ерунде? Я никогда не знаю, что я ем. Я ем, если вкусно, и не ем, если невкусно. А что? Вот это меня никогда не интересовало. Помнить, что ты ел, это просто невозможно.
Воистину интеллект с желудком не в дружбе!
И уж к слову будет сказано. Как-то во время войны в Казани мне удалось на рынке раздобыть кусок парной телятины. Жаркое из телятины за обедом Дау назвал очень вкусным, а когда в тот же день подошел ужин, и он узнал, что на ужин тоже телятина, он сказал: «Как, и на обед телятина, и на ужин телятина! Коруша, это очень скучно». Но, подойдя к столу, увидев холодную телятину, нарезанную ломтиками, он с восторгом воскликнул: «А вот такую телятину я с удовольствием съем не как телятину, а как колбасу». — «Пожалуйста, можешь есть ее как шоколад, но только съешь. Не каждый день удается достать такие продукты».
Однажды к обеду с «мозгом мира» я замариновала судака, за которым специально ездила на Оку. Маринованный судак получился отменным. Моим иностранным гостям он пришелся очень по вкусу. Они стали наперебой спрашивать рецепт. Не зная английского языка, попробуйте объяснить. В голову пришли им понятные слова, и я сказал: «Это секретно». Все гости долго и искренне смеялись. Иностранцам-физикам было знакомо русское слово «секретно».
| {223} |
В один прекрасный день весной 1961 года Даунька с буйной радостью ворвался в кухню: «Коруша, пришла телеграмма: Нильс Бор прилетает в Москву. Мы завтра едем на Шереметьевский аэродром встречать Нильса Бора, его жену Маргарет и сына Ore».
Как был счастлив Дау, узнав о приезде Нильса Бора. На Шереметьевском аэродроме Дау так сиял, просто парил. Мне казалось, что сейчас у него появятся крылья и он полетит навстречу своему легендарному учителю.
Свой первый визит в Москве Бор нанес Ландау. Как я готовилась к этому приему! Даже цветы подобрала в одной гамме с сервировкой стола. Награда была большая: Маргарет, войдя в столовую с мужем, сказала по-русски: «Как все красиво вы сделали!». Оказывается, собираясь в Москву, они изучали русский язык.
Это был последний приезд величайшего физика нашей эпохи в Советской Союз. Сознавая свою причастность к созданию атомной бомбы, он горел желанием внести свою лепту в дело разоружения, в дело борьбы за мир, хотел обсудить эту проблему с Н.С. Хрущевым.
Будучи у нас в гостях, он поделился своими соображениями с Дау, сказав, что записался на прием к Хрущеву: «Мне пообещали свидание, и я с завтрашнего дня буду сидеть в гостинице ждать телефонного звонка, чтобы узнать день и час приема».
Ведущие физики Москвы Капица, Алиханов и другие готовились принять у себя Нильса Бора. Он обещал после приема в Кремле посетить их.
Напрасно Алиханов ежедневно заготовлял шашлыки. Никого не смог посетить легендарный физик. Около недели тщетно ждал он телефонного звонка. А потом уехал!
Дау, ежедневно его посещавший, разворачивая газету, говорил: «Вот сегодня Никита Сергеевич принимает в Кремле доярок, вчера он принимал свекловодов, а для Бора у него нет времени. Но ведь великий Бор — гость страны. Это просто неприлично!».
О Нильсе и Маргарет Бор Дау мне рассказывал еще {224} в Харькове: в Дании есть огромный роскошный дворец. Его некогда выстроил миллионер-пивовар для самого выдающегося человека Дании. Этот дворец по своей красоте соперничает с королевским дворцом. В нем живет со своей семьей Нильс Бор. Еще с харьковских времен жена Бора Маргарет представлялась мне женщиной, похожей на королеву (живет в таком дворце!). Я не ошиблась: в ней было что-то королевское. Она привезла мне в подарок красивый воздушный шарф небесно-голубого цвета. Меня поразили ее слова: «Так трудно было в Копенгагене узнать, что жена у Дау блондинка». Я до слез была тронута тем, что семья Бора, собираясь в Москву, интересовалась мной. Такое и присниться не может. Это просто фантастика.
Нильс Бор привез в подарок Дау чашу литого серебра. Я вспомнила, что у меня есть колье из аквамаринов стариннейшей работы, и подумала, что оно очень подойдет Маргарет, тем более что украшений на ней не было. Поздно вечером, когда они уходили, при прощании я надела Маргарет свой подарок. Колье произвело на всех большое впечатление, даже Бор сказал по-русски: «О, это настоящая старина». А когда все разошлись, Дау мне с большой гордостью и глубоким значением сказал: «Коруша, можешь гордиться: ты в своем доме приняла настоящего великого человека».
Бор рассказывал очень много интересного. В кабинете Дау, взяв в руки огромную золотую медаль Макса Планка, которую среди ученых мирового масштаба имеют только пять человек (Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Паули и Ландау), он весь просветлел, улыбнувшись своей доброй улыбкой. Ему было очень приятно, что его ученик Дау имеет эту поистине международную награду.
Накануне второй мировой войны об атомном оружии поговаривали во всем мире, особенно в мире науки. Всех пугала мысль, что расщепление было открыто именно в Германии. Все боялись, что немцы оборудуют свои военные корабли атомными двигателями или вдруг устроят атомный взрыв.
Я помню, однажды в неурочный час Петр Леонидович {225} Капица срочно вызвал Дау к себе домой. Когда Дау вернулся, я спросила:
— Дау, что-нибудь случилось?
— Нет, Коруша, пока еще ничего. Просто Петр Леонидович попросил меня теоретически опровергнуть возможность создания атомной бомбы. Он сказал, что ему надоело слушать и читать о том, что атомный взрыв возможен.
— Ты согласился?
— Нет, Коруша. Я сказал Петру Леонидовичу, что атомную бомбу обязательно сделают. И атомный взрыв, возможно, тоже произойдет. А первую бомбу сделают обязательно в Америке, примерно лет через десять.
Этот разговор состоялся в 1940 году.
Так беззаботно мы разговаривали с Дау о возможности производства атомной бомбы. Вернее, беззаботность была во мне. Я в те времена была слишком счастлива, чтобы придавать значение тому, что где-то в буржуазной стране фашисты пришли к власти. Вслух я сказала что-то очень легкомысленное по этому поводу. Дау вдруг стал очень серьезен:
— Коруша, ты не права. Фашизм это международное зло. Это касается всех.
Уже после войны в 1955 году вышла книга Лауры Ферми «Атомы у нас дома». Книга хорошая, интересная. Лауре Ферми очень повезло: она писала книгу о живом муже!
Очень интересные факты, но многое из того, что написано в этой книге, нам рассказывал еще сам Нильс Бор. О самом Нильсе Боре написано замечательно, красочно и очень правдиво. Кое-что я процитирую.
(Эти цитаты, занимающие всю главу, здесь опущены)
| {226} |
Физический факультет Московского государственного университета ежегодно в начале мая устраивает карнавальный праздник «День Архимеда». Дау всегда был почетным гостем таких торжеств. К физфаку университета собиралось все московское студенчество. Приезд Нильса Бора в мае 1961 года совпал с этой датой. Дау условился с Бором, что он со своей семьей приедет к нам, а от нас мы все вместе поедем на «День Архимеда» в МГУ.
Начинался праздник на крыльце физфака. Обширное крыльцо в виде сцены, на котором появлялись Архимед, Ньютон, Фарадей и другие. Их костюмы соответствовали тем эпохам, в которые они жили. Все было театрализовано. Сценаристами, режиссерами и артистами были студенты-физики. Все было злободневно, остроумно и очень интересно.
Заканчивался праздник в обширном конференц-зале главного корпуса МГУ. Физики всегда сами сочиняли пьесу и всегда это был неповторимый шедевр остроумия. Попасть туда было непросто: ведь все московское студенчество не вместит никакой конференц-зал.
Когда на крыльце физфака появилась высокая стройная фигура Ландау, студенты закричали от восторга, а когда Дау в микрофон объявил, что в этом году на праздновании «Дня Архимеда» присутствует сам Нильс Бор, произошло что-то невероятное: море студенческой молодежи закипело, взволновалось, взревело и пошло на физфак. Высокими валами волн. Оглушительная овация сопровождалась трубным гласом: «Бор — Ландау! Бор — Ландау! Бор — Ландау!».
Мы поняли, что не сможем пробиться в конференц-зал. Стихийно к крыльцу физфака стали пробиваться студенты-атлеты. Они образовали живое кольцо. В этом кольце шли с женами Нильс Бор и Ландау. Даже такое путешествие было небезопасно. Когда студент-атлет выдыхался, его заменял другой. Цепь студентов ликовала. Они близко видели Нильса Бора.
Я невольно произнесла: «Что делает знаменитое имя Нильса Бора!». И один богатырь из цепи произнес: {227} «Знаменитость? Нет, что вы. Знаменитость — это Ландау, а Нильс Бор — это же просто живая легенда». Эти слова молодого богатыря, его прекрасное лицо, его голос, произнесший такие слова, запомнились на всю жизнь. Не знала я, что это была вершина моего земного счастья! Это был май 1961 года. Нас совершенно невредимыми доставили в конференц-зал. Усадили в первом ряду.
Овации, овации, овации...
Я часто слышала, что Дау в науке легко мог заглядывать в будущее. Как-то, когда мы были с Дау на даче у Петра Леонидовича Капицы на Николиной горе, Петр Леонидович, обращаясь к Дау, сказал: «Дау, вы обладаете ценными качествами. Вы знаете, какой темой надо заниматься, а из какой ничего не получится. Вы нашему государству сберегли не один миллион рублей».
Я не помню, почему зашел этот разговор, но слова Петра Леонидовича вспомнила, когда присутствовала при следующей сценке.
Звонок в дверь, открываю. Появился Василий Петрович Пешков.
— Заходите, Вася, — пригласила я.
— Кора, я на одну минуточку. Дау гибко перегнулся с лестницы:
— А, Вася, заходите.
— Дау, я на одну минутку. Заходить не буду. Я пришел вам сказать, что десять лет назад, когда я взял свою тему для экспериментальной работы, вы сказали мне: «Вася, эта тема не получится, бросьте, у вас пропадет десять лет». Так вот, Дау, десять лет прошло, тема у меня не получилась, вы были правы.
После смерти Дау мне рассказали журналисты-очевидцы. Дау был приглашен в МГУ на заседание своей кафедры физиков. Он перепутал аудитории и зашел на заседание к физикам-метеорологам. У доски докладчик глубокомысленно делал свои выводы. Метеорологи собрались заслушать научное открытие своего коллеги, пригласив даже журналистов. Но едва докладчик кончил, к доске подлетел Ландау. Он обратился к {228} докладчику: «Вы меня, пожалуйста, извините. Я попал к вам случайно, перепутав аудитории, но мимо такой математической ошибки я пройти не могу. Если эту задачу решить правильно, — белый мелок молниеносно мелькал по доске, подчеркивая ошибки докладчика, — то, вы сами видите, весь эффект работы сводится к нулю, работы нет, есть только математические ошибки». Стояла гробовая тишина. У докладчика отвисла челюсть. Ландау, еще раз извинившись, ушел. Когда все опомнились, раздался вой: «Кто, кто его сюда пустил?!».
Прежде чем окончить главы своей счастливой и благополучной жизни, хочется внести ясность: ни голубых, ни розовых костюмов у Дау не было. Он никогда не был эксцентричен. Котят в карманах на лекции тоже не приносил. У него была куртка светло-синего цвета с золотыми пуговицами, очень изящного покроя. Носил он ее летом с белыми брюками, и она очень ему шла. Такой второй куртки в те далекие, счастливые мои годы не было, поэтому ее украли любители красивой одежды. Но в Харькове в УФТИ на двери его кабинета была табличка с надписью: «Осторожно, кусаюсь!». Прибил ее к двери сам Дау.
К счастью, я вышла из больницы Академии наук СССР 27 февраля 1962 года, накануне расширенного международного консилиума в больнице № 50, организованного по просьбе физиков.
Я знала: непосредственная угроза смерти Ландау отступила. Теперь врачи говорили: будет жить! Но еще не было зарегистрировано ни одного проблеска сознания. Это тревожило всех. 27 февраля, только к вечеру, я попала в больницу № 50. Час был неурочный, но меня пропустили к Дау. Запомнилось: много света, сверкающая белизна, всюду чистота, огромная палата. {229} Постель посреди палаты. Вся устремилась к Дау, но что это? Нет, нет! Разве может так выглядеть живой человек! Это высохший скелет, обтянутый темной неживой кожей. Глаза широко открыты, но в них нет жизни. Они огромны, они безумно черные, как пропасть в ад! Я стала кричать, очнулась в больничном дворе. Меня терли снегом. Потом усадили в машину.
А утром 28 февраля в 9 часов я уже была в палате Дау. Как вкопанная остановилась, едва переступив порог. Пригвоздил к полу взгляд Дау. Глаза живые, они смотрят, они видят! Нет, его рассудок не омрачен! Это настоящие глаза Дауньки: в них светится ум, пытливость. В его огромных глазах боль, вопрос ко мне, немой вопрос: «Что со мной случилось?».
Опять комок в горле. Но нет! Только не раскисать! Вооружиться холодным рассудком. Комок эмоций громадным напряжением воли проглочен. Проверить взгляд. Иду в противоположный конец палаты, не упуская взгляда Дау. Но пытливый, напряженный взгляд следит за мной. Еще раз пересекаю палату — взгляд, уже умоляющий, следит за мной. Бегом к Дауньке, в ладони взяла его голову и, жадно заглянув в глаза, сказала: «Даунька, я вижу, вижу, ты меня узнал! Ты очень, очень болен. Я знаю, говорить ты не можешь. Ты очень слаб. Но если правда, что ты меня узнал, закрой глаза и кивни головой».
Что это? Почему я на потолке, а стены пляшут? Меня поддержала медсестра. Ужасное головокружение, наверное, от счастья: Дау закрыл глаза и кивнул головой. Нет, нет, не случайно, четыре раза подряд. По моей умоляющей просьбе он кивал головой, прикрывая глаза веками. Медсестра воскликнула: «А врачей, как назло, никого нет! Ведь они нам не поверят».
«Как не поверят? Кто не поверит? Почему не поверить?» Мигом все пронеслось в сознании. Неважно, почему, неважно, кто. Дау в сознании, говорить не может, подключена дыхательная машина, больной не может произнести ни одного звука. И передо мной впервые возник грозный призрак. Медики не понимают вынужденного молчания больного!
Возможно, по утрам он уже давно приходит в сознание. Но ведь в медицинской практике во всем мире еще {230} не было случая с такими тяжелобольными, когда больной лишен языка вследствие подключенной к его дыхательным органам машины. Медики просто не смогли зарегистрировать проблески сознания. Таких больных, сами писали об этом во всех газетах, они еще не видели!
Я быстро пришла к заключению: мне надо немедленно скрыться с глаз Дау. Через два часа начнется консилиум. Тогда мне надо опять повторить свои попытки убедить медиков, что проблески сознания появились, и показать им, как я это обнаружила. Медсестра приступила к очередным процедурам, а я стала в тот угол палаты, где Дау меня не мог видеть. Сердце бешено колотится, оно рвется наружу, а голова ясная!
Чтобы дать отдых сердцу, стала изучать палату. Палата для одного больного просто роскошная: шестой этаж, много света, воздух чистый. Почему такая высокая кровать у Дау? Вспомнила: это не кровать, это просто стальной медицинский стол, который применяется в мировой медицине впервые. Он очень узок. Если Дау пошевелится, он может упасть. Сестричка, скажите, если ваш больной попробует переменить позу — у него так мало места, — он ведь может упасть!
— Нет, упасть он не может. Пошевелиться он тоже не может. При помощи винтов этого медицинского стола мы меняем его позы, предохраняя тело от пролежней. Ведь он полностью парализован.
— Как парализован? Это пройдет?
— Время покажет, всякое бывает. Он у нас и так молодец! Он не умер. Я с первых дней при нем. Все говорили «умрет», а он выжил!
Опытная медицинская сестра тихим, спокойным голосом отвечала мне, а нежные сильные руки, опытные руки, с большой любовью готовили больного к предстоящему консилиуму. Когда я умолкла, она нежно начала ворковать с больным. Так только мать может нежить своего младенца. Я стала уже другими глазами смотреть на Дауньку. Ясные, светлые глаза медсестры излучали любовь, нежность и заботу о больном. Гордость, любовь прозвучали в ее словах: «Он у нас молодец, он у нас не умер».
Комок в горле разрастался. Чтобы не разрыдаться, {231} выскользнула из палаты в больничный коридор, вспомнила, что в больнице мне главный врач Хотько говорил: «Сестер подобрали к академику Ландау лучших из лучших». Да, этой медицинской сестре Вере можно доверить жизнь человека!
Потом стали собираться врачи на консилиум. Мне показали врача С.Н.Федорова. Он оказался молодым и красивым. Тяжелая шаркающая походка говорила о большой усталости и перегрузке в его работе. С восхищением смотрела вслед Федорову, вошедшему в палату Дау. Еще час до консилиума. Сидя, постаралась расслабиться. Надо успокоиться. Закрыла глаза — сразу из мрака в белых простынях голова Дауньки.
Как он исхудал! Он просто высох. Мышцы полностью отсутствуют, остался только скелет. Тонкая сухая коричневая кожа обтягивает его кости, кудри остригли, на щеках глубокие впадины, челюсти плотно сжаты, сведены параличом, а из носа свисает тонкий резиновый зонд.
Пришла моя племянница Майя. Она мне рассказала: «Кора, вчера в пять часов вечера прилетел из Канады всемирно известный нейрохирург Пенфильд. Ему 70 лет. Медики его считают главным авторитетом в нейрохирургии. Он очень беспокоится, что у Дау не наступили признаки сознания. Он вчера так заявил журналистам: «Я оставил своих больных в Канаде, которым я тоже нужен. Я сел в самолет и пролетел над океаном. Надо спасать для мира Ландау. Я привез свои хирургические инструменты и своих ассистентов. Если необходимо, будем делать глубокую операцию мозга». Он прибыл в больницу прямо с аэродрома и четыре часа изучал больного и историю его болезни. Он сказал: «Если бы это был мой отец, я бы операцию мозга не делал. Но так как это Ландау — будет решать консилиум».
Операция была уже назначена на 16 часов в Институте имени Бурденко, сразу после консилиума.
— Кора, Дау перевезут в Институт нейрохирургии.
Но меня сверлила одна мысль: не допустить операции мозга. Клетки мозга Дау не должна тронуть рука любопытного медика.
— Майя, я вчера после пяти часов была у Дау. {232} Вчерашний мой визит закончился истерикой. А сегодня утром я убедилась: Дау в сознании. Майя, я очень волнуюсь. У меня очень большая слабость и дрожат ноги. Помоги мне: как только Пенфильд войдет в палату, помоги подойти к нему.
Вместе с профессором Пенфильдом в палату войти не удалось. За Пенфильдом устремились медики, физики, журналисты. Мне путь в палату Дау нахально преградил Лифшиц. Он встал в проеме двери, крепко вцепившись в дверной косяк руками. Но, к счастью, он маленького роста, его кто-то легко отстранил, предоставив мне возможность пройти, а Майя подвела меня к Пенфильду. Она владеет английским языком и представила меня Пенфильду.
Это было у изголовья Дау. Я сразу взяла в ладони голову Дауньки. Мой голос прозвучал удивительно громко. В многолюдной палате стояла мертвая тишина.
— Даунька, милый, ты очень, очень болен, ты говорить не можешь, но ты меня узнал. Если ты меня узнал, если ты меня слышишь, пожалуйста, закрой глаза, кивни головой.
Я впилась в ясные вопрошающие глаза Дау. Он все повторил, как я просила.
Пенфильд меня быстро оттолкнул, он сам схватил голову Дау в ладони и, заявив: «По-английски он лучше поймет», заговорил с ним по-английски. Дау делал все, о чем просил Пенфильд.
Тот быстро вскинул руку вверх. Он восхищенно, даже торжественно, по-русски громко сказал:
— Внимание! Констатирую первые настоящие проблески сознания. Операция отменяется.
Потом повернулся ко мне, пожал руку. Но что это с ним стало? Передо мной стоял стройный юноша, глаза сияли синевой. «Синеву глаз он прихватил от океана, что ли, над которым пролетал?» — промелькнуло неожиданно в моей голове. А она кружилась.
Пенфильд мне сказал:
— Теперь все будет хорошо, но запомните — выздоровление будет идти очень медленно. Лечение одно: терпение, терпение и еще много, много раз терпение. Что нужно больному? Воздух, питание и покой. Все {233} придет со временем само. Понимаете, мозжечок — часть мозга. Там сосредоточены жизненные центры, там у Ландау есть гематома, но она рассосется. Рассасываться будет около трех — пяти лет. В мозжечке капиллярная кровеносная система так тонка, что кровяной шарик проходит в одиночку и медленно. Но все, все рассосется само, без последствий. Надо только вооружиться терпением.
Выздоровление через три — пять лет! Это не завтра и не послезавтра, но, главное, операция мозга отменена! Пусть выздоровление идет хоть десять лет. Это счастье! Но зачем тогда перевозить его в Институт Бурденко? В это страшное место, к этим безжалостным медикам, в темное, мрачное старинное здание, стоящее в центре Москвы? Там нет свежего воздуха, которого так много в больнице № 50. Я где-то здесь видела академика Кикоина. Вероятно, командует он! Я ринулась его разыскивать. А когда нашла, стала просить:
— Исаак Константинович, раз мозговая операция отменена, зачем же Дау перевозить в Институт нейрохирургии? Здесь так хорошо!
— Кора, машина запущена, остановить невозможно. Я не в силах приостановить то, что наметили к исполнению медики. Уже мотоциклисты и милиция прибыли. Они обеспечат зеленую улицу той машине, в которой будут везти Дау. Нет, нет, приостановить перевозку Дау в Институт имени Бурденко я не могу.
Академик Кикоин слишком послушный и бездушный исполнитель. Он не захотел мне помочь.
Совершалась ошибка! Я это знала!
Институт нейрохирургии имени Бурденко — это медицинское учреждение, где лечат и наблюдают опухоли мозга. Реже доброкачественные, чаще злокачественные. В те годы это было единственное медицинское учреждение такого рода в нашей стране. Там знаменитые медики-нейрохирурги в свое время вынесли ошибочный приговор моему сыну. В судьбу сына я вмешаться смогла. Почему же я не могу лечить моего мужа там, где я считаю это необходимым?
Ведь в Институте нейрохирургии несчастные, обреченные больные выглядят ужасно. Опухоль в мозгу выдавливает глаза из орбит, а носовая грыжа увеличивает {234} нос до фантастических размеров. И все это должен видеть выздоравливающий после травмы больной. Мне было это непонятно. Я была в отчаянии, когда поняла, что совершается ошибка, а я не в состоянии ее предотвратить. У академика Кикоина жизнь сложилась благополучно. Он не видел больных Института нейрохирургии! А командовал после расширенного международного консилиума именно он. Правительство поручило ему нести ответственность за данное мероприятие.
Итак, март 1962 года застал Дауньку в Институте нейрохирургии имени Бурденко. Палата на первом этаже. Узкая, длинная, темная. Небольшое единственное окно чем-то затемнено со стороны двора. Свет попадает только на потолок. Стены окрашены в темно-бурый цвет. Входная дверь против окна.
Дау лежит лицом к двери. Окна он не видит. Ярко выступает кровать-стол из нержавеющей стали: ее перевезли из больницы № 50. Это уникальное произведение физиков здесь выглядит как-то зловеще. Пока Дау скован параличом, он упасть не может. Но если вдруг его паралич отпустит ночью и никого поблизости не будет, он может упасть. А кости только что срослись.
Придя домой, я по телефону связалась с теми физиками, которые изобрели эту медицинскую «уникальность». Они сразу согласились пристроить для выздоравливающего Дау стальные сетки. Обещали срочно изготовить их и доставить в больницу. Пришлют также механиков, которые прикрепят рамы защитных сеток.
На следующее утро я помчалась в нейрохирургию. Надо договориться, чтобы в палату Дау пропустили механиков с защитными сетками. Вначале я решилась обратиться с этой просьбой к палатному врачу Федорову. Сергей Николаевич, окинув меня строгим взглядом, серьезно сказал: «Предохранительные сетки больному не понадобятся. Я не разрешаю».
А сетки должны были привезти в тот же день. Пошла разыскивать заведующего этим отделением. Им оказался профессор Корнянский. Выслушав меня, он сразу согласился. При мне позвонил по телефону, дал {235} распоряжение на проходную и палатному врачу Федорову принять сетки в палату.
— Вы у Федорова спрашивали разрешения насчет сеток?
— Да, но он мне отказал.
— Он прав. Я тоже считаю, что Ландау сетки не нужны. Но раз уж вы их заказали, пусть привезут, послужат другим больным. Только в будущем все, что касается больного Ландау, согласовывайте с нами. Сейчас вам необходимо ежедневно привозить питание для мужа, пока оно идет через носовой зонд. В нашем институте таких больных нет, и питание мы приготовить не в силах. И еще. Необходимо пять или шесть пар нательного белья ежедневно. А грязное вам следует забирать. У нас механическая прачечная. Ваш муж не может пользоваться судном, его белье в механическую прачечную отправлять нельзя.
— Хорошо, только, пожалуйста, выпишите мне постоянный пропуск.
Имея постоянный пропуск, я приезжала в институт по нескольку раз в день, благодаря чему имела возможность наблюдать состояние и лечение Дауньки.
Консилиум еще не разъехался. Второе заседание этого расширенного международного консилиума состоялось уже в стенах Института нейрохирургии. Все медики пришли к единодушному мнению: правая сторона парализована навеки. Левая сторона постепенно, очень медленно, возможно, восстановится.
Узнав об этом, я почувствовала полную опустошенность. Тяжело опустилась на стул. Меня стал бить озноб. Так вот какие последствия могут дать травмы! Будет жить, скованный параличом. Нет, нет, этому нельзя поверить! Уже однажды в этих стенах, от этих нейрохирургов я слышала медицинский диагноз еще пострашнее. В науке есть законы, а еще есть гипотезы. Закон утверждает, а гипотеза только предполагает. Паралич Дау — это гипотеза!
Так вот почему Сергей Николаевич Федоров сказал, что Ландау защитные сетки не нужны. Следовательно, он еще до консилиума сам пришел к этой гипотезе.
Когда привезли защитные стальные сетки, их {236} поставили к стене в палате Дау. У Федорова спрашивали, указывая на сетки:
— Это для него?
— Это по просьбе жены мы их здесь оставили. Больному они не понадобятся. Придется под эти сетки поместить его жену.
А сетки простояли без дела только три дня! Рано утром, привезя белье для мужа, я увидела натянутые защитные сетки у постели Дау. Я кинулась к медсестре. Она дежурила ночью, было рано, она еще не сменилась.
— Раечка, почему вы надели сетки? Когда я накануне уезжала вечером, они были не нужны, — заикаясь, спросила я.
— Понимаете, ночью вдруг сразу ожила вся правая сторона, он чуть не упал. Если бы не эти сетки, я бы не смогла его уберечь. Сегодня ночью я была одна.
Консилиум еще не разъехался. Все собрались в палате Ландау, все ликовали. Врачи искренне радовались своим очередным и единодушным ошибкам.
Врачи, отработав свои трудоемкие часы, возвращаются к нормальной человеческой жизни. Им это необходимо. Они должны возвращаться к своей суровой профессии полноценными. А меня все время сверлят мрачные мысли.
Очень страшно, что Дау выздоравливает вопреки мнениям врачей. Он сейчас у них в плену. А если очередная ошибка — результат непонимания болезни? И уж коль скоро мне, обыкновенной домашней хозяйке, в прошлом химику, надо было указывать международному консилиуму, что у больного начались проблески сознания, то, следовательно, мне самой надо наблюдать, как его лечат врачи.
Нет, сегодня заснуть не смогу. Гарик спит наверху. Тихонечко встала, принялась стирать очередную партию белья. Эта работа приносила облегчение. Я убедилась, что желудок у Дау работает превосходно, значит, все клетки организма получают нормальное питание, жизнедеятельность их должна восстановиться. Я понимаю, что Дау — очень трудный больной. Им установлен мировой рекорд — по тяжести заболевания, по воскрешению из мертвых! {237}
«Ну почему ты, Даунька, без конца ставишь медиков в тупик? Ты всегда говорил: «Великий Эйнштейн вступил в противоречие с классическими законами физики. Образно выражаясь, он физику поставил «вверх ногами». Ты, подражая своему кумиру, пытался поставить семейные отношения тоже вверх ногами, разработав свой «брачный пакт о ненападении». Твоя мама говорила, что ты был очень трудным сыном. Ты был невероятно трудным мужем. И сейчас для медиков ты — самый трудный пациент на свете! Даунька, милый, хватит ставить мировые рекорды! Пожалуйста, выздоравливай, как обыкновенный человеческий человек!»
И он был на пути к полному выздоровлению.
Как-то после моего возвращения из больницы ко мне зашла Елена Константиновна, Женькина жена:
— Кора, я два месяца брала отпуск за свой счет. Петр Леонидович писал записки моему шефу, что я необходима в больнице для ухода за Ландау. Сейчас мне снова необходим отпуск. Напишите теперь вы записку моему шефу. Этого будет достаточно, чтобы получить отпуск. {238}
— Леля, мне в больнице Академии наук объяснили, как поставлен медицинский уход за Дау. Там дежурят сестры из нашей больницы. Там всегда дежурит наш врач Н.С.Коломиец. Она часто заходила ко мне в палату и все подробно объясняла. Ваша роль в больнице, где лечат Ландау, мне не совсем ясна. Вы ведь патологоанатом.
— Кора, как вы можете так говорить? Я дни и ночи проводила в больнице № 50. Кроме того, я дала слово Жене, что вы мне оплатите мой вынужденный отпуск. За два месяца вы мне должны всего двести рублей. Сам Петр Леонидович Капица выхлопотал мне отпуск за мой счет.
— Леля, вы отлично знаете: зарплату Дау мне не платят. Деньги за звание я оформила доверенностью на Шальникова. Эти пятьсот рублей идут в больницу для доплаты медсестрам. Леля, вы ведь видите, как я гружу в машину ковры, сервизы, хрусталь— все, что можно быстро продать в комиссионном.
— Кора, не будьте мелочны, мне нужно всего двести рублей.
— Леля, вы давно у меня взяли все мои деньги и даже все деньги Дау. Из института мне прислали список физиков, кому я должна и сколько. Ваш Женя под болезнь Дау одалживал деньги у физиков, и я должна оплатить эту очень крупную сумму. Я лично считаю, что вам и вашему Женьке сейчас уже делать в больнице совсем нечего. Писать вашему шефу я не буду. Вам Петр Леонидович Капица помогал получить отпуск за свой счет, обратитесь к нему и за оплатой.
Так я разорвала дружеские отношения с Лелей.
Время мчалось. Приближался день, когда должны были отключить дыхательную машину. Легкие за два месяца привыкли к кислороду. Как они срослись после травмы? Врачи утверждали, что он может задохнуться, когда отключат машину. Он не сможет самостоятельно дышать воздухом. И опять поползли мрачные медицинские прогнозы. Несмотря на их прежнюю несостоятельность, они меня просто сводили с ума!
Одна мысль, одно желание, одна мольба! Только бы Даунька стал дышать самостоятельно. Большего, казалось, ничего и не нужно. Только бы Дау стал дышать сам, без машины. И вот машину отключили. Сначала на несколько минут. Постепенно минуты перешли в часы. Дау дышит. Какое счастье! Дышит сам, без всякого труда и осложнений. Потом машину стали включать только два раза в день для вентиляции легких. Наконец наступил момент, когда машина была отключена полностью. Отверстие в горле закрыто резиновой пробкой.
Паралич постепенно отпускал левую сторону. Два пальца на левой руке — средний и безымянный — оказались очень искривлены в суставах. Без рентгена, без специалиста-хирурга в Институте нейрохирургии был назначен массаж этих пальцев. {239}
Массажистка оказалась неграмотной с медицинской точки зрения. Как только она прикоснулась к искалеченным пальцам, Дау стал издавать нечленораздельные звуки в виде страшного воя. Лицо искажалось страшными муками, глаза выходили из орбит. Тогда ему спокойно вынимали пробку из горла, звук моментально замирал.
Дальнейшее напоминало гримасу ужаса из немого кино. Присутствовать при этом было немыслимо. Я выскакивала, рыдая, из палаты. Помочь, освободить от боли, от этой зверской, инквизиторской процедуры было не в моих возможностях (как выяснилось позже, массаж делали вывихнутым суставам).
Я стала замечать, когда сидела около Дау, что он буквально не спускает испуганного взгляда с двери. Если входит Федоров, он явно успокаивается, но когда в проеме двери возникали слишком упитанные фигуры Егорова или Корнянского, ему хотелось скрыться, он явно их боялся. Когда появлялась массажистка, им овладевал ужас. Он в паническом страхе начинал метаться.
Несмотря на то, что машина была отключена, его постель еще стояла посреди палаты, а в изголовье все также с баллонами кислорода стояла дыхательная машина. Корнянский это объяснил так: «Все может случиться, машину держим наготове».
После месячного пребывания Дау в Институте нейрохирургии врачами не было замечено ни одного проблеска сознания. Они начали высказывать вслух свои опасения и сомнения. Не ошибся ли Пенфильд, констатируя проблески сознания у больного в присутствии международного консилиума? А Женька, игнорируя мое присутствие в палате, произнес: «Международный консилиум пошел на поводу у дуры-бабы. Я в течение двух месяцев наблюдал Дау. Я не заметил проблесков сознания, а она в один день заметила. Просто чушь. Ее нельзя было допускать на международный консилиум».
Как-то при мне в палату Дау вошли Егоров, Корнянский и невропатолог профессор Рапопорт. Дау в ужасе дернулся и застыл, как кролик перед удавом. На фоне своих громоздких спутников профессор Рапопорт {240} выделялся своей хрупкостью и интеллектом, большие голубые глаза излучали теплоту.
«Нет, я с вами не согласен» — с этими словами Рапопорт подошел к Дау. Отвернул одеяло и резким движением хотел притронуться к искалеченным пальцам на левой руке. Испуганный, настороженный Даунька прижал больную руку к груди, а здоровой правой рукой пытался защитить свои больные пальцы. Реакция была резкой и мгновенной.
— Ну, вот видите, реакция абсолютно нормального человека. Нет и еще раз нет. Я уверен, все придет в свое время. У него только контузия мозга, но мышления травма не коснулась. Посмотрите, какой осмысленный у него взгляд. Пенфильд не ошибся. Контузия мозга требует времени и терпения.
Так эти две туши в образе врачей сомневаются в нормальном мышлении у Дау! Они ведь себя не видят. Их вид «красивисту» Дау представляется болезненным кошмаром. Я лично содрогнулась, увидев их впервые в больнице № 50. А к профессору Рапопорту я почувствовала глубокое уважение, поспешила проконсультироваться у него.
Все, что я наблюдала у Дау, он подтвердил, как и Пенфильд: «Терпение, и все придет в свое время. Вот если по истечении четырех месяцев Ландау не заговорит, тогда можно проявлять беспокойство. А пока все идет просто блестяще!».
Выздоровление продолжалось. Вся моя вселенная свелась теперь к этому узкому стальному ложу, так непривычно стоящему посередине палаты. Как только я входила к Дау, я впивалась глазами в его глаза. Они говорили: рассудок не помрачен. Нет, нет, взгляд, его ясность меня успокаивали. Это его взгляд: умный, он настигает, умоляет, просит, требует, приказывает. Это его упрямый, невыносящий никакого насилия взгляд!
А если посмотреть на окружающую обстановку его глазами? Он вынужденно, со своего довольно высокого ложа, с тощей больничной подушки смотрит в потолок. Потолок слабо освещен, узкое окно затемнено толстым стволом дерева, палата длинная, мрачно окрашена, солнце сюда не заглядывает. Потолок и дверь. Больше больной ничего не видит. Когда спокоен, {241} смотрит в потолок, когда настораживается от шума, впивается взглядом в дверь.
Дверь его всегда беспокоит. Я начинала понимать: обстановка его пугала и настораживала. От малейшего шума он вздрагивал. А из других палат иногда доносился пронзительный, резкий крик, завывания тех несчастных больных, которые после глубоких мозговых операций переселялись в психиатрические лечебницы.
Нельзя допустить, чтобы дальнейшее выздоровление Дау проходило в этих условиях. Он так любил ярко жить, его искрящуюся многогранную натуру эта обстановка убьет! Это не палата, это камера! Но пока надо терпеть — вспомнила советы Пенфильда: терпение, терпение...
Увидеть мир глазами другого человека. Говорят, это возможно только в искусстве, только на сцене. А если в жизни возникают ситуации острейшей сложности, когда терзающая боль за бесконечно дорогого тебе человека заставляет смотреть на мир его глазами, глазами больного?
Время отсчитывало часы, дни, недели. Промелькнул еще месяц. Паралич отпустил полость рта. Рот стал открываться. Стали делать попытки давать по чайной ложке чистой воды. Питье заставило работать глотательный рефлекс. Прошла неделя. Наконец, вынут носовой зонд. Пища пошла через рот. Еще одно завоевание.
Теперь измельченную до консистенции жидкой сметаны при помощи кухонного комбайна пищу — очень трудоемкая работа — надо было заменить более полноценной едой для нормального питания через рот. Надо было готовить и возить питание в больницу три раза в день: завтрак, обед и ужин. Физически это было очень трудно. Я привезла в палату Дау свой холодильник, чтобы некоторые продукты держать в нем для медсестер.
Однажды, приехав с обедом, возле палаты Дау в коридоре я увидела очень молоденькую девушку, рыдавшую, приговаривая: «Я не могу больше оставаться в 50-й больнице. Возьмите меня на работу сюда. Меня за прогулы уже там уволили».
Ее очень участливо окружили физики и медики. Я {242} прошла в палату Дау, в палате все тоже очень сочувственно высказывались об этой девушке. Все очень жалели эту Леночку.
— А что стряслось у этой девушки, почему она рыдает?— спросила я.
Медсестры мне объяснили:
— А вы разве ее не знаете?
— Я вижу ее впервые.
— Она работала секретарем у главврача 50-й больницы. Когда привезли туда разбитого Ландау, физикам она очень понравилась, они окружили ее большим вниманием. Там консилиумы заседали по 3—4 раза в день. Елена Константиновна Березовская привозила все для банкетов. Леночка помогала угощать и медиков, и физиков, а так как физики дежурили там круглосуточно, то Леночка перестала вообще ходить домой, потеряв счет времени. Как-то поздно вечером раздался тревожный звонок. По телефону сообщили, что у отца Леночки инфаркт. Внимательный физик срочно доставил Леночку домой и помог выйти из машины. Но дорогу преградил молодой взволнованный парень: «Леночка, это я звонил. Твой отец здоров. Я соврал. Леночка, я хотел тебя увидеть. Я не могу понять, что все это значит. Ты даже спишь теперь в больнице. Услышав мой голос в телефонной трубке, ты бросаешь ее. Я хочу знать, что все это значит?». На все эти взволнованные вопросы Леночка, окинув презрительным взглядом своего жениха, влепила ему звонкую пощечину. Физик усадил ее в свою «Волгу» и опять привез в больницу. После того как комитет физиков переехал в Институт нейрохирургии, она все время находится здесь. Сейчас за прогулы ее уволили с работы. Она в прошлом году окончила школу, но на экзаменах в мединститут провалилась. Поступила работать и готовилась опять к экзаменам в медицинский институт. А ваши физики вскружили ей голову, она и думать забыла об учебе. Жениха потеряла, а этот физик совсем не показывается: вот она и дежурит здесь день и ночь, все его поджидает.
Жизнь не остановишь, подумала я. Блестяще эрудированные, умные физики не растерялись. Идет естественный процесс: весна — пора любви! Физики из одной {243} хорошенькой девушки сделали женщину. Это не трагедия! Это жизнь!
Даже весь трясущийся Судак не сводит глаз с красивой практикантки-медички. Судак после аварии поражен мелкой нервной дрожью. Когда Дау доставили в больницу № 50, он много дней просидел на окне больницы в коридоре шестого этажа, приговаривая: «Если Дау умрет, я выброшусь из окна». Сейчас его нервная дрожь уменьшилась, и он уже взыграл! Даже при Верочке он не может отвести глаз от юной медички. Возле Лифшица постоянно находится Зина Горобец. И только бедная Женькина жена Леля выбыла из этого странного клуба!
Если в первый месяц борьбы за жизнь Ландау комитет физиков, возникший стихийно, был настоящей боевой единицей, то сейчас он явно переродился в свою противоположность. Верховодит сейчас в комитете физиков Лифшиц. Он сейчас второе лицо после Егорова в Институте нейрохирургии по лечению Ландау. Тем более, Дау не дали Ленинской премии за его научную деятельность. Помню, он как-то сказал: «Коруша, только что закончил неплохую работу. Неужели и за нее мне не дадут Ленинскую премию?». Но эта его работа где-то застряла и не попала в зарубежные научные издания. А через год два американца повторили эту самую работу и получили за нее Нобелевскую премию.
После этого о Дау была очень хвалебная статья в «Правде», и наконец Ленинский комитет решил дать ему Ленинскую премию. Приходили к нам домой сценаристы, писали сценарий, готовились целый месяц перед ленинским днем. За три дня появились в нашей квартире киношники, вынесли мебель, внесли огромной силы и величины «юпитеры».
В день объявления имен тех, кому присуждалась Ленинская премия, кинохроника готовила телевизионную передачу из нашей квартиры. Однако накануне вечером приехали машины, забрали все оборудование киношников, сказав, что передача отменяется
Даунька очень весело смеялся, утверждая: «Коруша, вот когда я помру, тогда мне Ленинский комитет обязательно присудит Ленинскую премию посмертно. В {244} науке я кое-что сделал и эту почетную премию заработал. Тогда людская зависть смягчится».
Дау была присуждена Ленинская премия, когда он еще не умер, но лежал при смерти. Но не за научные открытия. Ему дали в компаньоны Женьку и присудили Ленинскую премию за курс книг по теоретической физике, хотя эта работа тогда не была завершена, не хватало двух томов. Радости получения Ленинской премии Дау был лишен. Он был без сознания. Вся радость, весь почет навалились на Женьку. Он сиял, метался, принимал поздравления, возглавлял комитет физиков, а на расходы этого уже ненужного комитета одалживал у физиков деньги под болезнь Дау.
Необходимые расходы по больнице несла я. Стоимость содержания Дауньки в больнице за один месяц обходилась мне примерно в 1.500 рублей. Это были законные, необходимые расходы, связанные со сложностью ухода за больным. Но куда тратил деньги Евгений Михайлович Лифшиц мне неизвестно.
Списки долгов, которые сделал Лившиц, занимая деньги у физиков под болезнь Дау, мне вручила Е.В.Смоляницкая — зав. отделом кадров Института физических проблем — со словами: «Это ваш долг физикам. Его надо оплатить».
Естественно, раздобыв деньги, я пошла в институт вручить долг тому лицо, которое передало мне списки долгов. «Елена Вячеславовна, я принесла деньги уплатить долг физикам по спискам, врученным вами».— «Конкордия Терентьевна, мне физики сказали, что от вас денег не возьмут. Когда Лев Давидович поправится, они сами получат с него. С вами они категорически отказываются иметь дело!».
Я ощутила комок в горле, повернулась и ушла. Когда вот так, публично, получишь плевок в лицо от канцелярской крысы, стараешься только не разрыдаться на виду у всех, мобилизовать все силы, чтобы справиться со своим состоянием. Я забыла занести деньги домой. Меня ждала машина, надо было ехать покупать продукты для больницы. Вернулась домой без денег. Эта крупная сумма лежала отдельно в большом бумажнике. Где потеряла — не помню.
Вечером позвонил Александр Васильевич Топчиев. {245} Он мне сообщил: «Завтра в 10 часов расширенное заседание медицинского консилиума всех врачей, ведущих Ландау. Заседание будет в Президиуме Академии наук, в моем кабинете».
В кабинете Топчиева, помимо врачей, были еще и физики. Председатель консилиума Н.И.Гращенков отсутствовал. После того как он дал интервью советским и зарубежным журналистам, рассказав о том, как ему удалось спасти жизнь Ландау, корреспонденты, прежде всего иностранные, сообщили в своих газетах — значительно приукрасив, — как профессору Гращенкову «удалось оживить мертвого Ландау». Газетчики европейских столиц на местах еще раз по-своему «художественно оформили» новость, и мировая пресса, падкая на сенсации, превратила самоотверженный труд советского врача С.Н.Федорова в чудо оживления мертвых. Чудодейственную силу приписали именно профессору Гращенкову. С этого момента его стали наперебой приглашать за рубеж, поэтому, будучи в очередной загранкомандировке, он на консилиуме и отсутствовал.
Открыл консилиум Б.Г.Егоров. Он очень пространно и наукообразно говорил о том, как ему, медику, интересно наблюдать такого больного, как Ландау. Сейчас перед ним стоит важнейшая задача — восстановить мозговую деятельность Ландау. Их первостепенная задача — вернуть Ландау в науку. Корнянский ему вторил, а Федоров отсутствовал. Физики очень благодарили Егорова, очень надеялись и верили в его авторитет. Только ему можно доверить восстановление мозговой деятельности Ландау. Лифшиц превзошел всех: он со слезами на глазах умиленно лопотал, что Ландау созданы сказочные условия для выздоровления. Это особенно важно сейчас, когда Егорову предстоит ответственнейшая задача — восстановить мозговую деятельность Ландау для науки. Он развел очень много «муры», как любил говорить Дау.
Тут мои силы кончились, и я сказала: «Если профессор Егоров и Корнянский умеют восстанавливать мозговую деятельность человека, почему они не возвращают больных к жизни после операций мозга, больных, которые воют и обречены кончать жизнь в психиатрических лечебницах? {246}
Мне профессор Пенфильд на международном консилиуме 28 февраля 1962 года сказал, что у Ландау все восстановится само по себе. Контузию мозга лечит время. Нужен воздух. Его в Институте нейрохирургии нет, так как он расположен в центре города.
Ему нужно питание. Институт нейрохирургии не в состоянии обеспечить питание такому больному. Я готовлю дома и через всю Москву вожу завтраки, обеды и ужины истощенному больному. У него ведь нет даже мышц! Поскольку еду подогревают на электрических плитках, она теряет питательную силу.
Больному также нужен покой. Но в Институте нейрохирургии он объят непонятным страхом. Его палата — длинная, узкая, темная, напоминающая гроб. Всем вам не пришло в голову посмотреть глазами больного на окружающую его в Институте нейрохирургии обстановку. Все помнят щиты на окнах Бутырок, а Дау побывал внутри Бутырок. Там свет шел от потолка. Так вот, в этой палате свет тоже идет от потолка!
В Институте нейрохирургии созданы сказочные условия не для Ландау, а для Лившица. Я не оставлю мужа выздоравливать в этом месте. Как только дыра в горле затянется, я его заберу!».
Егоров вскочил, не прощаясь, быстро вышел. За ним поднялись и разошлись все. Я тяжело опустилась на стул и разрыдалась. А.В.Топчиев стал меня успокаивать:
— Вы напрасно. С медиками так говорить нельзя! И потом, все физики и все медики в один голос говорят, что это единственное место, где за Дау обеспечен правильный медицинский присмотр. И, по-моему, его еще рано забирать оттуда, его опасно перевозить в Кунцевскую загородную больницу, которая стоит в лесу.
— Александр Васильевич, я знаю, что еще рановато, но необходимо организовать в больнице питание больному. Надо организовать приготовление диетического питания в самой больнице. Дайте из нашей академической больницы специалиста по лечебному питанию. Продукты я буду привозить сама. Дайте только повара!
А.В.Топчиев все устроил. В больницу были направлены повар, диетсестра и диетврач Цирульников. Вот это была настоящая помощь. Теперь я только с утра {247} привозила в больницу продукты и сдавала их повару. Под пристальным присмотром диетврача под кожей больного просто на глазах стали набухать и оживать мышцы!
Тогда я не понимала, сейчас понимаю: когда в конце февраля я появилась в больнице № 50, я была для всего медицинского консилиума и комитета физиков просто бельмом на глазу. Слишком смело интересовалась состоянием мужа и лезла в медицину. То ли дело названная женой Ландау Ирина Рыбникова! Никакой трагедии, приятная содежурная в комитете физиков. Она хорошо вписалась в компанию физиков. Была весна, ученики Ландау помнили заповеди своего учителя: скука — самый страшный человеческий грех. Даже молоденькая секретарша 50-й больницы с головой окунулась в их компанию, где жизнь била ключом.
Как-то рано утром, отдав продукты повару, я зашла палату к Дауньке. Заглянула ему в глаза, увидела, что его голубоватые белки подернуты желтоватым налетом. Дежурила Раечка.
— Рая, у него что-то желтизна разлита в глазах.
— Вы тоже заметили?
— Да.
— А вот Корнянский говорит, что я ерунду горожу.
— Раечка, я не ошибаюсь. Это что, первый признак инфекционной желтухи?
— Да, болезнь Боткина. Даже для здорового человека это заболевание серьезное! Вчера, когда я заступила дежурить, зашел Корнянский. Я ему сказала. А он на это раскричался. Сказал, что все контрольные сроки давно уже прошли после переливания крови! Откуда, мол, взяться инфекционной желтухе?
Но болезнь Боткина откуда-то взялась. Дождалась врачей. Они констатировали болезнь Боткина, т.е. желтуху. {248}
Поехала в библиотеку, прочла все о болезни Боткина. Первый этаж, старинное здание, заглянула во все углы. Да, мышиные норы есть и не одна. И потянулись дни, наполненные страхом. Как поведет себя во время этой болезни ушибленная печень? Уповала только на палатного врача Федорова. И он вывел Дау из болезни Боткина без осложнений! Но, наверное, главную роль сыграло то обстоятельство, что печень у Дауньки никогда не отравлялась алкоголем.
Прошло три месяца и на четвертом месяце болезни в палату Дау вошел Алеша Абрикосов. Врач Федоров спросил: «Лев Давидович, кто к вам пришел?». И Дау ответил: «Алеша Абрикосов, мой ученик».
Был устроен большой бум: Дау, наконец, заговорил! Я при этом не присутствовала. Эту радостную весть я услышала от медицинских сестер. Когда я пришла, он меня не узнал и несколько дней не говорил.
Потом вдруг за мелкие услуги дежурных сестер стал говорить «спасибо»! И, наконец, начал звать меня в мое отсутствие. Когда я пришла, он пристально посмотрел и сказал: «Это не Кора». Я сидела возле него, гладила нежно руки, уверяла: «Даунька, я Кора». Не обращая на меня внимания, он продолжал тихим, еще не совсем своим голосом очень жалобно произносить: «Пожалуйста, пропустите ко мне Кору. Пожалуйста, хоть на несколько минут пропустите ко мне Кору». Рыдая, я выскакивала из палаты.
Сомнения терзали, душили. Я думала, он даже не вспоминает о Гарике. Нет, это не возвращение сознания. Тогда я ошибалась: сознание вернулось, но память опаздывала.
Через несколько дней он мне вдруг заявил:
— А, пришла, мошенница, которая хочет выдать себя за Кору.
— Даунька, разве я не похожа на Кору? Он ответил:
— Очень мало.
— Дау, почему ты сказал, что пришла мошенница, которая хочет выдать себя за Кору? Ты разве помнишь, что я уже приходила?
— Конечно, помню.
— И ты помнишь, что я тебя уверяла, что я Кора? {249}
— Да, все это я помню, но от этого ты, мошенница, не можешь стать Корой.
— Дау, а если я тебе скажу одну тайну, которую знаешь только ты и Кора. Еще эту тайну знает один харьковский медик?
— Коруша, так это ты? Что же с тобой стало?
— Даунька, ты был очень долго безнадежен. Вот результат: я подурнела, побледнела, похудела.
Его память возвращалась, опаздывая на много лет.
После моего выступления на консилиуме у Топчиева палату Дау переоборудовали, дерево за окном спилили, на окно повесили белую шелковую штору. Стальную стол-постель вынесли, к стене поставили настоящую кровать. Но дыхательная машина все еще стоит наготове с кислородными баллонами.
Дыра в горле у Дау зарастает. И болезнь Боткина уже позади. Все равно со страхом вхожу в палату Дау. И вдруг Даунька весь встрепенулся, протянул ко мне руки:
— Коруша, наконец-то ты пришла! Пожалуйста, все выйдите, я хочу поговорить с женой. Корочка, закрой плотно дверь. Только не верь, что я попал в какую-то автомобильную катастрофу. Это чушь. Это не больница, это сталинский застенок! Егоров и Корнянский — не врачи. Это палачи. Посмотри, я не могу ходить, у меня страшно болят ноги. После очередных ночных пыток. А посмотри на всех заключенных: они все изуродованы пытками.
— Даунька, милый, но ведь Федоров — хороший врач.
— Федоров — очень хороший и очень красивый.
— Можно, я позову Федорова? С ним посоветуемся, что делать?
— Федорова позови, я его не боюсь. Вошел Федоров.
— Сергей Николаевич, послушайте, что Дау говорит.
— А я знаю, что он вам наговорил. Он мне все время это твердит.
— Сергей Николаевич, а это не страшно, это пройдет?
— Будем надеяться, время покажет. {250}
— Даунька, а голова у тебя не болит?
— Нет, Коруша, ты хорошо знаешь, что голова у меня никогда не болит.
— И сейчас, после сотрясения мозга, голова не болит?
— Коруша, я не знаю, что такое головная боль. У меня в жизни никогда не болела голова. Только ты мне не говори глупостей, никакого сотрясения мозга у меня не было. У меня безумно болит нога в колене... Корочка, почему Сергей Николаевич очень добродушно смеется, когда я Егорова и Корнянского называю палачами?
— Даунька, он смеется потому, что Егоров и Корнянский — знаменитые профессора-медики. Ты находишься на излечении в Институте нейрохирургии. Постепенно ты все вспомнишь. А разбил тебя на машине Володя Судаков. Сам с Верочкой остался без царапины.
— Представляю, как перепугался бедный Судак. Вот выздоровлю, я его подразню.
В первые страшные дни после аварии, когда я неустанно ждала телефонного звонка из больницы, позвонили из народного суда. Меня официально приглашали в суд. Собирались судить Владимира Судакова за учиненную им аварию. Я категорически отказалась, сказав: «Суд не может состояться. Ни я, ни мой муж — академик Ландау, если он останется жив, никогда не предъявим никаких обвинений Владимиру Судакову. Произошел несчастный случай». Мне ответили: «В таком случае изложите сказанное в письменной форме. Мы к вам домой пришлем жену Владимира Судакова. Вы ей вручите этот документ».
И Верочка пришла, впервые переступив порог квартиры Ландау в такой трагический момент. Никто из нас не мог предположить, что судьбе угодно нас столкнуть! Мы обе одинаково боялись взглянуть друг другу в глаза. Пригласив ее сесть, я тихо попросила: «Пожалуйста, продиктуйте, куда адресовать это заявление». Когда я вручила ей нужный документ, она поблагодарила меня, встала и ушла.
| {251} |
Как-то в палату к Дау вошла Нина Сергеевна Коломиец — врач больницы Академии наук. Он обратилась к Дау на французском языке. Он бегло ответил ей по-французски, но сделал замечание по поводу неправильного произношения и какой-то грамматической ошибки. Он все тщательно ей объяснил. Замечание было справедливым, и Нина Сергеевна сказала: «Лев Давидович, я никогда больше не сделаю этой ошибки».
Дау заговорил сразу на всех языках, которыми владел до болезни. Он даже принял у кого-то экзамен по теорминимуму. Я лично заметила закономерность: как правило, он утром не заговаривался, с утра он почти всегда был в сознании. К вечеру начинался бред.
По мере возвращения сознания он все чаще жаловался на боль в области левого колена. Я уже упоминала, что в юности Дау сказал о себе: «У меня не телосложение, а теловычитание». Почти два месяца шокового состояния иссушили мышцы и кожу. Мышцы исчезли почти полностью, а кожа превратилась в сухой коричневый пергамент. Но даже в виде почти мумии он таил в себе какую-то притягательную силу (возможно, только для меня). Огромный выпуклый лоб, правильной формы череп, глубоко запавшие глазницы, строгость окаменелого лица, на котором лежала печать смерти! В этом было что-то неизъяснимо величественное. Все земное как бы стерлось, ушло, трагедия только пощадила и резко подчеркнула гениальность личности!
К моменту возвращения сознания и речи мертвой оставалась только левая нога от колена до кончиков пальцев. Резко обрисовывались кости ноги под коричневой сухой кожей. Там, где должны быть мускулы икры, висел сморщенный сухой мешочек коричневой кожи. Не верилось, что еще совсем недавно он весь был такой, как сейчас его левая нога от колена до кончиков пальцев.
Все остальное тело расцвело, мышцы жадно возвращались к жизни, натянули помолодевшую бело-розовую кожу. Сейчас его руки от плеча до кости уже не назовешь макаронами, как при теловычитании. Они стали {252} круглыми, «теловычитание» исчезло, к жизни возвращалось «телосложение». А вес от 59 килограммов (при росте 182 см) дошел до 70 килограммов. Я принесла в больницу его часы с длинной секундной стрелкой.
— Даунька, давай проверим частоту пульса.
72 удара в минуту. Что же произошло? До аварии пульс колебался от 90 до 140 ударов в минуту. У него была повышенная деятельность щитовидной железы: при 140 ударах в минуту он уже не мог работать. Усиленная деятельность щитовидки вызывала повышенное сгорание в организме, поэтому он не набирал вес. Много раз, много дней проверяю пульс: он устойчив — 72 удара в минуту. Щитовидная железа, вероятно, пробыв длительное время в параличе шокового состояния, вернулась к жизни здоровой. Да, это было так.
Конечно, это слишком сложный способ лечения щитовидки, но факт остается фактом. Щитовидная железа возродилась нормальной, здоровой! Омертвленные нервные ткани при возрождении к жизни причиняли больному нестерпимую боль, которую медицина была бессильна снять. Врачи улыбались и искренне радовались этой боли, говоря: «Мертвое не болит, живое болит. Следовательно, нога вернется к жизни. Все придет в свое время, и вылечит эту боль единственный и самый сильный врач — время и терпение».
Боль острая, невыносимо мучительная. Боли все возрастали по мере возвращения сознания и памяти. В этих болях потонула радость возвращения сознания. Спасение было в опаздывавшей памяти. Больной не чувствовал продолжительности боли. Ему казалось, что боль началась только сейчас, а мы все хором обещали ему, что она должна пройти в течение ближайших часов. Он нам верил.
Так продолжалось довольно долго. По мере возрождения нервных волокон боль перемещалась — колено, голень, икра, подъем, ступни. Боли в подъеме, казалось, застряли навечно: там — сложное сплетение и разветвление нервных тканей. Один подъем терзал почти восемь месяцев, но вся нога до подъема налилась силой, мышцы ожили, икра возродилась. Граница боли — {253} подъем, и за подъемом ступня была все еще омертвелой. Там на уколы иголкой больной не реагирует. Шло нормальное возрождение к жизни через боль.
Пришло письмо в больницу от Максвелла из Лондона. Кривые выздоровления Ландау и 17-летнего сына Максвелла примерно до трех месяцев шли одинаково. Но на четвертом месяце у Ландау кривая выздоровления пошла вверх, а у сына Максвелла месяц-другой она постояла на месте, а затем поползла вниз. Он не вернулся к жизни. У него не ожил ни один рефлекс. Паралич не отпустил даже рта. Мальчик так и умер с носовым зондом питания. Это было очень грустно, очень горько. Умереть, не вступив в жизнь! Видимо, ушиб головы у мальчика был намного сильнее.
Даунька изнывал от ноющей боли в левой ноге. Стал без конца умолять меня, чтобы я забрала его домой, постоянно уверяя в том, что эти боли он вынужден терпеть из-за пыток по ночам. Его пытают Егоров и Корнянский.
Выйдя как-то из палаты, я разрыдалась. Медсестры принесли мне валерьянку и сказали:
— Он перепуган, и все это из-за машины.
— Какой машины?
— Из-за дыхательной машины. Ведь она стоит наготове в палате Ландау.
— Но у Дауньки уже дырка в горле закрылась, ее надо вынести из палаты.
— Вы думаете, он боится машины? Нет, дело не в этом. Если машину вынести из палаты Ландау, ее сразу заберут хозяева — представители Института детского полиомиелита. Они почти каждый день за ней приезжают. Она им очень нужна. Они спасают жизни детей, а наш Егоров не отдает. Они ночью в палату Ландау приносят к дыхательной машине умирающих больных {254} на носилках. Ночью зажигают свет, включают дыхательную машину и на глазах у больного Ландау делают трахеотомию своим больным, подключают дыхательную машину.
Так вот в чем дело! Вот откуда этот страх! Увидев мою реакцию, сестры стали меня умолять не выдавать их. «Нет, не бойтесь, я вас не выдам, клянусь! Я очень благодарна вам. Теперь я знаю, откуда у него этот непонятный терзающий его страх!»
Хорошо, что это случилось во второй половине дня. Егорова и Корнянского с больнице уже не было. У меня было время все обдумать и не было возможности в порыве протеста сказать лишнее. Всю ночь я мучительно искала выход.
Если медики пытаются спасти жизнь своих больных, пугая при этом одного выздоравливающего, в этом нет преступления. Но Дау я должна забрать. Дырка в горле совсем зажила. Сейчас как раз наступило время для перевода его в больницу Академии наук. Он только стал по-настоящему приходить в сознание. Такой панический страх ему вреден. И Пенфельд говорил, что нужен покой.
На следующий же день я узнала приемные часы Егорова и пришла в его кабинет. Там была врач из Института детского полиомиелита. Она очень убедительно просила вернуть им дыхательную машину. Егоров категорически отказывался:
— Пока Ландау в наших стенах, я машину не отдам. А вы с чем пришли? — обратился он ко мне.
— Борис Григорьевич, я решила забрать мужа. Сейчас тепло, часы гуляния в саду длительные, он видит ваших больных, и его сковывает страх. Боюсь, что это может отразиться на его психике.
— Вы считаете, что мы, медики, спасшие его жизнь, меньше заботимся о его психике, чем вы?
— Борис Григорьевич, я хорошо запомнила, что прописал профессор Пенфельд: питание, воздух и покой. В вашем лечебном заведении нет ничего, ваши больные наводят страх и ужас. Я уверена, что это вредно Ландау. Я должна забрать мужа. У вас нет условий для его выздоровления.
— Посмотрим, как вы это сделаете. Я кое-что в {255} медицине значу. Ландау — мой больной. Я его никому не отдам! Он будет выздоравливать только у меня!
Произнося это, он вскочил, лицо его стало багровым. Для моего устрашения он еще стукнул кулаком по столу.
На следующий день у меня отобрали постоянный пропуск. Дали взамен пропуск на черный ход, чтобы я ежедневно доставляла повару продукты и белье для больного. Здесь же выносили мертвецов и возвращали вещи несчастным близким. К Дау меня не пропустили, мотивируя это тем, что я очень плохо действую на психику больного.
И я опять помчалась к Топчиеву. У него были приемные часы, очередь была большая, но он опять принял меня без очереди.
— Александр Васильевич, сейчас в Институте нейрохирургии все больные на прогулке в саду. Вы сами увидите обстановку. Его оставлять там опасно.
Я рассказала ему, как ночью иногда до четырех послеоперационных больных подключают к дыхательной машине, и они умирают на глазах у больного Ландау.
Александр Васильевич сразу согласился:
— Да, я должен сам все увидеть на месте. Позвонил Чахмахчеву, вышел в приемную и, сердечно извинившись, сказал: «Простите, но у меня ЧП. Вернусь часа через полтора. Кто может — подождите, если нет — приму завтра».
Подъехав к проходной на шикарной машине, я соврала дежурному сторожу у ворот: «Откройте, я привезла очень важных профессоров для Ландау». Ворота открылись. Со двора мы легко попали в сад к больным.
Даунька сидел в кресле-каталке. Его прогуливала медсестра. Были операционные часы, врачей не было видно. Медсестра, завидев меня издалека, покатила коляску нам навстречу. Когда Дау увидел Александра Васильевича, он протянул ему обе руки.
— Александр Васильевич, вы пришли меня освободить? Спасите меня от Корнянского и Егорова. Не верьте, это не больница. Это сталинский застенок. Они ночью подвергают меня пыткам. Это не врачи, это палачи. О, пожалуйста, заберите меня отсюда. Посмотрите, как все заключенные изуродованы пытками, а я после {256} пыток не могу ходить. Умоляю, не оставляйте меня здесь ни на один день. Александр Васильевич, посмотрите, я плачу. У меня льются слезы. Я смертельно боюсь Егорова и Корнянского. Вот я вижу, эти палачи уже бегут к вам. Они вам улыбаются, но их халаты в крови. Они сейчас вам расскажут, как мне здесь хорошо. Неужели вы, Александр Васильевич, оставите меня здесь на их растерзание. Если вы им поверите, я здесь погибну!
Я оглянулась. Действительно, эти туши спешили навстречу Александру Васильевичу. Они в самом деле улыбались, и их халаты были в крови.
Егоров начал:
— Александр Васильевич, вы не обращайте внимания на то, что говорит вам Ландау. Он просто бредит, он еще не в сознании.
— Нет, товарищи. Не забывайте, он в свое время был в тюрьме, а ваше учреждение ему напоминает мрачные дни. Да и окружение ваших больных даже у меня, здорового человека, вызывает содрогание. Нет, никакого разговора быть не может. Лев Давидович, я очень рад вас видеть. Даю слово: я вас отсюда заберу.
И, обращаясь к Чахмахчеву, управляющему делами Академии наук, сказал:
— Григорий Гайкович, даю вам срочное задание: в трехдневный срок подготовить палату-люкс в загородной кунцевской больнице и перевести академика Ландау туда.
Лица Топчиева и Чахмахчева были белее полотна. То, что они увидели, очень их взволновало! Это был май 1962 года. Через два дня А.В.Топчиев уезжал в длительную заграничную командировку, а потом у него был отпуск, который он собирался провести в Карловых Варах.
Егоров это знал и не растерялся. Он собрал в Институте нейрохирургии всех психиатров Москвы, всем сам звонил лично, приглашая на консилиум по поводу состояния академика Ландау. К собравшимся врачам он обратился с личной просьбой: «Я в свое время спас жизнь академику Ландау. Сейчас он выздоравливает у меня. Я за ним наблюдаю. Мне как медику это очень интересно. Это мой больной, и меня мои коллеги, надеюсь, {257} понимают. Но жена академика Ландау мне мешает восстанавливать мозговую деятельность больного. Трагедия с мужем отразилась на ее психике. Ее необходимо обследовать и поместить на излечение в психиатрическую лечебницу. Она недавно вышла из больницы Академии наук и сейчас хочет взять из-под моего наблюдения моего больного. Вот я составил бумагу и очень прошу, чтобы все психиатры ее подписали. Я категорически против. Сейчас академика Ландау нельзя перевозить в другую больницу».
Все члены этого «консилиума» пошли навстречу знаменитому медику Егорову, и все подписались. Я была лишена пропуска к Дау.
В тот день, сдав продукты повару, я хотела уйти, но меня догнала и остановила одна из медсестер. Она-то и сообщила мне о срочном заседании консилиума психиатров. «Вот бандит, — пронеслось у меня в голове.— На консилиум психиатров мне не попасть. И потом, если Топчиев дал слово, и уже готовится палата в кунцевской больнице, разве в силах Егоров этому помешать. Вероятно, медсестра что-то перепутала. Возможно, этот консилиум собран не для Ландау. В больнице много больных, которым психиатры очень нужны».
Топчиев уехал, а когда палата-люкс была готова и приехали наши врачи, чтобы сопровождать академика Ландау при переводе в загородную больницу, Егоров предъявил им документ, подписанный психиатрами Москвы, запрещающий перевоз больного. Ну что ж, пришлось с этим смириться. Осенью вернется Топчиев. Только он может помочь.
Ежедневно доставляя продукты в больницу через черный ход, я пыталась пробраться к окну Дау, но была замечена и получила полный запрет пребывать на территории института нейрохирургии. Нагруженная продуктами, я должна была ждать повара на проходной. Это было очень утомительно. Прислушиваясь к рыданиям несчастных родных тех, кто находился здесь на излечении, я поняла из их разговоров, что для того, чтобы сюда попасть без очереди, надо дать взятку.
Настоящее разбойничье гнездо! Им даже нипочем нарушать законы! {258}
Но все-таки я должна выяснить, что произошло на консилиуме психиатров. А вдруг психиатры нашли какие-нибудь признаки психического заболевания? Сдав продукты повару, я помчалась в психиатрическую лечебницу к врачу Снежневскому. Его фамилию я слышала давно, и молва о нем шла хорошая. Вероятно, он был включен Егоровым в консилиум. Снежневский был на месте. Он моментально принял меня. Я представилась — он был весь внимание.
— Скажите, пожалуйста, вы присутствовали на консилиуме у Егорова?
— Да, конечно.
— Скажите, психиатры зарегистрировали у мужа серьезные нарушения психики?
— Нет, нет, что вы! Напротив, мы были восхищены его состоянием. Он не вызывает у нас сомнений. Психика у него не нарушена.
— А почему же консилиум психиатров запретил перевозку больного в кунцевскую больницу?
— Видите ли, Егоров нас очень просил: это его больной, он его ведет с первого дня. Ему как ученомумедику интересно наблюдать выздоровление своего знаменитого пациента. Мы пошли ему навстречу и подписали это решение, как он нас просил.
— На последнем расширенном международном консилиуме профессор Пенфельд из Канады сказал мне, что у больного все восстановится само собой. Ему нужен только один врач — время. Благодарю вас за утешительные вести о здоровье мужа. Остальное уже не так важно.
Тем временем Дау, тщетно ожидая моего прихода, взбунтовался. Он стал кричать:
— Пропустите ко мне Кору.
В Егорове он видел главного врага. Он кричал ему:
— Вы не врач, вы палач! Куда вы дели Кору? Егоров ответил:
— Ваша жена уехала на курорт.
— Нет, это ложь! Пока я здесь, у вас, Кора не могла уехать на курорт.
Егорову необходимо было успокоить Ландау, так как визиты иностранных корреспондентов участились, а он любил фотографироваться у постели больного {259} Ландау. Он был вынужден снова выдать мне пропуск. И вот я опять у Дау!
Я бросилась к нему. Заглянула в его глаза:
— Даунька, ты очень хорошо выглядишь. Я не видела тебя так долго!
— Коруша, я страшно виноват перед тобой. Я этому палачу Егорову назвал твое имя, и ты исчезла! Но твои ноги целы. Они тебя не пытали?
— Даунька, прекрати этот бред. Я просто болела, а сейчас выздоровела. Теперь я буду приходить к тебе каждый день.
При мне в палату вошли психолог Лурье и Женька. Женька сверкал загорелой лысиной. Значит, он уже вернулся с курорта. Несчастье и болезнь Дау не нарушили благополучного течения его жизни. А психолог Лурье обратился ко мне:
— Вы не возражаете, если я немного позанимаюсь со Львом Давидовичем?
— Нет, нет, пожалуйста.
Он присел возле Дау и развернул большой альбом со страницами, разграфленными в клетку. В каждой клетке были обозначены вперемежку кружочки и крестики. Длинной тонкой указкой, показывая на кружочек, он спросил: «Что это?». Дау, улыбнувшись мне, весело сказал: «Это крестик». Кружочки он упрямо называл крестиками, а крестики кружочками. Очень обескураженный психолог удалился.
— Коруша, видела этого дурака? Этот психолог лезет ко мне с разными глупостями. Совсем меня здесь за идиота принимают. Я нарочно его путаю. Сегодня он захотел меня научить отличать кружочек от крестика. А я нарочно на кружочек говорю крестик и наоборот.
— Дау, с дураками-медиками опасно шутить. Не лучше ли правильно отвечать на их, пусть дурацкие, вопросы.
— Ну что ты, Коруша! Это же психолог. Это вша. Это паразит на рабочем теле нашего государства. Эти бездельники и лодыри примазываются к науке. А Женька с ними подружился. Они ко мне все время пристают с самыми нелепыми вопросами. На нелепые вопросы нужно отвечать еще большей нелепостью. Пойми, Коруша, у меня страшно болит нога за коленом. {260}
— Даунька, а колено? Колено уже не болит?
— Нет, Коруша, у меня боль за коленом.
Я отвернула пижаму на левой ноге. Колено округлилось, налилось, кожа на нем стала эластичной, блестящей. Ниже колена — все еще омертвелое.
— Даунька, скоро, скоро ты будешь совсем здоров, и боли все уйдут.
— Корочка, не оставляй меня здесь, возьми меня домой. Сегодня. Сейчас же. Мне так плохо, мне так страшно, когда приближается ночь. Я здесь один. Я так долго тебя ждал. Как я хочу домой!
Изнывая от боли в ноге, Дау бесконечно умолял взять его домой. Мои терзания были мучительны, я ничего не могла, и это очень меня угнетало!
Я тщательно стала наблюдать за процедурами, за ходом его лечения. И убедилась, что, кроме массажа и прогулок, никакого лечения не было. Никаких медикаментов. Только дыхательная машина с кислородными баллонами все еще стоит в палате.
Я, содрогаясь, думала о том, как ночью он пугается. Конечно, страшно быть свидетелем человеческой смерти. Он не медик, он физик. Он не может привыкнуть, и этот затаенный страх может в конце концов нарушить его психику. Мне стало по-настоящему страшно.
Дау каждый день умолял меня взять его домой. И я решила выкрасть Дау. Питание, воздух и покой я ему обеспечу дома. Массажистку мне будут присылать из больницы Академии наук. Егоров уехал в отпуск. Накануне отъезда он собрал местный консилиум, пригласив на него меня и Лившица. Он заявил следующее. Цитирую: «Я уезжаю в отпуск. Поручаю Евгению Михайловичу Лившицу восстанавливать мозговую деятельность Ландау». Следовательно, эти бессмысленные занятия психолога и Женьки они называют восстановлением мозговой деятельности.
Возможно, после этих занятий психолога с больными, выжившими после удаления опухоли в мозгу или после других глубоких операций головного мозга, они перед отправлением в психиатрическую больницу и усваивают, где кружочек, а где крестик. Только пользы от этого пострадавшим больным нет, польза только ученым-психологам. Они на этом защищают свои диссертации. {261}
До аварии здоровый Ландау не признавал психологию как науку. Моя старшая сестра Вера была психологом. Он говорил так: «Ну, для женщины куда не шло, простительно иметь такую специальность. Верочка, согласитесь, всерьез психологию наукой не назовешь!».
Я не ошиблась, наблюдая издали, как занимались Женька и психолог с Дау «восстановлением мозговой деятельности». Дау сидел в кресле-коляске в саду, а я наблюдала их занятия из окна больничного корпуса. Дау без конца отмахивался и отворачивался. Он явно не хотел с ними разговаривать. Когда они ушли, я подошла к Дауньке. Он очень обрадовался.
— Знаешь, Коруша, Женька стал егоровским шпиком. Он все время ко мне пристает с этим дурацким психологом Лурье, требуя ответы на мелкие тривиальные истины.
Я обратилась к медсестре:
— Скажите, как он относится к этим занятиям? Сестра ответила:
— Он просто их гонит. Он говорит: «Пошел вон, Женька! Позови мне лучше Кору». А от психолога он просто отворачивался без слов, как от назойливой мухи!
Да, это правильная реакция. Это нормальная реакция моего Дауньки.
Медсестры, убедившись, что Лифшиц платил им вовсе не свои деньги, встречали его с презрением.
Я заметила, что ворота сада открыты настежь.
— Раечка, скажите, почему эти ворота открыты и куда они выходят?
— Они выходят в переулок. Здесь в одном крыле идет ремонт, до обеда ездят рабочие машины.
У меня мигом созрел план, как выкрасть Дау. Палата Дау в конце корпуса, дверь против палаты Дау выходит к этим воротам. С утра, когда идут операции, в этом конце коридора будет одна дежурная сестра возле Дау. Я пожалуюсь на боли в сердце, она пойдет за каплями (так было не раз). Мне нужны сильные мужские руки, которые могли бы взять Дау и вынести через запасную дверь, что как раз против ворот. Я приеду на своей «Волге» и поставлю ее у крыльца. Это никого не удивит, так как я всегда приезжаю на «Волге» с продуктами. {262}
На следующий день с утра, когда сдала продукты повару через обычную проходную, я объехала кругом и с переулка въехала во двор на своей «Волге» в эти открытые ворота, оставив машину у крыльца, где находилась палата Дау. Сторож этих запасных ворот пришел, увидел меня, сказал:
— Ах, это вы приехали к мужу.
— Да. Скажите, пожалуйста, пока идет ремонт и эти ворота открыты, могу я здесь, у крыльца, оставлять машину, когда нахожусь у мужа?
— Конечно, можете.
Я облегченно вздохнула.
Теперь нужны сильные мужские руки. Когда сестра пойдет за сердечными каплями, нужно взять Дау на руки и перенести в машину. Мозговые операции начинаются с девяти утра, а физики и посетители раньше одиннадцати не появляются. Остановка за сильными мужскими руками. Это должен быть не физик и не сотрудник нашего института. Пока задуманное похищение не станет реальностью, никто не должен знать. Стала перебирать в памяти знакомых: Володя Ильюхин. Рост два метра. Разыскала телефон, позвонила. К телефону подошла его жена Рузана.
— Рузана, здравствуйте, говорит Кора. Мне нужна помощь вашего мужа. Завтра Дау выписывают из больницы, я хочу привезти его на своей «Волге». Но он еще не ходит. Его надо на руках вынести из палаты и посадить в машину.
— Ах, Володя в отпуске, как жаль.
— Ну что же, передавайте привет.
Кто? Кто может поднять Дау и перенести в машину? Рылась без конца в памяти, в записных книжках. Нет, только Володя мог это сделать без подозрений. Он железнодорожник, к Академии не имеет отношения. Из общих знакомых, к кому бы я ни обратилась, все сразу бросятся звонить Женьке.
Если ничто не помешает, завтра, обязательно завтра, я должна выкрасть Дау от Егорова. Решила так: сдаю продукты повару, на улице останавливаю любого сильного парня и прошу помочь за вознаграждение. Этот парень садится ко мне в машину, мы с ним въезжаем в открытые ворота к крыльцу палаты Ландау. {263}
На следующий день все у меня шло как по маслу. Сдала продукты рано и только постояла на улице пять минут, появился богатырь. Я вся дрожала, бил нервный озноб.
— Извините, мне очень нужна ваша помощь. У меня в этой больнице муж. После автомобильной аварии он еще не ходит. Его сейчас выписали. Мы подъедем на машине к крыльцу. Палата рядом. Вы его из палаты перенесете на руках и посадите в машину.
— Пожалуйста, я с удовольствием вам помогу.
Он сел в машину, я развернулась и заехала в переулок. Но, боже, что же это? Открытых ворот нет! Очень высокие железные ворота наглухо закрыты! Заикаясь, начала извиняться. Молодой человек денег у меня не взял. Позже я узнала: через открытые ворота родственники послеоперационного больного пронесли и через окно передали в палату бутылку водки. Больной умер с бутылкой в руках. Теперь ворота закрыты и охраняются. Похищение сорвалось.
На следующий день, как только сдала продукты повару, пошла к Дау в палату. Вышла на это самое крыльцо. Сторожа нет, охраны нет. На воротах со стороны двора огромный висячий замок. Вернулась в палату.
Как добыть ключ от этих неохраняемых ворот? Через центральные ворота меня никогда не выпустят на машине с Дау. Через те ворота без всякого пропуска я провезла в институт Топчиева и Чахмахчева, нанеся удар в челюсть Егорову и Корнянскому! Тогда сторожам досталось. Они на меня смотрят зверем. Я их действительно обманула.
Женщина-повар из больницы Академии наук. Ее начальство не Егоров. У нас с ней сложились неплохие отношения, она мне сочувствует, она здесь работает на кухне без выходных дней. Наверное, знает здесь всех. А если {264} я ее попрошу выкрасть ключ от этих ворот? Другого пути нет. Не откладывая, решила дождаться повара. Когда она принесет завтрак Дау, попробую поговорить с ней. Улучила момент:
— Полина Андреевна, я хочу с вами посекретничать. Давайте выйдем на это крылечко. Полина Андреевна, у меня к вам большое дело. Вы ведь знаете, когда Топчиев был здесь, он дал распоряжение Чахмахчеву вывезти Ландау из этой больницы. Егоров не по закону задержал его здесь. А Топчиев приедет нескоро. Помогите мне выкрасть ключ от этих ворот. Я хочу увезти мужа отсюда домой. Вы сами слышите, как он меня умоляет об этом.
Она очень растерянно повторила:
— Я? Выкрасть ключ?
Весь ее вид, ее глаза сказали: «Нет». Ведь это было противозаконно. Похищение не удалось. Мечту о похищении Дау пришлось перечеркнуть.
Как-то, подходя к палате Дау, я услышала крик Корнянского. Он кого-то ругал. Вошла в палату к Дау. Профессор Корнянский не по-профессорски кричал на Дау: «Вы законченный развратник!». Он его в чем-то уличал, корил, не стесняясь в выражениях. Он стоял над Дау огромный, несуразный. Асимметричное лицо от злости стало багровым, а живот выпирал из тесного халата.
— Что случилось? Почему вы так кричите на больного?
Он повернулся ко мне:
— Ваш похотливый, развратный муж пристает с непристойностями к медичкам. Вы-то должны знать его развратные привычки.
Я опешила, у меня опустились руки. Он вышел, окинув меня презрительным взглядом. Перепуганный Даунька с облегчением вздохнул.
— Корочка, это еще ничего. Этот палач Корнянский только покричал, он днем всегда кричит, а ночью устраивает мне пытки. Забери меня отсюда, я его очень боюсь. Хорошо, что ты пришла, мне так плохо, меня терзает боль в ноге!
Я обратилась к медсестре:
— Объясните, что здесь произошло? {265}
— Просто этот Корнянский — хам. Он на всех орет и на Льва Давидовича все время кричит. Здесь собрались студентки-практикантки из мединститута. Пришли ваши физики и заговорили о любви. Лев Давидович тоже включился. Появился Корнянский и всех разогнал. Лев Давидович убежать не мог, вот он и накинулся на больного. Вы разве первый раз слышите, как Корнянский орет?
— Да, впервые.
— Ну считайте, что вам повезло. Не пугайтесь, если застанете Корнянского, когда он будет внушать на высоких нотах Льву Давидовичу, что пора пользоваться уткой.
— Какой уткой?
— Вы не знаете, разве, что лежачие больные мужчины мочатся в утку?
Она показала мне странный сосуд.
— Лев Давидович не чувствует позывов, он ходит под себя.
— Я это знаю. Я сама стираю его белье и регулярно доставляю чистое. Вот и сейчас я привезла белье на ночь, а утром привезу еще.
Сама я подумала: медик, а терпение теряет. Я же вооружилась терпением. Если этот профессор так кричит на больного, больной находится в вечном страхе. Похищение не удалось, а Топчиева нет.
— Даунька, милый, чем ты так насолил Корнянскому?
— Коруша, я уже не помню. У меня очень болит нога.
— Даунька, ты, наверное, начал учить Корнянского, как нужно жить? О необходимости каждому мужчине иметь одну любовницу, а еще лучше две?
— Коруша, что ты, разве с палачом можно говорить о любви? Здесь были молодые девушки. Я им посоветовал не терять молодые годы. Надо помнить, что жизнь коротка, а молодость еще короче. Но, Коруша, почему ты меня не берешь домой? Я уверен, если мне ночью не будут устраивать пыток, я дома сразу выздоровлю. Каждую ночь палачи сжимают раскаленными щипцами мне больную ногу. Ты не представляешь, какая адская боль. {266}
По своим обязательствам я все время появлялась в больнице, каждый день в неурочное для посетителей время, совсем рано, когда еще не сменялись ночные сестры. Привозила белье, потом ехала на рынок, привозила повару свежие продукты. С раннего утра Дау был в полном сознании, всегда жаловался только на боль, а во второй половине дня заговаривался, начинал бредить.
Я заворачивала пижаму и любовалась, как на больной ноге постепенно возрождаются к жизни мышцы. Уже пустой мешок на левой икре стал заметно оживать, граница боли спустилась ниже, но боли в месте между живыми и омертвевшими тканями по-прежнему ужасны. Я до предела была переполнена этой болью. Помочь — вне моих сил. Даже если бы мне удалось выкрасть Дауньку от Егорова, все боли переселились бы вместе с ним домой.
Как-то в палате я застала Элевтера Андронникова. Дау уже давно узнавал всех. Элевтер был в восторге от вида Дау. Он весело говорил:
— Дау, бросьте. Что вы все время говорите о больной ноге. Вы ведь не футболист. Зачем вам нога? Голова не болит? Нет? Голова ясная. Голова цела. Вся ваша сила и жизнь в вашей голове. Всем нам физикам очень нужна только ваша голова. На ногу просто плюньте.
На чужую боль плюнуть легко!
У меня появилось естественное желание изучить природу этих болей. С врачами в Институте нейрохирургии у меня контакта не было, а профессор Рапопорт — единственный, кого я уважала из врачебного персонала, — был тяжело болен. Федоров, перед которым я просто преклонялась, не скрывал своего нежелания беседовать со мной. Он избегал здороваться, просто меня не замечал. Пришлось раздобыть медицинские книги, изучить травматологию и все последствия контузии мозга, как после длительного шокового бессознательного состояния человеческий организм возвращается к жизни. Какие формы принимает выздоровление?
Без анатомички медиком не станешь, но с литературой познакомиться необходимо. Оказывается, что длительно бессознательное состояние — защитная реакция. {267} Если бы человек при глубоких травмах не терял сознания и памяти, он бы умер или лишился разума.
Оказывается, граница живых и мертвых нервных тканей, возрождаясь к жизни, причиняет такие невыносимые боли. Были случаи, когда больные кончали жизнь самоубийством, если память и сознание возвращались раньше времени. Так вот почему возле Дау дежурило по две сестры в каждую смену! Если одна отлучается, вторая не спускает глаз с больного.
Оказывается, длительное бессознательное состояние Дау было спасительным. Во время бессознания вернулись к жизни все ткани, все клетки его тела, все ушибленные жизненно важные органы начали функционировать нормально.
Оказывается, после тяжелых ранений, контузий и травм, возвращаясь к жизни, в организме мужчины ранее сознания просыпаются инстинкты, заложенные природой. У больного появляется жгучее желание продлить род человеческий. И, как правило, это воспринимается как неприличное поведение несчастного больного человека, еще не способного контролировать свои поступки. Так вот почему Корнянский назвал Дау «похотливым развратником»! А ведь эта «похоть» в медицинских учебниках не называется развратом. В медицинских учебниках говорится: человек возвращается к жизни, и у него возникают естественные, заложенные самой природой потребности. Как узок кругозор у иных профессоров медицины!
Когда мне случалось заставать кого-нибудь из посетителей у Дау, он без конца жаловался на боль в ноге. И я начинала улавливать, что здоровые, благополучные люди не могут понять больного, и бесконечные жалобы на страдания и боль у этих благополучных посетителей вызывают сомнения в мышлении больного. Голова была ушиблена! Ведущие медики контузию мозга приняли за травму мозга.
Я уже знала, что боли могут оставаться до трех и более лет! А еще нет и года. И эти боли действительно нестерпимы! Истина: сытый голодного не понимает! Разве так трудно понять чужую боль?
У меня было слишком много дел и забот. Я забыла, что существует Ирина Рыбникова, которую Е.М.Лифшиц {268} ввел в круг медиков и физиков как настоящую жену Ландау. <...>
И вот как-то утром, когда я была в палате Дау, раздался настойчивый стук в ту запасную дверь возле палаты Дау, через которую я собиралась его выкрасть. Я открыла дверь, вошла взволнованная молодая женщина в ярком малиновом платье. Она впилась в меня взглядом:
— Я Ирина. Вы, конечно, Кора.
В словах был вызов, а вид был жалок. В мозгу промелькнули страницы прошлой жизни. Казалось, прошли столетия, а только полгода с небольшим назад меня могла душить ревность к этому жалкому созданию! Вспомнила слова Дау: «Корочка, тебе надо испытать настоящее большое горе, чтобы не расстраиваться по пустякам». Сейчас этот растерянный «пустяк» стоял передо мною и что-то говорил.
— Простите, вы что-то мне сказали?
— Да, я сказала, что хочу с вами поговорить.
— Хорошо, давайте присядем.
В стороне по коридору было что-то вроде холла. Там стоял диван. Мы сели. Медсестры выглядывали из палаты Дау. В глазах — удивление и любопытство.
— Вас Дау узнает?
— Да, узнает.
— Давно?
— Давно.
— А меня Дау не узнает, — она разрыдалась, размазывая подведенные глаза. Увидев на платке черные пятна, испуганно вскочила. —Ах, что я наделала!
Схватила сумочку, достала зеркало и косметику, начала краситься, приговаривая:
— У меня к вам большая просьба. Давайте вместе с вами войдем к Дау, я хочу видеть, как он вас узнает.
— Хорошо, пойдемте.
— Подождите, я подкрашусь.
Когда мы вошли в палату к Дауньке, он ко мне привычно потянулся:
— Корочка, куда ты делась, я боялся, что ты уже ушла.
— Даунька, к тебе пришла гостья, — спокойно сказала я. {269}
Ирина встала, заслонив меня.
— Дау, ты меня не узнаешь? Я Ирина.
— Нет, я вам уже много раз говорил: я вас не узнаю, я с вами никогда не был знаком. Вы что-то путаете.
Она рывком расстегнула платье, выпростала из бюстгальтера грудь.
— И сейчас, сейчас ты тоже меня не узнаешь? Как ты мог все забыть?
Я тихонько вышла из палаты, заметив, что палата заполняется любопытными. Отошла от палаты к окну. С этой Ириной не хотелось больше встречаться. Дау о ней говорил: «Не просто глупа, феноменально глупа». Моя ревность к ней сопровождалась брезгливостью. Ревность исчезла, брезгливость осталась. Вскоре рыдающую Ирину вывели из палаты.
Я вошла к Дау. Он был смущен:
— Коруша, это была какая-то сумасшедшая. Я с ней никогда не был знаком.
— Даунька, а тебе не жаль эту дурочку, влюбленную в тебя?
— Нет, Коруша, не жаль. Она нагличает: она хотела назваться моей женой. Я ей ответил: «У меня только одна жена Кора. А любовниц было много. Их не грех и забыть». Корочка, я еще и сейчас не совсем отделался от кошмаров. Очень трудно поверить, что Корнянский и Егоров не палачи, а врачи. Уж очень они похожи на заплечных дел мастеров. Вот проснусь рано утром и думаю: успел я жениться или нет на своей Корочке? И такой страх берет: вдруг не успел.
— Дау, сейчас ты уже не спрашиваешь, ты уже помнишь, что мы поженились?
— Конечно, Корочка, я даже вспомнил, что у нас есть сын Гарик. (Вот так медленно возвращалась память.) Я даже помню, что сам придумал ему красивое имя Игорь.
— Даунька, ты вспомнил про Гарика, а почему же ты его не зовешь? Почему не просишь привести его к тебе?
— Корочка, я не хочу его угнетать своей болью в ноге. Только тебе хочется мне жаловаться на мою страшную боль. Ты умеешь мне сочувствовать!
В палату Дау вошел Корнянский: {270}
— Что здесь произошло?
— Ничего, Дау уже вспомнил, что у него есть сын.
— А кто сейчас приходил в палату к Льву Давидовичу?
— В палату к Льву Давидовичу приходят посетители строго по вашим пропускам, — отрезала я, вспомнив, как эта высоконравственная туша позволила себе назвать Дау развратником!
К счастью, пришел молодой врач по физкультуре Владимир Львович. Дау любил заниматься гимнастикой, веря в ее целебные действия. Моя неприятная дискуссия с Корнянским была прервана. Я поспешила уйти.
В тот же день вечером, приехав со свежим бельем на ночь, я застала в палате большое оживление: видно, шла интересная дискуссия. При моем появлении все приумолкли, потом исчезли. У Дауньки глаза сияли.
— Сколько молоденьких девиц! Выглядишь ты совсем здоровым.
— Лев Давидович читал нам лекцию, как надо правильно жить.
— Дау, смотри, Корнянский опять услышит. Медсестра мне сказала:
— Когда вы ушли, Корнянский нас допрашивал. Мы все рассказали. Сейчас вся больница только об этом и говорит. Все удивляются вашей выдержке. Мы все поразились, почему вы с ней так деликатничали.
Я перевела разговор на другую тему.
— Сегодня утром Дау сказал мне о Гарике.
— Он и нам уже несколько дней говорит о своем сыне. Уже приехал из отпуска Егоров и заходил в палату.
На следующий день только я пришла в больницу, мне сообщили, что Егоров в своем кабинете и просит меня зайти к нему. Когда я шла к нему в кабинет по длинным темным коридорам, у меня было одно желание — никогда не знать Егорова, не быть в его кабинете, не говорить с ним. Он пытался быть приветливым: «Садитесь». Пришлось сесть.
— Не успел я приехать, как мне доложили, что произошло вчера утром в палате Льва Давидовича. Почему вы молчали? Надо было давно рассказать мне или Корнянскому о тех безобразиях, которые позволили {271} себе физики. У этой особы уже отобран пропуск, больше ее не будет в нашем лечебном заведении. За это я вам ручаюсь. Теперь-то мне ясно, почему вы хотели все время забрать мужа из института. Я вас понимаю и разделяю ваши чувства.
— Борис Григорьевич, вчерашний инцидент с появлением одной девицы ничего не значит! Дау он не взволновал и меня тоже. Меня все время волнует состояние мужа: вы можете спокойно выслушать меня?
— Говорите.
— В ваше отсутствие я тщательно следила за всеми процедурами и всем лечебным комплексом, который ваш институт предоставил больному: гимнастика, массаж — это полезно. Но ведь метод восстановления мозговой деятельности для академика Ландау не выдержал испытания. Ваш профессор психологии Лурье, видимо, от неудачи ушел в отпуск. Ландау его просто игнорировал, отворачивался и отмахивался, как от назойливой мухи, а Лифшицу, которому вы при своем отъезде на прощальном консилиуме поручили восстанавливать мозговую деятельность вместо себя, Дау говорил только одно: «Женька, пошел вон, лучше позови мне Кору».
Ушедшего в отпуск главного психолога заменила молодая женщина. Это было даже удачно: Ландау с женщиной обращался очень вежливо, он ей объяснил, что ему отвечать на мелкие тривиальные истины очень скучно, а скуку он всю жизнь избегал, повторять за психологом фразы «галки — палки», «палки — галки» бессмысленно! Девушка-психолог задала несколько серьезных вопросов, прослушав ответы, она изумилась эрудиции своего больного. Согласилась, что заниматься с ним она не будет. Вероятно, она вам уже доложила, что сама добровольно прекратила свои занятия с академиком Ландау. Я вам, Борис Григорьевич, очень благодарна, что вы меня выслушали, но мужа я у вас заберу. У вас нет условий для выздоровления.
— Конкордия Терентьевна, вы недооцениваете мои силы. Я вам уже сказал и еще раз повторю: Ландау я никому не отдам. Это мой больной, и он будет выздоравливать только у меня!
Его лицо налилось кровью, а голос злобно повысился. {272} Я ушла, унося страх, я не могла выдать медсестер, бросить ему в лицо: «Вынесите из палаты дыхательную машину, спасайте своих больных, но нельзя выздоравливающего, такого сложного больного терроризировать по ночам страхом».
Теперь возле дыхательной машины стояла раздвижная красная ширма, на меня появление этой раздвижной деревянной ширмы произвело самое мрачное впечатление.
Что делать? Вся надежда на приезд Топчиева.
Вскоре после приезда Егорова был назначен расширенный медицинский консилиум. Сразу после отъезда Топчиева Егоров собрал консилиум психиатров и этим задержал Ландау у себя на все лето.
Сейчас опять медицинский консилиум перед приездом Топчиева. Я боялась всего, что затевал Егоров. Ландау — его последний козырь. В прошлом он был хорошим нейрохирургом, сейчас приближается его 70-летний юбилей. Он сказал: «Ландау я не отдам».
Сегодня утром опять приезжала целая делегация иностранных корреспондентов. Дау посадили в кресло-коляску и очень испуганного увезли фотографироваться в кабинет Егорова. Вернулся он сияющий: «Корочка, сейчас они мне не причинили никакой боли. Кажется, они меня фотографировали. Там у Егорова еще был Корнянский. Я не понимаю, зачем это им нужно». Я хорошо понимала, зачем это нужно Егорову. Прославляться своими нейрохирургическими операциями он уже не может. Его послеоперационные больные все умирают, не помогает даже дыхательная машина. Куда как легче прославляться, фотографируясь с больным Ландау. К сожалению, у иных медиков честолюбие выше долга!
Наступил день консилиума. Перед консилиумом в палату Дау вошли Женька, Соня и Зигуш. Соня — {273} единственная сестра Дау. Появился Зельдович с тремя звездами Героя Социалистического Труда на груди.
Я поняла затею Егорова, и мне стало плохо, закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Я одна, в единственном числе против оставления Дау в Институте нейрохирургии. Все собранные медики, все собранные физики и родственники будут за нейрохирургию.
Ко мне подошел Зельдович, сияя звездами. Эти звезды помог ему заработать Дау. Дау сам говорил, когда был беззаботно весел и здоров:
— Я делаю некоторые расчеты по созданию атомной бомбы, а Зельдович за меня сидит на заседаниях у Курчатова. <...>
Как-то вечером зазвонил телефон, Дау снял трубку:
— А, Игорь Васильевич, приветствую вас. Нет, не приеду, я ведь не умею заседать! Для заседаний я вам дал Зельдовича, а вот за жабры взять меня вам не удастся. Нет, Игорь Васильевич, завтра я не приеду. Хорошеньких девушек у вас нет, наукой вы не занимаетесь, а техника на меня наводит скуку.
— Дау, это ты так посмел говорить с Курчатовым? Да если бы он, к примеру, позвонил Семенову, Семенов бы на четвереньках приполз к Курчатову.
— Коруша, но Семенов ведь балаболка, и, естественно, Игорь Васильевич им брезгует, а я не такая, я иная, я вся из блестков и минут!
Когда Дау выполнил правительственное задание, его наградили Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, большой денежной премией. Вдруг, перед Новым годом он просто влетел на мою половину, сияя счастьем, сказал:
— Угадай, где мы с тобой будем встречать Новый год?
— Вероятно, в Доме актера или ЦДРИ?
— Вот и нет, я и ты этот Новый год встречаем в самом Кремле! Знаешь, Коруша, я очень рад, что наконец наше правительство меня оценило как ученого, а вдруг это почетное приглашение я получил за атомную бомбу? Как ты думаешь? Это мы узнаем только через год. Да, Коруша, ты права, сейчас я категорически отказался {274} работать на Курчатова, я занимаюсь чистой наукой — это мое призвание!
На следующий год мы приглашения в Кремль не получили.
Но заседание злополучного консилиума в Институте нейрохирургии приближалось, передо мной возник Зельдович.
— Здравствуйте, Кора, — сказал он, протягивая мне руку.
Его, конечно, привел Женька, он будет олицетворять мнение физиков, чтобы оставить Ландау в этом лечебном заведении.
Игнорируя протянутую мне руку, я зло прошипела: «Пошел вон!».
Силы мои были на исходе.
Мне было ясно, что решит данный консилиум. Попробовать поговорить с Соней? Пусть она сама спросит у Дау: хочет ли он остаться в этой больнице или нет? Соня разговаривала с Дау, я подошла. Дау ей рассказывал о страшной боли в ноге как результате пыток по ночам в этом сталинском застенке.
— Соня, милая, помогите мне забрать Дау из этой клиники, ему здесь очень, очень плохо. Давайте выйдем, я вас прошу, выслушайте меня.
Я пыталась ей все объяснить! Она очень враждебно выслушала меня и ответила: «Нам с Зигушем все объяснили Женя и Егоров. Вы — вздорная женщина, вздумали устраивать сцены ревности здесь, в больнице, из-за какой-то девушки. Хотите лишить моего брата лучших медиков страны. Они ему спасли жизнь, он должен у них выздоравливать! Только под их наблюдением! Я ни за что не позволю его взять отсюда. Вы не были верной женой, вы на Леву не имеете никакого права. Мама очень ошиблась в вас. Зигуш был прав, он всегда говорил: «Дау не должен жениться». С его взглядами на брак, на любовь не может согласиться ни одна приличная женщина. А вы, вы согласились. Вы уже были замужем, наверное, не один раз. Опутали Леву. Вам нужен был муж-академик. Вы предавались распутству на глазах у Левы. Заводили себе любовников и не стеснялись с ними даже появляться на курортах. Вы согласились с {275} Левой на полную обоюдную интимную свободу в жизни. Вам она была нужнее, чем Леве. Мы с Зигушем давно вас раскусили. И вы еще смеете ко мне обращаться с такой чудовищной просьбой. Забрать Леву от знаменитых медиков только потому, что в этой больнице вы должны вести питание своего мужа и стирать белье. Хотите запереть в загородную кунцевскую больницу, где врачи анкетные, а полы паркетные, чтобы домой водить любовников, а не ухаживать за больным мужем».
«Вот, получай», — подумала я. Вот что значит бросать вызов обществу! Пришла пора расплачиваться за то ликование, которое испытала, отказывая Сониному мужу и Сониной дочке в своем доме! Я презирала себя за то, что мелочам быта, раскаленной ревности придавала слишком большое знаение. Наконец поняла, как Дау был прав!
Консилиум был очень широким по составу, врачей было очень много, а мне было очень страшно. Зигуш и Соня ненавидят меня.
<...>
От них помощи мне не ждать. Но они вредят не мне, они вредят Дау! Что делать? Я была в растерянности.
Зельдович олицетворял мнение физиков. Три золотые звезды сияли, магнетически притягивая все взгляды. Сам Егоров и медики бесконечно восхваляли себя и друг друга в деле спасения жизни Ландау. Все давно забыли о С.Н.Федорове. Все высказывались за выздоровление Ландау в стенах Института нейрохирургии. Особенно распинались за Егорова, за нейрохирургию Соня, Зигуш, Женька и Зельдович.
Ну Женька понятно: он заинтересован, он здесь вроде как начальство над Ландау. Но Зельдович безответственно говорил о том, чего не знал! Когда стал говорить Зельдович, воцарилась тишина. А он говорил о том, чего не понимал! Много лет назад его дочь попала под грузовик. Мы живем рядом. Дочка выжила, глубоких травм не осталось. Я очень сочувствовала их горю, но я не вмешивалась в лечение членов их семьи. Я не диктовала, где и как нужно лечить его дочь. Почему же Зельдович имеет право говорить о том, чего совсем {276} не понимает. О восстановлении мозговой деятельности Ландау, которое должно протекать только в стенах института нейрохирургии. Как он представляет себе методы Егорова? Если бы он присутствовал на том местном консилиуме, где Егоров перед отъездом поручил восстанавливать мозговую деятельность Дау Женьке, а Дау, удивленно взглянув на Женьку, на его вопрос ответил: «Пошел вон!». Зачем академику, талантливому физику ставить себя в заведомо ложное положение, зачем говорить о том, чего не разумеешь?!
Вспомнила: как-то домой к Дау пришли студенты. В дружеской, непринужденной беседе они много спрашивали. Дау отвечал: «Да, такой случай со мной был, а вот это я впервые слышу от вас. А этот случай имел место».
Он тогда был за границей, рождалась новая наука — квантовая механика. Был большой международный съезд физиков, на котором присутствовало много журналистов. В конце съезда журналисты задавали вопросы физикам. Физики отвечали. Один вопрос был поставлен так: в печати появились две статьи о квантовой механике. Одну статью написал физик Паули, вторую статью о квантовой механике написал очень известный американский философ. Какая разница между этими двумя статьями о квантовой механике? Физики молчали, никто не решался обидеть знаменитого философа из Америки. Тогда встал совсем еще юный Ландау и ответил так: «Разница между этими двумя статьями огромная: Паули понимал, о чем писал, а философ не знал предмета, естественно, не понимал, о чем писал».
На этом консилиуме Зельдович из физика превратился в такого же философа. Я сознательно окунулась в спасительные воспоминания: Зельдовича мне слушать было невозможно. Почему все вмешиваются, почему смеют мне диктовать, как и где лечить моего мужа?!
Вдруг кто-то произнес: «Хотелось бы послушать мнение жены Ландау». Говорил незнакомый человек, в тоне которого чувствовалась доброжелательность. Терять мне было нечего: решение консилиума предрешено.
«Я не могу не согласиться с тем, что в Институте нейрохирургии есть блестящий, очень талантливый {277} врач Федоров. Он действительно спас жизнь Ландау в больнице № 50. А сюда муж попал, когда была назначена глубокая мозговая операция. Операцию отменили, а муж здесь застрял. Человек подвержен редким, но чрезвычайно страшным заболеваниям. Рак мозга — таков профиль этого института. Это не место для выздоровления травматического больного. Программа восстановления мозговой деятельности больных после перенесенных мозговых операций пригодна для этих несчастных, уже дефективных людей. Для академика Ландау такая программа восстановления мозговой деятельности не пригодна. Присутствующие не все видели, как выглядят больные, пораженные опухолью мозга или носовой грыжей. А муж меня уверяет, что это результаты пыток врачей-палачей по ночам и бесконечно умоляет меня забрать его отсюда. Когда он был здоров, я старалась выполнять все его желания, а сейчас он болен, его просьбы я обязана выполнять», — говорила я зло, с отчаянием.
Человек, обратившийся к моему мнению, повернулся к Егорову: «Борис Григорьевич, я бы хотел задать несколько вопросов академику Ландау. Распорядитесь, пусть медсестра на кресле-коляске его привезет сюда».
Егоров начал возражать, но академик, вице-президент Академии медицинских наук Олег Васильевич Кербиков настоял на своем. Привезли Дауньку. Руки Дау судорожно сжали поручни кресла. А глаза широко открыты: в них страх, вопрос, куда он попал. Я сидела вне поля его зрения, меня он не видел. К Дау подошел профессор Кербиков:
— Лев Давидович, вы просили свою жену забрать вас из этой клиники?
— Я все время прошу Кору меня отсюда забрать. Мне здесь так плохо.
— А вот ваш ученик профессор Лифшиц говорит, что вам здесь очень хорошо. И вы к нему ни разу не обратились к просьбой забрать вас отсюда?
— Если Женька считает, что здесь очень хорошо, пускай он остается здесь, если ему это место так нравится. Я прошу свою жену Кору взять меня домой. Согласитесь, адресоваться с подобной просьбой к Лифшицу, по меньшей мере, глупо! {278}
Кербиков весело рассмеялся, воскликнув: «Какова логика!».
— Лев Давидович, я рад с вами познакомиться. У меня больше вопросов к больному нет.
Егоров не очень весело спросил у присутствующих, кто еще хочет задать вопросы больному. Желающих не оказалось. Дау увезли. Когда сестра повернула кресло к выходу, руки Дау расслабились, с поручня упали на одеяло. Видимо, нервное напряжение сменилось расслабленностью. Это меня успокоило. Егоров закрыл заседание. Не совсем оно гладко прошло для Егорова. Вот такие бывают наши ведущие врачи-психиатры: умны и человечны.
На второй день после консилиума Дау меня встретил словами:
— Коруша, какой вещий сон я видел. Будто бы я умер. Господь бог призвал меня к себе и объявил, что отпускает меня жить на земле.
— Даунька, ты уверен? Это тебе снилось?
— Уверен. Как только проснулся, сразу рассказал медсестре.
Раечка подтвердила. А, возможно, это результаты впечатления от вчерашнего консилиума?
— Даунька, когда ты был здоров, ты утверждал, что не видишь снов. Только когда слишком много работал. От переутомления тебя во сне преследовали формулы.
— Корочка, мне кажется, я впервые в жизни увидел такой яркий запоминающийся сон!
— Даунька, а бог был один?
— Нет, у него было заседание.
Да, это впечатление от вчерашнего консилиума. Ему приснился консилиум, но очень важно, что он запомнил сон. Через несколько дней после консилиума мне домой позвонил Кербиков. Он к определенному часу приглашал меня к себе в клинику. В назначенное время я была в психиатрической лечебнице, которой он руководил. Он мне сказал:
— Я получил от Егорова официальное письмо, в котором ведущие врачи, присутствовавшие на консилиуме, и физики из комитета, который состоит при Институте нейрохирургии, утверждают, что вы очень плохо влияете на больного мужа, будто вы вредите его {279} выздоровлению. Они просят меня вас обследовать. Возможно, вас лучше изолировать. Вам пришлось перенести большое потрясение. У вас, по-видимому, нервы не в порядке. Мы вас здесь подлечим.
— Я согласна на обследование. Если вы найдете, что я в норме, тогда мне изоляция не угрожает?
— Пожалуйста, не воспринимайте все так воинственно. Вам ничего не угрожает. Ну, а если сеансы обследования растянутся на некоторое время?
— Я согласна приходить в назначенное вами время.
— Конкордия Терентьевна, скажите, рак мозга вы считаете заразной болезнью и боитесь, что ваш муж находится в клинике рядом с такими больными?
— Все гипотезы о вирусах и наследственности рака я знаю. Но если Егоров, совершая утренний обход раковых больных, приходит в палату Дау, то он не моет руки. А дырка в горле у Дау была тогда еще открыта. Я сделала Егорову замечание. Организм у мужа ослабел, его надо оберегать. Когда муж поступил в Институт нейрохирургии к Егорову, в этой клинике они заразили его инфекционной желтухой. Еще муж не может пользоваться судном, у него рана от пролежней, а туалет один на весь этаж. Там всегда очередь. Это обстоятельство тоже его угнетает. В старых клиниках при палате нет ни туалета, ни ванны. А я считаю, это — первые необходимые вещи при столь тяжелом и длительном заболевании. Он каждый день просит ванну, в Институте нейрохирургии это осуществить немыслимо.
Я прошла в клинике Кербикова тщательное психиатрическое обследование. Являлась точно в назначенное время. Он убедился в моем нормальном состоянии, дал заключение: изоляции не подлежит. На память он мне подарил стенографический отчет о моем обследовании. От Кербикова у меня осталось самое отрадное впечатление. Егоров хотел меня изолировать, поместив в психиатрическую лечебницу. Это было, вероятно, проявлением той медицинской силы, которой он мне угрожал.
А.В.Топчиев приехал только в сентябре. В первый его рабочий день я была у него в кабинете. Он по телефону {280} при мне позвонил Егорову: «Здравствуйте, Борис Григорьевич. Говорит Топчиев. Напрасно вы задержали Ландау у себя. Сейчас из нашей академической больницы приедет за академиком Ландау скорая помощь. Сопровождать больного будут наши врачи и жена академика Ландау. Нет, Борис Григорьевич, меня не интересует решение вашего консилиума. Борис Григорьевич, вы забыли одно очень важное обстоятельство. У нас в стране, по нашим советским законам, медицинское обслуживание наших граждан идет за счет государства. Первые месяцы в результате сложности травм и нетранспортабельности больного вызвали большие материальные затраты как у семьи больного, так и у нашего лечебно-бытового отдела. Мы уже исчерпали свои средства, а жена больного академика, чтобы содержать его в вашей клинике, вынуждена продать подаренную правительством дачу. Ах, вас Евгений Михайлович Лифшиц уверил, что физики ведут все расходы. Нет. Все расходы сейчас ведет жена академика Ландау. Кроме того, Институт физических проблем, их отдел кадров, вручил жене академика Ландау список долга, который ей предъявляют физики. Денежный иск физиков к жене Ландау я считаю незаконным. Я хорошо знаю, за что платили мы, Президиум Академии наук, а что мы не могли оформить, оплачивала жена Ландау. Мне непонятно, на что потратили физики в своем комитете такие деньги. Вот так я и думал, что вы не станете нарушать нашу Советскую Конституцию».
Больница Академии наук СССР предоставила академику Ландау палату-люкс с санузлом и ванной. Сразу были разрешены столь сложные проблемы.
— Корочка, здесь очень хорошо. Я почувствовал себя человеком. Я могу принимать ванну каждый день. После ванны боли немножко смягчаются. Но почему ты все-таки не взяла меня домой. Я очень хочу домой. {281}
— Даунька, ты еще не совсем здоров. Тебя здесь вылечат, и тогда домой.
Все медсестры из больницы Академии наук были высокой квалификации, ухаживали за больными с любовью.
В палату зашел главврач Академии наук. Он меня спросил, каких медиков взять из нейрохирургии. Я ответила, если можно, одного Владимира Львовича, он занимался гимнастикой. Лев Давидович к нему привык, занятия по физкультуре у них проходят очень весело. Если надо, я буду доплачивать этому врачу.
— Нет, теперь академик Ландау в нашей больнице, и уже мы сами все будем оплачивать. Это по закону наш больной, наши фонды обеспечивают все, что необходимо. Вам больше ни за что не придется доплачивать.
Когда главврач ушел, я сказала дежурным медицинским сестрам, чтобы они передали другим медсестрам: пока Лев Давидович будет здесь, в больнице, я от себя буду доплачивать ту же сумму, какую они получали от меня с первых дней. Самоотверженный труд медсестер внес немалую толику в дело спасения жизни Дауньки! Моя благодарность медсестрам была безгранична.
На второй день его пребывания в больнице Академии наук с визитом с утра явился Лифшиц. Он бесцеремонно потребовал себе халат: «Я — Лифшиц, пришел к академику Ландау». Но ему дежурный персонал ответил, что посещение больных начинается с 17 часов. Он помчался к главврачу. Там он тоже сообщил, что он есть Лифшиц, самый близкий друг Ландау, ему во всех больницах было предоставлено право беспрепятственного посещения Ландау в любое время дня и ночи. «Мой отец был крупнейший медик нашей страны, выдайте мне неограниченный пропуск к Ландау, как было в больнице № 50 и в Институте нейрохирургии».
Главврач ему спокойно ответил: «Я только жене академика дал такой пропуск. Сам академик зовет к себе только жену. Вас он не вспоминал. Все друзья наших больных приходят в дни и часы, отведенные специально для посещений».
Входит в палату Н.И.Гращенков — член-корреспондент АН, профессор-невропатолог. Лев Давидович {282} обедал в палате. Он принялся за очень аппетитного поджаренного цыпленка-табака. Только унесли поднос с посудой, Николай Иванович спросил:
— Лев Давидович, что вы ели на обед?
— Обед был вкусный, но я не помню, что я ел.
— Лев Давидович, вспомните, что вы только что съели на второе.
— Нет, абсолютно не помню, что я ел.
— Лев Давидович, кто был ваш отец?
— Мой отец? Он был зануда!
— Лев Давидович, как это понять?
— Николай Иванович, он был скучнейший зануда.
Николай Иванович ушел, пятясь из палаты. Я его догнала в коридоре:
— Николай Иванович, это нормальные ответы до болезни. До аварии он всегда так говорил!
— Конкордия Терентьевна, вы слишком близки Льву Давидовичу. Мы, медики, не принимаем во внимание мнение о состоянии наших больных от близких родственников. А вот Лифшиц сказал, что Лев Давидович находится полностью в невменяемом состоянии. Я лично тоже нахожу его состояние невменяемым. Ведь он вчера Евгения Михайловича выгнал из палаты и стал звать вас, все считают это ненормальным.
Я беспомощно опустилась в близстоящее кресло. Накануне Даунька действительно выгнал Женьку из палаты. Еще в приемные часы и при посетителях. Мигдал вышел от Дау и заявил во всеуслышание:
— Ну если Дау Женьку выгнал, значит, Дау сошел с ума!
Эти страшные слова, брошенные невзначай Мигдалом, медработники больницы подхватили. Эти слова до меня дошли уже в такой форме: «Ученики академика Ландау, физики, говорят, что Ландау сошел с ума». Гращенков сказал, что считает Ландау невменяемым.
Мне стало очень страшно. Я почувствовала: мои силы кончаются. Столько времени бесконечного нервного напряжения и страха. Сначала за жизнь! Теперь за разум! К обоснованному страху еще столько нелепостей, которые на каждом шагу мне преподносит жизнь. {283}
Медсестра Марина (ей около 40 лет), она не замужем, прошла всю войну, имеет настоящие боевые награды. Медсестра высочайшей квалификации. Все медсестры называют Дау на «вы» и «Львом Давидовичем». Марина с Дау на «ты» и называет его «Дау». Я стараюсь этого не замечать. Я даже стараюсь не замечать, когда она при мне целует Дау. Но Женька оскорбительно, грубо пытался поставить Марину на место: «Марина, как вы смеете называть академика на «ты» и в обращении называть его «Дау»! Если вы этого не прекратите, я добьюсь, чтобы вас отстранили от дежурств у Ландау». Ну Марина озлобилась, рассказала Дау, что Женька требовал у меня деньги для ежедневных банкетов на консилиумах и на все расходы по комитету физиков. Я не знаю, что и при каких обстоятельствах Марина наговорила на Женьку. Когда явился Женька, разъяренный Дау в мое отсутствие, в Маринино дежурство, Женьку встретил такими словами при посетителях: «Я считал тебя другом, а ты оказался подлецом. Как ты смел, когда я был в смертельной опасности, требовать у Коры денег?! Ты знал, я денег не копил. У Коры не было денег. А свои деньги ты боялся потратить. Ты боялся потерпеть убыток в случае моей смерти. Пошел вон».
Я пришла в ужас от этих событий.
— Марина, зачем вы так, Дау еще по ночам бредит, он еще болен, его нельзя ссорить с физиками, его надо беречь. Я вас очень прошу, не встревайте в отношения между Дау и физиками.
Я начала говорить Дау, что Женька никаких денег у меня не требовал, что Марина ошиблась, поверила сплетням.
Как-то зашла в палату Дау — Гращенков заканчивал осмотр Ландау.
— Коруша, как я тебя ждал, сколько я доставил тебе хлопот своей болезнью. А когда я тебя нашел в Харькове, я так мечтал устроить тебе счастливую жизнь. Помнишь, как ты уговаривала меня в Харькове вступить в Коммунистическую партию. По своим убеждениям я всегда был марксистом, Коруша, сейчас я решил вступить в Коммунистическую партию.
У Гращенкова глаза округлились. {284}
— Даунька, ты сначала выздорови.
— Нет, Коруша, я окончательно решил вступить в Коммунистическую партию. Ты ведь всегда этого хотела.
— Дау, сейчас у меня одна мечта — чтобы ты стал здоров.
— Корочка, естественно, я сначала выздоровлю. Вспомнила, что в Харькове очень хотела, чтобы Дау стал коммунистом, в те далекие молодые комсомольские годы у меня было твердое убеждение: вне партии, вне комсомола должны оставаться только мелкие людишки вроде Женьки Лифшица, чуждые нашей советской идеологии, это было в начале тридцатых годов.
Во второй комнате палаты-люкс зазвонил телефон. Это было в 12 часов 30 минут 1 ноября 1962 года. Я сняла трубку.
— Это палата академика Ландау?
— Да.
— С вами говорит корреспондент из Швеции. Полчаса назад в Стокгольме Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию за 1962 года по физике академику Ландау. Разрешите мне первым его поздравить.
— Вы откуда звоните?
— Я здесь, внизу, в вестибюле больницы.
— Сейчас я спущусь к вам и проведу вас в палату к Ландау.
Ничего не говоря Дау, я поспешила вниз к шведскому корреспонденту. Подвела его к постели Дау.
— Лев Давидович, разрешите мне вас поздравить с присуждением вам Нобелевской премии за 1962 год, — говорил корреспондент по-английски. Вынув портативный магнитофон, он стал записывать ответ Дау. Дау говорил по-английски:
— Я горд за нашу советскую науку, что в моем лице получила международное признание. Я благодарен {285} Нобелевскому комитету, что мои скромные труды оценили столь высоко.
В это время в палату вошла цепь медиков в белых халатах. Они плотной живой стеной заслонили Ландау от иностранного корреспондента с магнитофоном. Двинулись на корреспондента, вытесняя его из палаты, говоря: «К больным у нас начинается прием с 17 часов».
Гращенков грозно предстал передо мной:
— Конкордия Терентьевна, я вас поставил в известность, что Ландау невменяем. Как вы осмелились привести в палату иностранного корреспондента и разрешить Льву Давидовичу говорить в магнитофон иностранца по-английски.
— Дау, скажи сейчас по-русски, что ты сказал в магнитофон на английском языке.
Дау все повторил по-русски всем присутствующим. Все онемели, воцарилась тишина. Потом все разом заговорили, стали поздравлять. Вначале я удивилась, почему я мало радуюсь. Потом ощутила комок в горле, горький, не от радости, нет. Почему Ленинскую премию дали, когда Дау был при смерти в глубоко бессознательном состоянии, почему Нобелевскую присудили, когда Дау так тяжело болен и не сможет поехать ее получить?
На следующий день, 2 ноября, больницу АН СССР посетил посол Шведского королевства господин Рольф Сульман. Он поздравил Дау с присуждением Нобелевской премии, сообщил: «По традиции Шведского королевства 20 декабря король Швеции сам вручает нобелевским лауреатам медали, дипломы и чеки».
Дау ответил:
— Сроку осталось мало. Я не успею выздороветь. Придется ехать в Швецию моей жене одной.
— Тогда с вашего разрешения я сообщу в Стокгольм, что вы еще ехать не можете, приедет одна ваша жена.
— Да, моя жена будет иметь честь принять награды из рук шведского короля.
Сопровождающие посла корреспонденты и фотокорреспонденты спросили Дау:
— Скажите, Лев Давидович, вы уже решили, на что потратите Нобелевскую премию? {286}
— Тратить деньги я не умею. Это очень большая канитель. Хорошо умеют тратить деньги наши жены. Я Коре дарю деньги Нобелевской премии.
Посол обратился ко мне:
— Вы согласны ехать вместо мужа на нобелевские торжества?
— Да, мне придется ехать. Так хочет Дау.
Время до отъезда в Швецию промелькнуло незаметно. Поток поздравлений почтой был неиссякаем. Дау весь засветился, когда читал поздравления своего учителя Нильса Бора. А потом, быстро просматривая международную почту, которую с утра я ему приносила, говорил: «А от Гейзенберга нет поздравлений. Коруша, а ты не потеряла? Я так жду поздравлений от Гейзенберга».
Прошло несколько дней, Дау тревожила одна мысль, почему его не поздравил Гейзенберг. Вся больница уже знала, что Ландау с большим нетерпением ждет поздравления от Гейзенберга. Один врач поинтересовался:
— Лев Давидович, а кто талантливее: вы или Гейзенберг?
— Да я щенок в сравнении с могучим талантом Гейзенберга?!— воскликнул возмущенно Дау.
Гейзенберг один из первых прислал восторженное поздравление, но в мое отсутствие это поздравление получил Лившиц и по свойственному его натуре хамству не спешил вручать это поздравление Дау.
Почтовое отделение Москвы В-334 сбилось с ног: телеграммы, письма, международные поздравления со всех концов планеты и изо всех уголков Советского Союза. Печать всего мира недавно оповестила о чудесном спасении жизни академика Ландау, а Нобелевская премия утвердила высочайшие заслуги знаменитого физика.
В те годы Дау был самым популярным человеком на планете. Писали, поздравляли не только коллеги по науке, писал и поздравлял весь народ. Я и сейчас храню добрые, трогательные письма от фермеров Канады, Мексики и Калифорнии. Они меня и Дау приглашали как дорогих гостей посетить их поместья для окончательной поправки здоровья их целебным теплым климатом. {287} Дау переводил эти письма, читая их по-русски, приговаривал: «Коруша, обязательно съездим. Коруша, когда я выздоровлю, мы с тобой будем много путешествовать». А француженки в письмах присылали фиалки.
Вот под новый год Дау получил письмо с адресом на конверте: «Советский Союз. Ландау». Письмо писали американские журналисты, и начиналось оно так: «Лев Давидович, мы хорошо знаем Ваш адрес: Москва, Воробьевское шоссе, 2, квартира 2. Но мы пришли к заключению, что Вы сейчас являетесь самым популярным человеком на нашей планете и наше новогоднее поздравление к Вам не опоздает, несмотря на краткость адреса». Письмо пришло без опозданий.
Как-то вечером позвонил мне А.В.Топчиев. Он напомнил: пора оформлять поездку в Стокгольм.
— В иностранном отделе вас ждут. Мой дружеский вам совет: обязательно поезжайте. В нашей больнице Лев Давидович очень ухожен, он вполне обойдется без вашего присутствия. А вам необходимо отвлечься, рассеяться и отдохнуть. Ведь скоро год, как ваша нервная система напряжена до предела. Помните, вас завтра ждут в иностранном отделе Академии наук.
«Так уже пора ехать на праздничные торжества, — с ужасом подумала я.— О, сколько радости и счастья принесли бы эти события, если бы Дау был здоров. А сейчас мне еще рано празднично торжествовать. Дау еще тяжело болен. Нобелевская премия присуждена за работу, сделанную Дау еще в 1947 году. Давая обещание послу ехать в Стокгольм на нобелевские торжества, я надеялась на заметное улучшение состояния здоровья Дау. Но он еще, засыпая, начинал бредить. Он кричал: «Остановите, остановите поезд. Я не умею управлять паровозом. Я не сумею остановить: мы все разобьемся».
Он вскакивал, глаза были безумны, подушка горячая как огонь. Я всегда вторую подушку держала у холодного оконного стекла.
На следующий день я застала в палате Дау Соню, {288} Зигуша и Гращенкова. Гращенков осматривал больную ногу Дау. Он говорил:
— Подъем уже оживает, уколы иголки Лев Давидович уже ощущает. Но вся подошва и пальцы еще омертвелые.
Дау очень жаловался Гращенкову на боль в ноге.
— Лев Давидович, если вы нас уверяете в такой сильной боли в ноге, почему вы не стоните?
— А разве стоны помогают от боли?
— Конечно нет, но все больные от нестерпимой боли стонут и даже кричат!
— Но ведь это же бессмыслица. Я не способен совершать бессмысленные поступки.
Я вышла вместе с Гращенковым. Не хотела мешать ленинградским родственникам, их встрече с Дау.
— Николай Иванович, Дау не способен преувеличивать и говорить то, что не соответствует действительности. У него действительно очень сильные боли в ноге.
Я знала, что Гращенков не клиницист.
— Конкордия Терентьевна, вы говорите о тех качествах, которые у него были до аварии, до болезни. Вы разве не замечаете, как он изменился?
— Нет, он совсем не изменился.
— А вот его родственники и Лившиц говорят совсем другое. Они его поведение не считают нормальным. И ваше влияние на Льва Давидовича они считают тоже ненормальным.
— Николай Иванович, как это понять «мое влияние». Никакого моего влияния нет! На Дау вообще никто не мог влиять! И сейчас он такой же, какой был до аварии! Я нарочно не стала мешать родственникам, пусть попробуют они влиять на него.
— Конкордия Терентьевна, вы меня, конечно, извините, но всем известно, что до аварии он вами пренебрегал, а сейчас, к всеобщему удивлению, он только и бредит вами, только вас зовет. Всех гонит, ждет только вас!
— Николай Иванович, до аварии ни я, ни Дау с вами не встречались. Вы не могли знать взглядов Дау и тем более наши семейные отношения!
Я круто повернулась и не прощаясь ушла. Комок в горле грозил вылиться слезами. На воздухе стало легче. {289} Вспомнила, что надо идти в иностранный отдел АН СССР. С моим настроением ехать не могу, оставить Дауньку не могу ни на один день!
«Если стоны не помогают от боли, стонать бессмысленно». «Я не способен производить бессмысленные действия». «Коруша, я знаю, ты меня любишь, ты мне ничего не жалеешь. Так почему же ты для меня жалеешь чужую тебе ненужную девушку». «Если я получаю удовольствие, ты должна радоваться, если ты действительно любишь меня». «Ревность — это глупость! Она ничего не имеет общего с любовью!» — это все из одной серии. В клетках его мозга отсутствуют мелкая пошлость, традиционные привычно-обывательские взгляды на жизнь. Он таким родился!
А вот теперь ограниченные медики вроде Гращенкова будут цепляться к его словам. Я читала, в истории болезни Дау Гращенков записал: «потеря ближней памяти», когда Дау забыл, что он съел на обед. Историю болезни Ландау Гращенков иногда забывал в палате, я ее тщательно изучила.
Пока я добралась до Президиума АН СССР, я твердо решила не ехать в Швецию. Я не имею никакого права получать столь высокую награду мира, пользуясь болезнью Дау. И потом я не могу и не хочу оставить больного Дау. Меня пугают вопросы медиков, обращенные к Дау, они его без конца спрашивают: какой месяц, какое число, какой сегодня день? Он им отвечает: «Я не помню! Спросите у Коры!».
Когда я пришла в кабинет сотрудника иностранного отдела для оформления поездки в Швецию, я заявила: «Вы меня извините, но ехать на праздничные торжества я не могу. Когда я давала согласие на поездку шведскому послу, не учла состояние мужа. За прошедший месяц состояние не улучшилось, ехать я не могу».
Нобелевскому комитету пришлось нарушить традиции своего Шведского королевства. 20 декабря 1962 года, впервые за все существование Нобелевского комитета, премия по физике за 1962 год была вручена в г. Москве, в стенах больницы АН СССР академику Ландау. Вручал награду посол Швеции господин Сульман. После торжественной части вручения медали, диплома и чека господин Сульман сказал: «Лев {290} Давидович, распишитесь на оборотной стороне чека. На всякий случай. Тогда ваша жена всегда сможет получить эту сумму — 250 тысяч крон».
Дау расписался. Господин и госпожа Сульман официально пригласили меня на прием, который состоится в мою честь в Шведском посольстве по случаю вручения Нобелевской премии моему мужу! Подошел Мстислав Всеволодович Келдыш. Он поздравил Дау. Дау ему сказал: «Мстислав Всеволодович, мы ведь не виделись с вами с момента вашего избрания в президенты. Я вас поздравляю, но отнюдь не завидую».
Дау увезли в палату, он еще сам не ходил. Келдыш удивленно воскликнул:
— Почему говорят, что Ландау невменяем, я этого не нахожу. Он такой же, как и был прежде.
Воспользовавшись случаем, я обратилась к президенту:
— Мстислав Всеволодович, мне кажется, что врачи его не понимают, мне кажется, они ошибаются в диагнозе. Если мои подозрения перейдут в убеждение, я могу прийти к вам? Вы мне поможете?
— В любое время приходите, я вас приму и все ваши просьбы выполню.
Президент не сдержал своего слова!
<...>
Когда все разошлись, усталого Дауньку уложили в постель, в палату быстро вошел Валерий Генде-Роте:
— Лев Давидович, у меня ЧП. Оборвалась пленка, и я щелкал впустую. Завтра редактор меня повесит! Пожалуйста, наденьте костюм и галстук. Я вас хоть раз щелкну.
— Нет, я устал, не могу.
— А если я за это вам завтра ровно в 9 часов утра привезу портрет самой красивой девушки мира?
— Не обманете? — воскликнул, оживившись, Дау.
— Клянусь.
— Одевайте.
На следующий день утром, ровно в 9 часов, Валерий, верный своему слову, привез портрет «мисс Фестиваль». Дау взглянул на этот портрет и сказал:
— Ну и надули же вы меня. Да она страшна, как смертный грех! (Это была кубинка.) {291}
— Лев Давидович, простите, не обманул. Я сейчас же привезу вам портрет красавицы другого типа.
Второй портрет был вскоре доставлен. Солистка ансамбля «Березка». У Дауньки глаза засияли, заискрились: «Вот эта да, эта хороша!». А потом добавил: «А вы знаете, она похожа на мою Кору».
Этот портрет к приезду Дау домой я повесила над его постелью. Он и сейчас висит в его кабинете.
На прием в шведское посольство мне пришлось поехать. Ехала я в машине Капицы вместе с Петром Леонидовичем и Анной Алексеевной. В их машину еще влез и Женька.
Жена посла, в прошлом русская княжна Оболенская, к торжествам вручения Нобелевской премии в Москве заказала и ей доставили самолетом орхидеи. Эти редкие цветы я увидела впервые. При прощании она подарила мне букет орхидей, они долго жили в воде.
28 декабря 1962 года научный мир Москвы был потрясен траурной вестью — скончался А.В.Топчиев: инфаркт. Переработал! Он не щадил себя! Я особенно тяжело перенесла эту утрату. Он был замечательно добрый человек, как он помог мне, как мало людей, занимающих высокие посты, имеют такое отзывчивое, доброе сердце!
Сейчас, вглядываясь в прошлое, в те страшные трагические дни, вижу, сколько вредного шума подняли физики, но реальную человеческую помощь я получила только от Топчиева. Врача Федорова он мне помог ввести в консилиум. Федоров спас жизнь, без Федорова Ландау не прожил бы и суток! Топчиев восстановил зарплату Ландау. Топчиев помог вырвать Ландау из лап бандита Егорова и обеспечил нормальное выздоровление Ландау, в нормальных условиях. И если бы Топчиев остался жить, Ландау давно бы уже работал, возможно, сделал бы еще открытия и принес бы большую пользу нашей Советской Стране и науке!
Наступал 1963 год. 31 декабря 1962 года мне разрешили остаться в палате до 12 часов ночи. А в 11 часов 31 декабря в палату Дау принесли огромный букет свежих роз. {292}
— Откуда? Кто?
Мне сказали: в отдел нашей скорой помощи приехали летчики и просили передать академику Ландау. Скорая помощь из уважения к столь редкой красоте роз доставила меня вместе с розами в новогоднюю ночь домой.
О, эти розы, сколько счастья принесли они мне в ту, еще счастливую новогоднюю ночь! Это были полураскрывшиеся бутоны разных розовых оттенков. В огромную хрустальную вазу налила воды и ножницами в воде срезала продольный кусочек корешка. Думала об одном: если все розы завтра распустятся и ни одна не увянет, Дау полностью выздоровеет.
Рано утром вскочила, прибежала к розам: все, все до одной раскрылись. И были так нежны, так красивы, источая нежный аромат. Символически они сулили счастливое выздоровление Дауньки. Иногда так хочется быть суеверной, поверить в радостное предзнаменование в новогоднюю ночь! И первый день нового года всегда будит радостные мечты. Вдруг нежданно-негаданно свалились эти розы в новогоднюю ночь.
В продолжение всей болезни в каждую новогоднюю ночь кто-то привозил розы для Дау. Думаю, что эти розы были от женщины, тщетно я искала записки. Я очень благодарю за розы. Мне они приносили большую радость. Они таили в себе загадочную надежду на счастье тем, что всегда доставлялись в новогоднюю ночь! Это была очень красивая форма внимания.
Но выздоровление шло очень, очень медленно. Я помнила, я знала, я много прочла медицинских книг. Пенфильд и учебники медицины говорили: терпение и терпение, 3 года — самый короткий срок. Сейчас пошел только второй год.
Я терпением запаслась, память у Дауньки не совсем еще установилась. К счастью, он не ощущал времени, это помогало ему не помнить длительности неотступной боли в ноге, острой, нестерпимой, непрекращавшейся ни на одну минуту.
Из нейрохирургии приходил молодой врач по гимнастике Владимир Львович. Его всегда сопровождал Женька. Женьку Дау уже не гнал, я Дау уверила, что никаких денег физики от меня не требовали. {293}
Тщательно скрыла от Дау те списки долга, на сумму примерно 4,5 тысячи рублей, которые, по утверждению Лифшица, академик Ландау задолжал, находясь в тяжелом, бессознательном состоянии в наших советских больницах, где все было бесплатно. Те неплановые расходы, вызванные сложностью травм больного, вела я.
После смерти Дауньки мне очень захотелось вернуть те именные подарки, которые украл Лившиц. В числе этих подарков есть пять альбомов, они мне очень дороги как память.
В одном из альбомов показано: родился на Земле мальчик, бог в своем лазурном небосводе, сидя на облаке, заинтересовался рождением этого человека. Спустившись на Землю, взял мальчика за ручку, зашагал с мальчиком Ландау по облакам, стал учить его уму-разуму, объясняя, как он, бог, сотворил мир. Мальчик Ландау с удивлением посмотрел на бога, потом повел бога к доске с мелом и начал методами теоретической физики учить бога, как по правде устроен мир.
В этих альбомах в шуточных каламбурах, в дружеских шаржах талантливые художники изобразили Дау как живого, поразительное портретное сходство, угловатость и худобу художники смягчили его непосредственностью и детской наивностью. Магнетизм и ферромагнетизм изобразили в этих альбомах так: перед Ландау появляется дьявол, на плече дьявола сидит прелестная блондинка. Как железо к магниту, Ландау устремился к дьяволу, а дьявол молниеносно скрылся, показав Ландау нос, — это антиферромагнетизм...
Загоревшись пламенным желанием увидеть моего Дауньку хотя бы в этих альбомах, я решила пойти попросить Капицу помочь мне вернуть украденные предметы. Поднимаясь по лестнице института, я вспомнила: как-то Петр Леонидович рассказывал весьма остроумный анекдот. Всего этого анекдота я не помню, но суть в том, что этого человека надо остерегаться, он замечен в воровстве: или он что-то украл, или у него что-то украли.
Поэтому вмешивать в воровские дела Лившица благороднейшего из людей — Петра Леонидовича Капицу — я не решилась. {294}
Вспомнила: Л.А.Арцимович, академик-секретарь отделения. Наши дачи разделяла лесная поляна. Многолетнее знакомство семьями позволило мне позвонить ему домой. К телефону подошла не Мария Николаевна, а новая жена, та самая, на которую Лев Андреевич одалживал деньги у Дау, чтобы свозить ее на курорт. Я попросила Льва Андреевича к телефону. Она бесцеремонно спросила: «Кто его спрашивает?». Меня Дау учил, что такой вопрос некультурен. Надо отвечать: его нет дома, что ему передать. Новой жене Арцимовича я назвалась, тогда она совсем грубо спросила: «А зачем вам нужен мой муж?». (Она сама недавно увела Арцимовича от первой жены!)
«Не за тем, чтобы заменить моего», — подумала я, сказав: «Он у Ландау много лет тому назад одалживал деньги и до сих пор не вернул».
Когда у меня не было денег на обед Гарику, я из должников Дау никому не посмела напомнить о деньгах. Деньги Дау одалживал из своих 40 процентов, я на них не имела права. Но новой жене Арцемовича я так ответила в ответ на ее хамство!
Недели через две раздался телефонный звонок. Сняла трубку: «Здравствуйте, Кора, говорит Лев Андреевич. Я у Дау одалживал деньги — две тысячи. Как мне их вам вернуть?». Помолчав, он добавил: «Разрешите, я их пришлю со своим шофером». Шофер деньги привез, но потребовал расписку. Дау ни у кого не брал расписок, если не возвращали, считал их подаренными.
Больной запоминает текущие события только те, которые его интересуют. Это было свойственно натуре Дау от рождения: не загружать память незначительными, неинтересными событиями, его память имела избирательную ценность! Его мозговые клетки были особого устройства.
Все мелкие события, происходящие в больнице, {295} которые медики так любят смаковать, он пропускал мимо себя. «Спросите у Коры», Кора ведь и существует для того, чтобы помнить эти мелочи, эти незначительные события текущей жизни.
Жить, заниматься наукой, углубляться в неразгаданные тайны природы — это высшее наслаждение, весь смысл жизни в науке. Для отдыха неплохо заняться девушками, они помогают отвлечься, отдохнуть, чтобы опять заняться наукой. А мелочи пусть делают лучше мелкие люди, вроде Коры и Женьки.
Когда Дау появился в Харькове, ему было только 24 года. Тогда шел 32-й год. Из студенческой молодежи последних курсов, которым Дау читал лекции, Евгений Михайлович Лифшиц выделялся хорошей подготовкой. В их семье для двух сыновей было три гувернера. Лифшиц из студенческой молодежи выделялся знанием языков, изысканностью одежды, наша советская студенческая молодежь тех лет дала ему кличку Виконт. Она ему импонировала, он сиял, когда его так «обзывали».
Вокруг Дау стала собираться студенческая молодежь, и конечно в их числе Виконт. У Виконта редкие издания книг и даже Гумилев. Для Виконта молодой профессор явился с Олимпа, от самого знаменитого Нильса Бора. Это для Виконта было притягательной силой.
Виконт мертвой хваткой вцепился в молодого Ландау, а через некоторое время Ландау заявил: «Товарищи, какой он Виконт, Женька настоящий Капуцин. Его цепкохвостость поразительна».
Когда Дау убедился, что Капуцин лишен таланта к творческой научной работе, он решил его использовать для написания книг. Еще Капуцин свою незаменимость при Ландау закрепил по мелочи: достать лезвия для бритв, выбрать галстук. Он выполнял это очень охотно. Дау это очень ценил, платил идеями, тем, чем был сказочно богат.
Самозабвенно погружаясь в неизведанные недра науки, его могучий мозг молниеносно производил сложнейшие расчеты. А кончик вечного пера едва успевал за мыслью, скупые формулы ложились на бумагу вкривь и вкось. Чистописание ему не было свойственно. {296}
Процесс напряженного мышления он никогда не называл работой. Еще в Харькове он мне сказал о себе так:
— Я просто физик-теоретик. По-настоящему меня интересует только неразгаданное явление природы. Это высочайшее наслаждение, это огромная радость жизни, это самое большое счастье, которое суждено познать человеку! А вообще я лодырь, я очень ленивый и очень никчемный. Я ничего не умею делать. Когда мы ходим в туристический поход, меня все называют лодырем и паразитом. Я и есть лодырь и паразит, я ничего не умею делать руками.
— Что? Написать вам статью в журнал? А я ведь писать не умею. Я ведь и двух слов не свяжу. Я есть жуткий лодырь.
Фантастически утрировал свою несостоятельность в письме. А писал Дау замечательно. По этому поводу я привожу его письма. Не очень длинные. Или взять его переписку. Он много получал писем и почти на все отвечал. Лифшиц возвел поклеп на своего учителя, чтоб хоть чем-то возвыситься над Ландау. И это после трагической смерти.
Эту нелепость о Ландау со слов Женьки подхватили люди, которые не знали Ландау. А сейчас пишут, приводя в пример, что вот такой великий физик, как Ландау, не мог связать двух слов в письменном виде. Меня удивляет одно: Дау еще всегда называл себя лодырем и паразитом. Почему же Лифшиц это не склоняет? Потому, что весь мир удивлен универсализмом и фантастической работоспособностью Ландау.
Но ведь Ландау всю жизнь о себе говорил, что он ведет паразитический образ жизни. «Я никчемный заяц, я ничего не умею». У него действительно все замки были всегда испорчены, не закрывались.
«Коруша, опять надо вызвать мастера, замок не работает». Беру ключ — у меня замок работает. «Коруша, окно не закрывается». Иду, закрываю. «Как тебе так легко все удается? Просто удивительно».
Или вот в Казани. Война, перенаселенность эвакуированных фантастическая. Жилищные условия ужасные. Можно мыться только в бане. Чтобы достать номер с ванной в первую очередь после вчерашней {297} дезинфекции, в большие морозы занимаю очередь с вечера. Всю ночь бегаешь, прыгаешь, чтобы не обморозиться. Дау приходил к 8 часам утра. За один час надо вымыть Дау, вымыться самой и выстирать белье за неделю. Спешно сортируя белье для стирки, говорю: «Дау, ты иди наливай ванну, залезай в нее». И вдруг слышу: «Корочка, тебе очень не повезло. Этот номер в бане испорчен: ни один кран не открывается». У меня сердце спустилось в пятки. Неужели такое может быть? Ночь больших страданий впустую. Иду. У меня все краны открылись.
Дау был теоретик от природы. Руками он мог держать только ручку вечного пера да еще обнимать красивых девушек.
Итак, выздоровление шло медленно, но оно шло. Никто не виноват в том, что в центре управления человеческим организмом, в головном мозгу, кровеносная система, питающая мозг, слишком тонкой конструкции. И для полного своего выздоровления даже после незначительной травмы требуется много лет.
К Дау в больницу АН СССР в часы посещения приходило много физиков и просто его знакомых. Всем он жаловался на бесконечные мучительные боли в ноге.
Те разговоры, что после травмы головы Ландау стал невменяемым, вышли из стен больницы и распространились по Москве. Естественно, все посетители, особенно физики, старались убедиться в противном, задавая ему бесконечные вопросы. Игорь Евгеньевич Тамм был очень опечален, что Ландау не помнит ни дня, ни числа, ни месяца. А Дау действительно этого не помнил. От этих мелких бытовых вопросов Дау отмахивался и, не дослушав до конца, быстро отвечал: «Я ничего не помню, спросите у Коры. Она все знает, у меня болит нога». {298}
Телефонный звонок из Президиума АН СССР извлек меня из больницы, от Дау. Меня попросили принять у себя дома французов из Парижа, специально приехавших заснять кабинет физика Ландау, это была целая делегация от редакции журнала «Пари-матч». Они попросили меня письменный стол в кабинете Дау привести в рабочее состояние. Объяснить французам, что Даунька садился за свой письменный стол только для бритья, у меня не было сил. Да могут и не понять, ведь Гращенков не понял. Положила на стол чистый лист бумаги и ручку с вечным пером. Мои гости решили, что я их не поняла. Стали хором мне объяснять, чтобы я пустую площадь стола обогатила книгами, таблицами, справочниками, которыми знаменитый физик пользовался, творя настоящую науку.
Теперь настала моя очередь удивляться.
— Вы приехали из Франции заснять кабинет ученого-первооткрывателя, но ведь он работал над теми проблемами в науке, о которых ничего, нигде не может быть написано! Он первооткрыватель! Когда закончит работу, тогда появятся сообщения об этом в книгах! Справочниками и таблицами никогда не пользовался, в уме молниеносно решал сложнейшие математические проблемы, да у нас в доме нет ни логарифмической линейки, ни таблиц, ни справочников, у нас даже нет технических, научных книг, вся наша библиотека состоит только из художественной литературы.
Иностранцы меня выслушали, но им в это было трудно поверить! Они в один миг, без команды рассыпались по кабинету и в библиотеке стали безуспешно искать доказательств того, что такого быть не может. Были очень удивлены и даже расстроены, когда сами убедились, что вся библиотека состояла из художественной литературы. Им пришлось сфотографировать пустой стол, только чистая бумага и перо.
| {299} |
Дау все чаще и чаще стал жаловаться на неприятные ощущения в животе. Бесконечные ложные позывы мешали спать. Живот был вздут. Врачи, тщательно обследовав кишечник, сказали: «Вам нужно побольше ходить, вы залежались». И прописали стакан морковного сока.
Я застала диетврача в палате Дау со стаканом морковного сока. Дау ему говорил:
— И не пытайтесь меня уговаривать. Я эту гадость пить не буду. Морковка на вкус отвратительна. Я не выношу этого вкуса.
Врач старался убедить Дау в том, что вкус очень приятен и морковный сок очень полезен.
Я взяла стакан с соком у врача, подошла к Дау и сказала:
— Дау, ты болен?
— Да.
— Ты хочешь выздороветь?
— Очень хочу, Коруша.
— Лекарства разве бывают вкусные?
— Нет, лекарства должны быть невкусные по своей идее.
— Так вот, выпей морковный сок как лекарство.
— Как лекарство я его могу выпить. Лекарства как правило невкусные.
И каждый день, когда натощак приносили пить морковный сок с утра, меня в палате не было, он его пил, приговаривая: «Как лекарство я этот мерзкий сок выпью».
Где потеря близкой памяти? С Гращенковым я уже не могла разговаривать. О, только не потому, что он забыл мне позвонить по поводу благополучного исхода «мозговой операции», когда ночью Дау в больнице № 50 делали трепанацию черепа и убедились, что гематомы коры головного мозга нет. Я была так счастлива, что эта операция закончилась благополучно. Я понимала, насколько врачам в те дни было не до меня.
Другое дело, когда я встретила в коридоре Гращенкова, после того когда Дау объявил мне о непреклонном {300} решении вступить в Коммунистическую партию в присутствии Гращенкова. Гращенков мне сказал:
— Конкордия Терентьевна, вы утверждаете, что ничего не замечаете. У вашего мужа поведение, несвойственное ему до травмы, а вы утверждаете, что не могут в мозгу погибнуть избранные клетки памяти.
— Да, я в этом убеждена.
— А вот мне Лившиц — самый близкий друг Ландау — сказал, что до травмы ему было несвойственно желание вступить в Коммунистическую партию. Лившиц был поражен, удивлен и опечален.
— Николай Иванович, это потому, что самому Лифшицу это несвойственно. Я — член партии, вы — тоже член партии. И Ландау мог стать членом партии.
Рыдания душили, я ушла не прощаясь.
Как энтомологи рассматривают насекомых под микроскопом, так сейчас медики, физики и все прислушиваются к тому, что сказал Ландау. Это было нестерпимо больно. Как они все смеют так обращаться с ним? Он всю жизнь был «ненормальным» в том смысле, как Нильс Бор в свое время высказался об одной из теорий Гейзенберга: «Это, конечно, сумасшедшая теория. Не ясно только одно, достаточно ли она сумасшедшая, чтобы быть еще и верной».
Медик Гращенков диагностировал у академика Ландау ненормальное мышление, он не понял, что таким мышлением наградила его природа, и это называется талантом!
Его сокурсник по университету, тоже незаурядный талант, соблазнившись на роскошные условия, предложенные Америкой, стал работать на бизнес. Прошли годы, прошли десятилетия. Обедая на кухне, Дау развернул только что полученные на домашний адрес журналы научной информации и ахнул: «Коруша, какой ужас! Во что американский бизнес превратил талант Гамова, просто позор, вот его последняя работа. Променять физику на бизнес!».
Ландау родился гением. На одиннадцатом году жизни его очень серьезно заинтересовал «Капитал» Маркса. Он его изучил, потом познакомился с трудами Маркса и Энгельса, в результате чего его мировоззрение стало марксистским. В самом благородном смысле. {301}
Гращенков же со слов Лифшица констатировал, что это несвойственно здоровой психике Ландау.
Лифшиц считался другом Дау. Дау его воспринимал с самых харьковских времен как необходимую нагрузку к ассортименту жизни. И Капуцин был полезен своими практическими умными советами в быту и, конечно, как грамотный, очень аккуратный, трудолюбивый и пунктуальный технический секретарь.
А как «писец» для писания томов теоретической физики он был просто незаменимым. В течение 35 лет я была свидетелем как писались эти книги. Они писались у нас в доме, чаще всего вечерами. Когда Дау не занимался наукой, он по телефону приглашал Женьку.
Вся ценность Лившица как соавтора была именно в том, что Лившиц ничего не мог развить, но он не делал элементарных ошибок в том, что говорил ему Ландау. Собственное творческое мышление отсутствовало, а грамотность и образованность помогали ему в этой работе. Дау всегда говорил: «Женька не физик. Физик его младший брат Илья».
Цитирую слова Дау: «Удивительная разновидность братьев Лившиц. Женька умен, он жизненно умен, но никакого таланта. Абсолютно неспособен к творческому мышлению. Илья в жизни дурак дураком, собирает марки, все время с детства на поводу у Женьки, но очень талантливый физик. Его самостоятельные работы блестящи».
Когда Ландау решил, что Илья Лившиц по своим работам должен стать членом-корреспондентом АН СССР, он приложил максимум усилий и харьковский Илья Лившиц был избран членкором АН СССР.
Цитирую слова Топчиева: «Как только был получен результат голосования за Илью Лившица, я подошел к Ландау и спросил: «Лев Давидович, на следующих выборах мы, вероятно, будем избирать старшего брата Лившица?».
Лев Давидович засмеялся и сказал: «Нет, Александр Васильевич, вот старшего брата Лившица мы никогда не будем выбирать в члены-корреспонденты АН СССР». И если бы Ландау остался жив, Лившиц никогда не стал бы академиком.
Еще один пример дружеских чувств Лившица к Дау. {302}
В начале 50-х годов Дау отдыхал в Крыму, а Женька совершал автотуристическое турне со своей подругой Горобец. К концу санаторного срока у Дау, Женька прикатил в санаторий и предложил Дау отвезти его на своей машине в Москву. Дау, естественно, согласился. Женька очень увлекался автотуризмом, и его покрышки были уже полностью изношены. На моей новой машине я ездила редко, покрышки были совершенно новые. По приезде в Москву Женька пришел к Дау и сказал: «Я тебя вез из Крыма в Москву и порвал все свои покрышки. Я с вашей машины сниму целые покрышки, а взамен поставлю свои изношенные. Кора ездит редко, а у тебя персональная машина». И Дау, конечно, разрешил.
Наш шофер с персональной машины В.Р.Воробьев следил и за нашей личной машиной, он пришел ко мне очень взволнованный:
— Конкордия Терентьевна, вы знаете, что сделал Евгений Михайлович?
— Знаю.
— И вы смолчите?
— А что сделаешь, если ему разрешил Лев Давидович?
— Тогда разрешите, я ему морду набью
— Валентин Романович, я уже это пробовала. Он не воспитуем! А вас Лев Давидович может уволить. Ничего, стерпим.
С первых дней, когда трагедия обрушилась на меня и Даунька попал в больницу, Евгений Михайлович Лившиц по старым традициям своей семьи медицину считал всесильной и очень прислушивался к словам именитых медиков. Первый пришел к выводу, что Дау потерял ближнюю память.
Вначале мнение Лившица о мозговой травме у Дау меня не интересовало. Я на его утверждения и заключения не обращала внимания. Во мне жила уверенность: Дау выздоровеет и сам поставит всех на место!
Когда я была после смерти мужа в издательстве «Международная книга», куда меня пригласили для подписания договоров по изданию трудов Ландау за границей, я спросила у главного редактора: «Почему все тома изданных за границей книг присваивает Лившиц?». {303} Мне официально ответили: «Международная книга» адресовала все книги на имя основного автора — Льва Давидовича Ландау. У Лившица от Ландау была доверенность на получение этих книг. Экземпляров на имя Лившица не было».
Доверенность только на получение этих томов — по нашим советским законам это не документ, на основании которого можно присвоить не принадлежащую академику Академии наук СССР Лившицу очень ценную многотомную библиотеку книг, принадлежащих Ландау. У Лившица нет наследственных прав после смерти академика Ландау на присвоение этих книг.
Позывы газопускания стали все чаще и настойчивее, а медики все глубже стали влезать в психологию. Избегая встречаться с Лившицем в палате, я всегда уходила, когда он с врачом по физкультуре приходил к Дау.
Председатель консилиума Гращенков все время твердил о том, что физики должны его вовлечь в работу, чтобы отвлечь от боли. Гращенков говорил: «Вот он сейчас придумал себе новую боль в животе. Надо, чтобы к нему приходил Лившиц, говорил с ним о физике и отвлекал его вредных мыслей о боли».
Председатель консилиума, вероятно, забыл, сколько антибиотиков получил внутрь больной, когда разлагалась плевра легких, разорванная на куски сломанными ребрами. Пожар в легких был потушен американскими антибиотиками, больной выжил. Беда была в том, что Гращенков не был клиницистом, он и не подумал, что надо проверить кал больного на грибки. Медики больницы АН СССР получили историю болезни академика Ландау. В истории болезни не было ни одного анализа кала на грибки. Я увлекалась медицинской литературой в основном по травме мозга и осложнениям после мозговых травм. Я не верила, но была {304} очень встревожена заключением Гращенкова о потере ближней памяти у Дау.
Как-то пришла к Дау. В палате у его изголовья сидит с мрачным видом академик Леонтович, оба молчат. Дау отвернулся, лежит лицом к стене, глаза закрыты. «Дау, ты спишь?» — спросила я, наклонившись. Глаза приоткрылись, хитро блеснули, зрачком указал на Леонтовича и опять закрыл лаза.
Леонтович поднялся. Прощаясь со мной, он сказал: «Дау со мной совсем не говорил». Ушел очень расстроенный. Сразу я вспомнила тот год, когда в Президиуме АН СССР на Ленинском проспекте в кинозале шел фильм «К далеким берегам». Мы пришли с Дау, до начала бродили в кулуарах между старинных колонн бывшего дворца графа Воронцова.
Навстречу Дау шел академик Леонтович. Он явно хотел подойти к нему поговорить, а Дау шмыгнул за массивную белую колонну. Тонкий, гибкий, быстрый Дау исчез так внезапно, что я даже рот открыла от удивления. Леонтович, поискав его глазами, ушел. Так вот, до начала сеанса, как только на пути Дау возникал Леонтович, а это повторялось не один раз, Дау прятался за колонну.
— Дау, ты всегда говорил, что Леонтович очень честный и порядочный человек. Почему ты от него прячешься?
Сверкнув глазами Дау опять исчез. Оглянулась — на горизонте опять возник Леонтович.
— Дау, ты просто неприлично себя ведешь, ведь он, наверное, понял, что ты от него прячешься просто пошутовски!
— Коруша, я действительно прячусь от Леонтовича, он нагоняет скуку. Я всегда помню о страшном суде. Бог призовет и спросит: «Почему скучал? Почему разговаривал со скучным Леонтовичем?».
— Ничего бы с тобой не случилось. Вот посмотри, как Игорь Евгеньевич Тамм очень оживленно разговаривает с Леонтовичем.
— А я не такая, я иная, я вся из блесток и минут, — изрек он свою любимую фразу.
Сейчас в палате Дау подтвердил всю сущность своей прежней натуры, но я и так давно уже уверилась, что его интеллект и мозг целы. {305}
Визит Леонтовича меня очень огорчил. Я спросила медсестер, почему они вышли — Леонтович сам попросил их выйти или нет.
— Нет, Конкордия Терентьевна, здесь были врачи, а когда пришел этот академик, Лев Давидович повернулся к стене и закрыл глаза. Врачи сказали: «Это пришел очень важный академик, не мешайте, выйдите, пусть попробует поговорить с Ландау о физике».
— Раечка, а долго сидел этот важный академик?
— Довольно долго.
Час от часу не легче. Что делать? Придя из больницы, я нажала кнопку звонка квартиры Лившицев, открыла дверь Леля.
— Леля, я пришла поговорить с Женей.
— Он в своей комнате.
Я постучала в его дверь, после разрешения вошла:
— Женя, мы оба с вами заинтересованы в выздоровлении Дау.
Больше он не дал мне говорить. Он закричал визгливо, по-бабьи, что ему не о чем говорить со мной. Быстро выскочил из комнаты и заперся в уборной. Я подошла к закрытой двери уборной и стала продолжать говорить:
— Мы должны вместе бороться за выздоровление Дау.
Но он стал заглушать мой голос, спуская воду в унитазе, громко стуча ногами. Я ушла.
Когда весть о том, что жена Ландау рассорилась с Лившицем, дошла до П.Л.Капицы, он, пожав плечами, сказал: «Вот две бабы нашли время для ссор!». Очевидцы рассказали Дау. Тот пришел в восторг от слов знаменитого директора. Рассказал мне это сам Дау на второй день.
Поймав у меня в глазах напряжение, он сразу среагировал: «Коруша, ты на Кентавра не обижайся. Он тебя не обидел, ты баба и есть, но как он уязвил Женьку, назвав его бабой! Ты знаешь, Коруша, когда Женька и Леля жили в нашей квартире, я всегда говорил, что мужское начало в их семье принадлежало Леле».
Я еще раз убедилась, что никакой потери ближней памяти у Дау нет. Он не помнил только поездку с Судаком на их «Волге» и саму автокатастрофу. Но ведь {306} в нейрохирургии, когда он пришел в сознание, он меня не узнавал первое время, хотя хорошо знал Федорова и его имя Сергей Николаевич не забывал, всех медсестер звал по именам. Потом, когда стал звать меня, много позже вспомнил, что у него есть сын. Следовательно, потеря памяти на прошедшие события тоже восстанавливается.
Приход Геры в больницу к Дау полностью подтвердил мое предположение. Геру узнал, а когда она ушла, он медсестрам при мне сказал: «Я был в нее влюблен, но она сама меня бросила, вышла замуж!». На вопросы медиков — какой месяц, какой год и какой день, отвечал неизменно одно и то же: «Не помню, спросите у Коры».
Я, конечно, прислушивалась к советам тех врачей, которых бесконечно уважала. Олег Васильевич Кербиков — психиатр, главный врач психиатрической лечебницы, академик медицины, вице-президент Академии медицинских наук. Меня в свое время направлял к нему Егоров на психиатрическое обследование. После этого обследования у нас сложились обоюдно дружеские отношения. Как он меня обрадовал, когда по телефону сообщил о решении Центрального комитета снять врачей Егорова и Корнянского с занимаемых высоких должностей.
По больнице АН СССР быстро распространилась весть, что больной академик Ландау знает все. Он может сделать любой перевод с иностранного на русский язык, решить любую нерешенную задачу, объяснить значение любого слова, ответить на любой трудный вопрос. Он даже знает латынь! Вся молодежь больницы, учащиеся заочных заведений потянулись к Ландау. Он очень доброжелательно помогал всем.
Ведущий врач Ландау невропатолог Зарочинцева как-то не имела времени подготовиться к очередному философскому семинару. Перед занятием решила проконсультироваться у своего больного Ландау.
— Лев Давидович, я сейчас должна идти на занятие по философии.
— Вы ведь врач, зачем вам понадобилась философия?
— Я член партии и изучаю марксистско-ленинскую философию. {307}
— Валентина Ивановна, вы что-то путаете и клевещете на Маркса и Ленина. Во-первых, философия — не наука, а мировоззрение. Маркс был экономистом, такая наука есть. И Энгельс был экономистом. Их выводы о диктатуре пролетариата вытекали из научных долголетних исследований. А диалектика была их мировоззрением. Ленин был профессиональным революционером. Именно в этом проявился его гений в революции! Его философия, то есть мировоззрение, была аналогичной Марксу.
— Лев Давидович, я не понимаю, о чем вы говорите. Мы на нашем философском семинаре занимаемся по программе, утвержденной Академией педагогических наук. Там этого нет, что сейчас вы сказали мне.
— Ну, естественно, Академию педагогических наук надо давно разогнать. Это ведь дармоеды от науки. Их надо послать на села сажать картофель. Тогда они принесут человеческому обществу больше пользы, чем когда они создают свои программы для учебных заведений.
— Вы что, решили, что вы министр просвещения?
— Да, Валентина Ивановна, я действительно министр без портфеля, а вы столько времени меня лечите и не заметили этого, — очень серьезно сказал Ландау.— Лучше уж скажите, когда кончится моя боль в ноге и чем можно унять мою животную боль. (Боль в животе Дау давно стала именоваться «животной болью»).
Широко открыв глаза, бедная Валентина Ивановна, пятясь вышла из палаты, бросилась звонить психиатрам, что Ландау сошел с ума. В первой половине следующего дня приехал Кербиков, прихватив с собой еще врачей-психиатров.
Придя в этот день в больницу к Дау, увидела: в конце коридора у палаты Ландау куча народа, а дверь, обычно открытая, плотно закрыта. Сердце замерло, потом отчаянно заколотилось, вызывая острую боль. Обе руки прижала к сердцу, чтобы унять болезненные удары. Еле выговорила:
— Что, что случилось? Он жив?
Ко мне подошли медсестры, побежали за валерьянкой и сказали:
— Да это просто Валентина Ивановна решила, что {308} Ландау не в своем уме. Он ей сказал, что он министр без портфеля!
— Как, только и всего?
— Да, да. А сейчас там у него остался один Кербиков. Это врачи-психиатры, которые приехали вместе с Кербиковым. Он им сказал выйти, а сам один на один разговаривает с Ландау.
— Раечка, а эти врачи-психиатры с Кербиковым сколько были в палате у Дау?
— Минут двадцать.
— А сколько Кербиков один разговаривает с Дау? Рая, посмотрев на часы, сказала:
— Уже сорок минут.
Так, следовательно, не зря в больнице говорят, что врач Зарочинцева очень любит своих больных отправлять в психиатрические лечебницы. Вдруг дверь открылась. Весело улыбаясь, щуря свои синие добрые глаза, с удовольствием потирая руки, Кербиков сказал:
— Да простят мне мои коллеги, что я их задержал. Но я не мог побороть в себе искушение наедине поговорить с умным человеком. А вы, Валентина Ивановна, глубоко ошиблись в своем пациенте. И должен вам признаться, я полностью разделяю его взгляды, и особенно насчет Академии педагогических наук и ее программ. Со школами у нее вышло много ошибок. Ну и то, что вас совсем перепугало: утверждение больного, что он министр без портфеля, — его врожденное чувство юмора очень помогает в его состоянии.
Врачи ушли. Дау был возбужден и весел. Он тоже утверждал, что получил большое удовольствие, имея возможность поговорить о науке, найдя единомышленника в медике. Мое нервное напряжение грозило вылиться слезами. Я вошла в комнату дежурной сестры и разрыдалась. Вошла медсестра: «Что вы? Ведь все хорошо обошлось». Дали мне еще капли, сегодня обошлось, а завтра я не знаю, что еще здесь может приключиться. Беда в том, что мыслит он не так, как все, а все хотят подвести его под мерку обыкновенного, нормального человека. Поскорей бы взять его домой, тогда все эти ненужные надуманные сложности сами отпадут.
Через несколько дней к Дау пришел Исаак Яковлевич {309} Кармазин. Врач, который до болезни Дау вел его десятки лет. Я была рада видеть, как Дау сердечно встретил своего врача. Я очень просила Гращенкова, чтобы он ввел его в консилиум, но Гращенков отказал: у Кармазина не было званий. Я пошла проводить его через больничный парк. Мы сели на скамейку поговорить. Оказывается, Кармазин от медиков услыхал, что ведущий врач Дау в больнице Академии наук, Зарочинцева, хотела спровадить его в психиатричку.
— Исаак Яковлевич, как вы нашли Дау?
— Во-первых, он стал красавцем. Как он замечательно выглядит. Сколько он сейчас весит?
— Около семидесяти килограмм.
— Ого, стал набирать вес. Я проверил его пульс — 72. Это что, случайно?
— Нет. Исаак Яковлевич, это теперь его постоянная норма — 72. После шокового состояния щитовидка отдохнула и выздоровела.
— Это очень интересно.
— Понимаете, Исаак Яковлевич, он у лечащих врачей не подходит под их стандартные мерки. Все лезут в его психологию, в его мозг, в его врожденную ненормальность талантливого человека. Исаак Яковлевич, меня это стало пугать. Кербиков оказался умен! Как вы считаете, если я возьму его домой? Я не боюсь трудностей, я справлюсь. Меня только пугает его живот. Как вы думаете, отчего он все сильней и сильней стал жаловаться на боли в животе? Вы внимательно осматривали живот, ведь он явно вздут? А Гращенков и Зарочинцева утверждают, что это накопление жира от долгого лежания, это не вздутие, а жир.
— Конкордия Терентьевна, живот очень вздут. Названные вами врачи — невропатологи. Они не знают кишечника. Но я начну с главного: ни в коем случае не вздумайте взять Дау домой. Еще очень рано об этом думать, травмы, и особенно забрюшинная гематома, были слишком серьезны. Я видел Дау в первые часы после его травмы. Такие травмы, такая забрюшинная гематома в любой ночной час могут дать о себе знать. У него не удален аппендикс. Здесь, в больнице, он круглосуточно обеспечен врачебным надзором, здесь всегда ночью дежурят хирурги — все еще может случиться, {310} а дома вы его потеряете. Запомните одно: домой еще очень, очень рано. И даже если ваши врачи и Гращенков начнут настаивать, не вздумайте их слушать. Ему домой рано. Я буду его навещать и вам скажу, когда можно будет взять его домой. Гращенков никогда не был клиницистом, а живот Дау меня очень тревожит. Сейчас ему действительно надо побольше ходить. Сестры ленятся, устают, вы сами старайтесь с ним побольше ходить. В коридорах больницы, если плохая погода, и вот здесь, в парке, когда погода хорошая. Но домой еще очень, очень рано.
— Исаак Яковлевич, я уже усвоила, что домой Дау рано. Как хорошо, что вы пришли. У меня была мысль взять его домой.
Гращенков все время бывал в бесконечных заграничных командировках. Вероятно, эти командировки были сущностью его работы. Когда он приезжал, он спешно в палате Дау собирал консилиум и видел своего больного только во время этих кратковременных консилиумов. Я всегда на них присутствовала. На очередной такой консилиум стали в палату к Дау собираться врачи. Вошел психолог Лурье из нейрохирургии. Дау, внимательно посмотрев на него, спросил:
— Вы ведь психолог из нейрохирургии и фамилия ваша Лурье?
— Да, да, Лев Давидович. Я просто счастлив, что вы меня узнали и даже помните мою фамилию. Я ведь давно не видел вас, а вы меня помните. Ведь это просто замечательно.
— Да, но зачем вы, по специальности психолог, пришли ко мне на врачебный консилиум? — сказал очень серьезно и даже строго Дау.
Сияя улыбкой, Лурье объявил:
— Я именно приглашен на ваш консилиум профессором Гращенковым.
— Я болен, я еще очень серьезно болен. У меня органические боли, и я предпочитаю, чтобы меня лечили врачи-медики, но не психологи, — явно враждебно ответил Дау.
Я заметила нервную дрожь в его больной руке.
— Когда заболеет Гращенков, он может лечиться у {311} психологов, а я вам говорю: я не желаю, чтобы меня лечили психологи. Я вас прошу выйти из моей палаты.
Лурье не знал характера здорового Дау. Он уже не был беспомощным пациентом Института нейрохирургии. Психолог Лурье стал доказывать физику Ландау, как наука психология нужна медикам, чтобы лечить Ландау.
И мой нежный Зайка приподнялся с постели и взревел львом. Я впервые увидела, что Дау — лев. Он был страшен в гневе. Он взревел: «Пошел вон, дурак, отсюда...»
Как пробка Лурье выскочил из палаты. Испуганные медики все исчезли вместе с Гращенковым. Консилиум не состоялся. Дау был взволнован, он весь дрожал. Медицинский осмотр больного надо было отложить.
— Я этому дураку Гращенкову говорю: «У меня болит живот, у меня болит нога». А он мне пригласил психолога!
Я вспомнила слова Зельдовича, как Дау на одном из заседаний Курчатова «взревел львом», вскочил, высказался, а выйдя, так хлопнул дверью, что сам Курчатов содрогнулся.
Когда Дау работал на Курчатова, было модно обеспечивать охрану крупных физиков. Когда Дау узнал, что есть решение прикрепить к нему так называемых «секретарей», которые посменно будут его охранять (академика Алиханова уже охраняли и многих других тоже), он сначала взбеленился: «Пусть посмеет Курчатов сунуться ко мне со своими секретарями. Я свободный человек, я не потерплю никакой охраны в виде надзора!». Женька старался его урезонить — не помогло.
Дау бушевал, тогда Женька сбегал за Вениамином Львовичем, пришли еще некоторые ученики Ландау. Померанчука среди них не было. Я слышала, как они наступали на Дау, говоря: «Дау, пойми. Это не те харьковские времена, когда в университете ректора Непоросного ты учинил скандал. Перевел на 4-й курс одного студента, а 99 оставил на второй год. Сам Затонский, министр просвещения Украины, приезжал из Киева на этот скандал, и он не смог убедить тебя, что {312} студенты, не знавшие тригонометрии, могут стать физиками. Тебе было предложено уволиться по собственному желанию, тогда ты был один. А твою научную карьеру испортить невозможно. Но сейчас мы, все твои ученики, готовы за тебя в огонь и в воду. Все мы существуем за твой счет, за счет твоего таланта, за счет твоей нужности государству. У нас, всех твоих учеников, уже семьи и дети. Возможно, тебе понравилось в тюрьме, но мы не хотим быть репрессированными, ты сгубишь наши научные карьеры. Мы этим бурям противостоять не сможем. Дау, пожалей нас, пожалей наших детей. Ты должен думать о нас, о наших судьбах. И у тебя уже есть сын и Кора. Ты должен думать и об их судьбе».
Дау умолк, физики ушли. Я поднялась к нему в кабинет. Он неподвижно лежал на тахте, лицо серое, глаза потухли.
— Даунька, почему ты так боишься этих «секретарей»?
— Коруша, это не по мне. В этом есть некое посягательство на свободу человеческой личности. Я боюсь, что могу скиснуть, как помнишь, скис, когда ты стала меня ревновать. Тогда я выключаюсь, тогда я не могу заниматься наукой.
— А технические расчеты для Курчатова делать сможешь?
— Смогу, но тогда я стану Игорем Евгеньевичем Таммом. Человеком весьма благородным, но лишенным радости творчества. Наукой заниматься не смогу, но ты не бойся. Меня мои ученики уговорили, я уже готов согласиться, я даже могу очень преуспеть, занимаясь техникой. Техникой можно заниматься и в кислом состоянии. Наверное, даже стану верным мужем, но, Коруша, невыносимо лишиться радости настоящего творческого наслаждения!
— Так не лишайся, если ты серьезно уверен, что не сможешь заниматься наукой. Подумаешь, будешь беречь благосостояние семьи Левичей. Вовкина вторая жена Татьяна уже не помещается на одном стуле. Они народили себе детей, а ты ради них должен бросить науку и заняться техникой. Дау, это глупости, я слыхала, они проявили заботу даже обо мне и Гарике. Так вот, Зайка, завтра на этом заседании так и скажи: в охраняемом {313} состоянии ты не сможешь заниматься наукой.
— Коруша, но ведь Сталин еще жив! Ты не боишься остаться с Гариком одна?
— Нет, Дау, не боюсь. Я здорова и трудоспособна. А безработных в нашей стране нет!
И Даунька ожил, глаза опять засверкали.
— Я сам, Коруша, знаю, что им завтра скажу. А охраны у меня не будет. «Я не такая, я иная, я вся из блесток и минут».
— Зайка, как ты мог послушать этого Женьку и Левича?
Но тогда Дау был здоров. А сейчас этот профессор психиатрии Лурье, чтобы оправдать свое профессиональное ничтожество, объявит Ландау сумасшедшим. И все, все поверят! «Выгнал профессора», «разогнал консилиум». Жаль, Кербикова не было на этом консилиуме. А Топчиева вообще больше нет. У кого искать защиты?
Мои мрачные мысли прервала медсестра, вызвав меня от Ландау. Сообщила, что меня ждет Гращенков в комнате дежурных медсестер. Гращенков был один. Он встал, закрыл плотно дверь. Сказал: «Мне необходимо с вами поговорить». Хорошего мне от Гращенкова не ждать!
— Николай Иванович, как вы объясните, — начала я оборону с наступления, — с точки зрения вашей теории о потере ближней памяти у Ландау. С Лурье он познакомился после травмы, но однако он без труда его узнал и даже назвал его фамилию. Вы ведь все время в командировках. Вы мало видите своего больного. Я пришла к заключению, наблюдая его ежедневно, что потери ближней памяти у него нет. У него провал памяти на последние два года перед травмой. Но этот провал памяти тоже восстанавливается.
— Конкордия Терентьевна, вы не медик, я не могу с вами дискуссировать. Мне с вами необходимо обсудить один очень важный вопрос. Вы заметили или нет интимные отношения вашего мужа с одной из медсестер?
— А разве это ему вредно?
— Нет, это ему полезно и даже необходимо, но не с медсестрой, а с женой и дома! {314}
Возмущение меня обожгло. Я вскочила:
— А если, если медсестра с этим лучше в его состоянии справилась... эта разница для медицины должна быть существенной?
— Для медицины не существенно. Но вас, как жену, это не затрагивает? Нас, всех медиков, это волнует.
— Этот вопрос обсуждению не подлежит, — теряя силы, сказала я и поспешила выйти.
К Дау зайти не смогла, был слишком мерзкий осадок, хотелось уйти от самой себя. Тревога нарастала: почему медики не интересуются его животом, его ногой, его сигналами о боли? Почему они без конца лезут в психологию, а теперь хотят диктовать ему, больному, с кем он должен спать. Это было издевательством над его личностью, вернее, над естественными человеческими инстинктами.
Кто пострадал, так это обиженная личным счастьем хорошая медсестра. Прошла весь фронт до Берлина, имеет настоящие боевые награды. Война поглотила ее молодость и, вероятно, отняла у нее личное счастье. Жизнь не остановишь, а природа всесильна. Дежурила ночью у постели уже соматически здорового, но физически еще неподвижного больного, по ночам его сознание полностью притуплялось (ведь он еще так серьезно болен), а естественные физические потребности вставали. Изолированность роскошной палаты-люкс, запирающейся на ночь изнутри, соблазнила медсестру залезть в постель к академику. Вероятно, весь активный процесс ей пришлось взять на себя, но она стимулировала выздоровление больного, ему это было полезно, а она? Она хотела этого сама. Никто не смеет их осуждать, такова природа жизни.
Не одна я знала об этом последнем романе Дау. Но все мы старались этого не замечать, не знать! С утра ясность сознания возвращалась, он не знал о своих ночных романтических приключениях. Он ничего не помнил. А Марина постепенно немножко обнаглела. Она старалась даже афишировать свою, все-таки надо назвать, любовную связь с академиком.
Немало есть случаев у наших престарелых академиков, когда после болезни, выходя из больницы или санаториев, они оставляют своих жен и женятся на {315} медицинском персонале. Вероятно, во время своего длительного пребывания в больницах и санаториях новые спутницы обслуживали их по образцу Марины. Я просто очень боялась Марину и ее романа с Дау. Я панически боялась. Только это ничего не имеет общего с ревностью. Дау — красивист, а у Марины нет даже следов былой красоты. Она моложе меня, но в смысле наружности это ей не поможет. Когда к Дау и ночью вернется его полное сознание, он ее шуганет. Не злорадством продиктовано это слово, мне ее очень жаль, она так счастлива сейчас, вся сияет. А сама стоит на пороге краха своей мечты. Вероятно, ее отношение к Дау в какой-то степени продиктовано влюбленностью или любовью и у нее возникла мечта женить на себе академика. Как-то наедине она мне довольно вызывающе сказала:
— Кора Терентьевна, а вы не боитесь, что теперь вместо вас я могу поехать получать Нобелевскую премию?
— Марина, у меня одна мечта, чтобы Дау выздоровел. А с кем он поедет в Швецию — это вопрос номер два.
Она очень подозрительно посмотрела на меня.
— Марина, я имела в виду, что для нас обеих самое важное, чтобы Дау был здоров.
— Да, конечно, — смутившись, ответила она.
В один прекрасный солнечный день, войдя в палату Ландау, я застала массажистку и всех медсестер. Был день получки, пришли все не дежурившие сестры. Я тоже принесла им деньги за трудность больного.
Все оживленно что-то обсуждали. Когда я вошла, воцарилась подозрительная тишина. Не придав этому никакого значения, я села поближе к Дау. Разговаривая с Дау, я действительно не прислушалась к тому, что Марина довольно громко сказала. Я всегда так внимательно вглядывалась в Дау после ночного отсутствия, что не уловила Марининого вопроса, обращенного ко мне. Тем более что они все сидели в другом конце палаты. Тогда Марина подошла ко мне. В ее позе был вызов:
— Кора Терентьевна, почему вы не ответили на мой вопрос? {316}
— Марина, простите. Я говорила с Дау и не слышала вашего вопроса.
— Вот здесь мы все обсуждали, как мне быть. Оставить ребенка или сделать аборт. Мне уже 37 лет и я хочу быть матерью. Что вы мне посоветуете?
— Марина, я не знаю вашего мужа. Если он полностью здоровый человек, то тогда, конечно, ребенка необходимо оставить. Но если он, ваш муж, не совсем здоров, имейте в виду на всякий случай, ребенок может родиться ненормальным. По-моему — это самое большое горе для женщины: дать жизнь неполноценному ребенку!
В палате звенела тишина. Все застыли. А Даунька, посмотрев на Марину своими ясными ультрачестными глазами, невинно произнес:
— Марина, Кора дала вам очень умный совет. Я присоединяюсь к ее мнению.
Когда через несколько дней я пришла в Маринино дежурство, дежурила Танечка.
— Таня, по моим расчетам, сегодня Маринино дежурство?
— Да, но она сейчас на пятом этаже, она решила сделать аборт.
Вскоре после этих событий у Дау сильно обострилась боль в животе. Ему было трудно лежать. Живот раздували газы. Засыпал с вечера, но после двенадцати ложные позывы, вызванные газообразованием в кишечнике, его поднимали, и весь остаток ночи он уже не спал. Ходил по длинному больничному коридору, так ему легче было освобождать кишечник от газов. Медсестры мне сообщили, что ночью он уже не бредит, не кричит «остановите поезд». К возвращению Марины на работу после довольного длительного отсутствия Дау уже был полностью в сознании. Утром после дежурства Марины, когда я пришла в палату к Дау, мне бросилось в глаза очень расстроенное лицо Марины. Когда я вошла, она, увидев меня, не здороваясь, стремительно вышла из палаты. Я внимательно, молча взглянула в глаза Дау, он с возмущением мне сказал:
— Понимаешь, Коруша, Марина очень хорошая сестра. Я знаю, она с первых часов после травмы все время ухаживала за мной, я к ней был очень расположен. {317} Но вдруг сегодня ночью она впилась поцелуем мне в губы.
— Даунька, наверное, тебе это приснилось?
— Что ты, Коруша, я хорошо помню. Она даже плакала и упрекала меня, что я ее разлюбил. Я ей объяснил, что я красивист, что она не в моем вкусе, что я ее уважаю как медицинскую сестру, что люблю тебя, иногда завожу любовниц, но она, Марина, не в моем вкусе.
— Даунька, ты ей так и сказал, что она не в твоем вкусе?
— Ну конечно.
Вот этого я боялась. Ходили слухи, что на фронте Марина пристрастилась к алкоголю. И сейчас непротив выпить. Что такое ревность, я знаю хорошо, если на почве ревности ее злобность будет направлена против меня — это полбеды. А если, вдруг, она отравит Дау? На почве ревности все может быть. Как я этого боялась! Зверь ревности мне был знаком! С ним шутки плохи!..
На дежурство заступила Танечка. Я облегченно вздохнула и, наверное, от страха, обуявшего меня со страшной силой, помчалась в Президиум АН. В приемной кабинета Топчиева вспомнила: Александра Васильевича больше нет.
Меня очень сердечно встретила его референт Антонина Васильевна, она пригласила меня в кабинет своего нового шефа. Я вошла и полностью растерялась: на месте Топчиева сидел очень достойный человек, но он мне был чужой. Он был чужой моему горю, которое так сердечно разделял в самые трудные часы моей жизни Топчиев. К счастью, этот незнакомый мне человек говорил по телефону. У меня было время подумать, что я ему скажу.
С тем, что заставило меня прийти в этот кабинет, я могла сказать только Александру Васильевичу. Этому именитому академику я не могла сказать об истории-романе Марины с Дау, и всех моих страхах, что может угрожать Дау! Хватит, уже один раз прошла психиатрическое обследование. Точно такое состояние, когда академик Кикоин пришел по моему вызову ко мне в палату, а я не смогла одолжить денег! Это очень неприятное состояние, но вот телефонная трубка легла на рычаг. {318} Я встретила равнодушный взгляд постороннего человека. Стараюсь выдавить какие-то слова.
В очень щекотливое положение опять я попала. Было очень стыдно своей очередной глупости. Телефонный звонок спасительно прозвенел, а в голове ни одной мысли нет. Только страх за Дау. Сказать правду: простите, я пришла к Топчиеву. Я забыла, что его уже нет. Но правда в человеческом обществе не всегда уместна. Что же, пусть решит, что я дура. Это не так страшно. Передышка, вызванная телефонным разговором высокопоставленного лица, пошла мне на пользу. Я спокойно начала:
— Видите ли, после вторичного посещения Пенфильда, которое, как вы знаете, было в конце зимы, Пенфильд склонялся согласиться с нашими медиками, что жалобы на боли в ноге могут носить центральное происхождение, т. е. задет в мозгу центр, который сигнализирует о ложной боли. Но уже после Пенфильда, вот сейчас, Ландау очень жалуется на боли в животе. Гращенков уже и боли в животе отнес за счет центральной нервной системы. Я этому верить не могу, у него боли органического порядка.
— Чем я могу помочь? Я не медик, —сказал мой собеседник очень сердечно и участливо.
— Ну, понимаете, ведь медики не лечат. Они призывают физиков и говорят, что физики должны его отвлечь от боли. Ландау физиков выгоняет, говоря, что, когда выздоровеет, он сам их позовет. Надо как-то убедить медиков в их неправоте, надо что-нибудь чрезвычайное. К примеру (и я загнула несусветное), если Иваненко и его невежественных в физической науке сотрудников в университете разогнать, а на их место назначить учеников Ландау: Абрикосова и других. Вот это на Ландау может произвести громаднейшее впечатление, если боли ложные, тогда он о них забудет.
Но тут я запнулась, замолчала, я поняла, что наговорила лишнего. Оказывается, Д.Д.Иваненко занимает какое-то место в нашем обществе, с ним так поступить нельзя. Со слов Дау, еще в Харькове, для меня Иваненко был подлец, дурак и очень малограмотен в физике.
Я ушла, зная наверняка, что глупо вела себя. Мне {319} данный вице-президент объяснил, что Иваненко уважаемый человек!
Даже мои страхи, так никому и не высказанные, исчезли. Марина, к счастью, оказалась мельче, чем я думала, она чаще стала приходить навеселе, уже два раза ее отстраняли от дежурства. Сейчас она успокоилась, самое ужасное — она стала заискивать передо мной. Угодничество тошнотворно по своей сути, уж лучше бунт! Вид у Марины был несчастный, она потом перешла на работу в другую больницу. Мне было ее жаль, как всякого человека, не достигшего своей мечты. Не счастливее оказалась и я. Моей мечте тоже не дано было осуществиться — Дау не выздоровел!
Как-то приехал из Ленинграда Сонин муж Зигуш. Я его застала фундаментально сидящим в глубоком кресле в палате Дау.
— Коруша, — обратился Дау ко мне, — Соня с Зигушем стали сильно ощущать отсутствие той суммы денег, которую они ежемесячно получали от меня. Ты, вероятно, получаешь мою полную зарплату, пожалуйста, возобнови им высылку денег.
— Нет, Дау, пока ты не выздоровеешь, я этого делать не буду. Соня, Зигуш, их дочь и оба ее мужа — все работают и получают очень приличную заработную плату.
Зигуш вскочил, схватил портфель и выскочил вон из палаты, не попрощавшись с Дау. Дау с упреком, очень грустно сказал:
— Корочка, неужели ты могла превратиться в жадную злючку?
— Нет, Даунька, не сердись. Во-первых, все деньги за звание идут на доплату медсестрам. Я не могла прекратить им доплачивать, они очень потрудились, когда ты был в тяжелейшем состоянии.
— Коруша, прости, я этого не знал. Сестрам доплачивать обязательно надо. Со мной и сейчас очень много возни, я ведь еще совсем получеловек. Я им ночью спать не даю, эта «животная боль» заставляет меня даже ночью маршировать по коридору.
Дау стал уже очень хорошо ходить. Конечно, не один, сначала он решался ходить только при помощи {320} высокой и сильной Танечки, а сейчас уже и я подменяю сестер. Он очень много ходит по коридору. В больницу к Дау пришел скульптор Олег Антонович Иконников. Он попросил разрешения сделать скульптурный портрет. Дау легко согласился. «Я сейчас только на это и годен», — сказал он, улыбнувшись.
На следующий день, только мы с Дау вышли в парк, медсестра пошла обедать, навстречу нам шел скульптор.
— Здравствуйте, Лев Давидович!
— Здравствуйте, Олег Антонович, — непринужденно ответил Дау. Он запомнил, запомнил имя и отчество скульптора, а только вчера он его узнал. Даже я не запомнила имя и отчество, а Дау запомнил — потери ближней памяти нет!
Но как это доказать, а стоит ли, все равно они мне и моим словам не придают никакого значения. Я безликая домашняя хозяйка, а Лившиц — физик, соавтор, доктор наук, профессор. С его именем медики считаются.
Наверное, мне нельзя было опускаться до уровня домашней хозяйки. Я ведь окончила университет, мне очень нравилось работать на производстве, в нашей стране каждый трудоспособный человек должен иметь свое трудовое лицо. Хватит философствовать, вернемся к встрече со скульптором.
Олег Антонович предложил:
— Лев Давидович, если вы сядете на эту скамейку, я сделаю свои первые наброски.
— Олег Антонович, как вы угадали? Я уже устал и хотел сесть отдохнуть.
Делая свои наброски с натуры, Олег Антонович стал рассказывать:
— Лев Давидович, я делал скульптурный портрет Семенова. На мой вопрос: "Николай Николаевич, а, кроме науки, чем вы увлекаетесь еще? Ваше хобби?" Николай Николаевич долго думал, а потом сказал — охота.
Дау рассмеялся:
— Этот академик знаменит тем, что обожал своих секретарей, эту личную охрану. Он с ними ел и пил и ходил на охоту. А когда это мероприятие было отменено, он всю свою личную охрану оставил работать в своем институте своими заместителями. {321}
Скульптор продолжал:
— Когда я лепил Тамма, я тоже спросил о его хобби. Он подумал и сказал: «Пожалуй, альпинизм».
Дау заметил:
— Я всегда говорил Игорю Евгеньевичу — «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».
— Лев Давидович, а ваше хобби?
— Женщины, — не думая ответил Дау. Скульптор весело рассмеялся.
В хорошую погоду теперь Дау много гулял в больничном парке.
Я, Танечка и Дау шли по аллее парка, навстречу нам идет Соня. Вид у нее сосредоточенный и очень грустный. Я сказала тихонько Танечке: «Таня, я лучше уйду. Они все время считают, что я Дау настраиваю против них».
Мне было жаль Соню. Пусть она попробует повлиять на Дау, только ей, как сестре, надо было бы знать, что Дау не подвержен посторонним влияниям, его можно убедить только разумными доводами. Так было раньше, так есть и теперь.
Пока Соня была в Москве, я избегала встреч с ней. К Дау приходила пораньше с утра, принося необходимые вещи для больницы. Когда Соня уехала, Дау мне сказал:
— Коруша, я рад, что Соня уехала. Ты нарочно не приходила? Ты все еще считаешь Эллу косвенной виновницей моих травм?
— Да, считаю, и Эллу, и Женьку. Из-за Элки ты поехал спасать Семена. А Семен сейчас уже женился и более счастливый, чем в первом браке, и у него уже есть еще один сын. Если бы твой Женька умел держать слово, если бы он отвез тебя на вокзал к 10-часовому поезду, ты был бы здоров!
— Коруша, ты не права. Ни Эллочка, ни Женька не виноваты. Виноват один я. А если да кабы, во рту выросли бобы, — так, Коруша, на жизнь смотреть нельзя. А между прочим, Соня жаждала поселиться у тебя. Она меня очень уговаривала, чтобы я свой кабинет предоставил в ее полное распоряжение. Тогда она оставит работу, уйдет на пенсию и каждый день будет приходить ко мне. Коруша, ты не бойся, я ей сказал: «Ни в {322} коем случае. Коре хватит тех хлопот, которые я ей доставляю. Соня, ты заядлый курильщик, а Кора слишком чистоплотна, ей будет с тобой очень трудно. Я не могу допустить, чтобы ты стеснила Кору. Ко мне приходить тебе каждый день ни к чему, ты ничем не сможешь облегчить мои боли и страдания».
Медсестра добавила: «Сестра Льва Давидовича стала жаловаться нам, как вы, Кора Терентьевна, Льва Давидовича никогда не любили, а вышли замуж за него только потому, что он — академик. Лев Давидович услыхал, рассмеялся и сказал: «Соня, ну что ты врешь. Когда мы с Корой сошлись, я не был академиком и ждала меня тюрьма. А Кора в те годы зарабатывала больше, чем я».
Время шло. И как-то утром, накормив Гарика, я на кухне занялась своими мелкими делами. Слышу — Гарик дома. Посмотрела на часы и с ужасом крикнула ему наверх: «Гарик, ты уже опоздал на работу!». Он вышел на лестничную площадку и спокойно ответил: «Мама, я в отпуске. Я уже окончил среднюю школу, и мне на работе дали 10 дней отпуска — подготовиться к вступительным экзаменам в университет». В те годы в Москве появилось новое проклятие: пусть ваши дети учатся в десятом классе.
Свое состояние не берусь описать, но в голове явно помутилось. Я притихла, села на нижнюю ступеньку лестницы. Гарик спустился ко мне. Он увидел — его сообщение меня испугало.
— Мама, у меня целых десять дней до экзаменов. Как и у всех наших ребят, с которыми я кончал вечернюю школу рабочей молодежи.
— Гарик, мне звонят ежедневно физики — студенты старших курсов МГУ. Они справляются о здоровье папы и всегда предлагают свою помощь. Я их попрошу, {323} чтобы они позанимались с тобой, порешали те типовые задачи, которые могут быть по физике и математике на экзаменах в университет.
Гарику мое предложение явно не пришлось по душе. Он молча поднялся наверх, а сверху сказал: «Мама, я буду заниматься один. А если ты пригласишь кого-либо заниматься со мной, я уйду из дома». Мальчик проявлял характер отца. Это было даже приятно.
У Дау в больнице я сказала: «Даунька, у Гарика через 10 дней вступительные экзамены в университет».
— Как, Гарик уже кончил среднюю школу?
— Да, оказывается, на днях он получил аттестат зрелости, я сегодня сама только узнала эту новость.
— Коруша, какая успеваемость у Гарика?
— Не знаю. Я Гарика совсем забросила, я даже забыла, что он кончает школу. Сегодня как снег на голову «через 10 дней экзамены в университет».
— Коруша, собственно говоря, почему ты расстроена? После окончания средней школы всегда бывают экзамены в высшее учебное заведение. Это естественное явление. Чем ты взволнована?
— Даунька, я хотела пригласить физиков, чтобы они помогли Гарику подготовиться к экзаменам, а Гарик категорически отказался. Он сегодня вечером к тебе придет. Ты ему скажи, он тебя послушает. Пусть порешает задачи по физике и математике с физиками. 10 дней подготовки к экзаменам — ведь это так мало.
— Коруша, — сказал Дау, — ты говоришь глупости. Гарик прав: специально готовиться к экзаменам, да еще с репетиторами, — не нужно. Он проучился в школе десять лет, он должен с ходу без подготовки выдержать конкурсный экзамен в университет. А если он не пройдет по конкурсу, следовательно, у него нет способностей учиться в высшем учебном заведении. Тогда Гарик должен пойти работать на производство. Высшее учебное заведение засорять нельзя. Там должна учиться способная молодежь, а не подготовленная с репетиторами.
Все отлично, пришла я к выводу, возвращаясь домой. Дау прежний, все его взгляды прежние, следовательно, все очень хорошо. И ничего нет страшного, если Гарик пойдет работать на производство. Я после {324} школы горела желанием присоединиться к истинно рабочему классу. Главное, Дау мыслит, как прежде, он выздоровеет. В этом было все мое счастье!
Вечером вместе с Гариком пошла к Дау, прихватив с собой стопку стандартных нарезанных листов бумаги, которыми Дау пользовался в своих научных изысканиях.
— А, Гарик! — воскликнул Дау, завидя сына.— Ты уже успел кончить школу (он помнит, молниеносно среагировала я).
— Да, папа.
— Ты не возражаешь, если я тебе сейчас учиню экзамен за всю среднюю школу?
— Нет, — сказала Гарик, очень смутившись от присутствия посторонних.
— Гарик, у тебя бумага есть?
— Есть, — сказала я, передавая Гарику стопку бумаги и ручку.
— Гарик, запиши, — Дау продиктовал Гарику задачу, следя, чтобы Гарик успевал записывать.— Записал?
— Да.
— Теперь пиши ответ.
Гарик записал.
— Теперь иди решай.
Я Гарика отвела в комнату дежурных сестер. Он принялся решать задачу, продиктованную отцом из головы. Дау раньше славился тем, что задачи для своих студентов мог черпать из головы, и эти задачи никогда не повторялись, и эти задачи никогда не исчерпывались. Я стала волноваться, но не за Гарика, нет. И меня уже совсем не волновало, выдержит ли Гарик экзамен в университет или нет.
Для себя я уже решила: Гарик пойдет работать на производство, потом в армию. Он еще молод и сейчас совсем здоров, у него все впереди. Он не может выдержать экзамен и пройти по конкурсу. 9-й и 10-й классы, два ответственных года учебы в школе, у него были слишком насыщены трагическими событиями, и он кончил вечернюю школу по моей вине!
В висках стучало, голова раскалывалась от напряжения. Ведь для меня держал экзамен не Гарик, держал экзамен интеллект больного Дау! Пошла к старшей сестре, {325} приняла валокардин и таблетки от головной боли. Зашла к Гарику, мне показалось, что он бесконечно долго решает. Большая стопка бумаги на исходе. Я сказала:
— Мальчик, ты, наверное, запутался. Папа еще очень болен. Он, наверное, сделал ошибку в условии задачи, у тебя, наверное, ничего не получается?
— Нет, мама. Задача правильная, но она очень длинная. Здесь вся средняя алгебра, тригонометрия, геометрия и вся средняя физика. Я никогда не решал таких задач. Сейчас я пойду с тобой.
Волнение, рыдания в горле я должна была сбить большими глотками воды. Стараясь быть спокойной, я шла за Гариком. Дау быстро, привычным жестом надел очки. Передавая листы с решением задачи, Гарик спросил:
— Папа, твой ответ правильный, а как ты его узнал? Даунька засмеялся:
— Когда я тебе диктовал задачу, в уме я ее сразу решил. Так мой ответ правильный? А сейчас я проверю, правильно ли твое решение.
Дау очень внимательно просматривал решение, в одном месте он сказал:
— Гарик, если бы ты вот здесь применил вот такую формулу, то решение твое было бы гораздо короче и быстрее.
— Папа, нам про эту формулу в школе не говорили. Дау поднял на меня сияющие глаза, сказав:
— Гарик оказался способным. Только реши еще одну задачу. Эта задача будет короче.
Вторую задачу Гарик решил быстро.
На всю жизнь запомнила, как глаза Дауньки сверкнули торжеством, когда он проверял решение второй задачи. Сказал: «Гарик очень способен, не бойся, Коруша, он в университет поступит».
Гарик в университет поступил в 1963 году и, кажется, без труда окончил, неплохо справился и с защитой диплома. Но Дауньки уже не было. Я не сдержала слова, данного Исааку Яковлевичу Кармазину. Я вынуждена была взять Дау домой, и это привело его к смерти.
Член-корреспондент Академии наук СССР Гращенков {326} настоял и с помощью интриг заставил меня взять Дау домой. Простить себе это невозможно, нельзя. Я бесконечно казнюсь.
Возвращаюсь к очередным событиям в больнице.
В больнице Академии наук на врачебных консилиумах Егоров и Корнянский, оставленные работать в институте нейрохирургами на более низких должностях, настаивали на необходимости сделать энцефалограмму. Для этого нужно больного академика привезти в Институт имени Бурденко. Они утверждали, что только в своем медицинском учреждении смогут сделать хорошую энцефалограмму. Все врачи согласились. Но осуществить это не удалось. Дау категорически отказался ехать к «врачам-палачам» в нейрохирургию.
На одном из последних консилиумов от психиатров был профессор Снежневский. Гращенков спросил у профессора Снежневского, цитирую: «Давайте попробуем привезти Ландау домой, в его кабинет. Посмотрим, может быть, он забудет о болях в домашних условиях».
Снежневский ответил: «Ни в коем случае. Еще очень рано об этом говорить. По-моему, выздоровление идет нормально. Я вижу большой прогресс в выздоровлении. Мы, психиатры, решим сами, когда это будет нужно. А пока еще очень рано говорить об этом».
В это время президент АН СССР М.В.Келдыш поручил вести дела больного Ландау вице-президенту АН СССР Миллионщикову.
Я забегу по событиям немного вперед. Я позже узнала о том, что Лившиц был очень обижен, что в больнице АН его не приглашают на консилиумы, он даже не может в любое время посетить академика Ландау. Естественно, Женька боялся утратить свое место возле Ландау. Вот вдруг он еще выздоровеет! Выздоравливать Ландау должен только у него, у Лившица на глазах. Следовательно, Лившиц должен помочь Егорову и Корнянскому вернуть им их знаменитого пациента. Тогда к Егорову и Корнянскому опять зачастят иностранные корреспонденты и будут о них писать в зарубежной прессе. Евгений Михайлович сел в свою «Волгу», стал систематически объезжать физиков-академиков, {327} плакаться им, что эта «дура Кора с Топчиевым поместили выздоравливать больного Ландау в больницу, где нет врачей-специалистов по восстанавлению мозговой деятельности. Ландау погибнет, его надо спасать».
Физики-академики Тамм, Зельдович и другие, ничего не смыслящие в медицине, согласились с Лившицем. Поспешили к Миллионщикову, тот тоже согласился, что восстанавливать мозговую деятельность Ландау должны врачи-специалисты в Институте нейрохирургии. Егоров тоже посетил вице-президента Миллионщикова, заверив его, что только он может восстановить мозговую деятельность больного Ландау. Миллионщиков заверил и Егорова, и физиков, что если они сумеют больного Ландау перевезти сами и водворить его в нейрохирургию, он не допустит ошибки Топчиева, и Ландау будет выздоравливать у Егорова. Никто из них не знал, какими методами Егоров собирается восстанавливать мозговую деятельность Ландау.
Приближалось 70-летие Егорова, и только его знаменитый пациент, только выздоравливающий Ландау может зажечь Золотую Звезду Героя на груди. Не подозревая этих событий, в палате Ландау я встретила Владимира Львовича, который должен был закончить свои занятия по физкультуре уже часа три назад.
— Здравствуйте, Конкордия Терентьевна. Я специально жду вас. У меня появилась идея. Что если мы завтра с утра, а точнее в 10 часов с Лившицем (он приедет на своей «Волге») сделаем прогулку по городу на автомашине? Лев Давидович ведь уже хорошо ходит. Ему эта прогулка принесет большую пользу, а потом мы привезем его к вам домой. После всего этого вернемся в больницу.
К нам подошла врач Зарочинцева. Владимир Львович сказал, что врач Зарочинцева очень одобряет эту прогулку.
— Да, Конкордия Терентьевна, я считаю, что эта прогулка для Льва Давидовича просто необходима.
Я дала свое согласие.
— Валентина Ивановна, если вы как врач считаете это полезным и необходимым, я не возражаю, я согласна. {328}
Владимир Львович чрезвычайно обрадовался. Прощаясь, он сказал: «Конкордия Терентьевна, завтра вы в больницу не приходите. Ждите нас с Львом Давидовичем у себя дома».
Меня поразил счастливо сияющий вид врача физкультуры, но я этому не придала значения.
Вечером, когда пришел Гарик, я ему рассказала о предстоящей прогулке, организованной по инициативе физкультурного врача.
— Гарик, если можешь, пропусти завтра занятия. Папке будет приятно, если ты будешь дома.
Гарик удивленно сказал:
— По-моему, ты, когда рассказывала о последнем консилиуме, назвала фамилию врача-психиатра Снежневского, который в категорической форме, пока, запретил это мероприятие. Сказав, что психиатры сами решат, когда это будет можно. Почему врач Зарочинцева поручила это физкультурнику?
— Гарик, ты прав. Я сейчас же позвоню домой профессору Снежневскому. Он мне дал свой домашний телефон на всякий случай. Как я могла забыть об этом?
Снежневский сам подошел к телефону и был очень удивлен и очень возмущен поведением врача Зарочинцевой. Он спросил:
— Конкордия Терентьевна, вы знаете ее домашний телефон?
— Да, знаю.
Я продиктовала Снежневскому телефон Зарочинцевой. Потом спросила, не нужно ли мне ей звонить и говорить о том, что завтрашняя прогулка не должна состояться.
— Нет, я ей сам все скажу.
Мне осталось сообщить Владимиру Львовичу, что прогулка не состоится. Не хотела, чтобы он в неурочное время приезжал в больницу. Номер его домашнего телефона у меня был. Но как сказать Владимиру Львовичу коротко и ясно: вы, физкультурник, залезли в область психиатров, а психиатр Снежневский это запретил, прогулка не состоится?
На проверку мой характер оказался тряпичным. Я начала мямлить, боясь обидеть физкультурника: {329}
— Владимир Львович, я посоветовалась с сыном. Мы с ним решили пока эту прогулку отменить. Я уже сообщила Зарочинцевой, что прогулка отменяется
На следующий день с утра зазвонил телефон. Сняла трубку.
— Вы жена Ландау?
— Да.
И полилась беспощадная ругань. Меня ругали, поносили за то, что я отказалась от искалеченного мужа. В ужасе осторожно положила телефонную трубку: что это, вероятно, сумасшедший? Звонки с малыми промежутками продолжали раздаваться. Меня все ругали, упрекали, поносили, обзывали.
Но суть я поняла: врачи якобы выписали из больницы академика Ландау, он уже выздоровел, но остался искалеченным, и я отказалась от калеки-мужа. Оказывается, я «легкомысленная фифочка», выскочила замуж за титул академика и т. д. и т. п. Да, но почему телефон раньше молчал, а сегодня такое нашествие звонков всех москвичей?
Опять звонок: «Жаба, отказалась от такого мужа. Сама скоро подохнешь».
Опять звонок, голос старшей сестры Веры:
— Кора, Майе сейчас звонили и сказали, что врачи выписали Дау из больницы, но ты отказалась взять его домой?
— Ах ты, жаба, как ты смеешь мне такое говорить? Кто вам звонил, кто вам это сообщил?
— Кора, ты не волнуйся, не кричи.
— Позови мне Майку сейчас же к телефону.
— Майя, кто тебе сказал эту чушь?
— Кора, мне многие звонили, и все говорят, что ты отказалась от больного Дау.
— Сейчас же назови мне фамилию, кто тебе сказал это?
— Мне звонил Шальников.
Я бросилась набирать телефон Шальникова. Он подошел сам:
— Шура, откуда у вас сведения, что я отказалась взять Дау из больницы?
И этот физик мне ответил: {330}
— Об этом уже говорит весь институт. Кора, мы с Олей решили взять Дау к себе.
Я онемела, бросив трубку. Позже поэт Евтушенко напишет:
С чужой трагедией будь осторожен!
Бестактностью страданья не задень.
Как много профессоров-физиков, имея звания, плохо воспитаны!
Стала соображать, что же произошло. Весь институт знает: любовница Женьки обозвала меня «жабой». И я начала понимать.
Позвонила Женьке, подошла Леля.
— Леля, говорит Кора. Это вы распустили сплетню со своим Женькой, что врачи выписали Дау из больницы, а я отказала ему в доме. Вы не учли одно обстоятельство: ваш врач из нейрохирургии всего лишь молодой физкультурник. Вы медик, вы знаете, ведет больного Ландау медицинский консилиум. Психиатра Снежневского вы не можете не уважать. Предложение физкультурника насчет прогулки Дау вечером я решила согласовать с психиатром Снежневским. Он категорически запретил эту прогулку, это он отменил прогулку. Снежневский сам звонил Зарочинцевой и запретил ей это мероприятие.
— Как, вы звонили Снежневскому?
— А вы думали как? Послушаюсь вашего Женечку и физкультурника, чтобы они обманным и насильным путем поместили Дау в нейрохирургию, пользуясь тем, что Топчиева уже нет.
Потом этот факт подтвердился.
Вот как бывает: вспомнила, как сама хотела с отчаяния выкрасть Ландау из нейрохирургии, и повеселела. Теперь Егоров хочет выкрасть Ландау.
Телефонные звонки продолжались. Как меня ругала, как меня поносила вся Москва, как меня обзывали! Я все терпеливо выслушивала. В конце концов стала восхищаться: молодцы москвичи!
Они заступаются за моего «наглядно-квантовомеханического Дауньку». Они на страже больного! Это говорило о том, как имя Дау популярно в Москве. {331}
Звонки продолжались долго, очень долго. В больницу к Дау я приехала счастливая и веселая, думая о том, что если бы не Коруша, Дау сейчас мог быть уже в нейрохирургии. Вот он им задал бы жару! Он уже лев. Нет, они сами привезли бы его обратно. Они глубоко заблуждаются, такого насилия над личностью он никогда бы не вынес. Он бы им показал, где раки зимуют.
Позже очевидцы из нейрохирургии мне рассказывали, что, когда Владимир Львович доложил Егорову о срыве их планов, Егоров выскочил как бешеный и о какой-то рубильник здорово разбил себе голову. Он кричал: второй раз его мероприятие срывается. Следовательно, первый раз — это когда он уверял, что для энцефалограммы больного нужно перевезти в институт. Ведь потом энцефалограммы делали в больнице Академии наук.
Мы с Дау и медсестры вышли на прогулку. Встретили профессора Румера. Дау был с ним в дружбе, он приехал из Новосибирска в командировку. Я с Румером шла позади Дау, Румер обратился ко мне с просьбой:
— Кора, разрешите, я у вас остановлюсь на время моей командировки в Москве?
Дау моментально остановился, повернулся к Румеру и сказал:
— Рум, ни в коем случае. Я не разрешаю. Кора очень замученная, ей очень много хлопот со мной. Соне, своей сестре, я тоже не разрешил останавливаться у Коры.
Рум был приятно поражен. Боже мой, да Дау совсем прежний.
— Дау, прости, я этого не учел.
И тихо мне сказал: «А я слыхал, что он в плохом состоянии. Женя наговорил страшных вещей о состоянии Дау!». {332}
— Его изводят боли, — сказала я.
Боль не сокрушает, она изматывает. Сейчас болели пальцы.
После неудавшегося похищения Дау Владимир Львович был отстранен. Дау уже хорошо ходил и сам посещал кабинет физкультуры. В физкультурном кабинете нас приветливо встретила врач-методист Людмила Александровна. Вдруг Дау остановился как вкопанный. Я удивленно взглянула на него. Яркий пламенный порыв был в его сияющих глазах. Он быстро мне сказал: «Ты, Коруша, иди домой. Я здесь останусь с Танечкой».
Его глаза смотрели на Людмилу Александровну. Она была действительно дивно хороша. Я моментально смылась, вполне разделяя его восторг. Бедный мой Зайка, у него появились физические недостатки, но он все забыл, увидев поистине красивую молодую женщину. Пойти объяснить Гращенкову, что клетки мозга остались прежними?!
Часто на прогулках в больничном парке Дау ожидали иностранные корреспонденты. Они каждый на своем языке обращались к Дау, брали у него интервью, вынимали портативные магнитофоны, записывая его ответы на пленку. Я была уверена в ответах Дау: он говорил, что думал. Эти корреспонденты присылали мне журналы, я гордилась ответами Дау, когда он мне читал их по-русски. Но эти иностранцы еще просили автографы. Дау давал свои автографы, но писал он ужасно. Он и раньше писал плохо, а сейчас буквы разлетались по всему листу. Меня все время очень угнетала мысль, чтобы Дау не считали после травмы неполноценным. Его автографы ужасны. Просто писать его не заставишь, но ему нужно потренировать руку, чтобы он хорошо умел написать свою фамилию. Я принесла ему ручку и бумагу и попросила: {333}
— Дау, я хочу получить деньги Нобелевской премии, ты мне их ведь подарил?
— Конечно, Коруша, они твои.
— Тогда напиши на мое имя доверенность.
— Коруша, а это обязательно? Ты лучше в институте напечатай, а я подпишу.
— Даунька, я не хочу, чтобы в институте знали.
— Ну, хорошо. Давай напишу.
Он написал, но как!
— Дау, это нельзя даже никому показать. Напиши снова. Пиши помельче.
Каждый день я просила его переписать приличнее. Он стал писать заметно лучше. Эти доверенности на Нобелевскую премию мне были не нужны. Я их все складывала в ящик его тумбочки.
Наконец, до Ленинграда долетела весть, что я отказалась от Дау, не захотела взять его домой. Срочно приехала Элла с письмом Сони в больницу.
— Дау, вот мама прислала тебе очень важное письмо. Прочти его при мне.
— Элла, мне лень его читать, прочти сама мне его вслух.
Элла стала читать.
Я не присутствовала, мне рассказали медсестры. Соня в письме, отчаянно ругая меня, заявила, что она приедет и заберет Дау к себе в Ленинград. Дау, не дослушав письма, запретил Элле читать дальше. Сказал:
— Убирайся вон с этим мерзким письмом. Как смеет Соня, ничего не зная, ругать Кору. Я сам не хочу домой. Я болен. Я еще очень сильно болен, мне домой рано.
Элла начала успокаивать Дау:
— Я уйду, но ты, пожалуйста, когда успокоишься, прочти мамино письмо. Вот смотри, я это письмо положу в ящик твоей тумбочки.
Открыв ящик тумбочки, она увидела там не одну доверенность, написанную рукой Дау. Прочтя содержание, она спросила:
— Эту доверенность, что ты даришь вседеньги Нобелевской премии Коре, написал по просьбе самой Коры?
— Да, конечно, — ответил Дау.
<...> {334}
За сравнительно небольшой отрезок времени пребывания Дауньки в больнице Академии наук назначен уже третий главврач, некто Сергеев. С первой встречи со мной, он начал меня убеждать, как полезно больным выздоравливать в домашних условиях. Меня это озадачило:
— Мне непонятен ваш разговор. Лично я здорова и болеть в вашей больнице пока не собираюсь!
— Нет, что вы. Речь идет о вашем муже.
— Мой муж, академик Ландау, действительно болеет во вверенной вам больнице. Но почему вы сами не поговорите с ним на данную тему?
— Я говорил. Он не захотел со мной обсуждать этот вопрос, заявив, что он еще очень серьезно болен и нуждается в больничном уходе.
— Товарищ Сергеев, я согласна с мужем, если хотите знать мое мнение. Мы сейчас стоим на пороге зимы. У мужа очень вздут живот, лежать он не может. Большие газообразные образования в кишечнике заставляют его по 18 часов в сутки ходить по длинным больничным коридорам. Он стал уже очень хорошо ходить. У нас дома нет длинного коридора. А наступает зима. Прогулки во дворе могут оказаться опасными. Зимой скользко, а он только встал на ноги. Я готовлюсь взять мужа домой весной. Это всего через три месяца.
И готовилась очень серьезно. Гарика я перевела вниз. Гарикину комнату оборудовала под физкультурный кабинет. Уже установили шведскую стенку, лестница, ведущая наверх, обогатилась добавочными отполированными перилами из розового бука, чтобы Дау смог сам подниматься и спускаться по лестнице.
В его кабинете — над постелью, у постели, у дверей прохода в ванную — появились поручни из нержавеющей стали. Я считала, что это поможет Дау самому, без посторонней помощи передвигаться по квартире. В ванной, которая помещается наверху рядом с кабинетом, я установила добавочный унитаз. Унитаз и умывальник в ванной были снабжены также хорошо укрепленными стальными поручнями.
Все было рассчитано мною так, чтобы Даунька, придя домой, не очень чувствовал своей физической неполноценности. Библиотеку наверху, где находились {335} телефон и телевизор, тоже снабдились стальными поручнями. Паркетные полы в коридорах наверху, на лестнице и в кухне устлала линолеумом: после того как в больнице через зазубрину в паркете он чуть не упал.
Все было уже готово, вот только никак не могла придумать, какие сделать приспособления в ванной, чтобы я одна, без помощи других могла вынимать его из ванны. Ванная — очень опасное место. Небольшое упущение грозит последствиями. А Дау любит принимать ванну ежедневно.
Совсем не просто я пришла к необходимому решению, как оборудовать квартиру к приходу Дау из больницы. Как-то в троллейбусе, собираясь выходить, я подошла к передней двери, но инвалид Отечественной войны стал входить в переднюю дверь. Я отступила, давая ему дорогу. Его туловище кончалось маленькой колясочкой, снабженной четырьмя колесиками.
Сильными руками, он, ловко вцепившись в стальные поручни дверей, легко и привычно вбросил свое тело без ног, без признаков бедер, в троллейбус. Силой рук сам посадил себя на сиденье, от напряженной работы вены на шее вздулись. Я забыла выйти. Я до неприличия впивалась взглядами в его движения. Когда опомнилась, все с укором смотрели на меня. Я поспешила выйти из троллейбуса. Но мысль бешено работала: надо Дау заставить двигаться по способу этого инвалида. Он не академик, возле него нет штата медсестер.
Придя в больницу, я стала придирчиво присматриваться к тому, как Дау обслуживают две медицинские сестры. Руки, ноги округлились, массажи, лечебная гимнастика, занятия у шведской стенки в физкультурном кабинете — все это укрепило и даже развило мускулатуру. А сестры ничего не дают ему делать самому. И все, я тоже в том числе, считали это нормальным. Конечно, вначале он был так беспомощен. Сейчас попробуй я сказать о сокращении сестер! И потом его действительно трудно вынимать из ванной. Поэтому я решила: в больничное обслуживание не вмешиваться, но дома сразу при помощи стальных поручней перевести его на самообслуживание. Это оказалось слишком сложно, но об этом позже.
| {336} |
«А что здесь было вчера вечером!» — с такими словами встретила меня медсестра, гуляя с Дау по коридору. Дау ухмыльнулся.
— Наверное, наш Зайка опять выгнал главного врача из палаты.
— Нет, Коруша, я в действительности выгнал Горобца. Она посмела мне клеветать на тебя.
Танечка добавила:
— Как он на нее кричал! Мы все перепугались, а Лев Давидович кричал на нее: «Вон отсюда, мерзавка. Не сметь мне оговаривать Кору». Кора Терентьевна, она с перепугу бежала до самой вешалки. Мы все сбежались к Льву Давидовичу, стали его спрашивать, кто у вас был. А Лев Давидович кричал: «Это Женькина любовница посмела оскорблять мою Кору».
— Даунька, ты становишься агрессивен. Меня не трогают их сплетни. Но мне страшно, когда о тебе говорят как о сумасшедшем. Страшно и больно до слез!
— Коруша, эту Женькину любовницу я прекрасно знаю. У нее мозги куриные, это ее Женька подослал оговорить тебя. Ну вот она и получила то, что заработала. Почему они все влезают в твои дела?
— Даунька, если бы только в мои! Сейчас все мои дела сосредоточены на твоем выздоровлении. Вся Москва мне звонит, все возмущаются, что я тебя не беру домой выздоравливать.
— Коруша, при чем здесь ты? Я сам не хочу домой. Я сам хочу выздоравливать в больнице. Приди я домой в таком состоянии, я тебя быстро загоняю. Так мечтал сделать тебя счастливой.
— Даунька, ты только не говори всем, что, жалеючи меня, остаешься в больнице.
— Нет, Коруша, что ты! Ведь у меня очень болят живот и нога. Я все-таки надеюсь, что здесь, в больнице, они должны вылечить меня. Коруша, а вдруг я неизлечим? Почему все мне стали говорить, что мне пора домой? Это уже начинает меня пугать! Извечно гнусная картина, когда мерзкие люди влезают не в свои дела. {337}
— Танечка, вы знаете, сегодня Гращенков собирает консилиум. Сейчас уже почти 10, а я не вижу никого из врачей.
— Кора Терентьвна, вам просили передать, что консилиум будет в 10 часов в кабинете главврача.
В кабинете главврача были местные врачи и Гращенков. Видно, ждали меня. Как только я вошла, Гращенков начал говорить, после Гращенкова говорил главврач Сергеев. Разговор был не медицинский и не о больном Ландау. Все старались в более или менее деликатной форме сказать мне, что я имею слишком большое влияние на мужа. Пользуясь своим влиянием, я его убедила не идти домой. Поэтому по своей воле он идти домой отказывается, но он, Гращенков, учел неудобное расположение нашей двухэтажной квартиры. Он, Гращенков, выхлопотал для семьи Ландау шикарную квартиру в новом доме на первом этаже.
— Имейте в виду, Конкордия Терентьевна, я вам категорически и официально заявляю, как ведущий врач Ландау: Лев Давидович никогда не сможет ходить сам, никогда он сам себя не сможет обслуживать в туалете. Медицинскими сестрами мы дома Ландау обеспечим, вам самой не придется ухаживать за больным, вам выгоднее взять Ландау домой. В противном случае его переведут на пенсию. Это если он останется в больнице. По нашим советским законам все сроки нетрудоспособности Ландау кончились. Если он сейчас выписывается домой — он теоретик: на работу он не ходил. Он работал дома. Он академик. Тогда до конца его дней его не переведут на пенсию, и вы будете получать полностью всю зарплату академика и за звание тоже.
Предоставили слово мне. Встать я не смогла. Сильно дрожали руки и ноги. Засунув руки глубоко в карманы, чтобы не увидели, как они у меня дрожат (но только не от страха потерять академическую зарплату), я начала говорить очень тихо и медленно, боясь выдать безумный протест против человеческой подлости, клокотавший во мне со страшной силой.
— Мне очень жаль, Николай Иванович, но я не могу не напомнить вам как медику — вы сами противоречите себе. Вы утверждали и утверждаете потерю ближней {338} памяти у больного как следствие мозговой травмы. Вы установили и записали в истории болезни, что это навечно. Тогда как вы объясните, что больной Ландау, однако, хорошо запомнил мою просьбу не выписываться из больницы? Это он, однако, хорошо запомнил.
Меня только удивляет одно: как может прийти приличному человеку мысль в голову, что я могла просить не приходить домой мужа в искалеченном состоянии! Меня очень удивило мнение всех присутствующих здесь медиков, что жена академика Ландау — мерзкая тварь, иначе нельзя назвать женщину, которая может даже в любой ласковой форме сказать действительно физически искалеченноу мужу, чтобы он воздержался выписываться из больницы. Разве мыслимо отцу своего единственного сына дать понять, что он неполноценный. Но я не могу не заметить, что такое ваше всеобщее заключение ничего не говорит в вашу пользу. Порядочному человеку такие мысли не должны приходить в голову.
Ваши медицинские прогнозы я просто игнорирую. С первых дней трагедии, случившейся с моим мужем, более авторитетные консилиумы, чем данный, все время выносили ошибочные медицинские заключения. Я уверена, я знаю, мозг у мужа без травмы. Физик он прежний, напрасно, вы, Николай Иванович, хлопотали семье академика Ландау квартиру на первом этаже. Я от нее категорически отказываюсь, муж вернется в нашу двухэтажную квартиру.
Я уже успокоилась, встала, стала говорить громче, ходя по кабинету.
— Я уверена, муж сможет самостоятельно ходить по лестнице. На пенсию переводить можете. Когда он сделает свою первую работу по физике, все само восстановится. У меня уже отбирали зарплату мужа, а потом вернули! Я не жаловалась, выдержала! Я поставила уже в известность главного врача Сергеева, а сейчас говорю вам, Николай Иванович, что мужу в зимний сезон нужен больничный коридор, а не такой врач, как вы! Все усиливающиеся боли в животе не дают ему лежать. Сейчас скользко, ходить во дворе опасно. Запомните, я заберу мужа из больницы весной, но ни в коем случае {339} не зимой. Всего лишь три зимних месяца он должен быть в больнице.
Я ушла, поздно заметив, что дверью хлопнула со страшной силой. В этом сказался мой протест против человеческой подлости. Из дома я позвонила доктору Кармазину:
— Исаак Яковлевич, вы давно не были у Дау?
— Нет, я был у Льва Давидовича на днях.
— Как вы его нашли?.
— Он замечательно ходит.
— Исаак Яковлевич, Гращенков настаивает на выписке домой.
— Мне, как медику, клиницисту, непонятно. Декабрь, только начало зимы. Ни в коем случае не берите домой на зиму. Ему на всю зиму нужен больничный коридор, живот у него очень вздут. Я был у него, он лежать не мог. Мы с ним все время гуляли по коридору. Медсестры говорят, что он начинает ходить с трех часов ночи. Нет, категорически запрещаю брать его из больницы на зиму. Это очень опасно. Брать нельзя.
Лев Давидович еще очень болен после таких травм, после таких тяжелейших травм, когда человек остается жить, три года — самый короткий срок его обязательного пребывания в клинике. Он должен быть три года под круглосуточным надзором врачей. В январе 1964 года будет только два года после травмы. Мне непонятно, зачем спешит Гращенков, у него, наверное, какие-то свои личные мотивы или он боится, что Егоров украдет его из больницы, и тогда лавры достанутся не Гращенкову, а Егорову.
Я тоже была в тупике. Не могла же на Гращенкова повлиять сплетня семейной троицы Лившицев о том, что я отказалась взять мужа из больницы. Да тогда и предписания врачей не было. Мне было непонятно поведение Гращенкова. Мне было страшно!
Телефон продолжает звонить. Москвичи продолжают меня ругать. Иногда обидно, иногда плачу, как бывают несправедливы и злы люди! Как несправедливо выслушивать только одну сторону, а делать выводы двусторонние! Весь мир знает, что физик Ландау был в высшей степени честный и справедливый человек. Его {340} при жизни называли «Ландау — это совесть советских физиков!». Не раз Дау говорил мне: «Коруша, прежде чем осуждать человека, нужно попытаться встать на его место. Как бы ты повел себя в его ситуации».
Вспомнила, что когда в 1961 году в декабре месяце был только что закончен на «Мосфильме» кинофильм о физиках «9 дней одного года», на первый просмотр этого фильма, который состоялся еще в стенах киностудии, был приглашен Ландау с женой и Арцимович. После просмотра фильма кинорежиссер Ромм спросил мнение физиков. Арцимович сказал: «Мы, физики, очень любопытный народ и удовлетворяем свое любопытство за счет государства». Режиссер ахнул: «Вот эту бы фразу мне услышать раньше. Я бы ее вставил в фильм». Эту фразу другой режиссер вставил в фильм «Ольга Сергеевна».
Щемящая боль пронзила меня, когда я услышала эту фразу, сидя уже одинокой возле телевизора в октябре 1975 года. Вспомнила, что присутствовала при рождении этой фразы. Тогда Дау был рядом. Это были счастливейшие моменты в моей жизни. Кончался 1961 год, уже второй год, как Ирина Рыбникова переступила порог нашего дома. Уже второй год я упорно избегаю близости с мужем, но наши семейные выходы доставляли нам обоюдное счастье. Мы тянулись друг к другу.
— Коруша, сегодня идем в Дом кино. Там просмотр новых иностранных фильмов.
И усадив меня на место, как всегда, исчезал. Однажды появился не один. С ним был его знакомый художник. Познакомив меня с художником, потом мне сказал:
— Гордись, Коруша, этот художник разыскал меня, вел к тебе: Дау, идите, я вам покажу по-настоящему красивую девушку. Удивительно, ты с возрастом совсем не меняешься. Художник очень удивился, что я от такой жены бегаю, ищу новых девушек. Как много людей не понимают многогранности, яркости жизни!
— Даунька, тебе примерно через месяц стукнет уже 54 года. А ты все бегаешь, ищешь новых красивых молодых девушек. Не пора ли тебе уже угомониться? {341}
— Ну что ты, Коруша, говоришь. Я чувствую расцвет и в творчестве, и в жизни. Какую работу я уже скоро закончу! Я действительно стою на пороге большого открытия. Мне кажется, я только сейчас стал понастоящему понимать физику. Еще столько неразгаданных тайн! Подумать только, когда я только входил в науку, Иоффе был примерно в моем возрасте, и я тогда имел наглость считать его стариком. Сейчас я знаю — это возраст расцвета! Великий из великих — Эйнштейн — очень рано скис. Наверное, от скуки. Вероятно, он никогда не бегал за девушками.
Дом кино, премьеры в театрах, просмотры новых фильмов, приемы в посольствах, приемы дома в честь иностранных гостей — жизнь кипела! Даунька был ко мне очень внимателен, очень нежен, и это несмотря на то, что я нашей близости сказала: нет!
— Коруша, сегодня новый французский фильм в Доме ученых.
Был уже конец декабря 1961 года. Снега еще не было. Было относительно тепло. Решив в Дом ученых добраться на такси, мы подошли к Дому обуви. Ранние зимние сумерки. И вдруг, впервые, на новоотстроенном здании Дома обуви вспыхнул неоновый свет, красиво разлилась голубизна по карнизу здания у самой крыши. Вскинув голову ввысь, я облокотилась на Дау. Он ближе прижался ко мне, как было приятно опираться на его высокую стройную стать! Чувствовать такую опору в жизни. Мы застыли. Я смотрела в синеву карниза, Дау смотрел на меня. В такие минуты никто не стоял между нами. А наша семейная жизнь, перешедшая в период жениховства, таила прелесть. Мне казалось, для Дау я была в недоступном состоянии, желаннее двух вместе взятых его 25-летних возлюбленных — Геры и Ирины. Но мне ведь тогда уже было 50, а в синеве сверкающего карниза декабрь становился весной, а преклонный возраст переходил в юность. За мной стоял Дау, пыл завоевать его до конца моих дней кипел во мне. Возраста я не ощущала. Это был конец 1961 года. Никто тогда не ведал, что принесет мне и Дау начало 196 2 года.
Воспоминания бесконечно уносят меня к счастливым временам. {342}
— Коруша, мне все время хочется в уборную. Даже когда я оттуда выхожу, мне хочется вернуться назад. Я все время думаю о туалете, а Гращенков это считает мозговым явлением и без конца задает мне глупейшие вопросы. Еще пригласил психиатра Лурье меня лечить.
Почему все здоровые медики, все здоровые физики, опорожняя свой кишечник раз в сутки, не могут поставить себя на место больного. Почему такой благородный академик, как И.Е.Тамм, прежде, чем говорить о ненормальном мышлении Ландау, не подумал: если бы его брюкам угрожало извержение кишечника, вероятно, он тоже поспешил бы в туалет, а не на светскую беседу. А все медики лезли в психологию. Ведь разумнее психологию предоставить психиатрам, не психологам. Психологов, астрологов и еще хиромантов Дау презирал, это есть одного поля ягоды!
Психиатры Снежневский и Кербиков наблюдали больного, их прогнозы не соответствовали лифшицким. Психиатры на каждом консилиуме утверждали, что выздоровление идет нормально, в истории болезни они всегда отмечали быстро прогрессирующее выздоровление. Они не сомневались в нормальном мышлении Ландау, они знали — контузия мозга требует длительного выздоровления. Контузию мозга лечит время. Исчисляющееся годами.
В палате Дау О.В.Кербиков. Он принес специальные снотворные для Дау, из-за болей в животе Дау совсем потерял сон.
— Олег Васильевич, я тоже не сплю. Общепринятые снотворные на меня не действуют.
— Вы чем-то расстроены, — сказал он, посмотрев на меня.
— Нет, я просто не сплю.
— Совсем?
— Почти.
— Хорошо, придите ко мне с утра в клинику себе за снотворным.
К Олегу Васильевичу Кербикову я приходила не один раз. На свой черный день, на всякий случай, насобирала целый маленький флакончик, не израсходовав зря ни одной таблетки. Флакончик этот тщательно спрятала. {343}
Случайно узнала, что новый главврач Сергеев — друг и ставленник Гращенкова. Так вот почему он развернул такую работу по выселению академика Ландау из занимаемого больничного люкса! И однажды в палате Дау не оказалось, а дверь в туалет забита досками. Вышла в коридор, Дау идет очень печальный. «Понимаешь, Коруша, уборная испортилась в моей палате. Пошли в коридор, в общую, а там занято».
Рая тихонько мне сообщила: «Они нарочно забили туалет, хотят выжить Льва Давидовича».
Гвозди оказались мелкие. Как рычаг использовала палку Дау, вошла, проверила: ванна и унитаз в порядке.
— Дау, я исправила туалет.
Медсестер попросила сказать, что я открыла уборную. «А если санузел вправду испортился, я мастеров своих из института привезу исправлять. Вот так и передайте главврачу Сергееву». Туалет больше не портился.
Но в декабре Гращенков собрал расширенный медицинский консилиум в том самом конференц-зале, где только год назад так торжественно вручали академику Ландау Нобелевскую премию. А сейчас в этом конференц-зале Гращенков захотел, чтобы именитые московские медики, входящие в консилиум больного Ландау, помогли ему выбросить Ландау из больницы. На консилиуме было много медиков, консилиум был очень авторитетный. Все медики сидели на сцене, за обширным столом президиума. Гращенков торжественно возвышался на кафедре. Нейрохирурги отсутствовали. Мы с Дау и медсестрами сидели в первом ряду. Я рядом с Дау. С трибуны член-корреспондент АН СССР Гращенков начал свою речь:
— Я собрал расширенный консилиум по просьбе Капицы. На днях Петр Леонидович вызвал меня к себе и сказал, что ему нужна штатная единица, которую занимает Ландау. Если консилиум найдет нужным выписать Льва Давидовича из больницы, тогда его П. Л. Капица не переведет на пенсию.
Дау мне сказал: «А Гращенков врет! Петр Леонидович не мог так сказать!».
Но речь Гращенкова прервал Кербиков. Он вскочил с места, трахнул кулаком по столу и сказал: {344}
— Товарищи! Что же это делается? Я-то думал, что Капица — человек, а он оказался подлецом! Да, да, подлецом! Когда ко мне в клинику попадает не всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии, а просто рядовой сотрудник производства, мы, психиатры, в наших психиатрических лечебницах, передерживая все сроки, полностью убеждаемся, что наш больной не вернется больше в общество, тогда руководители предприятия приезжают хлопотать, выискивают лимиты, говоря — человек еще жив, давайте еще отсрочим, и мы отсрачиваем и делаем все возможное! Я как ведущий психиатр Ландау заявляю: он после таких травм очень быстро идет к полному выздоровлению. Я не могу разрешить Капице перевести Ландау на пенсию! Он по своему состоянию должен быть еще в клинике. Его выписывать еще рано, и вы, Николай Иванович, должны знать, есть ссылки к статьям наших советских законов. Так вот, если уж этот случай нельзя подвести под исключительные случаи, тогда зачем же они записаны в наших закона?
Он еще что-то говорил. Потом все врачи наперебой говорили, что прогресс выздоровления у Ландау очень высок. Все медики поддерживали Кербикова, осуждая Гращенкова. В конце концов Гращенков запросил «пардону». Он-де сам считает, что Ландау переводить на пенсию нельзя, а выписывать из больницы рано.
Но через некоторое время я случайно узнала в больнице, что Гращенков собирается делать у вице-президента АН СССР Миллионщикова в Президиуме доклад о состоянии Ландау. Я специально позвонила Гращенкову домой и спросила, так ли это и можно ли мне присутствовать на его докладе у Миллионщикова. Он категорически отрицал. Мне были непонятны, меня очень пугали его действия. Но что, что я могла, я беспредельно верила в полное выздоровление, и тогда Дау сам всех поставит на место. Могла ли я тогда действовать агрессивно? Нет. Агрессия мне не под силу! Да как действовать агрессивно? Набить морду Гращенкову — это бесполезно: ведь Женьку я била, не помогло!
Я не могла спросить у Капицы, уполномочивал ли он Гращенкова собирать консилиум. Мне было {345} очевидно, Петр Леонидович не знал о его действиях. Мне казалось: из-за каких-то личных, мелких соображений ему надо кому-то доложить, что Ландау здоров и уже дома. На всякий случай я съездила в Президиум АН СССР, очень попросила референта вице-президента АН СССР Миллионщикова: если Гращенков будет делать сообщение Миллионщикову о состоянии Ландау, пожалуйста, сообщите мне. Оставила свой номер телефона.
В начале января я задерживалась у Дау, домой пришла в 22 часа. Только вошла в квартиру — зазвенел телефон. Не раздеваясь, сняла трубку. Референт Капицы П.Е.Рубинин мне сообщил: Капица и Гращенков находятся в институте в рабочем кабинете Петра Леонидовича и очень просят меня зайти к ним. Вошла в кабинет Капицы, Гращенков был, а Капицы не было. На его месте сидела его жена Анна Алексеевна.
Гращенков юлил и уговаривал меня срочно взять мужа домой. Я категорически отказалась, сказав, что возьму мужа домой только весной. Во второй половине января узнала, что Гращенков делал доклад в Президиуме, в кабинете Миллионщикова о состоянии здоровья Ландау. Пришла к референту, спросила: «Вчера Гращенков делал доклад о состоянии Ландау. Вы забыли мне позвонить». Очень симпатичная девушка сказала: «Нет, не забыла, но Гращенков попросил у Миллионщикова выставить охрану, чтобы вас не пропускали».
Ничего не понимаю. Зачем секретничать?! А.В.Топчиев никогда бы так не поступил. Почему Топчиевы не бессмертны! Следовательно, вице-президент АН СССР Миллионщиков при закрытых дверях тайно выслушивал сообщение Гращенкова. Неужели сплетня, распущенная по Москве Лившицем, дошла до Миллионщикова, и он, занимая такой высокий пост, не проверил сам, а решил насильно, незаконно пользуясь своей властью, заставить меня взять мужа преждевременно из больницы. Ему, вероятно, и в голову не пришло, что, прежде чем принимать какое-то решение, он должен был сам съездить к Ландау в больницу и спросить самого академика Ландау, лауреата Нобелевской премии, {346} физика мирового класса. Почему, зачем понадобилось Гращенкову при закрытых дверях, секретно добиваться согласия у него, вице-президента АН СССР, которому президент АН СССР М.В.Келдыш доверил вести дела больного Ландау!
Миллионщиков дал согласие на административное выселение Ландау из больницы. В январе 1964 года у больного еще не все пальцы на больной ноге ожили. Он был по своему состоянию еще клинический больной. Медицинский консилиум не разрешил Гращенкову его выписывать из больницы. Гращенков взял на себя незаконную миссию, а Миллионщиков вызвал управделами АН СССР Г.Г.Чахмахчева, дал ему приказ: выдворить насильно Ландау из больницы, заставить его жену взять больного мужа из больницы, хозяином которой был Президиум АН СССР. Этим приказом вице-президент Миллионщиков подписал смертный приговор Ландау. Совершилась чудовищная несправедливость, противозаконную операцию провел в жизнь управделами АН СССР Чахмахчев.
А Келдыш отказал мне в приеме.
Когда Дау насильно выписывали из больницы, я бросилась искать встречи с Кентавром, но не тут-то было: в Институте меня не допустил к нему референт, П.Е.Рубинин, а дома мне преградила путь его жена. Они говорили: «Кора, Петр Леонидович знает о Ландау все. Ему ежедневно о состоянии Дау докладывает Евгений Михайлович». Ощутила копыта Кентавра. Вспомнила, что во время вручения Нобелевской премии в больнице Келдыш обещал свою помощь. Помчалась в Президиум Академии наук СССР. С референтом Келдыша была знакома.
— Наташа, у меня «sos»! Президент обещал мне свою помощь.
— Кора, но его нет, и не знаю, будет ли он сегодня.
— Наташа, у меня безвыходное положение. По приказу Миллионщикова Чахмахчев хочет выбросить Ландау из больницы. Просто по интригам Лившица, Гращенкова, Егорова, даже несмотря на то, что последний медицинский консилиум категорически запретил это делать. Настоящие медики-клиницисты говорят, что после таких страшных травм, если человек остался {347} жить, ему необходимо, как минимум, трехлетнее пребывание в клинике. Поймите, Наташа, мне спешить некуда. Я вот сяду на этот золотой стульчик у двери кабинета и буду ждать.
Наташа отвечала на звонки и часто заходила в кабинет. Два часа я просидела на стуле. Вдруг Наташа, выйдя из кабинета, решительно подошла ко мне и сказал: «Кора, вы, вероятно, устали сидеть. Давайте пройдемся по вестибюлю». Выйдя со мной из приемной президента, она, смеясь, доверительно сказала: «Что вы сделали с президентом, ведь он залез под стол и дрожит. Поймите, он никогда не примет самостоятельного решения насчет Ландау. Уходите, прошу вас, ведь ему надо ехать в Кремль».
Президент не имел чести сдержать свое слово!!!
Когда Чахмахчев работал под началом Топчиева, он делал справедливые дела, и я считала его очень хорошим человеком. Но у Миллионщикова он превратился из человека в бездумного исполнителя приказов!
24 января я из больницы вернулась в 22 часа. У меня в столовой сидел Чахмахчев. Гарик был дома, он его впустил в дом.
— Конкордия Терентьевна, завтра, 25 января, вы должны под каким угодно предлогом забрать мужа из больницы. У меня приказ вице-президента АН СССР Миллионщикова. Завтра мы выписываем его из нашей больницы. 25 января, в десять часов утра машина будет ждать у дверей больницы. Завтра я должен выполнить этот приказ!
Угрюмая мрачность чиновника и стиль его злой речи меня доконали. Я сдалась. Я сказала одно слово: «Хорошо». Этим словом я предала Дау, а теперь казнюсь остаток своих дней! Ведь если бы я сказала этому чиновнику: «Пошел вон, приказывай своей жене. Есть решение врачебного консилиума, состоявшегося в больнице, что выписывать рано, а приказы крупных чиновников, по ошибке допущенных к руководству, их единоличные приказы, вы, коммунист Чахмахчев, выполнять не должны. Я возьму мужа домой весной. Я нахожу опасным для его здоровья брать его из больницы в разгар зимы после таких тяжелых травм». {348}
А ведь речь шла уже о каком-то одном месяце. Я боялась лютого февраля, гулять Дау в феврале во дворе было опасно. Боялась за раненые легкие, которые не так давно перешли от кислорода к воздуху. Там остались опасные рубцы, а вдруг он наглотается холодного воздуха и вспыхнет воспаление легких. Но опасность пришла снизу! Простить себе своей слабости не могу. Раскисла, испугалась приказа Миллионщикова? Нет, я не испугалась. Я помню, во мне после сообщения Чахмахчева, вспыхнули ну не знаю, какие-то остатки моей молодой комсомольской гордости, когда я с товарищами по комсомолу во второй половине двадцатых годов крушила таких чиновников, бюрократов! Хотелось крикнуть: «Я справлюсь сама. Сама поставлю Дауньку на ноги. А когда он выздоровеет и даст жизнь новым открытиям, вам всем будет стыдно!».
Я знала — его мозг без травмы, ближняя память тоже в порядке. Еще в начале января, гуляя с Дау по коридору больницы, увидала, что навстречу идет Ирина Рыбникова. Подошла, сказала:
— Здравствуй, Дау.
Он ответил:
— Здравствуйте! Только, по-моему, я вам уже говорил, я вас не знаю.
— Дау, так ты до сих пор не можешь вспомнить, кто я?
— Я вам уже сказал, что я вас никогда не знал.
Я посмотрела на Дау: лицо очень строгое. Говорит серьезно и даже сердито. Но не напускная ли это сердитость? Обычно в таких ситуациях он должен улыбаться. Когда не так давно к нему вошел посетитель, с которым он познакомился летом на юге в 1961 году, он ему тоже сказал: «Я вас не знаю», но ведь Дау очень любезно улыбался при этом.
— Дау, кто это была?
— Ирина Рыбникова. Я ее узнал, но мне медсестры рассказали, что когда ты лежала в больнице, она посмела выдать себя за мою жену. Мне лучше продолжать ее не узнавать. Иначе ее надо отругать. Женщинам хамить нельзя. Не узнавать ее мне проще!
Находясь в нейрохирургии, я была свидетелем: Дау ее тогда не узнал. Это было в 1962 году. А в январе 1964 {349} года, когда она пришла с новогодним визитом, он уже ее узнал. Следовательно, провал памяти последнего отрезка времени тоже восстанавливается. Сам, без нейрохирургов! Без Егорова!
Наступило роковое утро 25 января 1964 года. В девять часов утра я уже была в больнице. Привезла всю одежду. Все зимнее, теплое, но протезная обувь была рассчитана на больницу, обувь была не утеплена. Даунька обречен теперь носить только протезную обувь на заказ. Только сегодня утром вспомнила, что забыла предварительно заказать в протезном институте теплые ботинки на зиму. Но ведь до вчерашнего вечера я не знала, что в конце января меня принудят взять его домой. Меня встретил главврач, сообщил, что есть распоряжение Миллионщикова отпустить с Ландау домой всех медсестер, которые обслуживали его в больнице.
— Зачем же? Если больного выписывают домой, то, следовательно, он здоров?! Я отказываюсь от всех ваших медицинских сестер. Разрешите взять одну санитарку Танечку?
— Пожалуйста, я, конечно, согласен, но вы не справитесь!
— Вот это вас уже не должно тревожить! Дауньке я сказала:
— Заинька, сегодня выпал снег и очень хорошо, давай мы тебя с Танечкой оденем и пройдемся по свежему воздуху.
— С тобой бы не пошел: боюсь скользко. А вот с Танечкой и тобой давайте погуляем.
У дверей больницы стояла машина старой марки «ЗИМ». Двери у машины угрожающе распахнуты. За машиной, как злодеи, притаились обладатели сильных мужских рук. Все предусмотрел Чахмахчев, управделами АН СССР.
Мы с Таней направились в сторону машины. Но Дау круто повернулся, сказав: «Пойдемте в другую сторону». Мы стали удаляться от машины. Тогда засада обладателей сильных мужских рук вышла из-за машины, легко догнала больного академика, бесцеремонно взяла его за руки и за ноги и понесла запихивать в машину. Им так приказали. Дау кричал: «Как вы смеете {350} со мной так обращаться? Я еще очень болен! Мне домой рано!».
Я рыдала. Таня тихо плакала.
Мы молча сели в машину. Дау от меня отвернулся. Он мне сказал: «Кора, ты меня предала». Эти слова по гроб не забыть! Он чрезвычайно редко называл меня Корой. Он был прав!
Приехав домой, Дау обратился к Танечке: «Танечка, помогите мне выйти». Таня помогла выйти, машина уехала. Я открыла дверь, но Дау, обращаясь только к Танечке, сказал: «Я к Коре не пойду». Они стали гулять во дворе института. Оставив дверь открытой, стала готовить обед. Плача и следя за стрелкой часов, сколько времени он выдержит без уборной. Через 20 минут Даунька вместе с Таней вошли. Одевание, выход из больницы, приезд домой заняли около 20 минут. 40 минут — это был самый большой срок, который он мог выдержать без уборной. Теперь я клиницист, я должна наблюдать и лечить больного, моего несчастного Заиньку. Теперь я сама приглашу врачей, специальность которых «кишечник». Танечка вывела из уборной Дау, подвела к лестнице, он машинально здоровой правой рукой стал опираться на круглые отполированные перила из розового бука, толщиной в обхват руки. В левую руку я ему быстро сунула палку, к которой он привык в больнице. Он впервые стал подниматься сам. Таня, страхуя, шла сзади. Я ползком, чтобы видеть, как он ставит ноги на ступеньки, замыкала шествие.
— Я сам смело поднялся потому, что знал: если начну падать, Танечка меня поддержит.
Освободив кишечник от газов, он повеселел, меня уже не гнал. А когда мы его уложили в удобную приготовленную постель с теплым пушистым одеялом, он облегченно вдохнул и обращаясь опять только к Танечке, сказал:
— Ну как, Танечка, простим Корушу? Мне дома оказалось не так-то плохо!
— Лев Давидович, Кора Терентьевна не виновата. Это все Гращенков и новый главврач Сергеев! Это их работа. Теперь, когда Кербиков скоропостижно скончался, Гращенкову некого было бояться. {351}
— Танечка, что случилось с Олегом Васильевичем? Он был очень умный медик.
— Лев Давидович, у него был диабет, а он не знал. Много работал, не следил за своим здоровьем. Во время не сделал анализ крови, ночью ему стало плохо. Вызвали скорую помощь, в больницу привезли мертвого. Диабетическая кома.
— Как жаль. И Топчиева нет. Теперь уже и Кербикова нет, — сказал Дау.
— Даунька, а знаешь, какой Топчиев анекдот придумал про тебя?
— Нет, не знаю. Расскажи.
— Будто бы пришел к тебе в больницу Зельдович. Спрашивает: «Ну как, Ландау, будете вы прежним Ландау?». А ты ему ответил: «Во всяком случае Зельдовичем-то я всегда смогу быть!».
Дау весело рассмеялся. Анекдот ему понравился.
— Дау, но имей в виду, вся Москва считает, что это было в самом деле так.
Вдруг Дау заметался:
— Я опять хочу в уборную. Это мне надо теперь спускаться каждый раз по лестнице вниз. Я поэтому и домой боялся идти.
— Дау, успокойся. В ванной я установила унитаз, специально для тебя.
— Неужели? Танечка, скорей, скорей, помоги мне.
Я опять хотела, чтобы он оперся на стальные поручни у постели. Он накричал на меня. Танечка помогла ему встать. Вернулся веселый, спокойный.
— Я всегда говорил, что ты, Коруша, очень умная. Я хочу походить, а здесь негде ходить.
— Даунька, я Гарика перевела вниз в мою спальню. А в его комнате сделала тебе физкультурный кабинет. Вот пойдем, посмотришь. Там есть шведская стенка, но, к сожалению, там нет красивой Людмилы Александровны.
— Коруша, я оказался не в ее вкусе! Я так тихонечко, робко ее спросил: «Людмила Александровна, когда я выздоровлю, вы пойдете со мной в кино?». Она категорически отказалась и даже рассердилась.
Танечка рассмеялась. Ближняя память Ландау фиксировала все, что ее интересовало, так было и до болезни! {352} Но согласитесь, мелкие ситуации быта недоступны медикам, а Гиппократ учел это во второй своей заповеди: он говорил, что внешние обстоятельства должны способствовать выздоровлению больного.
У шведской стенки Танечка стала с ним заниматься гимнастикой. Я пошла вниз заканчивать приготовление обеда. Обедать Дау спускался по лестнице в кухню с помощью Тани, а поднимался наверх самостоятельно. Уже кое-что!
Когда сильные газообразования в кишечнике донимали его, он так спешил на унитаз, слушать не хотел о том, чтобы попробовать самому держаться за стальные поручни.
В восемь часов вечера сделали ему хвойную ванну. Он совсем успокоился. Сильная Танечка с небольшой моей помощью легко и ловко вынула Дау из ванны. Дау с вечера сразу уснул, пока я готовила ужин для Гарика, потом постелила себе в физкультурном кабинете. Спать не могла, снотворное принять боялась. Дау проспал около часа, потом стал звать, крича: «Алло, алло!». Хотела надеть комнатные туфли, но он так кричал. Туфли стояли не с той стороны, чуть не упала, побежала босиком. Он закричал: «Скорей, скорей, надеть ботинки — в уборную».
Стала с трудом, без привычки надевать протезные ботинки. Они выше нормальных, нужно плотно зашнуровывать и завязывать. Помогла ему встать, он сонный, вдруг начал падать. Удержать нет сил. Быстрее молнии бросилась под него, он упал на меня.
— Дау, ты жив.
— Да, Коруша. Почему ты ночью дежуришь в больнице?
— Даунька, ты не расшибся, ты головой не ударился?
— Нет, я не ударился.
Подняться мне было трудно. С большим трудом я встала. Дау сидел на полу. Посмотрела на ноги и ужаснулась: я надела протезный ботинок на здоровую ногу. «Бог мой, хорошо, что все благополучно кончилось!».
Но поднять Дау с пола было непросто. Он привык за годы в больнице беспомощно виснуть на медсестрах. Поднять 70 килограммов с полу у меня не хватило сил. {353} Безрезультатно измучившись, я обратила внимание на гладкость линолеума. Тогда я взяла его за уже правильно надетые ботинки и тихонько поволокла к лестнице из кабинета. Когда ноги по колени спустились на лестничные ступеньки, сидящего, со спущенными ногами я уже могла его поднять. Наконец уложила, потушила свет. Заснуть не могла. Встала, не зажигая свет, босая вошла к Дау. Он спит. Дышит легко, беззвучно, никаких хрипов! Теперь я очень внимательно сначала брала тяжелый протезный ботинок и упаковывала его больную ногу. Надо выработать такую закономерность, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. Заснуть не удалось. Сколько раз ходил Дау потом, потеряла счет! Было еще темно. Слышу — пришла Танечка.
Спустилась к ней. Приготовила завтрак для Гарика. Едва Таня успела позавтракать, проснулся Дау. Она помчалась к нему. У Гарика зазвонил будильник. Когда Гарик сел завтракать, я легла на его спальное место. Теперь оно у нас стало одно на двоих. Выходной день у Гарика был выходным днем у Танечки. Тогда спать почти не приходилось.
В первый день приезда Дау из больницы домой, он с отчаяния схватился за круглые перила из бука и сам легко поднялся к себе по лестнице наверх. Возможно, сработала многолетняя привычка. Но вставать с постели, ложиться в постель, пользоваться стальными поручнями он категорически отказывался, нервничая, очень спеша в туалет.
Когда я настаивала, он кричал: «Я упаду, меня надо поддерживать, я боюсь, у меня болит живот», и когда я замечала дрожь в больной руке, я сдавалась. Водила его в уборную. Но как, как его заставить взяться за очень удобные, устроенные мной стальные поручни? Как его заставить, чтобы он в уборной обслуживал сам себя? Все равно Гращенков не прав. Дау все может делать сам, но он слишком теоретик, он слишком не практичен в жизни, его должна заставить необходимость, как того инвалида войны в троллейбусе.
На второй день, после того как уложили Дау спать, я попросила Танечку задержаться минут на 15.
«Танюша, я быстро приму ванну. А то я боюсь залезать в воду, вдруг он начнет звать». {354}
Моясь, случайно в груди обнаружила опять опухоль и очень обрадовалась. Мысль работала только в одном направлении: завтра амбулаторно сделаю операцию, приду домой, Танечка уйдет, и Дау, жалея меня, сам начнет вставать и ложиться в постель, держась за поручни.
Отпустила Танечку, пока ничего не сказала: боялась, вдруг врачи не захотят оперировать. С медиками я не находила общего языка.
Спала я теперь примерно с 8 до 10 утра — 2 часа. Таня не отходила от Дау. На мне были обязанности: закупать продукты, всех кормить и еще много домашних дел. Таня приходила в 8 часов утра, она кормила Дау завтраком, одевала и выходила с ним гулять. Просыпалась я сама без будильника примерно в 10 часов утра. Вскакивала, бежала наверх смотреть, сколько градусов мороза. Наступил февраль. Выходила к Танечке, трогала у Дау руки, не замерз ли он.
«Танечка, прежде чем выходить гулять, всегда смотрите на градусник в окне. Если на дворе температура больше 10 градусов мороза, гулять не ходите. Он, вдыхая холодный воздух, может простудить легкие».
Дау возвращался с прогулки домой, когда его гнали газы в уборную.
Как только уладила неотложные домашние дела, помчалась в больницу к хирургам. Амбулаторно отказались оперировать. Но в больнице обещали на следующий день отпустить меня домой. Вернувшись домой, рассказала свой план Танечке, она испугалась: «Кора Терентьевна, зачем вы так. Если сделают операцию, останьтесь хоть на несколько дней в больнице». — «Нет, Таня. Я здорова, эта операция легкая. Я сразу вернусь домой. Вы Дау скажите, что вас телеграммой вызвали в деревню, и уйдете. Танечка, только так можно попробовать его самого заставить ходить в уборную».
Но во время операции я потеряла сознание. Оказалось, опухоль не одна, а целых четыре. Рана была глубокая, не зашили, вставили дренаж. Рано утром, вернувшись домой, пришлось долго уговаривать Таню, чтобы она ушла. Наконец, я осталась с Дау одна.
— Корочка, что я буду делать? Ты после операции совсем больная, а Тани нет. Вызови Гарика из университета. {355}
— Нет, Дау, я не знаю, где разыскивать Гарика. Ботинки у тебя одеты. Попробуй опираться на те перила, что приделаны у твоей постели.
— Нет, нет, Коруша. Я не смогу. Я уже очень хочу в уборную, помоги мне встать.
— Дау, я не в силах. Попробуй, пожалуйста, сам.
— Нет, нет. Я не могу, Коруша, дай мне только одну руку.
Он стал кричать, дрожать, побелел. Я не выдержала и отвела его в уборную. Все рухнуло. Я была в отчаянии. Вызвала Таню. Она сказала, что раздумала ехать в деревню. Не могла простить себе своей слабости. Все-таки я тряпка, ни капли воли. Или я была не подготовлена, что Дау может с таким отчаянием кричать? Стала обследовать вторую грудь. В глубине нашла затвердение. С трудом настояла опять на срочной операции. Меня уговаривали: у вас липомы, это у всех полногрудых женщин, подряд оперироваться нельзя. Я умоляла, настаивала. Это всегда страшно, но другого выхода я не видела. Разрез был глубокий, вынули шесть липом. Я совсем раскисла. Но опять рано утром, уже с трудом, была дома. Танечка ушла. Постель Дау против окна, у окна — письменный стол. Рану опять не зашили, вставили дренаж. Грудь вся забинтована. На белом бинте громадные кровавые пятна. Я подошла к постели Дау:
— Дау, посмотри, у меня лопнули швы. Я сяду у письменного стола. Я не могу тебе сегодня помочь. А Таня обещала прийти только завтра утром.
Опять все повторилось, как и в первый раз. Но когда он побелел, стал кричать, отчаянно призывая меня, я подошла к нему, он умолк. Я спокойно сказала:
— Дау, посмотри, у меня открылось кровотечение после операции. Пойми, я не в силах сегодня тебе помочь.
— Корочка, что же мне делать? Дай мне хоть одну твою руку, хоть немножечко помоги.
— Дау, я могу упасть, у меня нет сил. Дау, ты ходи под себя. И всю ночь будешь ходить тоже под себя по всем своим физическим надобностям. А утром Танечка придет и все уберет.
Он широко открыл глаза:
— Как под себя? Что ты такое говоришь? {356}
Я села у письменного стола к нему спиной. Он просил, умолял, стал кричать. Я плотно, с силой зажала уши руками, головой упала на стол. Мои силы кончались. Я не знаю, сколько он кричал, открыла уши — тихо. Боюсь повернуть голову. Тихо, со страхом поворачиваюсь — его нет в комнате. Я застыла, не верилось. Я боялась дышать. Неужели уже достигнуто! Да, этот рубеж был взят. Осторожно, тихо передвигаясь, цепко хватаясь за металлические удобные поручни, Дау появился в проеме двери. Остановился:
— Корочка, ты не потеряла сознание? Ты жива?
— Да, Зайка, милый. Мне лучше. Но помогать тебе я не смогу. Если ты побоишься опять встать, меня не зови.
— Нет, нет, Коруша. Я очень виноват, ты была права, я все могу сам! Все очень удобно устроено. Теперь я буду сам ходить в уборную.
Продукты у меня были закуплены впрок. Когда готовила обед, внизу, в кухне, прислушивалась: он вставал, подходил к ванне, щелкал выключателем, потом вода спускалась в унитазе. Выходил, опять щелкал выключателем, тушил свет и сам ложился в постель. Я поднялась к нему наверх:
— Даунька, обед готов. Пойдем в кухню обедать.
— Коруша, ты думаешь, я сумею сам спуститься вниз по лестнице в кухню?
— Уверена, ты прекрасно это сделаешь! Я на всякий случай буду идти впереди тебя. Если начнешь падать, обопрешься о мою спину.
— Я только сначала зайду в уборную.
— Конечно, я тебя подожду.
Спокойно, благополучно спустились вниз. После обеда он спросил: «А ты будешь идти, как Танечка, сзади?».
— Конечно, Даунька, но я уверена, что ты не упадешь. Ты очень хорошо ходишь.
После обеда, убирая внизу посуду, слышу он ходит, не ложится. Я быстро вбежала наверх.
— Корочка, ты не беспокойся, я не упаду. Я решил потренироваться.
Он подходил к постели, садился. Потом сразу поднимался, доходил до ванны. {357}
— Корочка, мне просто не верится, что я все могу сам. Ты полежи внизу, отдохни. Ведь я же чуть тебя не доконал.
Танечка на следующий день пришла очень рано. Еще не было 7 часов утра. Дау спал плохо, заснул под утро. Он еще спал.
— Танечка, милая, свершилось! Все. Ходит сам! Вам тоже досталось от моих операций, вы отдохните. Не приходите несколько дней. Я скажу Дау, что вы уехали в деревню. Он эти дни не будет гулять на воздухе, пусть привыкнет, что он все может сам. Очень боюсь, что, увидев вас, вцепится и заставит вас водить его в уборную. Рисковать нельзя. В случае чего я вам позвоню.
Теперь я осталась одна. На следующий день утром, после завтрака, раздался звонок в дверь. Я спустилась вниз, открыла дверь. А Дау в это время встал и ходил, лежать долго он не мог. Когда услышал голоса, он сверху, с лестничной площадки спросил:
— Коруша, это Таня пришла?
— Нет, Дау, это пришли врачи.
Услышав тяжелую поступь протезной обуви, врачи спросили:
— Он там с Таней?
— Нет, Таня отлучилась. Он ходит один.
Они все бегом наверх и как вкопанные остановились. А Даунька сам ходил от постели к ванной. У пришедших врачей он спросил:
— Если вы будете меня осматривать, то, извините, я должен зайти в туалет.
Они уже сидели в его комнате, слышали, как он спустил воду, щелкнул выключателем; пришел в комнату, сам улегся в постель. Я только поправила одеяло, укрыв больную ногу. Вид у Гращенкова был растерянный. Все они еще так недавно категорически утверждали, что Дау не сможет никогда сам себя обслужить в уборной. Я была слишком счастлива достигнутыми результатами, чтобы помнить зло!
— Конкордия Терентьевна, мы пришли узнать, может, что-нибудь нужно для больного?
— Да, очень нужно. Срочно необходимо заказать теплые зимние протезные ботинки. Пришлите, пожалуйста, {358} тех протезистов, которые приходили в больницу. Я очень боюсь наступления морозов в феврале.
Но теплые ботинки опоздали.
Настало роковое 10 февраля 1964 года. Как всегда, в 8 часов утра пришла Танечка. Я, как всегда, легла спать. В 9.30 меня как током подняло. Мне показалось очень холодно. Я вскочила, в окно увидела, как Танечка и Дау прошли мимо окон. Как всегда, они в эти часы гуляли. Я кинулась наверх, термометр 10 февраля 1964 года показывал 14 градусов мороза. Быстро надев пальто и сапоги, выскочила во двор. Руки у Дау были теплые.
— Таня, вы видели, что 14 градусов мороза?
— Кора Терентьвна, видела. Но Лев Давидович заставил меня вывести его гулять.
О, его хватку я знала! Добрая Танечка ему противоречить не могла.
Дау весь розовый на морозе — сиял. Просил еще пройтись несколько раз.
— Дау, Таня замерзла. Она может простудиться. Таня, вы идите домой. Я с ним немного пройдусь.
— Нет, я с тобой боюсь гулять. Ты меня не удержишь.
По словам Тани, гуляли они немногим больше получаса. Но самое страшное уже свершилось. Вечером 10 февраля, приготовив ему ванну, стали раздевать. На больной ноге конец большого пальца еще не ожил, Дау его не ощущал. Снимая носок, заметила, что ноготь и кончик пальца остались в носке. Обморожение страшнейшей степени. Боясь февральских морозов, я хотела забрать Дау весной. Я боялась вспышки в легких, а беда пришла от последнего сустава большого пальца ноги, который был омертвленный.
На последнем расширенном консилиуме ведущие ортопеды мне сказали: через два-три месяца весь палец оживет. Но боль еще может задержаться в концах пальцев. Консилиум не выписал больного из больницы и не оставил конечной инструкции: при скольких градусах мороза может быть обморожение еще не оживших тканей пальцев на больной ноге в неутепленных ботинках! Вина на Миллионщикове. Ну, а Гращенков не клиницист, он умел только заседать. {359}
Я оцепенела, держа в руках его ногу. Не могла отвести глаз от того места на пальце, где еще недавно был ноготь. Танечка звонила в больницу, вызывала врачей. У меня беззвучно текли слезы.
— Коруша, не расстраивайся. Мне совсем не больно.
Не ожившие еще ткани были безболезненны.
Приехали врачи, вставать нельзя, ходить нельзя, ванну принимать нельзя, мочить ногу нельзя. Уложили Дау на спину, ногу положили на подушку под стеклянный колпак и стали облучать кварцем. Наступили мрачные дни и ночи. Но обмороженное место не заживало, не подсыхало. Ведь конец пальца еще не ожил. Врачи стали бояться гангрены. Собрали консилиум дома. Решили срочно удалить палец, боясь, как бы не пришлось потерять ногу. Операцию назначили на понедельник. Мне предложили: «Конкордия Терентьевна, давайте мы сегодня положим его в больницу. Вы немного отдохнете».
— Ну нет. Мне не до отдыха. Зачем он лишнее время будет лежать в вашей больнице. Сегодня суббота, оставим все до понедельника?
В понедельник Танечка пришла очень рано. Я ее позвала скорей наверх.
— Танечка, мне кажется, начало подсыхать. Вот посмотрите свежими глазами.
Таня подтвердила. И краснота вокруг уменьшилась. Сообщили в больницу. Приехали хирурги, установили начало заживления, операцию отменили.
А в марте от вынужденного лежания, около двух месяцев на спине, взбунтовались легкие. О, это было очень страшно! Он задыхался, хрипел, на глазах умирал. И так сразу, вдруг, внезапно побелел и стал задыхаться. Я растерялась, бегала по квартире, кричала, рвала на себе одежду. А Танечка вызвала скорую помощь. Больница Академии наук рядом, приехали быстро. Привезли кислород. Спасли. Когда хрипы умолкли, со страхом поднялась я наверх. Он лежал бледный, без кровинки в лице, но уже нормально дышал. Опять, уже второй раз, у нас дома собрали консилиум. Опять Гращенков стал распинаться, как они еще раз спасли жизнь Ландау. Мне хотелось им крикнуть: «Уже весна, {360} зачем раньше времени выбросили его из больницы?». Но, конечно, смолчала, ведь «что прошло, о том не говорят». Так мне сказал мой двухлетний Гарик. Гращенков униженно лебезил. Лежащего не бьют, подумала я. Надо мириться с обстоятельствами.
Когда нога зажила, Гращенков разрешил, наконец, принять больному ванну. Дау был счастлив, но, раздевая Дау, я заметила, что бедро правой здоровой, нормальной ноги намного толще левого, а врачи не заметили.
— Нет, Таня, купать нельзя. Я боюсь. Всю зиму обтирали, еще раз оботрем.
Дау активно запротестовал.
— Нет, Дау, хватит. Рисковать не будем, я не могу. А вдруг это опасно?
Позвонила домой Гращенкову — купать запретил, обещал с утра приехать. В 9 часов утра он был уже у нас. Тщательно осмотрев, он сам, конечно, не мог ничего определить. Сказав, что скоро вернется, уехал. Скоро вернулся, но не один, а с А.А.Вишневским. Осмотрев стеклянное отекшее бедро, Вишневский спросил у Гращенкова:
— Сколько он у вас вынужденно лежит на спине после обморожения ноги?
— Уже два месяца.
— У больного тромбофлебит глубинной вены правого бедра. Обычное застойное явление. Ну как же вы, Николай Иванович, допустили такое обморожение. Почему вы разрешили такого больного после таких травм выписать из клиники среди зимы? Больные всегда спешат домой. Вы должны были его уговорить и, в крайнем случае, выписать в марте.
Гращенков молчал. Молчала и я.
А.А.Вишневский прописал компрессы. Вставать категорически запретил: «Никаких движений. Я буду навещать».
Это было очень мучительное время для Дауньки. Не сладко было и нам с Танюшей.
| {361} |
С первых дней, когда я привезла Дау домой, я звонила многим физикам, просила их навещать Дау дома. Евгений Михайлович Лившиц не являлся. Мнение ведущих врачей оставалось прежним: Гращенков и другие считали, что боли у Ландау мозгового происхождения. Надо, чтобы его ученики-физики отвлекали от боли, надо заставить Ландау заняться делами. Я в это не верила. Но решила, если Женька в него вопьется, начнет вытягивать параграфы для следующих томов по теоретической физике, вреда не будет.
Встретив Лелю, Женькину жену, во дворе, я ей сказала:
— Леля, передайте Жене, я снимаю все свои обиды против него и против вас. Дау уже дома, пусть к нему Женя заходит, как заходил прежде, заходите и вы.
Евгений Михайлович стал посещать Дау в компании других физиков. Потом осмелел, стал приходить один. Закрывал дверь, и я даже радовалась, вдруг Женьке удастся заставить Дау заняться писанием книг. Стала прислушиваться. Лившиц всегда спрашивал: «Дау, ты помнишь вот эту формулу, которую ты вывел для последнего тома?» — «Нет, я этой формулы не знаю, я ее не выводил, эта формула не моя». — «А вот эту новую энтропию, для восьмого тома, помнишь?» — «Нет, я ее никогда не знал».
Я для себя отметила: наверное, все это было сделано в 1961 году, перед травмой. Год перед катастрофой оставался провалом в памяти. Это меня не пугало, было много других забот, и всегда помнила слова Пенфильда: время и терпение все восстановят. Главный врач у Ландау — время и терпение!
Еще я старалась выяснить, кто из наших московских медиков подлинные клиницисты. Часто слышала фамилии Вишневский, Вотчал, Васильев. Тот самый Васильев, который в первые часы травмы, увидев страшнейшей силы забрюшинную гематому, написал, что жизнь несовместима с травмами. Расписался и уехал. Вот этого самого Васильева особенно все хвалили, как специалиста {362} по кишечнику. Но даже менее знаменитые медики не соглашались на визит к Ландау по приглашению жены, ссылаясь, что, если это необходимо, их должен пригласить председатель консилиума Гращенков.
Я уже начинала думать, а вдруг Гращенков не по личным мотивам выбросил Дау из больницы, неужели он так глуп, что мог серьезно думать: Ландау дома, увидев свой письменный стол, сядет и начнет заниматься наукой, забудет о боли, «которую он сам себе придумал».
Эту мысль он как-то высказал мне, когда начал свою кампанию по преждевременной выписке Дау из больницы. Тогда я ему ответила: «А он за свой письменный стол садился только для бритья». Сейчас, когда Дау уже дома, я все это передумывала, эти мои слова Гращенков, наверное, принял как издевательство! Гращенков не понимал Ландау. Я решила написать письмо в Чехословакию профессору Кунцу, прося его помощи.
«Москва, 24 февраля 1964 года.
Глубокоуважаемый профессор Кунц!
Все мы, друзья и близкие Л.Д.Ландау, помним, как много Вы сделали для спасения его жизни, и всегда благодарны Вам. Сейчас, как вы знаете, жизнь Льва Давидовича находится вне опасности, но общее состояние продолжает оставаться очень тяжелым и почти не меняется к лучшему. Больше всего его мучают боли в пальцах левой ноги, которые мешают ему спать и тем самым мешают выздоровлению. Местные блокады, проведенные неоднократно в больнице, не дали никакого эффекта, и поэтому было высказано медиками предположение, что боль происходит от центральной нервной системы. Существует и другое мнение, что из-за перелома тазовых костей и последующего неправильного срастания, зажатые нервы в тазу дают эту боль. Ваша консультация могла бы принести неоценимую пользу больному. Не согласились бы вы приехать в Москву и посмотреть Льва Давидовича? Если вы найдете возможность для этого, не откажите в любезности сообщить об этом.
Преданная вам Конкордия Ландау.
Москва, Воробьевское шоссе, дом 2, кв. 2». {363}
О том, что появились боли в животе, я не писала. В те времена я надеялась, что сильные вздутия и боли в животе устранятся сами по себе, если наладить правильное питание. Поэтому я пошла на операцию, хотела заставить Дау встать на ноги, двигаться. При правильном питании, мне казалось, я сама могу справиться в домашних условиях с ненормально вздутым болезненным животом. В больнице Академии наук кишечник просвечивали рентгеном, смотрели специалисты — ничего не нашли.
Я была очень счастлива, что Гращенков пригласил, наконец, к Дау А.А.Вишневского, знаменитого медика-клинициста. Следующий визит Александра Александровича был уже без Гращенкова. Как клиницист и настоящий медик он сразу обратил внимание: «Ты что это, батенька, без конца в уборную бегаешь? А ну ложись, я осмотрю твой живот. Бог мой, да твой живот расперло до последней степени. А где история болезни?» (Александр Александрович называл всех на «ты»).
Я сейчас же позвонила В.И.Зарочинцевой в больницу АН. Александр Александрович взял трубку и сам попросил привезти срочно историю болезни Ландау. Посмотрев ее, он спросил:
— А где ты хранишь результаты анализов? Меня интересует последний анализ кала на грибки.
Она многозначительно посмотрела на Александра Александровича, взяла историю болезни, перелистала, нашла то место, где Гращенков записал: «Боли в животе центрального происхождения, нарушен центр в мозгу, сигнализирующий ложную боль в животе».
— Ты что это мне показываешь? Это я уже сам прочел. То, что записал Гращенков, может оказаться вариантом из тысячи одной ночи! Я тебя по-русски спрашиваю, где последний анализ кала на грибки? Вижу, не делали. Давай показывай, где записан анализ кала на грибки предпоследний. Да ведь Ландау лежал у тебя года полтора. Покажи, где анализ кала на грибки за время пребывания больного у тебя. Нет, нету, ни разу не сделали. Вас за это мало всех повесить! Я не был в консилиуме у Ландау, но как медик знаю, сколько он получил антибиотиков и таких сильных, как новые американские: чтобы потушить травматический пожар {364} в легких, с дозами не считались. Тогда спасали жизнь! Потом Ландау был у нейрохирургов. Ну им простительно: они, кроме черепной коробки, дальше в человеческом организме ничего не понимают. Но у вас? Что ваша больница — кладбище для академиков? Я уверен: его изнутри пожирают грибки, у него, наверное, погибла вся кишечная флора. Он же сейчас не живет, он без конца бегает в уборную.
Он безнадежно махнул рукой на Зарочинцеву и, обращаясь ко мне, сказал:
— Я сейчас тебе выпишу направление к лучшему микробиологу профессору Ариевичу. Его лаборатория находится в Сокольниках при венерическом диспансерном отделе. Соберешь кал и отвезешь, но смотри, передай в руки самому Ариевичу, а я ему сам позвоню.
Я все сделала, как сказал мне Александр Александрович. Когда анализ был готов, сам профессор Ариевич позвонил мне домой, он от волнения заикался, говоря: «За всю мою многолетнюю практику впервые такой тяжелый случай — кишечная флора погибла полностью. Грибки сильные, окрепшие, их возраст что-то около трех лет. Я даже не знаю, как начать с ними борьбу, я удивлен, что больной жив!».
Прошло столько лет. Я пишу об этом и рыдаю. Как Дау мучился. Как можно назвать тех людей, которые бегали к Топчиеву, Келдышу, Миллионщикову и диктовали: «Ландау должен выздоравливать у нейрохирургов, у Егорова»!. А у Егорова он был около года, и Егоров знал, каких и сколько антибиотиков поглотил Ландау в больнице № 50. Но его специальность — нейрохирургия по раку мозга, а Лившиц поднял целую кампанию, чтобы Ландау выздоравливал только в этом институте. Академики Тамм и Зельдович ему в этом очень помогали. А вот П.Л.Капица воздержался от вмешательства в медицинские дела Ландау. Он не знал медицины и не мог давать советы по этим вопросам. Потом надо помнить, что Капица еще и Кентавр. Больной Ландау ему не был полезен!
Вероятно, профессор Ариевич позвонил Вишневскому. На следующий день Александр Александрович {365} приехал с разработанным планом лечения: как вывести грибки и восстановить кишечную флору. Я получила подробный список, где перечислялись продукты, необходимые Дау, их количество, какие употреблять медикаменты. Весь кал до грамма собирать за сутки и отвозить в лабораторию при Институте А.А.Вишневского.
В первый день, собрав в литровую банку первую порцию, увидела, что кал жидкой консистенции, в количестве примерно двух сантиметров. Куском прозрачного полиэтилена я крепко завязала банку и поставила в ванной за унитаз. Через некоторое время я зашла в ванну. Запах мобилизовал все мое внимание. Ужас, с какой силой размножались эти грибки. Прозрачная крепкая пленка лопнула, литровая банка была полна, пеной возвышалась высокая шапка. Пол ванной весь покрыт такой же пеной. У меня от ужаса зашевелились волосы на голове: так что же делается у Дау в кишечнике? Действительно, не понятно, как он живет?
По совету А.А.Вишневского я поехала в Институт молочной промышленности, по его рецепту заказала простоквашу строго по мечниковской закваске. Потом с помощью Вишневского меня проконсультировала академик Ермольева. Она посоветовала в меню Ландау ввести для возрождения кишечной флоры побольше молодой свежей зелени, именно зелени, а не корней — петрушки, сельдерея, укропа. «Старайтесь резать помельче и давать больному как можно больше».
Я очень мелко резала, смягчала маслом и сметаной, но все равно первая порция нарезанной травы вызвала у Дау в горле раздражение. Он так закашлялся, что посинел: вероятно, рубцы в горле от трахеотомии остались. Я решила из этой зелени выжимать сок. Это была титаническая работа. В огромные корзины я скупала зелень. Он у меня стал получать натощак полстакана сока из зелени петрушки, в обед — полстакана сока сельдерея и на ночь — полстакана зелени укропа. Медикаменты — нистатин, продукты питания строго по рецептам и в количестве, указанном Вишневским, плюс еще мечниковская простокваша из Института молочной промышленности.
Трудоемкость получения сока из этих трав доводила меня до кошмаров. Я очень боялась в травах с рынка {366} занести инфекцию. Сначала тщательно смывала пыль, потом небольшими порциями опускала в розовый раствор марганцовки, тщательно ополаскивала небольшими порциями, в заключение полоскала в холодной кипяченой воде. Вымытую траву заворачивала в стерильную марлю, на следующий день отжимала из нее сок.
Я помнила, как Дау заразили в нейрохирургии инфекционной желтухой. Я все время опасалась, что где-то с маленьким пузырьком воздуха между листьями остался микроб! Тщательно промывала эти травы, буквально до потери сознания. Моторы кухонного комбайна и все соковыжималки не были рассчитаны на выжимание соков из этих трав: моторы горели, соковыжималки быстро изнашивались.
Оказалось, этот кухонный комбайн уже снят с производства, нашла старый паспорт, прочла адрес завода и помчалась на завод. Главный инженер завода и его сотрудники очень чутко отнеслись к моей просьбе. Нарушая свои внутренние заводские законы, они отдали мне где-то у них строго хранившиеся экземпляры.
До глубокой осени Дау пил эти соки. И, наконец, грибки были ликвидированы, кишечная флора восстановилась. Вот что может сделать настоящий медик-клиницист! И главное, Вишневский полностью игнорировал мнение Гращенкова о центральном происхождении болей. Просмотрев рентгеновские снимки сломанного таза, он без колебаний уверенно сказал: «Конечно, неправильно сросшийся таз зажал нервы. Установить те точки, где зажаты нервы, очень сложно, но я попытаюсь. За успех ручаться нельзя, это очень сложный случай». «Да, случай самый сложный из всех сложнейших», — думала я.
Когда анализы на грибки показали их отсутствие, кишечная флора восстановилась, он спать стал лучше, реже ходил в уборную. Вишневский очень удивлялся: неужели, давая в таких количествах необходимые для спасения жизни больного антибиотики, ему забывали давать нистатин? Или у них не было нистатина под рукой? Или они там все в консилиуме считали, что больной не выживет?
«Вот с этим я никогда не соглашался. Если человек {367} еще не умер, надо верить всегда самому, что ты сможешь его вернуть к жизни!»
Я стала очень внимательна к приходам Е.М.Лившица, искренне им радовалась, сразу уходила, стараясь не мешать. Я надеялась, что Женька своей врожденной цепкохвостостыо капуцина может заставить Дау заняться книгами. Видя мое расположение к нему, Женька решил, что я, наконец, поумнела и поняла, что он, Лившиц, есть необходимое приложение к Ландау! Итак, Женька осмелел, стал приходить очень часто.
<...>
Международная почта, которая приходила в первые годы после автомобильной катастрофы, была обильна. Была не распечатана, занимала все пустые чемоданы, антресоли и кладовую. Когда Е.М. высказал желание просмотреть ее, я очень обрадовалась, предоставив почту в его полное распоряжение. Это была работа не одного дня. Он приходил, я ему отдавала тюки с почтой. Он почти все отправлял на свалку. Мне было очень жаль, что я не знала языков, не могла прочесть письма. Дау тихонько попробовал протестовать, но Женька на него накинулся: «Дау, я все выбрасываю потому, что это ненужный хлам. В основном весь мир захотел иметь твой автограф! Из научной почты если и есть что стоящее, все уже устарело».
Мои отношения с Женькой несколько наладились. Придя в один из дней, он принес ящик, поставил на стол и сказал: «Кора, это те медикаменты, которые остались неиспользованными». Когда он ушел, мы с Танечкой вынули медикаменты в американской упаковке. Это был нистатин. Срок годности давно истек. Меня удивило, почему он их сам не выбросил, а принес мне, чтобы это сделала я. Когда на следующий день он пришел разбирать почту, я его, конечно, не спросила, почему нистатин застрял у него, в результате чего грибки у Дау сожрали всю кишечную флору. Лившиц не был в курсе того, как мы с Вишневским выводили грибки.
Еще в нейрохирургии, когда Гращенков не знал о моей размолвке с Лившицем, он при мне по-деловому подошел к Женьке и сказал: «Евгений Михайлович, моему больному очень нужен такой-то препарат. {368} Конечно, вам признательные родственники все оплатят». Тогда этому не придала значения, не запомнила названия препарата. А теперь я думаю, что на нистатин покупателя не нашлось.
<...>
Радиоприемник я установила у постели Дау. Не вставая, он привык слушать новости.
Вдруг он, рывком выключив радио, мне сказал: «Только что убит президент Америки Кеннеди».
После этого сообщения я перенесла телевизор в комнату Дау. Мы стали ежедневно тщательно следить за телевизионными передачами. Вдруг увидели: отчаянно мчалась молодая женщина, она кричала: «Нет! Нет! Нет!». Телевизионные камеры проводили ее до клиники, двери клиники распахнулись перед ней и поглотили ее! Там медики тщетно пытались спасти жизнь своего президента. Но Жаклин Кеннеди впустили в клинику к мужу.
В эти дни американской трагедии мы с Дау все время следили по телевизору за трагическими событиями американского народа. Дау без конца повторял: «Вот бандиты! Убить собственного президента! И это не единственный случай в истории Америки». И он мне рассказал, как актер-убийца со сцены в упор застрелил великого американского президента Линкольйа!
Потом смотрели похороны Джона Кеннеди. Жаклин шла как истукан, окаменев. О, сколько было трагедии в ее шагах! Как она шла! Как она еще могла управлять своим двигательным аппаратом! Тогда я не знала, что и меня это ждет!
Очень часто А.А.Вишневский навещал Дау. Они нашли общий язык сразу. У них было много общего — талант, интеллект, любовь к женщинам. С первого часа знакомства у них сложились дружеские отношения. Александр Александрович не сомневался, что {369} мозг Ландау без травмы. Он ни разу его не спросил, какой сегодня день, месяц, число! Он первый из врачей придавал большое значение жалобам больного на боль. Несмотря на свою медицинскую профессию, он сумел сохранить доброе человеческое сердце! Как это важно для человечества! О, медики, будьте внимательны к жалобам больных!
— Лев Давидович, попробуй описать, какие боли у тебя в ноге.
— Александр Александрович, как будто бы тысячи раскаленных иголок вонзаются в кончики пальцев на левой ноге.
— А в животе?
— То же самое. Тысячи раскаленных иголок сверлят мой живот.
— Нет сомнения, у тебя сломанные кости таза зажали корешки нервов, которые дают разветвление, пронизывая кишечник и концы пальцев. Это очень болезненно. Во время второй мировой войны были такие ранения, когда нервы прорастут, боли исчезнут. Но этого долго ждать. Я попробую, может быть, при помощи новокаиновых блокад мне удастся нащупать точку, где зажаты нервы. Если мне это удастся, я быстро тебя освобожу от этих болей. Я привез свои инструменты, хочу сейчас попробовать. Ты не возражаешь?
— Александр Александрович, я вам очень благодарен. Я готов в любой момент подвергнуться любым пыткам: постоянно ощущать эти боли — уже выше моих сил!
Александр Александрович в ванной принялся тщательно, как перед операцией, мыть руки. Специальными щетками, привезенными им с собой. Но когда он достал уже в резиновых перчатках свой стерильный шприц, взглянув на иголку длиной в четверть метра, я испугалась, ушла вниз. Александр Александрович сказал, что через прямую кишку он будет шприцем искать место в тазу, где зажаты нервы.
Первая блокада не принесла положительных результатов. Александр Александрович был расстроен. Он сказал:
— Лев Давидович, я хочу повторить эту же блокаду, но у себя в клинике, в своей операционной. Здесь мало {370} света. Эти блокады я люблю делать в своей операционной. Лев Давидович, я бы тебя с удовольствием взял к себе в клинику, ведь ты еще клинический больной, но мой новый клинический корпус только начали строить, а в старинных московских клиниках при палатах отсутствуют санузлы. Тебе в них не улежать!
С Вишневским договорились, что он позвонит заранее, назначит время, и мы с Танечкой повезем Дау к нему в клинику и оставим его примерно на 4 часа.
Как только Дау разрешили вставать, я Танечке дала отпуск. Во мне жил страх: если при нем будет Танечка, он опять заставит его водить и повиснет на ней. Меня он жалел. Первые его шаги после 4-месячного лежания на спине были трудными, я шла сзади, страховала. Ходить он стал хуже, вставал с большим напряжением, но все-таки помнил, что он все может сам.
Днем и ночью без подмены, почти без сна, мне было очень трудно. Основная трудность заключалась в том, что Даунька не мог сам надевать протезные ботинки, их нужно было туго шнуровать, они были длинные и надо было хорошо завязывать шнурки, а это он делать не мог, так как два пальца на левой руке были искалечены. Вывихи в суставах нейрохирурги без рентгена, без вправления подвергли массажу. Я уже это описывала. Когда Топчиев помог мне взять Дау от нейрохирургов, суставы пальцев погибли безвозвратно.
Еще Достоевский описал, что врач, лечащий один палец, для лечения другого пальца советует пригласить другого специалиста. Естественно, нейрохирурги в пальцах ничего не понимали. Даже после выведения грибков Дау за ночь вставал довольно часто, надевать, шнуровать ботинки ночью было трудно. Все вместе взятое заставило меня подумать о том, что Дау необходимы ботинки, которые он смог бы надевать сам, своей неполноценной левой рукой.
По телефону А.А.Вишневский сообщил мне, когда я могу привезти Дау в клинику для очередной блокады. Дау уже неплохо ходил. Я вызвала машину из гаража Академии наук, машина должна была ждать у клиники в 4 часа. Мы с Танечкой решили, что у Вишневского {371} справится она сама, а я использую машину для поездки в протезный институт, попробую договориться с их мастерами непосредственно на производстве, смогут ли они сделать новые протезные ботинки на молниях. В протезном институте я не преуспела. У них изготовлялась обувь только на шнурках.
По дороге домой Дау в машине начал скулить. Хотел протянуть больную ногу, но в машине «Волга» мало места, ему было очень неудобно сидеть. Еще в машине я узнала, что и этой блокадой не было достигнуто положительных результатов. Таня мне рассказала, что А.А.Вишневский решил попытаться сделать другие варианты блокад, о назначении которых он сообщит по телефону.
Приехав домой, они рассказали много интересного. Оказывается, А.А.Вишневский очень торжественно встретил Ландау в клинике. Все медики в клинике Вишневского были собраны на митинг, где по старым традициям их института Лев Давидович был объявлен почетным пациентом. В честь чего была заранее приготовлена именная медаль из бронзы, очень красивая, с барельефом отца А.А.Вишневского, а потом все пили коньяк за выздоровление академика Ландау. Это все мне Танечка рассказала, когда мы уложили Дау отдохнуть. Даунька восхищался умом и талантом Вишневского, потом добавил:
— А ты знаешь, Коруша, мне Александр Александрович сказал, что он в тебя влюбился. Спросил меня, как я на это посмотрю. Я сказал, что не ревнив, что разделяю его вкус. Пожалуйста! Тем более сам я в таком жалком состоянии, но, боюсь, Кора никогда не ценила мужчин вашего типа.
— Ты так посмел сказал Александру Александровичу?!
— Коруша, прости, разве я ошибся?
— У Александра Александровича есть большое обаяние талантливого человека. Его нельзя мерить под общую мерку.
Рассказ Танечки о том, как Вишневский встретил Ландау в клинике, очень растрогал меня своей человеческой чуткостью. С грустью подумала: «А вот управделами {372} Академии наук Чахмахчев, опираясь на устный незаконный приказ Миллионщикова, за руки и за ноги в буквальном смысле этого слова выбросили Дау вон из больницы в разгар зимы. Какие разные люди!».
Я верила, очень верила Вишневскому. Надеялась, что его блокада окажется чудодейственной. Надежда на выздоровление Дау крепла, настроение было хорошее. К Дау приходило очень много посетителей, приезжало много иностранцев, были даже целые иностранные делегации. Я никому не отказывала в свидании с Дау.
Посетителям я радовалась больше, чем Дау, я наблюдала: Дау на бесконечные боли жаловался только близким знакомым. Когда приходили посторонние, врожденное внутреннее благородство заставляло его мобилизовывать все силы! Он был приветлив, интересно вел беседу, улыбался, смеялся, казалось, его оставили боли. Можно было подумать, что он отвлекся и забыл о боли. Нет, как тень пройдет судорога по лицу, прикроет глаза, через несколько секунд опять в форме.
Как-то вечером пришел студент. Дау сидел в библиотеке в кресле. Гость с первых слов хотел поразить академика, он сказал:
— Лев Давидович, мне удалось решить теорему Ферма!
— Присаживайтесь, пожалуйста. Вот вам бумага, изложите ваш вывод.
Студент с воодушевлением начал излагать свое решение. Внимательно наблюдая за пером своего гостя, Дау вдруг сказал:
— Хватит. Вы студент третьего курса математического факультета?
— Да, я на третьем курсе.
— Я это узнал по вашему решению. Вы сразу заблудились в трех соснах.
— Нет, разрешите я закончу.
— Это излишне, я все уже понял. Мой вам совет, сначала надо выучиться, а потом делать открытия! А вы решили начать с открытия, а потом кончать университет. В своем решении вы сразу заблудились в трех соснах. Вы еще не овладели математикой, как должно, {373} свои ошибки вы принимаете за открытие. Между прочим, вы не один, это свойство очень многих математиков. Все усложнять, из простого и понятного делать все сложным и непонятным. А точнейшую и полезнейшую из наук математику использовать для личного удовольствия. Создавать математические, никому не нужные, сложнейшие шарады. Должен вам заметить: для человеческого общества эти теоремы-шарады абсолютно бесполезны. Мой вам совет — учитесь.
Студент ушел расстроенный и очень озадаченный.
— Дау, я слыхала или где-то читала об этой теореме Ферма. Неужели до сих пор она не решена? Разве ее не может решить такой математик, как Келдыш?
— Коруша, дело все в том, что такие математики, как Келдыш, занимаются разрешением только полезных математических задач, а вот совершенно бесполезные теоремы решают недоучки, вроде нашего ушедшего гостя. Этой схоластикой от науки серьезные ученые не занимаются!
Вечерами и в выходные дни я была с Дау всегда одна. Гарик вечерами дома не бывал, а я этому радовалась, так как очень боялась, что трагедия с отцом может наложить тяжелый отпечаток на молодые годы сына!
Студенческие годы — самое счастливое время. Омрачать их было бы преступлением. Ни на один час за все годы болезни мужа я не оставила Дауньку на Гарика. Когда валилась без сна, изнемогая от усталости, его оклик сверху «Коруша», и я в мгновенье ока уже наверху. Как будто силой вихря меня поднимало наверх, исчезали и сон, и усталость. Это были счастливые годы. Я знала, как я нужна Дауньке, жила мечтой о его выздоровлении. Сила мечты скрашивала все трудности. После выведения грибков из кишечника, промежутки улучшения делались все чаще и все продолжительнее. Тогда он читал мне стихи, тогда мы вместе мечтали о его выздоровлении.
— Коруша, боли в животе уменьшились. Как ты думаешь, могут за ночь мои боли исчезнуть совсем?
— Даунька, ведь Александр Александрович сказал, что зажатые нервы прорастут и тогда боли исчезнут сами. {374} Ведь никто не может знать, как глубоко зажаты эти корешки нервов. В одно прекрасное утро проснешься здоровым! Даунька, когда ты выздоровеешь и скажешь мне, что уходишь на свидание к девушке, как я буду этому событию искренне радоваться. Ты будешь здоров! За годы твоей болезни я поняла цену настоящего горя.
Дау в негодовании встал: «Коруша, милая. Когда я выздоровлю, я буду верен тебе целый год!».
Как-то утром, в 1960 году, по звонку открыла входную дверь, незнакомый человек не только хотел войти сам, он пытался еще внести что-то непомерно большое, и это ему удалось. Оказался художник, он хотел написать портрет академика Ландау. Принес показать образцы своих творений. Два полотна оказались изумительны: портрет Н.Н.Семенова был удачен, второй портрет жены художника тоже был прекрасен!
— Вы знаете, мне очень понравились ваши портреты, я пойду уговорю мужа, чтобы он согласился.
Мне очень захотелось иметь хороший портрет Дау, а вдруг этому художнику удастся запечатлеть взгляд Дау. Дау, внимательно рассмотрев портреты, тоже пришел в восторг, он очень ценил живопись, скульптуру, архитектуру и понимал эти виды искусства.
— Только имейте в виду, я буду приходить к вам в мастерскую точно, больше десяти минут я сидеть не могу.
Когда портрет близился к завершению, Дау мне сказал:
— Коруша, ты знаешь, в живописи я разбираюсь, мой портрет удался, хочешь посмотреть?
— Еще бы, очень хочу, когда поедешь на очередной сеанс, возьми меня с собой.
— Нет, ты поезжай, посмотри сама, художник будет тебя завтра ждать в 5—6 часов вечера. Поезжай, посмотри, портрет очень хорош. А сам художник очень талантлив.
На следующий день в 5 часов я стояла у портрета. Портрет был воистину удачен, но нестерпимый блеск глаз натуры отсутствовал. Я очень хвалила портрет. «Дау считает вас очень талантливым, ему очень нравится портрет», — говорила я, натягивая перчатки. {375}
— Как, вы уходите?
— Да, конечно, а что?
— Останьтесь, посидите со мной, — он засуетился, ринулся в противоположный угол, включил свет торшера, свет позолотил вино, фрукты, розы и два прибора для легкого ужина на двоих. Вначале я окаменела, потом подошла к сервированному на двоих столику. Рассмотрела вино, фрукты, шоколад — все было почти так, как я сервировала стол, когда Дау посещали его девушки. Я рассмеялась. Мой милый Зайка пытается научить ярко жить таких скромных работяг, как этот художник. Окинула его впервые любопытным взглядом: бедный, как он был смущен, он покраснел, он готов был провалиться от стыда, он беспомощно засуетился, как будто готовился совершить что-то постыдное, а разве можно стать соучастницей постыдного, нет стыд лучше пережить в одиночку.
Когда впервые в 1935 году я пришла в квартиру Дау в Юмовском тупике Харькова, почти так же был сервирован стол, и всегда розы. Но глаза Дау сверкали, ослепляли меня, луч сияния его глаз магически меня сковывал, а сам Дау был воплощением восторженного порыва. Он моментально сорвал с себя одежду, было что-то священное в его неудержимом стремлении, нагота его была прекрасна, ни тени смущения, как все безыскусственно чистое, созданное самой природой! Обнажался он перед женщиной впервые, в своих помыслах он был чист, целомудрен и девствен. Грязные помыслы у Ландау отсутствовали всегда. А художник стыдился, чего?
— Я вижу, у вас Даунька здорово «почесал язык». Не смущайтесь, это его выражение. Он во время сеансов, конечно, молчать не мог, о физике с вами не поговоришь, как педагог он решил вас научить, как правильно надо жить?
— Да, он меня познакомил с этой своей теоретической работой, он ее очень высоко ценит.
— Дау очень талантливый педагог, ему удалось воспитать вас. Ведь вы совсем не похожи на ловеласа, принимающего в своем художественном ателье девушек, где за натуру пишите их портреты.
Он с ужасом замахал руками, в изнеможении сел. {376}
— Как можно, вы такое говорите! Скажу вам правду, я когда вас увидел, обомлел. Вы очень красивы, мне как художнику захотелось писать с вас портрет. Лев Давидович мне сразу начал излагать теорию, как надо правильно жить. Я с удивлением его спросил, неужели он изменяет своей жене. «Еще как! Встречаясь с другими девушками, я только ярче воспринимаю ее совершенство. Кора действительно очень красива».— «Лев Давидович, а вы не боитесь, что ваша жена может вам изменить?». — «Неужели я выгляжу таким пошляком, что могу придерживаться этой пошлой двойной морали, что можно мужчинам, того нельзя женщинам! Мужчины всегда забывают, что сами заводят романы с чужими женами, а их жены заводят романы с чужими мужьями. Я считаю, для человека может быть одна мораль: женщина равноправный член нашего общества и у нас одна мораль для женщин и мужчин. Если бы мне моя жена не изменяла, я бы считал, что я ее угнетаю, пользуясь сам неограниченной свободой свободного человека, живущего в свободной стране. Я за символические «рога» рогатых мужчин, не все рогатые мужчины умеют их носить с достоинством, рогам никогда не вырасти, если ваша жена не красавица, не очаровательна, не прелестна, не соблазнительна до чертиков!» — «И вы не ревнуете свою жену?» — «В цивилизованном обществе ревности не должно быть, человеческая подлинная культура и ревность несовместимы. Я культурный человек!» — «Лев Давидович, а если я вам признаюсь, что влюбился в вашу жену с первого взгляда». — «Из симпатии к вам я вам помогу, я ее завтра одну пришлю посмотреть портрет».
Я обо всем этом догадалась по сервировке стола. Согласитесь, флиртовать с мужчиной по рецепту мужа несоблазнительно.
— Пожалуйста, не думайте ничего плохого, я действительно хочу написать ваш портрет.
— Итак, вы хотите написать мой портрет, в одетом или в раздетом виде?
— Ну что вы, конечно, в одетом, и даже вот в этом вашем осеннем костюме, очень красиво сочетается серебристая каракульча с алым платком на голове. Вам поразительно к лицу этот платок. {377}
— Нет, не выдержали вы испытания. Пусть Даунька займется еще вашим воспитанием.
Я поспешила уйти, было весело на душе, получить столько комплиментов! От самого художника. Домой вернулась радостная, веселая. Дау, услышав, что я пришла, слетел со второго этажа в один миг мне навстречу.
— Коруша, я всегда тебе говорил, носи только красное, это самый прекрасный цвет в природе, не зря его революционеры сделали своим знаменем. Тебе очень идет красное. Как тебе понравился художник?
— Твой портрет очень понравился, ну а художника ты еще недовоспитал!
— Я вижу, он не в твоем вкусе, а жаль! Он в тебя влюблен, написал бы замечательный портрет! Коруша, все-таки тебя, наверное, мама в детстве уронила, ушибла голову. Ты не пользуешься своей красотой. Художник, влюбленный в натуру, создает шедевры! Такой талантливый художник, имела бы замечательный портрет. Дура и есть дура, от Никогосяна тоже отказалась. Никогосян — очень талантливый скульптор, как хотел в мраморе сделать твой скульптурный портрет, не всякой красивой женщине выпадает счастье иметь портреты настоящих, талантливых художников. Ну пусть художник оказался не в твоем вкусе, скажи, чем плох Никогосян? Он имеет очень большой успех у женщин.
— Бедный Зайка, я не оправдала твоих надежд. Куртизанка из меня не получилась, я мыслю и воспринимаю жизнь немного иначе, чем ты. Помнишь роман «Мужчины предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках»? Героиня романа хорошо усвоила нравы буржуазного общества, ее девиз жизни: «Любовь проходит, а бриллианты остаются». Я не могу сказать: красота и молодость пройдут, а портрет и скульптура останутся. Зачем они мне нужны, если как необходимую нагрузку я должна терпеть общество этого самого Никогосяна, хотя он очень смешной. Дау, когда последний раз на Николиной горе у Капицы за ужином он сидел рядом, очень уговаривал меня пойти с ним в театр. Со своим армянским выговором он так сказал: «Ты почему не хочешь пойти со мной в театр? Знаешь, какой я надену красивый костюм, у меня есть такая {378} красивая рубашка с галстуком, мне очень идет. Я как захочу, так красиво оденусь». Не могла же я сказать этому скульптору: меня пленил навек один мужчина. Разве после этого можно размениваться на мелкие чувства?
Прошли годы, Дау своими поступками, своей жизнью, своим трудом, своими идеями предстал мне, как нечто сверкающее своей незримой чистотой и яркостью. В часы нежности, наедине я сказала:
— Дау, а ведь ты есть бриллиант чистейшей воды.
— Ну что ты, Бриллиантова зовут Колей.
— Не по фамилии, по чистоте, по яркости, по своей человеческой сущности ты есть не просто кристальной чистоты, таких много. Дау ты есть кристалл сверкающий, чистый, яркий, многогранный. Ты есть настоящий бриллиант.
— Коруша, была еще такая Дора Бриллиант.
— Дау, то была эссерка, а ты есть редкостная драгоценность. Даунька, вот сколько бы стоил бриллиант чистейшей воды, неповторимой яркости и имел бы твой вес в каратах?
— Коруша, такого в природе нет.
— Я знаю, ты один такой на всей нашей планете!
— Коруша, самое удивительное, мне эту чушь приятно слушать.
Как больно возвращаться к трагическим событиям. С того момента, когда врач Федоров сказал: «Будет жить!», трагедия отодвинулась на целых шесть с лишним лет. Эти длительные годы выздоровления для меня протекли как один длинный, нескончаемо длинный день. Я, как и Дау, потеряла счет времени, тоже не помнила ни дня, ни месяца, ни года. К счастью, невропатологи меня не спрашивали об этом. Надежда переполняла меня, я не сомневалась, он скоро будет здоров! {379} Соматически, как говорят медики, он уже здоров, а боли, я была уверена: боли могут его оставить в любой момент. Надежда на это счастье уже была огромным счастьем!
Когда мою жизнь пересекла встреча с Ландау, он сказал мне: «Дау это моя кличка, имя мое Лев, но посмотрите на меня, какой из меня лев!». Я посмотрела: сиянье его огромных пламенных глаз было ослепительным. Непонятный восторг охватил меня! После каждой встречи восторг возрастал, а потом перешел в обожание, преклонение, любовь! Любовь и обожание оказались взаимными! До конца дней Дауньки и до конца моих дней!
После лечения кандидомикоза (грибков) настроение стало лучше.
— Ты знаешь я все время прислушиваюсь, мои боли ослабевают, вот сейчас я уверен, завтра проснусь здоровым! Боли в ноге совсем ослабели и «животная» боль тоже стала легче. Я хочу почитать тебе стихи:
По одному из нас будут
Панихиду служить
И не позже, как в завтрашний день!
— Зайка, прекрати! Даже когда ты был здоров эти стихи запрещались, забудь эти строки, я не хочу их слышать.
— Смешная, боишься даже детских стишков. Как ты кричала, умоляла «Зайка прекрати», когда я говорил:
Пиф-паф ой-ой-ой,
Умирает Зайчик мой!
Принесли его домой.
Оказался он живой!
Ну не сердись, ведь когда принесли меня домой, я оказался живой.
— Ты действительно уже по-настоящему выздоравливаешь, начинаешь свои дразнения!
Выходной день. Сумерки сгущаются, Дау читает мне Байрона по-английски, мне не понятны слова, но приятен его голос, я посматриваю на стрелки часов, {380} уже час, как боли продолжают успокаиваться. Звонок в дверь, входит молодой застенчивый мне не знакомый человек: «Льва Давидовича можно видеть?».
— Да, пожалуйста.
Дау он сказал:
— Простите мне мой визит. Вы меня не знаете, я минералог. Только кандидат наук. Но мне посчастливилось открыть новый, еще не известный минерал. В наш век это большое счастье и большая редкость. Я пришел к вам просить вашего разрешения назвать мой минерал вашим именем «Ландуит».
— Благодарю, это большая честь, но я ведь физик и в минералогии не разбираюсь. У вас должны быть свои уважаемые учителя.
— Лев Давидович, мое уважение к вам безгранично, еще со студенческих лет все московское студенчество, независимо от специальности, преклонялось перед вами! Вас очень прошу, разрешите мне мой минерал назвать «Ландуит»!
— Очень благодарю, считаю это большой честью для себя. Конечно, я согласен, только неудобно себя чувствую, отнимая хлеб у минералогов.
Это был Александр Михайлович Портнов.
Вдруг пришла телеграмма из Киева. Зденек Кунц сообщал о своем приезде к Ландау в Москву. В Киев его вызвали для очередной консультации. Я позвонила друзьям Дау: передо мной встал вопрос, как принять Кунца без председателя консилиума Гращенкова. У меня собрались Данин, Голованов, Халатников, Шальников и другие. Поезд прибывает завтра в десять утра.
На моей половине внизу было весьма бурное заседание. Единогласное мнение было одно: Кунц должен один, без Гращенкова осмотреть Ландау и высказать свое мнение о методах лечения, о возможности устранения боли и о причинах, вызывающих боли. При Гращенкове он будет только придерживаться врачебной этики, это было бы бессмыслицей!
Обсуждался вопрос, как завтра во время визита Кунца не допустить к Ландау Гращенкова. После бурных обсуждений все решили, что я должна сейчас же, вечером, позвонить Гращенкову и в вежливой форме, {381} поблагодарив за все сделанное, сказать «пошел вон». Другого выхода не было. Меня долго и упорно уговаривали все. В конце концов я сняла трубку, стала набирать номер, услышала голос Гращенкова и, ни звука не сказав, положила трубку.
— Товарищи, я не могу вот так, спокойно обидеть человека, я могла с ним не соглашаться и припираться в больнице, но обидеть немолодого человека на ночь, нет, нет, не могу. Я сама слишком много по телефону слышала обид.
На меня все накинулись. Выручила Майка:
— Слушай, Кора, а если не ты, а кто-то другой скажет от твоего имени, за тебя?
— Пожалуйста, говорите от моего имени, я знаю, его отстранить надо, но я не могу.
Маечке пришла умная мысль, она объяснила: «У моей мамы, старшей сестры Коры, такой же голос, бабушка по голосу их не отличала. Я сейчас позвоню маме домой, дам телефон Гращенкова, она сначала его поблагодарит за все сделанное, а потом очень вежливо откажет от дома, она в курсе дела».
Все согласились, никто из присутствующих другого выхода не видел. Халатников взял на себя миссию встретить Кунца на Киевском вокзале и сразу привезти его к нам. Кунца будет ждать накрытый стол, пока он будет завтракать, я звоню в больницу, чтобы привезли историю болезни, т. к. из Киева приехал консультант. Никто в Москве не знает о завтрашнем приезде Кунца. Когда привезут историю болезни из больницы, они здесь увидят Кунца, но пока по телефону разыщут Гращенкова, Кунц без стеснений выскажет свое мнение, которым мы все дорожили. Звонок моей сестры, я знала, не остановит Гращенкова, если он узнает, что Кунц у Ландау.
Моя сестра после разговора с Гращенковым мне в тот же вечер сообщила: «Корочка, у Гращенкова не было и тени сомнения, он сам узнал «тебя» по голосу, я его очень вежливо за все поблагодарила и в конце концов попросила не посещать Ландау, на что он очень тоже вежливо, правда повысив голос, сказал: «Не вы, Конкордия Терентьевна, приглашали меня к Ландау...», но здесь трубку, видно, выхватила его жена и {382} наговорила мне, т. е. тебе, кучу не очень приятных комплиментов. Она кричала: «Вы за все годы ни разу ничем не поздравили Николая Ивановича». Кора, у семейства Гращенковых нет сомнения, что они говорили с тобой».
На следующий день события разворачивались по намеченному плану: профессор Халатников с вокзала привез Кунца к нам. Пока я угощала его завтраком, Танечка позвонила в больницу и попросила срочно привезти историю болезни, т. к. из Киева приехал профессор, он уже у Ландау. Историю болезни привез сам главврач Сергеев. Открыв ему дверь, я пригласила его войти в столовую: «Знакомьтесь, это профессор Кунц из Чехословакии, он был на всех международных консилиумах у Ландау». Сергеев передал историю болезни Кунцу. Кунц вместе с физиками стал подниматься на второй этаж. Сергеев меня спросил:
— Вы уже поставили в известность Николая Ивановича?
— Нет, он не знает, что Кунц в Москве.
— Разрешите, я от вас позвоню, надо срочно пригласить Николая Ивановича.
— Товарищ Сергеев, вы главврач у себя в больнице, вы можете приглашать Николая Ивановича к себе в больницу, а мы с мужем, когда вчера получили телеграмму от профессора Кунца, решили Гращенкова не приглашать, мы хотим поговорить только с профессором Кунцем!
— Так вы еще вчера знали, что приезжает всемирно известный профессор Кунц из Чехословакии, и нам никому не сообщили?
— Я очень много получаю телеграмм от известных людей, но мне не приходило в голову кого-то ставить об этом в известность.
Сергеев ушел очень обиженный и возмущенный. Я побежала наверх. Кунц тщательно осматривал Дау. Кунц хорошо владел русским языком, но с Дау он разговаривал, все время переключаясь то на английский, то на немецкий, то на французский. Долго, очень долго Кунц осматривал и изучал больного Ландау, я уже сервировала стол для обеда, а Кунц как настоящий клиницист все изучал больного и пришел в конце концов {383} в полный восторг от больного, был счастлив, он сиял, он вспоминал, каким он видел Ландау в первые дни травмы: человек остался жив.
— В моей практике первый случай: с такими травмами больной не умер! Сам встает, сам ходит, боли пройдут сами, сейчас у Ландау один врач — время! Все будет хорошо, слишком много было травм, слишком серьезны были травмы. С Львом Давидовичем интересно разговаривать, мне бы такого больного в клинику, такой больной для медика — большое счастье.
— Дайте слово нам, физикам, что берете к себе в клинику Ландау, мы найдем пути, мы, физики, доставим Ландау к вам в клинику, — сказали физики.
Кунц стал очень серьезен, помолчав, он сказал:
— Весь мир знает, что Ландау — больной Гращенкова, у нас, врачей, есть своя этика!
Я эту этику не понимала и разделять не могла! Она мне всегда казалась чудовищной. По-моему, эта этика выглядит так: один врач ошибается, ведет своего больного в могилу, другой врач это видит и может предотвратить, но уходит в кусты. Так я думала, а Кунцу сказала: «Я вам очень благодарна за все. Вы, вероятно, даже не представляете, как были полезны все ваши советы. Ландау жив и на пути к выздоровлению, а вы в этом сыграли большую роль! Вы в ваш первый приезд дали очень ценные советы!».
На следующий день свой официальный визит Кунц нанес вместе с Н.И.Гращенковым и еще другими врачами. Когда все стали подниматься наверх, Гращенков на первых ступеньках лестницы умышленно задержался. Все поднимались наверх, я замыкала шествие.
— Конкордия Терентьевна, я вас умоляю, никакого разговора у вас с членами моей семьи не было.
— Николай Иванович, а вы знаете, я действительно не разговаривала с членами вашей семьи!
Я говорила уверенно и искренне.
— О, благодарю, вы не можете себе представить, как я вам благодарен! Спасибо, спасибо!
| {384} |
Время мчалось, календарь менял погоду, а боли продолжались! Моментами ослабевали, а потом вспыхивали с прежней силой. Узким местом по уходу за больным оставались ботинки и ванна, каждую ночь без выходных, иногда до десяти раз за ночь надо было внимательно зашнуровать высокие ботинки, а потом расшнуровать и правильно поставить, чтобы первым делом брать для надевания протезный ботинок, и так изо дня в день.
Глубокой ночью, в который раз проверяя, что больная нога в протезном ботинке, а не наоборот, вспомнила, что Кунц, будучи у нас с визитом, рассказывал, что у них в Праге в протезном институте есть замечательные мастера по производству протезной обуви. Сон, недомогания у меня как рукой сняло: надо поехать в Прагу, там, быть может, знаменитые мастера по изготовлению протезной обуви сумеют сделать легкие протезные ботинки на крепких молниях. Молнии на ботинках Дау сможет сам застегивать. Кроме того, Карловы Вары знамениты своими лечебными источниками. Я слыхала, там есть воды от всех кишечных заболеваний. Вишневский говорил, что запущенный кандидомикоз мог оставить патологические изменения в стенках кишечника.
В свой очередной визит А.А.Вишневский нашел вздутие живота у больного ненормальным: «Передайте ведущему врачу вашей больницы товарищу Зарочинцовой, пусть соберет консилиум из диетологов по лечебному питанию, они дадут тебе меню, где будут исключены продукты, стимулирующие газообразование».
Даже такой выдающийся медик-клиницист, как А.А.Вишневский, не мог предположить, что газообразование в кишечнике возникает потому, что от травм аппендицит сошел со своего места и образовал вредные петли в кишечнике.
Но диетологи собрались и нашли у больного неправильный прикус, вследствие чего с пищей и особенно с питьем больной затягивает слишком много воздуха, {385} отсюда вздутие живота и сильные газообразования в кишечнике. Прописали обилие киселей и компотов, все питье через стеклянные трубочки, тогда воздух не будет заглатываться и кончатся газообразования. Когда Дау был здоров, его живот был у позвоночника, имел вогнутую линию, не было вздутий и газообразований, а прикус с рождения такой, и то количество воздуха, которые он заглатывал, не давало о себе знать! Но моя репутация у медиков была не блестящей. Заказала у стеклодувов изогнутые стеклянные трубочки, через несколько дней вздутие и газообразование увеличились: обилие сахарозы в диете диетологов не могло благотворно действовать на больного. Не поставив никого в известность, все прописанное диетологами пришлось отменить.
Спросила у А.А.Вишневского:
— Что, если съездить в Карловы Вары?.
— Это самое лучшее, что можно придумать после этого страшного кандидомикоза. Ему там так промоют и прочистят, просто обновят стенки его кишечника, но тебе будет очень трудно с таким больным в пути.
— Александр Александрович, мне и дома не легко, я выдержу, и потом когда Дау со мной, он все старается делать сам, он так старается мне облегчить уход за ним, трудности поездки принесут ему пользу.
Я вспомнила, как заставила его ходить, и, главное, я ему закажу хорошие протезные ботинки! Эту поездку мне сможет оформить только Гращенков. Когда появился у нас Гращенков, я пригласила его на свою половину:
— Николай Иванович, как вы считаете, после этого страшного кандидамикоза, если я Дау повезу в Карловы Вары, в Чехословакию? Я слышала, там лечат все кишечные заболевания.
— Ни в коем случае я вам этого разрешить не могу. Лев Давидович еще очень болен, чтобы совершать путешествие за границу.
— Вы нашли его уже давно слишком здоровым, когда выписывали из больницы! Сейчас бесполезно говорить о ваших ошибках, повлекших обморожение и тромбофлебит.
— Конкордия Терентьевна, эти упреки ни к чему. Я {386} знаю, вы хотите его оставить на излечение у Кунца в его клинике. Так должен вас огорчить: Кунц попал в автомобильную катастрофу, сам был за рулем, ему раздавило рулевым управлением грудную клетку.
— Он жив?
— Да, он остался жив, но он еще будет долго болеть, ваша затея не удастся.
— Какой кошмар, мне очень жаль Кунца! Николай Иванович, вы не знаете подробнее о состоянии Кунца?
— Он сейчас уже вне опасности.
— Николай Иванович, я хочу не в Прагу, а в Карловы Вары, полечить кишечник знаменитыми источниками. Вишневский очень советует, он говорит, больному будет очень полезно после такого запущенного кандидомикоза, который, кстати сказать, просмотрели все врачи вашего консилиума!
— Нет, поездку за границу я не могу разрешить, еще слишком рано, у нас в Советском Союзе есть минеральные воды, но и туда еще рано! Вы переоцениваете свои возможности, я этого разрешить не могу.
Он встал и пошел наверх к Дау. Известие, что Кунц сам с раздавленной грудной клеткой стал тяжелобольным, ошеломило меня.
Поднялась к Дау, когда Гращенков ушел.
— Коруша, когда этот дурак Гращенков оставит меня в покое? — Рука у Дау дрожала.
— Танечка, что здесь произошло?
— Ничего, Лев Давидович игнорировал присутствие Гращенкова, не хотел с ним разговаривать, отвернулся к стене и молчал. (В.М.Бехтерев: «Если больному не стало легче после разговора с врачом, то это не врач»).
Е.М.Лившиц стал приходить довольно редко. В одно из воскресений, когда я готовила в кухне обед, Дау делал у шведской стенки разминку: придуманные мной стальные круглые поручни в обхват руки, опоясывавшие весь верх квартиры, дали ему возможность легко передвигаться. В моей страховке он уже не нуждался, в протезных ботинках он только слегка прихрамывал, а снимала я ботинки только на ночь.
Е.М.Лившиц пришел с физиками, они пробыли у Дау довольно долго, я не вышла их проводить, меня {387} остановил их разговор. Физики утверждали, что они в поведении Дау ничего страшного не заметили: нет, Женя, вы ошибаетесь, Дау совсем прежний, тот же юмор, тот же взгляд, о науке не захотел разговаривать, логично обосновав: «Я на несколько лет отстал». Второй физик добавил: что, если бы у вас, Женя, болел живот, ведь Дау примерно за час три раза выходил в туалет, предварительно извинившись, он просто еще очень болен, у него слишком много было серьезных травм.
Дверь в квартиру Женьки рядом, они остановились на крыльце, продолжая разговор. Женька очень уверенно, с печалью в голосе сказал: «К моему большому сожалению, я полностью убедился в противном. Вы ведь медицины не знаете, а я вырос в семье медика, медицина мне близка, я все время держу связь с профессором Корнянским. К сожалению, Кора по глупости отстранила его, но он мне сказал: никто и ничто не вернет Ландау его интеллекта! Он как ученый погиб, мозговая травма плюс клинические смерти. Вначале я тоже этому верить не хотел. У меня не осталось больше никаких надежд. Дау в науку не вернется, я лучше знаю его! Нет, нет! Я в этом твердо убежден. У него потеря ближней памяти».
Меня уверенность Лившица не испугала, это я все слыхала и от Гращенкова, и от главврача Сергеева, и от Зарочинцевой. И, конечно, от Корнянского. А вот профессор Рапопорт из нейрохирургии с первых дней травмы мне сказал: «Трещина в основании черепа без смещений, трещина полая». Он верил показаниям энцефалограммы, придавал большое значение тому, что когда пропилили щель в черепе, гематомы не оказалось. Он в нейрохирургии наблюдал больного с первых дней пробуждения сознания и всегда на все страшные прогнозы консилиума, не боясь Егорова, просил записать его мнение особо, и оно всегда шло вразрез с мнениями Егорова и Корнянского и всегда было оптимистично! К сожалению, профессора Рапопорта тоже уже нет! (Рак желудка).
Я-то лучше всех знаю своего Зайку! Он безусловно весь прежний! Интеллект, талант, все осталось прежним. Он сам всех поставит на место, когда кончатся боли и будут опубликованы его новые работы! Особенно {388} если он закончит свой последний труд. Теперь его уже стали называть гением.
<...>
А пока надо создавать спокойную обстановку дома для его полного выздоровления. Это условие необходимо, а главный врач — время. Это сказал Пенфильд, это подтвердил Кунц, об этом я читала в учебниках медицины.
И самым желанным гостем для Дау и меня был Померанчук. Еще с харьковских времен, когда я ничего не знала о его сверходаренности, он покорил мое сердце, назвав Дауньку учителем там, на цементной площадке у двери квартиры Дау. И потом всегда, в Москве, в Казани, дома, на даче при встречах с Дау, академик Померанчук произносил слово «учитель», вкладывая в это слово столько любви, преданности, преклонения, восторга. Сам Померанчук излучал чистую детскую наивность, доброту и доброжелательность ко всем. Заглянув в его глаза, можно было поверить, что человечество лишилось зла. За словом «учитель» следовала математическая выкладка физических идей. «Учитель, ты не отстал от современной физики, за годы твоей болезни ничего существенного физики не сотворили, главное: та область физики, которой ты посвятил два года перед своей болезнью, остается белым пятном. Ни один физик мира ничего не сделал в этой области, поскорей выздоравливай, это открытие ждет тебя». — «Чуча, я истосковался по науке, меня изводят боли, как я жду конца болей! Я как зверь накинусь на науку».
Они говорили физическими терминами. Разговаривать о том, над чем он работал, Ландау, мог только с Чучей, только один академик Померанчук мог на равных говорить о науке с Ландау. Даже больной, Дау ни разу не сказал Чуку, что болит живот, о науке разговаривать не могу. У Дау с Чуком иных разговоров не бывало, при встречах они говорили только о науке. Чук с порога начинал научный разговор, Дау подхватывал. Так было до болезни, так было во время болезни, больной Ландау свой характер не изменил.
Наступал уже 1965 год, иностранцы не забывали Дау. Звонили из Парижа, Берлина и Варшавы! Поздравляли с наступающим Новым годом, справлялись о {389} здоровье Ландау. Очень часто приезжали целые делегации из разных стран. Как-то И.А.Луначарская привела шведов из Стокгольма, с Дау они говорили по-английски, а ко мне обратились на русском языке:
— У нас в Стокгольме много писали о вас. Мы, стокгольмские мужья, ставим вас в пример своим женам. У нас было сообщение, что вы каждый день почти три года приходили к мужу в больницу, неужели это правда?
— Да, это правда, но это не подвиг, уверяю вас, если бы вы были в такой опасности, как мой муж, ваши жены тоже не выходили бы из больницы!
Ирина Анатольевна, уходя, мне сказала: «Кора, шведов поразила эрудиция Дау. Они говорят, этот человек знает все! Чтобы его ни спросили, он дает ответ и какой!».
Алеша Абрикосов появлялся чаще остальных, к нему Дау издавна питал особо теплые чувства. Алеша добр, добродушен и, конечно, талантлив, а Дау мечтал, чтобы хоть один ученик его переплюнул в науке. Алеша был трудолюбив, у Дау были на него большие надежды. Только уж больно Алеша боится свою жену Таню, устойчиво пребывает под ее каблуком. «Мой ученик и подкаблучник!» — дразнил его без конца Дау. «Дау, вы, как всегда, правы, — отвечал Алеша добродушно, — кроме того, я очень счастлив в обществе собственной жены. Дразнением вы меня не проймете, я давно с вами согласился. Да, я подкаблучник, и представьте себе, Дау, мне там очень уютно».
Но как-то Дау после вечернего визита Женьки спустился ужинать в кухню очень задумчивый. Медленно прошелся по передней.
— Даунька, чем Женька тебя расстроил?
— Коруша, скорее удивил. Понимаешь, мой Абрикосик давно как-то говорил, что его Таня очень настаивает, чтобы Алеша завел дневник и ежедневно тщательно записывал все, что я говорю, не науку, нет, а просто все мои частные разговоры. Это он говорил мне не наедине, все подняли его на смех, я лично сказал Алеше, что он рожден для более полезных дел на земле. А потом Женя стал замечать, что Алеша завел такой {390} дневник и фиксирует мои частные разговоры. Женя не хотел огорчать меня впустую. Заботясь обо мне, решил выяснить, зачем это понадобилось Алешиной Тане. Он очень много потратил времени, выслеживая Таню, и зафиксировал, что Таня посещает всем известное здание на площади Дзержинского. Вот видишь, Коруша, как Женька предан мне, а ты его не ценишь! Чего Женьке не простишь за такую преданность? Ведь пока не убедился, он мне ничего не говорил. Преданный друг много стоит. Есть такое предание, когда был подожжен в древние времена Капитолий в Риме, где сгорели ценнейшие пергаменты, враги Тиберия хотели это злодеяние приписать Тиберию и, допрашивая Гракха, спросили, приказал ли ему Тиберий поджечь Капитолий. Преданный Тиберию Гракх ответил, что Тиберий не говорил этого, но если бы он сказал, счел бы за честь исполнить поручение! Коруша, как красиво выглядит истинная преданность!
— Даунька, милый, ты просто ребенок: у твоего Женьки негде поместиться истинной преданности, он весБ заполнен только корыстью и жадностью. Алешу и Таню он просто оговорил, ты слишком восхищаешься Алешей, а у Женьки нет Алешиного таланта, вот он и решил посеять в тебе недоверие к Алеше. Если Таня и просила записывать Алешу твои изречения, то мне тоже иногда хотелось записать их. То, что ты болтаешь, у тебя здорово получается, ты умеешь просто и коротко сказать о многом. Я уверена, Женька боится твоего расположения к Алеше, я не верю Женьке, он все придумал сам насчет Тани. Ты посмотри на своего Женьку, ведь вид у него Иуды! Он решил убить двух зайцев: отдалить от тебя Алешу и подчеркнуть свою преданность тебе.
— Коруша, неужели ты думаешь, что Женька на такое способен?
— Не думаю, Дау, я в этом уверена, сейчас у нас подобный шпионаж не в моде, а потом, кому нужна твоя болтовня. Всю эту чушь, пойми, придумал Женька сам, ему выгодно подчеркнуть свою преданность тебе. За эту услугу он через несколько дней выудит у тебя под каким-нибудь предлогом сотню фунтов стерлингов. Он только и говорит о том, что мы еще не разменяли чек на 1000 долларов, премию Фрица Лондона. {391}
К сожалению, я оказалась права, когда Женька убедился, что пользы от больного Ландау ему нет, он перестал приходить, теперь он жалеет тратить свое время на Ландау.
Как-то днем вдруг ввалились веселые, жизнерадостные Халатников, Абрикосов и Женька. Оказывается, они только что вернулись из Берлина, ездили Халатников и Женька вместе по туристическим путевкам, взахлеб, с восторгом делились впечатлениями. Халатников обратился ко мне:
— Кора, вам обязательно следует по туристической путевке съездить в Берлин, там только что вышли все тома по теоретической физике, и Женя получил массу немецких марок, он накупил огромное количество замечательных и очень дорогих вещей. Вам по приезде в Берлин тоже издательство выплатит столько же немецких марок, как и Жене, вы сразу разбогатеете! Дау уже прекрасно ходит и замечательно выглядит. Медсестра Таня обойдется без вас каких-нибудь 10 дней, кроме того, вам необходимо отдохнуть.
У меня мелькнула мысль, что Таня обойдется, а Дау нет. Кто будет шнуровать ботинки ночью, покупать продукты, готовить и всех кормить.
Алеша поддержал Халатникова, Женька напыженно молчал, потом быстро выскочил из комнаты Дау, а мне сказал: «Кора, я хочу вам кое-что сказать» и, спустившись ко мне произнес:
— Кора, дело вот в чем. Вам в Берлине ничего не причитается. Я помогал издательству корректировать. Только поэтому мне и заплатили. Вы, конечно, можете съездить в Берлин, но вам там получать нечего.
— Женя, я не могу оставить Дау ни на один день, ехать я никуда не собираюсь.
Женька ушел, я поднялась наверх. Дау спросил:
— Что Женька тебе сказал?
— Дау, он мне сказал, что получил гонорар за какие-то особые заслуги перед издательством. А мне в Берлине получать нечего.
Дау рассмеялся:
— Коруша, Женька наверняка присвоил и мою часть гонорара. {392}
Халатников окаменел, широко открыв глаза, покраснел, но начал оправдываться:
— Я что-то напутал.
Смущенный, он поспешил уйти, за ним ушел и Алеша. Дау весь сиял, такая новость, Женька оказался ворюгой! Эта новость его взбодрила, он повторял:
— Женька проворовался, как выздоровею, все свои тома по теоретической физике переиздам, а соавтора Лившица вычеркну! Коруша, теперь я понимаю, куда делись все подарки, врученные мне в день пятидесятилетия, их выкрал Женька. Почему ты это от меня скрываешь? Это ведь только Женька мог сделать.
— Даунька, у тебя боли прошли?
— Нет, Коруша. Тебе очень нужен этот берлинский гонорар в марках?
— Нет.
— Коруша, совсем не нужен?
— Ты мне обещал, пока не выздоровеешь, не прогоняй Женьку, забудь, что он ворюга.
— Коруша, это забыть невозможно!
— Дау, но не говори об этом, все опять будут ругать меня, что я вас ссорю. Зайка, милый, пойми, сейчас не время ссориться, сейчас главное — это твое выздоровление, если Женька придет, не называй его ворюгой, я тебя очень, очень прошу!
— Коруша, что с тобой? Ты всегда не любила Женьку, почему ты за него заступаешься, когда он проворовался! Я вора возле себя не могу стерпеть!
— Хорошо, когда выздоровеешь, все переиздашь, вора из соавторов исключишь.
— Сделаю это непременно.
— Даунька, но это тогда, когда ты выздоровеешь.
— Разумеется.
— Дау, а пока ты болен, давай об этом забудем. Но после этого инцидента физики совсем прекратили посещать Дау.
В институтском дворе встретила Марка Корнфельда: «Марк, вы в Москве? И не зашли к Дау?».
Марк опустил глаза, тихо, убедительно произнес: «Мне Женя посоветовал не посещать Дау».
Так вот в чем дело! Женька боится, что Дау будет физикам говорить, что он проворовался. Позвольте, а {393} как же с ближней памятью? Если в мозгу клетки ближней памяти погибли? Так вот почему Женька оповестил всех физиков, чтобы они не ходили к Дау. Он проливал крокодиловые слезы, объездил всех физиков, сообщая, что Дау совсем сошел с ума в буквальном смысле этого слова. (Это все я узнала значительно позже.) Мне в конце концов удалось убедить Дау не называть Женьку ворюгой до полного своего выздоровления.
Пришла моя племянница Майя, она журналист, собирает материалы о медиках.
— Кора, есть блестящий врач, ученик Юдина, он работает главным хирургом в больнице № 53, это огромная замечательная больница Пролетарского района. Я узнала, что по кишечнику он лучший специалист.
— Маечка, но ведь я его пригласить не могу, как только он узнает, что больной — Ландау, сразу откажется приехать!
— Кора, я беру это на себя, я его привезу, а потом скажем, что это Ландау.
— Маечка, если этот визит состоится, буду тебе очень благодарна.
Из воспоминаний К.С.Симоняна:
«В начале 1965 года в нашу больницу приехала журналистка Майя Бессараб. Она вошла в кабинет ведущего хирурга, изящно одета, благоухающая ароматами. Красивой женщине это идет! Представившись, журналистка протянула бумагу от какой-то редакции, в которой излагалась просьба оказать помощь в ознакомлении с системой лечения больных спаечной болезнью. После ряда оговорок с обеих сторон, договариваемся, что Майе Бессараб предоставляется возможность быть тенью в хирургическом отделении и наблюдать, взамен журналистка обязуется ничего не публиковать из того, что она увидит. Майя дала это слово и впоследствии сдержала его. Первоначально испытываю настороженность, поскольку из собственного опыта знаю, что журналистам в подобного рода обещаниях верить нельзя. Если ничего из виденного нельзя опубликовать, то зачем журналисту ходить в гости к хирургам. Но у Майи была другая цель.
После нескольких длительных разговоров о болях в {394} животе спаечного происхождения и путях их устранения Майя однажды обратилась с просьбой посмотреть ее дядю. Это человек средних лет, перенес тяжелую травму, и сейчас у него болит живот. Специалисты не могут установить причины. Больной дома, и Майя будет очень признательна, если мы вместе посетим этого больного. А нельзя ли больного привезти сюда? Это сложно, проще съездить к нему домой. Это недалеко. Я соглашаюсь, мы договариваемся на понедельник. В понедельник в 12 часов дня Майя напоминает мне о моем обещании. Я предлагаю поехать на такси, чтобы успеть вернуться на работу. Нет, такси не нужно, через несколько минут придет машина, и жена больного отвезет нас к нему. Майя волнуется, и ее волнение меня настораживает. Майя, а кто ваш дядя? Она молчит, мнется, потом говорит — Ландау.
Недоумение, возмущение, ярость. Почему вы мне не сказали этого накануне? Вы бы отказались приехать, но я и теперь откажусь. Ландау лечат врачи уважаемые и знающие, вмешиваться в их дела не по их просьбе — как это называется? В это время пришла машина. Майя взмолилась. Она обещала, что наш визит только этим ограничится, что она хочет знать лишь мое мнение, и больше ничего. Не разговаривая друг с другом, мы спустились к машине.
Из кузова машины на меня глянуло измученное и красивое лицо, это жена Ландау Кора. Беспорядочно свисающие локоны, настороженный и пытливый взгляд, словно спрашивающий, кто я — друг или враг. Опыт врача подсказывает мне, что имею дело с глубоко неврастеничной натурой, неврастения тяжелая. По дороге жена Ландау сбивчиво и путанно объясняет, что именно от меня нужно. Понятно одно: все запутанно и непонятно. Основная мысль Коры Ландау, к которой она возвращается, назойливо напоминает музыкальную форму рондо — это необходимость внимательно выслушать ее, прежде чем идти смотреть больного. Когда она возвращается к этой мысли снова и снова, я киваю в знак согласия.
Но вот и дом. Мы вошли в уютную прихожую, из которой налево видна большая гостиная, прямо кухня, направо вверх ведет полувинтовая лестница. Мне {395} объяснили, что квартира двухэтажная, больной наверху у себя в кабинете. Мы зашли в гостиную и уселись за большой желтый круглый стол. Удалось выяснить несколько важных деталей. Во-первых, Ландау до травмы, вернее всю жизнь, помнил только то, что его интересовало. Во-вторых, Ландау не переносил боль, самую малую, перед взятием крови из пальца мог потерять сон.
Наконец, мы у больного. Ландау лежал на широкой кровати, он был одет в пижаму, на ногах высокие протезные ботинки, зашнурованные до конца. Мы познакомились: Кирилл Семенович — Лев Давидович. Это был худощавый человек высокого роста, с длинными руками и ногами. Он поднял кисти рук в воздух и улыбнулся:
— Я не имею претензий к медицине, я знаю, ее возможности ограниченны. Но если возможно снять боли в животе, я буду очень признателен.
— Думаю, что можно.
— Благодарю вас.
Больной успокоился и сложил руки на груди. Левая кисть деформирована в пальцах, следы травмы.
— Давно болит живот.
— Давно, все время.
— А интенсивность болей одинаковая?
— Не знаю, не помню.
— Ну, скажем, сегодня болит сильнее, чем вчера?
— Не помню.
— Что с вами случилось помните?
— Нет, не помню. Знаю, что спас мне жизнь Федоров. Но это со слов Коры.
Во время осмотра больной все время принимался правой рукой расправлять искалеченные пальцы левой руки.
— Лев Давидович, зачем вы это делаете?
— Мне больно расправлять мои искалеченные пальцы, и я отвлекаюсь от боли в животе.
По окончании осмотра больной, проявлявший беспокойство, облегченно вздохнул. Он заторопился в туалет, оказалось, он туда ходит до 20 раз в день, испытывая ложные позывы. Я спустился вниз, Кора задержалась наверху у больного. Майя спросила меня о {396} впечатлении, которое я вынес после осмотра. Впечатление... «Не знаю, не знаю», — сказал я, подобно тому, как я слышал эти слова от больного. Спустилась Кбра. Я объяснил, что ничего определенного сказать не могу, не ознакомившись с историей болезни. И тут Майя заявила, что копия истории болезни у нее есть и что она может привезти ее в больницу. Тут я извинился, сказав, что забыл задать один вопрос больному. Быстро поднявшись наверх, я вошел в кабинет и спросил:
— Лев Давидович, вы помните, как меня зовут?
— Да, Кирилл Семенович. Значит, вы говорите, что можно снять боль?
Спустившись вниз, я встретился с пронзительным взглядом Коры.
— О чем вы его спросили?.
— Я спросил, помнит ли он мое имя.
— Он назвал вас? — спросила она с тревогой.
— Да, назвал.
Она облегченно вздохнула, тогда спросил я:
— А почему он запомнил мое имя?
— Вы же обещали избавить его от боли.
Логично. Мы с Маей уехали, я пообещал посмотреть еще раз больного, ознакомившись с историей его болезни.
В последующие дни после неоднократных бесед с больным у меня сложилось довольно странное впечатление о памяти Дау. В самом деле, Дау решительно ничего не помнил из того, что происходило в течение дня и накануне. Вместе с тем отдельные факты он запоминал твердо. Разгадка этого явления, как это стало ясно мне позже, крылась в особенностях личности замечательного физика.
Память Ландау отличалась крайней степенью избирательности. Само по себе это свойство не является чем-то исключительным, поскольку многие творческие натуры им обладают. Но у Дау это свойство было резко индивидуализировано. Он запоминал не только все, что было ему необходимо для мыслительной деятельности в физике, но и все до последних деталей из того, что могло его интересовать. Так, и по его свидетельству, и по рассказам его жены, он решительно не помнил, что ел только что за обедом, и, скажем, не мог назвать {397} людей, которые с ним сидели за столом, если они его не интересовали.
Спустя несколько дней после первого визита к Дау я согласился с мнением лечивших его врачей в том, что боли, на которые он жалуется, возможно, связаны с корой головного мозга, подобно фантомным болям после ампутации конечности. Поэтому наряду с энергичным соматическим лечением (после консилиума с профессорами А.М.Дамир, А.А.Бочаровым) мы решили отвлечь Дау от его мыслей о болях в животе и ноге, и я попытался прибегнуть к помощи его сотрудников.
Для этой цели был приглашен физик Е.МЛившиц, соавтор Дау по книгам. Между прочим, Дау характеризовал мне его как посредственность, но очень удобного для Дау.
Так вот этот физик не пришел на мой настойчивый зов, он пришел только после нескольких звонков жены Ландау Коры в какой-то из ближайших дней. Беседа с Евгением Михайловичем Лившицем разочаровала меня, и диалог, который при этом состоялся, был весьма симптоматичным. Он хорошо мне запомнился. После того как я изложил задачи, которые, как мне казалось, следовало попытаться осуществить, соавтор Дау пожал плечами и сказал:
— Это бесполезно.
— Почему вы так думаете?
— Дау не вернется к прежней деятельности. Я убедился в этом и потерял надежду.
Я объяснил ему, каковы последствия контузий мозга и как медленно порой восстанавливается психическая деятельность человека в некоторых случаях.
— Это не тот случай, — заметил Лившиц с сожалением.
— Как вы можете это утверждать? Вы же не врач! На это последовала фраза:
— Я не врач, но мой отец был врачом, и я воспитывался в атмосфере медицины.
При этих словах на моем лице отразилось необычайное удивление и, по-видимому, еще что-то, потому что Евгений Михайлович добавил: «Поднимемся к Дау, я вам это докажу».
Очень спокойно подсев к Дау, Лившиц начал {398} задавать ему вопросы относительно математического выражения тех или иных понятий, сущность которых для меня осталась непонятной. (К.С. не знал, что Лившиц допытывается, помнит ли Дау те формулы, которые он продиктовал для восьмого тома по теоретической физике).
Он сказал с некоторым раздражением:
— Не помню. Я не помню. Я этих формул не знаю. Они новые.
Лившиц торжествующе встал и с видом человека, доказавшего свою правоту, стал спускаться вниз по винтовой лестнице.
— Вы мне ничего не доказали, — заметил я ему, — кроме того, что с Дау надо систематически заниматься.
Лившиц вздохнул, но согласился. Однако его хватило только на одно или два посещения. Результат был тот же, и вытащить его к больному уже было невозможно.
Убедившись, что нам его не дождаться, я посетовал Дау на это и сказал, что Евгений Михайлович произвел на меня своеобразное впечатление. На это Дау улыбнулся и дал ему характеристику, которую я привел выше.
По моей просьбе Кора обращалась и к другим физикам, но ни один из них не откликнулся на этот призыв. Мне неловко было прибегать к помощи Петра Леонидовича Капицы, поскольку это означало бы компрометировать учеников Дау, и так как сам Капица крайне доброжелательно относился к больному, я понимал, что мой рассказ его огорчит.
Поэтому я обратился к людям более эмоционально отзывчивым, и первым из них был артист Аркадий Исаакович Райкин, которого Дау очень любил. Добившись согласия актера на визит, я сообщил Дау, что приеду к нему с Райкиным в воскресенье. День был выбран неудачно, потому что по воскресеньям Таня не могла сидеть возле больного, и он чувствовал себя несчастным: боль в животе не отвлекала разминанием кисти, и позывы в туалет были более частыми, чем обычно. Но у меня не было другого выхода. Райкин, измотанный до предела ежедневными концертами, а то и двумя в день, был крайне утомлен, и воскресенье, {399} которое я у него вырвал, было первым днем отдыха за последние четыре месяца его работы.
— Что от меня требуется? — спросил он.
— Видите ли, — сказал я, — у Дау отсутствует ближняя память. Он не помнит, что произошло не только вчера, но и пару часов назад.
— Бог мой! — вскричал актер.— Со мной происходит то же самое.
В беседе обнаружилось, что Райкин тоже «потерял ближнюю память», но контузии при этом у него не было. Поняв, что его задача состоит в том, чтобы попытаться рассказать Дау что-нибудь очень интересное и тем попытаться отвлечь от его боли, Аркадий Исаакович очень разволновался.
Встрече его с Ландау предшествовал длительный разговор между нами и его женой Ромой, также актрисой и сотрудницей эстрадного театра, в труппе которого она была весьма колоритной, на мой взгляд, фигурой. Этот разговор содержит много интересного о творческой манере актера с такой резкой индивидуальностью, каким является Райкин, но поскольку к теме это не имеет отношения, коснусь только отдельных черт, чтобы стала понятной сцена встречи.
Перед каждым выступлением Райкин всегда волнуется, и причина волнения состоит не в том, что с обывательской точки зрения называется творческим вдохновением. В манере этого актера лежит необходимость найти психологический контакт с каким-либо зрителем из первых рядов, чье лицо хорошо видно со сцены. По движению этого лица Райкин угадывал реакцию его как зрителя, и если реакция была одобрительной, то между актером и зрителем устанавливалась положительная обратная связь: чем одобрительней реагировал зритель на актера, тем уверенней чувствовал себя Райкин. Если обратная связь была отрицательной (переменить адрес в процессе выступления актер уже не мог), настроение Райкина угасало все больше, и яркость его выступления катастрофически тускнела.
Поскольку в задачу Райкина входило отвлечь Дау от его болей, вместе с тем Дау был одним-единственным зрителем, то повод для волнения актера был более {400} чем формальный, поскольку Райкину «безумно» хотелось достичь поставленной перед ним цели.
Как только я вошел к Дау, стало ясно, что наш опыт сорвется, и хотя Кора предупредила меня, что «сегодня без Тани ему совсем плохо», мне казалось, что она преувеличивает или даже страхует эффект неудачи.
Дау лежал на спине с выражением глубокого физического страдания. Он ломал пальцы больной руки и при виде Райкина сказал:
— Здравствуйте! Я очень люблю ваше искусство, но я в таком жалком состоянии!
При этих словах Райкин резко побледнел и, скорее опускаясь, чем садясь на стул, произнес, как мне показалось, упавшим голосом:
— Не придавайте этому значения, Лев Давидович. Мы с женой приехали в Москву на гастроли, и вот Кирилл Семенович предложил нам навестить вас. Мы, актеры, наверное, как и все люди нашей страны, любим вас, много о вас знаем, больше не понимаем (физика для нас — область иррациональная), но страшно гордимся вами.
Дау пробормотал что-то вроде благодарности и бросил на меня умоляющий взгляд, смысл которого был ясен. Ему в этот момент было некстати все, что я придумал, и, пока я размышлял, как поступить, Райкин сделал над собой усилие и заговорил снова.
Это было уже выступление. Он рассказал, что работает над новым номером и, хотя этот номер еще не готов, вкратце он вот что значит — «ну об этом потом».
Монолог Райкина давался ему трудно, со лба и с верхней губы струился пот. Его взгляд пытался остановить на себе глаза больного, но они блуждали и постоянно обращались в мою сторону с той же просьбой.
Сделав знак Райкину не прерывать рассказа, я сказал Дау по-английски:
— Вы должны собрать все силы!
— Я пытаюсь! — ответил он громко.
Но из его попыток ничего не выходило. Этот странный квартет (обливающийся потом Райкин, словно подыгрывающая ему улыбкой, сквозь которую проскальзывал испуг, Рома, Кора с тревожными и полными огорчения глазами, которые улавливали каждое движение {401} присутствовавших и особенно больного, и, наконец, я, не знаю уж, с каким выражением лица со стороны, но огорченный тем, что затея не удалась) тщетно пытался сыграть для аудитории, состоящей из одного человека, не нуждающегося ни в музыке, ни в музыкантах.
В разгар этих напрасных усилий Дау, прерывая Райкина, сказал:
— Можно мне пойти в туалет?
Он встал, широко отставляя ногу и, опираясь на палку, вышел из кабинета.
Это была передышка для всех.
Для Райкина и Ромы не было сомнений, что Дау страдает от физических болей. Они недоумевали, почему в этом сомневаются врачи, и мне пришлось им кое-что объяснить. Мы посидели еще с час, пытаясь повторить задуманную сцену снова, но у нас ничего не вышло».
Медикам не приходила в голову мысль, что опыт удался: боли органические, от них отвлечься немыслимо. Надо активно лечить, а не разговаривать!
Появление Кирилла Семеновича Симоняна у нас в доме было последним даром моей счастливой фортуны, если бы я не смогла 25 марта 1968 года обеспечить Дау первоклассным хирургом, я не смогла бы жить, но об этом позже.
Посещение Аркадием Райкиным больного Дау обойти невозможно!
Было воскресное утро, Кирилл Семенович пришел раньше. В назначенное время я вышла встречать Райкина у ворот института. Подъехала «Волга», за рулем Аркадий Райкин, прохожие останавливались как вкопанные, затрудняя ему управление машиной. Я подумала, что ему во избежание дорожных происшествий надо ездить в маске: даже маска не вызовет столько любопытства, как сам Райкин. «Волга» остановилась у ворот института, вся охрана, бросив свои посты, высыпала навстречу «Волге». Я показала наш подъезд и, встречая Райкина уже в передней, сказала, что очень счастлива с ним познакомиться, что я одна из самых пламенных его поклонниц. {402}
— Как, вы забыли? Мы ведь знакомы, помните, вы вместе с Дау бывали у меня, когда я отдыхал в Сочи.
— Аркадий, то была не я!
И вдруг Аркадий Райкин покраснел до корней волос, он окаменел, его глаза выражали ужас.
— О, не бойтесь. Вы не выдали Дау, я в курсе его интимной жизни, у нас с Дау ведь заключен брачный пакт о ненападении.
В тот день атака болей в животе была особенно яростной. Уже два врача, вернее, два настоящих медика-клинициста, наблюдают Дау: Вишневский и Симонян. Сам Дау очень любит посещения К.С.Симоняна, ему он читает Байрона на английском языке, оба читают друг другу Гумилева, Лермонтова, я вижу сама — беседа с Кириллом Семеновичем доставляет Дау удовольствие.
Уже установилась теплая погода, я решила Дау отвести на дачу. Накануне отъезда у меня произошел очень странный разговор по телефону. Звонок — снимаю трубку, слушаю:
— Это квартира академика Ландау?
Да.
— Можно к телефону попросить его жену.
— Я у телефона...
— Здравствуйте, Нина Ивановна.
— Здравствуйте, только я не Нина Ивановна, а Конкордия Терентьевна.
— Как, разве жену академика Ландау зовут не Нина Ивановна?
— Нина Ивановна — жена академика Гинзбурга, это из моих знакомых.
— Тогда прошу прощения, я такой-то (он назвал себя). Разрешите объяснить мой нелепый звонок.
— Пожалуйста.
— Два месяца назад я был болен и лежал в больнице Академии наук. Со мной вместе целый месяц был в палате некий профессор из университета. Этого профессора почти ежедневно в часы приема посещала тоже сотрудница университета. (Я подумала: Н.И.Гинзбург работает в университете.) Она мне представилась как Нина Ивановна Ландау, жена академика Ландау. Я {403} раньше выписался из больницы, дал Нине Ивановне свой телефон и очень просил, чтобы она мне позвонила, сообщила о здоровье моего товарища по палате и, конечно, о здоровье своего мужа, академика Ландау.
— Очень интересно. Думаю, что ваш товарищ по палате знал ее настоящую фамилию.
— Не уверен. Он меня сам уверял, что это жена академика Ландау.
— Короче говоря, мой муж уже примерно два года дома, но его состояние здоровья не такое, чтобы я могла его оставлять дома и посещать пациентов больницы Академии наук. И потом, я не сотрудница университета. Вас явно разыграли.
Этот незначительный разговор я привела потому, что, когда я Дау перевезла на дачу в Мозженку и, оставив его на Танечку, приехала в Москву за медикаментами и продуктами, раздался звонок. Снимаю трубку, слушаю:
— Это квартира академика Ландау?
— Да.
— Попросите его самого к телефону.
— Я этого не могу сделать, он сейчас находится на даче.
— На даче телефон есть?
— Нет, на даче телефона нет.
— Тогда потрудитесь сообщить мне, как проехать на дачу к академику Ландау.
Говорила со мной женщина немолодая, но явно очень взволнованная, очень гневная.
— Если вы будете ехать на машине...
— Нет, машины у меня нет. Я говорю с вокзала. Я проездом в Москве, через несколько часов у меня поезд на Ленинград.
— Наша дача по Белорусской железной дороге, конечная остановка — Звенигород.
— Сколько времени займет дорога туда и обратно?
— Не менее трех часов.
— Тогда это невыполнимо, а с кем я говорю?
— С его женой.
— С женой? А давно ли вы стали его женой, — это она говорила, не скрывая своей ненависти к жене Ландау. {404}
— Примерно четверть века, — спокойно сказала я, и вдруг слышу молодой, прерывающийся, сдавленный рыданиями голос:
— Мама, оставь, мне все ясно! И разъяренный голос мамы:
— Майя, не мешай, я хочу все выяснить. Тогда сообщите мне, когда впервые после автомобильной катастрофы, выздоровев, ваш муж академик Ландау, приезжал в Ленинград?
— Мой муж академик Ландау, к сожалению, еще не выздоровел после автомобильной катастрофы. Он еще не был в Ленинграде.
— Как не был? А кто у нас в доме встречал Новый 1965 год?
— Уверяю вас, не мой муж.
— Как? А месяц назад в Адлере с огромным букетом роз меня и мою дочь встречал не академик Ландау?
— Я очень сожалею, но это был не академик Ландау. Он еще слишком болен для таких подвигов.
Опять рыдания Майи, ее слова: «Мама, оставь, зачем все это, я все поняла».
Тут я сразу вспомнила непонятную телеграмму из Ленинграда в числе поздравительных по случаю присуждения Нобелевской премии.
Текст телеграммы: «Для меня страшное несчастье ваша Нобелевская мечтала добиться признания моих работ только тогда быть вами мне по-настоящему плохо если любите откликнитесь Ваша Майя»
Дау, прочитав эту телеграмму, сказал: «Коруша, это от какой-то сумасшедшей, у меня не было ни одной девушки по имени Майя».
Примерно год спустя пришло письмо из Ленинграда. Дау его прочел, передавая мне сказал: «Коруша, это та сумасшедшая Майя, которая в прошлом году прислала непонятную телеграмму».
После телефонного разговора с Манной мамой я разыскала в ящиках письменного стола Дау телеграмму и письмо, сколола их вместе. Для меня это было большое событие. Дау помнил непонятную ему телеграмму год спустя. Этот телефонный разговор имел явно трагическую, но для нас таинственную историю.
Собираясь ехать на дачу, встретила Шальникова. {405} Под впечатлением я выложила ему всю эту историю. Он мне сказал: «Вы врете, Кора, такого не может быть». Я вынула из сумки телеграмму и письмо.
Текст письма:
«Дорогой Лев Давидович!
Мне больно писать вам, но я хочу знать правду. Меня оскорбил в вашем присутствии ваш спутник. За что?
Если это печальное недоразумение, вызванное поверхностным знакомством с греческой мифологией, если вы этого не хотели, если вы честный человек, мы должны встретиться, это для меня вопрос жизни и счастья.
Любящая вас Майя 17.V-1964 г.
Ленинград Д-14
Басков 12, кв. 13
Ж-2-25-87»
Из телефонного разговора я выяснила, что Майя и таинственный лже-Ландау встретились, ведь он у них в доме встречал Новый 1965 год. Я искренне жалела, что не Дау встречал Майю с ее мамой в Адлере с огромным букетом роз.
Лето 1965 года Дау провел на нашей даче в Мозженке, куда в один прекрасный день съехалось очень много посольских машин и фоторепортеров. Я не могла объяснить этого паломничества. Немецкая речь сменялась английской, французской, я не была подготовлена к приему. Заметила, что иностранцы на непонятных мне языках атаковали Дау настойчивыми вопросами. Всматриваюсь в лицо Дау. Поняла, он уходит от ответа.
Когда все разъехались, я спросила:
— Даунька, мне показалось, эти иностранцы у тебя что-то настойчиво выпытывали, а ты вилял.
— Корочка, ты права, они все хотели знать, над {406} чем я работал, когда произошла автомобильная катастрофа.
— Даунька, но ведь раньше ты всем говорил, что не помнишь, над чем работал, неужели вспомнил?
— Да, Коруша, на днях на даче я уже вспомнил свою последнюю работу и даже в часы ослабления животных болей, я ее почти закончил.
Я разрыдалась.
— Что с тобой, Коруша?
— О, Даунька, это от счастья, я никогда не верила Гращенкову, не верила, но боялась!
— Коруша, что толку: память вернулась, а боли в животе нестерпимые. Ведь с этими болями работать очень трудно, а я должен закончить свою последнюю работу. Стою на пороге открытия и ничего не могу сделать. Ты правильно заметила, я не мог говорить о неоконченной моей работе, поэтому и вилял, пока работа не опубликована, говорить не о чем.
Я решила попробовать достать путевку в Карловы Вары. Вишневский одобрял и Кирилл Семенович тоже считал, что эта поездка будет очень полезна для больного. В Президиуме Академии наук мне сказали, что путевок нет, надо было заранее подавать заявление. На даче Дау было хорошо, в тот год был большой урожай клубники, крыжовника и других ягод, собирали их ведрами. Дау очень любил эти ягоды. Гарик был все время с отцом, за эти годы болезни Гарик стал студентом-юношей. Дау все время давал ему решать задачи уже по университетскому курсу. Гарик удивлялся — не успел продиктовать задачу, уже пиши ответ. В отсутствие Гарика Дау говорил: «Гарик очень способный, из него будет толк, и притом Гарик очень красив, в мужской красоте я не очень разбираюсь, но мне кажется, красивее Гарика мужчине быть невозможно». (Лично я считаю сына очень милым.)
Как-то Гарик уехал на байдарках со студентами, потом они попали в какой-то студенческий лагерь. К нему подошел один студент и по секрету сообщил: «Игорь, девчонки все завертелись, они решили, что ты сын знаменитого физика Ландау, так что ты держись поважнее, надо их подурачить». {407}
Когда Даунька раскисал от приступов боли в животе, Танечка поддразнивала: «А кто ездил в Адлер?». Дау смеялся, Танечка продолжала: «Какой хитрый заяц ускакал в Адлер, а мы даже не заметили».
Удивительно успокаивающе Танечка действовала на больного. Спокойная, добрая, казалось, она разделяла боль больного, он всегда с тоской говорил: «Завтра выходной и Танечки не будет».
9 июля — день рождения П.Л.Капицы — по установившимся традициям все сотрудники института съезжались к вечеру на Николину гору. Мы с Дау решили съездить пораньше, поздравить Петра Леонидовича до общего сбора гостей. Застали там одного гостя — Рубена Симонова, беседа была дружественной, интимной. Капица обратился к Дау:
— Дау, вы помните, давно, до вашей болезни, я вам говорил, что вы уже переросли сотрудника института, давайте создадим Институт теоретической физики, и вы будете там директором.
— Помню, Петр Леонидович, и помню, что я вам тогда ответил: директора из меня не получится. Кроме того, я против создания теоретического института. Теоретики должны работать всегда вместе с экспериментаторами, иначе они заврутся. Я уже сказал Халатникову свое мнение об их Институте теоретической физики. Петр Леонидович, вы лучший из директоров. Я счастлив работать у такого директора!
— Дау, но ведь ваши ребята разбежались, разленились!
— Да, я это знаю, вот выздоровею, я сам всех разгоню и наберу талантливую молодежь, любящую трудиться!
Это был последний визит Дау к Петру Леонидовичу Капице.
Когда переехали в Москву, опять участились визиты Кирилла Семеновича Симоняна.
| {408} |
Вдруг нас поразила весть: скоропостижно скончался член-корреспондент Академии наук СССР Н.И.Гращенков. Удивительно много он занимал крупных должностей, в некрологе перечисление всех его директорств и председательств заняли примерно 20 см. мелким газетным шрифтом. Очевидно, числясь на всех этих должностях, не было возможности работать ни на одной из них хорошо. Потом мне медики сообщили: во 2-м Медицинском институте был объявлен конкурс на занятие вакантной должности заведующего кафедрой. Николай Иванович решил, что и эту почетную должность должен занять он. Как только Николай Иванович узнал, что не получил этой должности, у него разорвалось сердце.
Еще бы, четыре года газеты всего мира писали о том, что он, первый медик планеты, оживил Ландау. Его наперебой приглашали все страны мира, его встречали корреспонденты, его портреты украшали журналы и газеты.
Теперь возражать против нашей поездки в Карловы Вары было некому. Мне предложили путевки в Карловы Вары на ноябрь месяц, я с радостью согласилась. Я лелеяла мечту приобрести Дауньке протезные ботинки на молниях. Вылетать надо было с Шереметьевского аэродрома, с Воробьевых гор до Шереметьевского аэропорта неблизко, я не могла допустить, чтобы больной Дау ехал в «Волге» и не мог протянуть свою больную ногу. Позвонила в гараж Академии наук, не в диспетчерскую, а самому «автомобильному королю» Тарсису и нахально попросила для академика Ландау келдышевскую «Чайку», чтобы добраться до Шереметьевского аэродрома. Он, конечно, очень был {409} озадачен и просто онемел. Я этим воспользовалась и сказала: «Товарищ Тарсис, но ведь товарищ Келдыш сейчас в Лондоне, почему нельзя больному Ландау с искалеченной ногой доехать до аэропорта в длинной удобной машине! Тем более сейчас Келдыш находится в Англии, и «Чайки» у него две».
Тарсис прислал «ЗИМ», я на это и рассчитывала. Попроси я «ЗИМ», прислали бы «Волгу». Перед отъездом зашел Халатников, он мне сказал:
— Кора, имейте в виду, в Чехословакии вышли все книги Дау по теоретической физике, вам там лишние деньги не помешают.
Летели с большим комфортом. Дау очень оживился и прекрасно выглядел. В самолете в основном летели иностранцы, они узнавали Ландау. Все пассажиры приобрели автограф лауреата Нобелевской премии академика Ландау.
Нас на аэродроме встретила машина нашего дипломатического представителя в Праге. И.И.Удальцов, советник посольства, уделил нам много своего внимания, к едва приземлившемуся самолету подрулила посольская машина, и мы, миновав все таможенные процедуры, помчались без промедления в Карловы Вары, где в отеле «Империал» нас ждал комфортабельный салон-люкс.
Дорога от Праги до Карловых Вар не близкая, вначале Даунька восхищался пейзажами и ухоженностью полей Чехии, где буквально не пустовал ни один сантиметр земли. Но потом ему понадобился туалет, он стал очень нервничать. Когда прибыли в отведенные нам апартаменты, он ринулся в туалет, я его сопровождала. Уложив его в роскошную постель, вспомнила, что наши физики сообщили Зденеку Кунцу о нашем прилете, он и физики Праги должны были нас встречать в аэропорту Праги.
Позже я узнала, что нас встречали и физики, и Кунц, и розы. А мы по дипломатическим каналам миновали пражскую публику. Встреча с физиками и Кунцем не состоялась. Я везла профессору Кунцу наши московские подарки: ереванские коньяки и зернистую икру. Приближался Новый год, я это учла. Кроме того, мне необходим был Кунц. При его содействии мне нужно {410} заказать протезные ботинки, и, главное, когда мы с дачи переехали в Москву, Кирилл Семенович мне предложил:
— Кора, давайте я Дау сделаю спинномозговую анестезию. Если боли в животе идут от мозга, при спинномозговой анестезии они будут продолжаться, но если под действием анестезии боли от наркоза временно прекратятся, тогда я буду уверен в своих подозрениях, что у Дау посттравматические спайки кишечника, тогда надо оперировать. Кора, имейте в виду, если бы Ландау лежал у меня в больнице, я это уже давно бы проделал: он был бы мой больной. Но сейчас Дау ведут врачи из больницы Академии наук и А.А.Вишневский. Мне нужно официальное разрешение его ведущих медиков. Давайте завтра соберем у нас небольшой консилиум, позовите главврача из больницы Академии наук Григорьева, лечащего врача Дау Надежду Валентиновну Павленко, Дамира и Арапова, но Вишневского не зовите, он не разрешит, я с ним говорил, он против этого эксперимента.
— Кирилл Семенович, это ведь не операция, а анестезия, разве это опасно? Что может произойти в худшем случае в результате этой анестезии?
— Как что? Смерть.
Меня от этого слова чуть не хватил удар! Когда Кирилл Семенович ушел, я не скоро пришла в себя. Как медики легко произносят это слово. Ухаживая за Дау уже много лет, я забыла об этом слове, ведь смерть — это навсегда! Это не промежуточное состояние. На завтрашний консилиум мой первый звонок был к Вишневскому. Я бы могла рисковать собой, но не Дау! И, конечно, Вишневский запретил анестезию. Кирилл Семенович закурил и ушел. Он был вправе на меня обидеться. Я доверяла Кириллу Семеновичу, это очень умный, очень образованный, очень справедливый и очень добрый человек. Я ведь часто приглашала Кирилла Семеновича, но он с возмущением отверг оплату своего труда. Тогда я обратилась к новому главврачу больницы Академии наук Григорьеву (замечательному человеку). Посещения всех врачей, лечивших академика Ландау на дому, оплачивала больница Академии наук, за каждое посещение выписывалась приличная сумма. {411} Главврач Григорьев все оформил, Кириллу Семеновичу причиталась крупная сумма. Кирилл Семенович категорически отказался, сказав:
— Ландау — это не тот случай, чтобы получать какие-либо деньги.
Он посещал больного почти три года. Я не заметила, чтобы он на меня обиделся. Он по-человечески понял мое состояние, он провожал нас в Чехословакию, он усаживал Дау в самолет. Я не объяснила Кириллу Семеновичу, почему я пригласила Вишневского, он ведь не знал, что, начитавшись медицинских учебников, я понимала, что область головного и спинного мозга — это область нейрохирургов. Кирилл Семенович блестящий хирург, достойный ученик Юдина, в общих операциях и на кишечнике ему нет равных, у него во время операций нет левой руки — обе руки правые. Такие хирурги бесценны, но есть еще нейрохирург Зденек Кунц, спинной мозг — его функция. Дау есть Дау! И если надо влезть в его спинной мозг, то пусть это сделает Зденек Кунц. Я должна встретиться с Кунцем и проконсультироваться у него по этому вопросу. И да простит меня Кирилл Семенович, но иначе я поступить не могла.
Я готова была всю свою жизнь бесконечно шнуровать длинные протезные ботинки по ночам, дни и ночи не отходить от больного Дау, отучиться от сна, днем забывать про еду, лишь бы Дау был жив, лишь бы мне не пришлось пережить его смерть, его похороны.
В отведенном нам салоне вечером попробовала дозвониться Кунцу. Он, когда был у нас в Москве, оставил свои визитные карточки. Но к моему разочарованию, телефонистка мне ответила на чешском языке. Разговор по телефону с Кунцем был неосуществим. И. И.Удальцов — советник нашего посольства — оставил мне свой телефон, телефон нашего посла в Праге Степана Васильевича Червоненко. По приезде в отель И.И.Удальцов вызвал к нам в салон управляющего санаторием «Империал» товарища Поспешила, который если мне что-нибудь понадобится, просил обращаться к нему.
Отель «Империал» был выстроен в Карловых Варах еще в капиталистические времена каким-то иностранным миллионером для миллионеров. Отделка была {412} роскошная, само здание огромное, величаво возвышалось над курортом Карловы Вары. В нашем распоряжении была гостиная и спальня, туалет, роскошно отделанный мрамором, с умывальниками занимал слишком много квадратных метров, а его скользкий мраморный пол навел на меня ужас. Здесь Дау опасно сделать даже один шаг. Когда я вошла в ванну, мною овладело отчаяние. И было от чего: огромный мраморный зал, по мраморным ступеням спускаешься не в ванну, а в небольшой бассейн. Дау не сможет отказаться от ванны, а Тани нет.
Столовая на первом этаже, на лифте спустились в столовую. Даунька легко вышел из лифта, держа меня под руку. Высокий, стройный, он легко шел, прихрамывая на больную ногу. Нам указали наш столик, свободной рукой я отодвинула стул. Дау легко опустился на стул, я облегченно вздохнула. На редкость подтянуто державшийся Дау совсем не выглядел больным. Но боже, как волновалась я, я вся была сплошной напряженный нервный спазм. Меня тошнило, есть не могла. Дау ужинал с аппетитом, я только выпила чай. Мне казалось, он не сможет встать, зацепится ногой за ковер, поскользнется на зеркальном паркете. Ослепительная сервировка, чопорная нарядная чужая публика, чужая речь, мне было так страшно чем-нибудь обратить на себя внимание.
— Коруша, ты ничего не ешь, ты не заболела?
— Нет, Дау, я боюсь лишнего веса, я и дома не ужинаю, — соврала я.
О, врать я уже научилась!
Вернее, меня моя жизнь научила хорошо врать. Дау легко встал, я его поддержала. Все было в норме. В общем потоке громадного отеля мы не привлекли внимания. Я даже не предполагала о его могучей силе воли. Когда входили в наш номер, он прошептал: «Скорее, скорее — в туалет». Потом я его раздела, уложила.
— Даунька, у тебя боли ослабли?
— Нет, что ты, я просто терпел. Везде люди, неприлично ныть при посторонних.
Пришел врач, осмотрел Дау, назначил водолечение, сифонные клизмы. Медсестра принесла направление в {413} водолечебницу. Дау стал просить на ночь ванну, после ванны он легко засыпал. Но когда надо было выходить из ванны, я хлебнула горя. Дау в теплой воде разомлел, без своего протезного ботинка он стоять не мог. Оставив его в водоеме, выскочила в коридор, ища помощи. Все пусто, нигде не души. Вернулась, обвязав Дау под руками полотенцами, я вытащила его из воды. Вытирая его, не верила, что этот кошмар позади. Не знала, что завтра меня ожидает более опасное событие. Спал Дау хорошо, ночью вставал только четыре раза. О, как я старательно шнуровала ботинки: мраморный пол туалета настораживал меня. Утром Дау на боли жаловался только в номере, как только вышли к лифту, он подтянулся, совсем легко сел за стол. Я увидела управляющего товарища Поспешила, оставив Дау за столиком, догнала управляющего в вестибюле, он был весь внимание.
— Скажите, пожалуйста, как добраться до водолечебницы?
— У нас есть легковые машины, но их стоимость не входит в оплату путевок, за месяц пользования мы вам предъявим отдельно счет.
Поблагодарила за информацию, поняла, что машина недоступна: на мои чешские кроны нужно заказать протезные ботинки. Издали увидела Дау, он был не один, он щедро раздавал автографы. Меня поразила красивая посадка его головы, седеющая пышная шевелюра венчала ее ореолом, из-под смоляных бровей сверкали огромные очень красивые глаза, лицо раньше всегда улыбавшееся, было строго, серьезно. Я поняла: боли донимают, маска суровой сдержанности вызванная острыми болями, накладывала на лицо печать необъяснимого человеческого достоинства.
Дау узнали, это меня почему-то очень взволновало. Для меня Дау был очень любимый, очень простой, очень добрый человек. Дома в Москве к визитам иностранцев я привыкла. Здесь, за границей, в роскошном отеле, на прославленном курорте (на фоне очень преуспевающей части человечества) Дау в строгом костюме маренго, в белоснежной рубашке выглядел не просто человеком, это была значительная личность планеты. Я впервые почувствовала в нем одного из лучших {414} современных ученых, поняла: лауреатам Нобелевской премии за границей придают большое значение.
Есть я опять ничего не смогла, пила горячий кофе, осаждая комок в горле. Была очень взволнованна, боялась от избытка чувств по-домашнему разреветься. Уложив Дау в постель отдохнуть после завтрака, сама вышла в коридор, расспросить, как остальные туристы добираются до водолечебницы. Наконец нашла двух девушек, говорящих по-русски.
— Девушки, скажите, пожалуйста, как вы добираетесь до водолечебницы?
— Лично мы добираемся пешком через овраг за десять минут.
Это были молодые спортивные девушки.
— А общественного транспорта здесь нет?
— Есть трамвай, но он ведь идет круговым маршрутом, все очень долго. Через овраг напрямик гораздо ближе, чем дойти до трамвайной остановки.
Подумала: иногда Дау гуляет до сорока минут, не требуя туалета. Напрямик — это дорога не для нас. Решила, что по тротуару мы с Дау затратим не более сорока минут.
В прекрасное ноябрьское, солнечное утро, когда синева неба исключительно чиста и прозрачна, а солнце все покрывает сверкающей позолотой, мы с Дау в очень хорошем настроении вышли из отеля «Империал». Не спеша, тихим прогулочным шагом отправились в водолечебницу. Дау все повторял: «Коруша, боли ослабевают, какой дивный день!».
Мы шли, шли, шли. Дау уже стал озираться, ища глазами скамейку. Я тоже уже давно ищу, но скамейки, видно, здесь не в моде. Мы уже идем все сорок минут! Прохожие встречаются очень редко.
— Дау, я слыхала, что чехи знают немецкий язык. Когда встретим прохожих, спроси по-немецки, где эта водолечебница.
Дау уже побледнел, бисером выступил пот. Скамеек все нет. Есть какой-то широкий каменный столбик у тротуара, подвела Дау к столбику:
— Даунька, обопрись об этот столбик, давай отдохнем.
Я старательно вытерла пот с его лица. Спасительные {415} прохожие. Дау к ним обратился на немецком, они стали объяснять, указывая на какой-то закоулок. Дау перевел: до водолечебницы 5 километров, но вон там трамвайная остановка. Дау уже бледный, как полотно! Что я натворила! Только подошли к трамвайной остановке, подошел трамвай. Измученный Дау сразу схватился за поручни, поставив здоровую ногу на ступеньку трамвая, занес больную ногу, но вторая ступенька была на непомерно большом расстоянии от первой. Трамвай был прошлого века! Трамвай дал сигнал отправления. Мой Зайка перепугался, больной ногой не смог дотянуться до второй ступеньки, силы у него кончились, он стал заваливаться навзничь. Бросив сумку, я обеими руками старалась удержать его. Мне показалось, он потерял сознание. Удерживая весь вес Дау, я думала, что мой позвоночник у поясницы переломится. Я закричала, что есть мочи, из вагона выскочил вожатый, молодой сильный чех, он подхватил на лету падающего Дау, а я рухнула без сознания. Очнулась в трамвае. Кто-то меня поддерживал. Дау сидел рядом, сосредоточенный и очень бледный. Я не знаю, сколько мы ехали.
— Дау, спроси по-немецки, когда нам выйти у водолечебницы.
Ответили, что этот номер трамвая к водолечебнице не ходит. Сейчас последняя остановка, трамвайный парк, ждите следующего вагона. Водитель помог нам выйти, усадил на скамейку. Видя мое состояние, Дау даже не пытался заговорить об уборной, я вся отекла от слез, все еще истерически всхлипывая, сидела возле Дау на скамейке. Трамвай ушел, окраина была безлюдна. Закрыла отяжелевшие веки и подставила лицо яркому солнцу, слезы текли уже беззвучно. Вдруг слышу голос. Говорили по-немецки:
— Вы — физик Лев Давидович Ландау, лауреат Нобелевской премии?
— Да.
Открыла глаза: высокий мужчина стоит у нашей скамейки.
— Что с вами случилось, почему вы здесь оказались, кто ваша спутница, почему она плачет?
— Это моя жена, мы поехали в водолечебницу и заблудились. {416}
— В каком отеле вы остановились?
— В «Империале».
— Никуда не уходите. Ждите здесь. За вами сюда скоро придет машина.
Незнакомец скрылся. Дау мне весь свой разговор с незнакомцем перевел, когда тот ушел. Меня бил озноб, я боялась открыть рот, меня трясло. Такая истерика случалась со мной впервые. Потом подошла машина, нас усадили, кто-то хлопотал возле Дау и меня. Я так постыдно сорвалась. Не могла стоять на ногах, меня уложили в постель, возле меня был врач, возле Дау — медсестра, обед нам подали в номер. Потом нам сообщили, что за нами придет машина, что нас переводят в другой санаторий. Нас перевезли в менее населенный и более комфортабельный санаторий. Прикрепили постоянную медсестру, она же массажистка и методистка, ее имя было Марийка. Медсестра была высочайшего класса и очень симпатичная. Дау с ней очень подружился. В восемь утра она уже приносила нам горячую воду из источников. Нас посетил управляющий всего блистательного курорта Карловы Вары, проверил, хорошо ли нас устроили. Сам главврач санатория вел Дау. Здесь и меня стали лечить.
Вскоре нас посетил наш посол Степан Васильевич Червоненко. Я к нему сразу обратилась с просьбой:
— Степан Васильевич, мне необходимо встретиться с профессором Кунцем.
— Если вы хотите оставить на излечение своего мужа в клинике профессора Кунца, то это невозможно.
— Позвольте, Степан Васильевич, а кто вам сказал, что я хочу поместить мужа в здешние клиники? Я приехала по нашим путевкам, профессор Кунц прилетал на все международные консилиумы, благодаря чему муж остался жив, как медика я чрезвычайно ценю профессора Кунца, моей ему благодарности нет конца. Я к Новому году хочу ему вручить московские подарки и очень хочу у него проконсультироваться по тем медицинским вопросам, которые возникли в процессе выздоровления мужа после страшных травм. У мужа идет очень трудное выздоровление, оно всех медиков ставит в тупик. Уверяю вас, мне только нужна медицинская консультация. {417}
Посол меня правильно понял. Очень скоро у нас, в этом санатории, состоялся большой прием. Был наш посол Червоненко, был советник посольстваУдальцов, Зденек Кунц, которому я, наконец, вручила коньяки и икру. Кунц еще привез с собой двух европейского вида медиков и, главное, он привез этих знаменитых мастеров по изготовлению протезной обуви. Я в Москве не могла его просить об этом, я в те времена не собиралась в Чехословакию. Но этот медик знал, как у Ландау искалечена нога. У этого медика было большое человеческое сердце, перед которым, как сказал Гете, надо склонять колени!
Моя мечта осуществляется, у Дауньки будут чудесные протезные ботинки. Я обратилась к Кунцу:
— Вам, вероятно, известно, что Гращенков скоропостижно скончался. Те медики, которые сейчас ведут Ландау в Москве, вернее, один из медиков, предлагает сделать спинномозговую анестезию, чтобы убедиться в органических болях в его животе. Как вы считаете, стоит это осуществить?
— Ни в коем случае, я бы лично не рискнул. Видите ли, те нервы, которые пронизывают наш кишечник, в спинном мозгу расположены слишком близко к головному мозгу, новокаин может легко попасть в головной мозг, и тогда наступит смерть.
Нет, я не зря приехала в Чехословакию! Этот мой главный вопрос уже был разрешен. Удивительно, почему мне Вишневский не объяснил этого. Вероятно, надо помнить, что врач, лечащий один палец, для лечения другого пальца советует пригласить другого специалиста. Наверное, это тонкость нейрохирургов.
Когда в Москву приезжал Максвелл, сообщив мне о смерти своего сына, так и не пришедшего в сознание, он мне сказал: «Ваше счастье, вам к мужу удалось заполучить Зденека Кунца. Конечно, к Ландау он прилетел, а в Лондон к сыну моему он не мог прилететь».
Пока я разговаривала с Кунцем, приехавшие врачи очень весело беседовали с Дау. Дау после нескольких промываний кишечника в водолечебнице стал на боли жаловаться меньше и заметно повеселел. Кунц включился в беседу с Дау, причем сначала они говорят по-английски, потом один из врачей перешел на французский. {418} Дау легко переключался на любой язык: вот уже звучит немецкая речь, вероятно, проверяют интеллект, потом, по-видимому, перешли на анекдоты, все весело смеются. Я не понимаю, о чем они говорят, но по тому как у врачей с европейским образованием разговор с больным Ландау становился оживленным — все больше стал говорить Дау — и как его внимательно слушают, по раскатистому, веселому смеху наших гостей ясно, что им интересно говорить с больным. Как радостно засияли добротой глаза профессоров медицины. Я уже понимаю, они не сомневаются — интеллект, мозг физика Ландау остался прежним, в чем я никогда и не сомневалась. Это все мне и сообщил профессор Кунц после консилиума. Потом ортопеды-профессора из пражского ортопедического института и специалисты мастера высочайшего класса занялись Дау. Они с ним ходили, снимали его ботинки, опять одевали, очень долго изучали все его движения, потом сняли мерку и, прощаясь, сказали, что сделают такие ботинки, которые ему через год так исправят ногу, что он сможет стоять и ходить без ботинок, а в их ботинках хромать совсем не будет! Но ни о каких застежках и речи быть не может, протезная обувь только на шнуровках.
В этом санатории нам прикрепили машину; когда мы ездили в водолечебницу, она нас там ждала, и, по-видимому, мне за эту услугу доплачивать не придется и за ботинки я могу расплатиться. Я была счастлива: ботинки уже заказаны, теперь, когда мы приедем в Прагу для отлета в Москву, нам их принесут уже готовыми. Обратную дорогу я оплатила в Москве.
После каждой промывки кишечника специальными минеральными водами Дау на глазах воскресал.
Когда после процедур его укладывали отдохнуть, укутывая довольно горячим торфом ноги и живот, он на всю водолечебницу читал стихи, его уже все знали, знали и историю автомобильной катастрофы. Наша медсестра Марийка очень способствовала этой популярности. Все сотрудники водолечебницы приходили его приветствовать и пожелать ему воздоровления.
Ян Иш, главврач санатория, уделял много внимания Дау. После кишечного промывания в водолечебнице уже который раз тщательно обследовал его живот. {419} Заметив большое улучшение, он нам с Дау стал рассказывать: «У нас в санатории есть своя водолечебница, но у нас нет кишечного душа, поэтому мы возим Льва Давидовича в водолечебницу, нашим больным мы отпускаем субаквальные ванны, это более эффективные промывания кишечника. Я вначале боялся назначать их Льву Давидовичу, а сейчас убедился, что кишечный душ очень благотворно действует на нашего больного. Если бы у него не было таких страшных травм, я не боялся бы дать ему их сразу. Видите ли, после сильного кандидомикоза кишечника, как следствия антибиотиков, я решился назначить вам, Лев Давидович, субаквальные ванны, они просто обновят вам стенки кишечника. Меня профессор Кунц поставил в известность, как велика была забрюшинная гематома. Ни один врач не может поручиться, что в кишечнике нет патологического сдвига, не все еще рентген может фиксировать в кишечнике. Боясь наличия патологии в кишечнике, я опасался назначить вам субаквальные ванны. Но раз вы очень легко переносите кишечный душ, не попробовать ли вам наших субаквальных ванн?
— Доктор, я так хочу выздороветь, что заранее согласен на все!
— Доктор, разрешите мне присутствовать на этой процедуре. Я, конечно, за активное лечение!
— Получив ваше согласие, я распоряжусь, все будет готово завтра в восемь утра, я приму все меры предосторожности, сам буду вас ждать в водолечебнице.
Назавтра в восемь утра мы с Дау уже в водолечебнице. Ванны необычны, масса труб от разных минеральных источников, счетчики отмеров воды, на днище много непонятного, все сугубо медицинское. Дау, с любопытством заглянув в ванну, заметил:
— Это я должен сесть на эту турецкую мебель?
Все одобрительно рассмеялись. Ванну окружили врачи. Ян Иш следил за пульсом. Чтобы не мешать, я встала в стороне. Заработали, защелкали счетчики отмеров воды, напряженное молчание. Дау стал быстро бледнеть, потом миг — все ринулись к Дау, его вынули без сознания. Ян Иш был бледнее Дау. Дау уложили на кушетку, кольцом окружили врачи, слушаю: «Это бывает, ничего страшного, пульс хорош». Дау быстро {420} пришел в сознание, сразу оправился, с аппетитом позавтракал. Кормили нас удивительно вкусно.
Вскоре после завтрака пришел главврач, выслушав и осмотрев Дау, он совсем успокоился, заявив: «Вы перенесли столько страшных травм, а сердце как у двадцатилетнего парня. Ваши легкие, разорванные сломанными ребрами, не дают хрипов! Вы просто железный человек!».
— Доктор, — вставила я, — он никогда не курил, никогда не отравлял себя алкоголем, вел нормальный образ жизни, я считаю, тайна его воскрешения из мертвых только в этом!
— Вы правы, медики хотят воскресить всех своих умирающих, но не всякий человеческий организм идет навстречу медикам: курение и даже небольшие дозы алкоголя очень подрывают защитные силы человеческого организма. Но свои субаквальные ванны я отменяю. По-прежнему будем возить Льва Давидовича на кишечные промывания в водолечебницу.
— Доктор, скажите, пожалуйста, вы думаете, после страшной травмы таза и забрюшинной гематомы у мужа может быть какая-либо патология в кишечнике, — спросила я в коридоре, провожая главврача.
— Видите ли, мне непонятны его постоянные, иногда слабеющие, но не оставляющие его боли в кишечнике. Те медицинские показания из санаторной карточки, заполненные врачами в Москве, очень скупы. На той консультации в нашем санатории были очень авторитетные наши медики: профессор Кунц, профессора Старега и Заводный. Они не нашли, что боли в животе центрального происхождения. Его кишечник должен быть под пристальным вниманием ваших медиков в Москве, когда вы вернетесь домой.
— Доктор, у меня к вам большая просьба. Я здорова, разрешите мне завтра утром попробовать эту самую ванну с такой же нагрузкой, с той же минеральной водой. Мне необходимо самой почувствовать, что заставило мужа потерять сознание.
— Для вас никакого риска, пожалуйста, я разрешаю и дам все распоряжения, приходите завтра в восемь утра.
Чуть с большей нагрузкой я тоже потеряла сознание: просто ужасно сильное давление изнутри распирает {421} тебя до потери сознания. Я очень обрадовалась: у меня-то нет патологии в кишечнике, и в моем мозгу в какой-то миллионной клетке поместилась ошибочная мысль, что у Дау нет патологии в кишечнике. А ведь главный врач санатория Ян Иш, очень знающий медик, очень внимательный врач, наблюдал больного всего лишь один месяц, но он очень внимательно наблюдал больного. В ноябре 1965 года он первый из медиков правильно, без сомнений указал, что боли в животе органические. Этот правильный диагноз Яна Иша был подтвержден патологоанатомами только при вскрытии.
Второго декабря 1965 года мы прощались со столь гостеприимно нас принявшим санаторием, даже повар что-то замечательное нам изготовил и сам принес.
Очень трогательно прощался Ян Иш со своим трудным пациентом, он мне сказал, что медсестра Марийка нас сопровождает в Прагу, где нас ждут номера в отеле, в отель нам ортопеды принесут ботинки.
День был на славу теплый, солнечный, ничего не говорило о том, что календарь уже потерял свои два листка первого месяца зимы, небольшой снег, выпавший, в ноябре, исчез. По гладкой, чистой, отшлифованной ленте шоссе легко мчала нас машина на встречу с Прагой. Машина роскошная, длинная, Дау легко протянул ноги, обратив свое внимание на мягкую красную кожаную обивку внутри. «Как красив этот красный цвет! — сказал он, улыбнувшись.— Корочка, ты молодец, что привезла меня сюда, я, кажется, выздоравливаю, боли все время ослабевают».
В начале пути он читал стихи, потом стал обращать внимание на замки, возвышающиеся вдали, на изумрудную зелень полей.
Я с ужасом ждала, когда он начнет требовать уборную. Но улыбка не сходила с его лица, рядом сидела Мариечка, делая периодически массаж левой руки. Он весело стал дразнить Марийку.
— Мариечка, пожалуйста, чему вас учили в школе?
— Лев Давидович, я уже сто раз вам сказала: «Ваш великий советский ученый Лысенко на практике дополнил теорию нашего чешского ученого Менделя».
Дау весело рассмеялся: {422}
— Так, очень хорошо! А теперь, Мариечка, скажите, что я вам сказал о величайшем ученом в веках, о чехе Грегоре Менделе!
— Вы мне сказали так: скромный аббат Бренского аббатства, Грегор Мендель прославил свою родину Чехию своими гениальными открытиями. В биологии он является родоначальником генетики, его открытия показывают, как нужно сознательно вмешиваться в жизнь растительного и животного мира методом, необычайно полезным для человечества. Его работы стали для ученых всего мира ключом ко многим открытиям в этой области науки. Лев Давидович, кажется, все заучила на память.
— Нет, Мариечка, не все, нужно еще добавить, говоря о великом ученом Грегоре Менделе: преступно упоминать рядом фамилию неграмотного фанатика, авантюриста Лысенко. В Советском Союзе был выдающийся ученый генетик Николай Вавилов, он своими выдающимися трудами в генетике действительно развил и углубил учение гения Чехии Грегора Менделя. Николай Вавилов был признан одним из лучших генетиков мира. Но грязные, подлые интриги неуча Лысенко, к сожалению, вышли за пределы науки и были причиной безвременной гибели гениального ученого Николая Вавилова. Я знаю, я читал все его работы, я всегда преклонялся перед гениальностью его работ. Они вошли в сокровищницу науки мира по генетике. Это очень интересная область в науке, но, конечно, самая интересная наука это физика. Как я по ней соскучился! Как я хочу скорей выздороветь и как зверь наброшусь на науку!
Потом тихо и грустно зазвучала лирика Лермонтова. Я была счастлива. Дау не требует туалета, неужели я доживу до той минуты, когда мой Даунька мне объявит: «Коруша, все боли кончились, я здоров!». Еще будут чудесные протезные ботинки, скоро увижу Прагу, там есть какой-то знаменитый собор.
Перед Прагой он немножко начал скулить насчет туалета, но без истерики. Вот и Прага, вот наш отель. А наши апартаменты привели меня в уныние — я растерялась, сразу заработала мысль: чем я буду расплачиваться? Марийка сообщила, что ее комната рядом, {423} эта новость не принесла облегчения: и ее отель мне поставит в счет. А когда нам сервировали стол в гостиной для обеда, меня обуял страх: меню обеда дополняли вина, фрукты, шоколад. Эти все яства полностью лишили меня аппетита. Потом вспомнила, что Халатников перед отъездом мне сообщил, что в Праге изданы все тома теоретической физики Ландау. Так если сам автор в Праге, ему, возможно, выплатят гонорар. Ура! Выход найден.
Ночью Дау встал только два раза. Неужели Дау вылечили эти знаменитые кишечные промывания! Утром стала думать, как связаться с физиками, разузнать о гонораре. Тем более я вспомнила давнишние разговоры о том, что академик Гинзбург писал научные статьи, публикуя их в разных социалистических странах, а потом его жена ездила по туристическим путевкам и получала гонорары, причитающиеся ее мужу. Правда, мне тогда казалось, что по нашим советским устоям в этих операциях есть некая нетактичность. Я знала законная иностранная валюта граждан Советского Союза оформляется через банк. У Дау в банке на Неглинной свой счет, но я не имела права через границу, даже социалистическую, перевозить валюту. Вероятно, меня никто бы не осудил, если бы я взяла с собой чек на тысячу долларов, международная премия Фрица Лондона. Я вспомнила об этом чеке, который много лет лежит в письменном столе у Дау, как бы он меня сейчас выручил. Нет, это просто ужасно думать все время о том, что ты не в состоянии оплатить счет в иностранном отеле, где лауреата Нобелевской премии так гостеприимно приняли и так щедро угощают завтраками, обедами и ужинами, наш стол в гостиной постоянно уставлен винами, фруктами и шоколадом. Администрация отеля, вероятно, не подозревает, что нереализованный чек на Нобелевскую премию также покоится в письменном столе Дау в Москве. Эти мысли меня терзали после роскошных завтраков, обедов и ужинов. На всякий случай попросила Мариечку: «Пожалуйста, на мою долю на завтра ничего не заказывайте, у меня уже юбки не сходятся, я хочу похудеть, не буду ни завтракать, ни обедать, ни ужинать». — «Этого нельзя, — очень решительно ответила Марийка.— Все меню я заказала еще вчера». {424}
С утра после завтрака приехали уже знакомые нам протезисты, привезли ботинки очень легкие, очень красивые. Дау сказал, что они очень удобные. Но ортопеды мерили долго, заставляли ходить и в конце концов сказали, что это примерка, через несколько дней приедут мерить еще, а совсем будут готовы примерно через неделю. На меня спустилась черная меланхолия.
— Почему вы так расстроились? Это хорошо, поживите в Праге неделю. Та машина, что так понравилась Льву Давидовичу, на которой мы приехали из Карловых Вар, оставлена за вами, она дежурит у подъезда отеля и находится в полном вашем распоряжении.
От этой новости потемнело в глазах! Но в это время пришел к нам гость — Удальцов, советник нашего посольства в Праге. Вначале у меня мелькнула мысль попросить у него помощи в оформлении гонорара за издание трудов Ландау в Праге. Потом, как в тумане, вспомнила, что Халатников сказал: «Физики вам устроят получение гонорара». Это слово «устроят» меня сейчас озадачило, работники посольства не должны ничего устраивать! Если честно гонорар не прислали, следовательно, на то нет законных оснований. Угроза несостоятельности уплатить по счету отелю очень тяготила. Нет, с Удальцовым говорить о гонораре нельзя, он дипломат, с дипломатами надо разговаривать за границей осторожно. Только Удальцов собрался уходить, пришли физики, как я обрадовалась их приходу. По-видимому, Удальцов заметил мою радость от прихода физиков, во всяком случае уходить он раздумал, или меня неправильно информировало мое расстроенное воображение.
Мне казалось, что Удальцов умышленно становится между мной и чехами-физиками. И ушел он уже после чехов. Тогда меня это очень огорчило, я физикам сказала, что мы ждем изготовления ортопедической обуви и уедем через неделю. Вероятно, я очень многозначительно приглашала еще раз зайти физиков-чехов, в результате чего нашим постоянным гостем стал И.И.Удальцов!
На следующий день после посещения физиков Мариечка объявила, что нас посетят наш посол С.В.Червоненко и профессор Кунц, по всей вероятности, они {425} придут не одни, но чтобы я ни о чем не беспокоилась, она уже заказала. «Банкет будет шикарный!», — добавила она, улыбнувшись своей очаровательной улыбкой.
Мне уже терять было нечего, оплатить все это на мои чешские кроны, которые сопутствуют путевкам, нечего было и думать. Явно иду ко дну! Оставалась единственная надежда на мифический гонорар, даже неизвестно от какого издательства.
От Дау свои заботы скрывала. Дау весел, спокоен, хорошо спит, он явно выздоравливает. Это главное, но от прогулок на машине категорически отказался.
— Коруша, я очень боюсь далеко отходить от туалета, хотя я сейчас не так часто туда хожу, но во мне все время живет страх, а вдруг мне срочно приспичит в туалет!
Он очень много читал. Марийка раздобывала много иностранной литературы, явно интересовался меню, очень хвалил кухню нашего отеля. Марийка с ним занималась гимнастикой, массажами и водила на прогулки, даже меня заставила один раз проехаться на машине по Праге. Шофер меня спросил, что я хочу посмотреть. Я ответила — собор. Осмотр этого собора возместил мне все, что я никогда не видела и не увижу, мне казалось, после осмотра этого собора меня уже ничто не сможет поразить, и, налюбовавшись вволю, ошеломленная, вернулась в отель, размышляя о том, что человечество может создавать веками такие прекрасные сооружения и стоять они будут вечно! В них столько силы, мощи, красоты, казалось, самая страшная разрушительная сила веков никогда не сможет причинить им ущерба.
В отеле у Дау застала и физиков, и Удальцова, а моя проблема с деньгами оставалась неразрешенной. Я уже обнаглела и при Удальцове у физиков попросила номер их телефона, чтобы в случае нужды я могла им позвонить. Записав нужный мне номер телефона, посмотрела с вызовом на Удальцова. Он, как всегда, еще задержался и очень сердечно меня попросил, если у меня будет какая-либо нужда, позвонить ему. Он повторял слова, которые я сказала физикам. Смутившись, я {426} пообещала. На следующий день решила позвонить физикам с утра, но, конечно, не из отеля, соблюдая конспирацию. Сказав Марийке и Дау, что хочу пройтись, вышла из отеля. Ко мне подошел шофер. Поблагодарила его, сказала, что хочу пройтись пешком. С трудом нашла телефон, дозвонилась, поговорила, мне пообещали все выяснить и сообщить.
После этого разговора я скисла; так стремилась, а когда достигла чего хотела, стало тошно, почувствовала отвращение к себе. Явно проявила корысть, понадобился гонорар в чешских кронах, как Женьке! Не упустила возможность обогатиться! Это было ужасно! Я ссылалась на физиков, учеников Ландау, которые при отъезде мне сообщили, будто бы в Праге вышли все тома по теоретической физике, и, пользуясь тем, что автор в Праге, может быть, возможно сейчас до отъезда получить гонорар.
Как будто все прилично, нет, мне не по себе!
Наверное, надо было сказать так: «Выезжая из Москвы, я не предполагала, что задержусь в Праге из-за протезных ботинок, и я боюсь, что мне не хватит крон уплатить по счету отеля», а потом уже говорить о гонораре.
Переживая свой позор попрошайничества, я заблудилась.
Озабоченная с первых дней пребывания в Праге несостоятельностью оплатить счет за гостиницу, я не узнала названия отеля, не знала и улицы, на которой стоит отель.
Много часов я бродила злющая по Праге. Вдруг увидела дома, которые видела из окна отеля, по этим приметам нашла отель.
На следующий день пришел физик, к которому я обращалась с просьбой о гонораре. Он сбивчиво, смущаясь, сказал, что, к сожалению, это невозможно. <...>
Поблагодарила за хлопоты, а в глазах — туман. Что делать?
За ботинки уплачу, а с управляющим отеля придется объясниться. Через Московский банк я уплачу по счету в фунтах стерлингов.
Вскоре принесли готовые ботинки, их конструкция была сложной. Высокие, изящные, на крепкой частой {427} шнуровке, гибкие стальные стержни поднимались высоко за колено, в конце бедра — широкий пояс с пряжками, через год искалеченная левая нога вытянется, выправится, и Дау, хромая, сможет ходить и стоять без ботинка, а в этих замечательных ботинках хромать совсем не будет. Да, из-за таких ботинок стоило приезжать в Прагу!
Излив всю свою благодарность словами в самой сердечной форме, я со страхом спросила, сколько я должна заплатить крон. Профессора-ортопеды, смутившись, ответили: «Что вы, и речи не может быть об оплате. Весь мир спасал жизнь физика Ландау. Наш институт счастлив, что ему предоставилась честь помочь великому ученому, попавшему в беду. Нас к вам в Карловы Вары пригласил наш ЦК. Вы — почетные гости нашей страны. Мы очень рады, что у нас получились очень хорошие лечебные ботинки для всемирно известного физика Л. Д. Ландау!».
Невыносимая тяжесть свалилась с моих плеч. Мы — почетные гости этой высококультурной, этой замечательной страны, а я позволила себе мельтешить о каком-то гонораре, который был мне к тому же и совсем не нужен! Мы — почетные гости Чехословакии! Мне и присниться это не могло. К распиравшему меня счастью примешивалась горечь сожаления: раз в жизни я была почетной гостьей такой страны и не насладилась этим! Даже не воспользовалась машиной и не осмотрела Прагу!
Когда ушли ортопеды, я спросила:
— Дау, ты знал, что мы почетные гости этой прекрасной страны?
— Да, конечно, помнишь, когда мы заблудились в поисках водолечебницы в Карловых Варах, тогда меня узнал один человек, говоривший по-немецки со мной. У меня сложилось впечатление, что он был, вероятно, член ЦК КПЧ. Мне это сообщил управляющий отелем «Империал». Он меня поздравил и сказал тогда, что нас переводят в специальный санаторий для почетных гостей страны!
— Даунька, и ты, ты, все помнишь и даже название отеля «Империал»?
— Коруша, этого забыть нельзя. Как почетный гость страны я впервые здесь. {428}
— А почему я этого не знала до сегодняшнего дня, а завтра уезжаем!
— Корочка, наверное, я в этом виноват, ты ведь тогда заболела, а я потом все воспринимал, как должное!
— Зайка, милый, все просто замечательно! Главное, ты все помнишь, а Гращенков уже помер, так и не узнает, как он ошибся насчет потери у тебя ближней памяти.
Правда, я очень терзалась, что не смогу оплатить счет отеля, но все уже позади, какое счастье, завтра едем в Москву! На радостях все сбереженные чешские кроны раздала служащим отеля! Но один сувенир на счастье я все-таки вывезла из страны, где была почетной гостьей. В прекрасном настроении вышла попрощаться с Прагой. Адрес отеля уже знала. Заметила, что все идущие мне навстречу женщины бережно несут золотые веточки, изредка между золотых листьев мелькают золотые ягодки. Такого я в жизни не видела: все сверкает чистейшим золотом, золото не произрастает, что это? Это очень красиво! Вдруг вижу огромную корзину, наполненную загадочными веточками, вокруг корзины женщины, все покупают. Я забыла, что я за границей, спросила по-русски: «Зачем эти красивые веточки?». Одна пожилая дама с большим акцентом мне ответила по-русски: «Скоро Новый год. У нас, чехов, традиция. Это символ большого счастья в Новом году!».
Так мне же этого только и не хватало! Мне необходимо вывезти символ большого счастья в Новом году! Счастья выздоровления моего Дауньки в новом наступающем году.
Золотые веточки я привезла в Москву как самые драгоценные реликвии, а суеверной себя не считала.
Среди провожающих нас в Москву, конечно, был и советник нашего посольства И.И.Удальцов. Я уже нормальными глазами смотрела на него, просто очень симпатичный, очень добрый человек, подаривший нам столько своего внимания, я чувствовала себя очень виноватой перед ним. Он с удивлением поглядывал на меня: мою мрачную замкнутость сменило веселое настроение, опасность неоплаченного счета в отеле миновала, он ведь не знал моих терзаний, а посоветуйся я с ним все бы сразу прояснилось! {429}
Заглаживая свою вину, приветливо прощаясь с ним, я очень искренне приглашала его посетить нас в Москве, заготовив для него и телефон, и наш московский адрес. В его глазах прочла одно недоумение. И было от чего, если стать на его место.
Благополучно доставив из аэропорта своих сограждан на посольской машине в отель «Империал», на следующий день вдруг узнает: жена больного физика повела мужа пешком в водолечебницу, заблудилась, потом устроила истерику! Конечно, все это плохо говорило обо мне. И.И.Удальцов, вероятно, очень боялся за мое поведение в Праге. Он был прав, за такой истеричкой нужен был присмотр. До сих пор не могу избавиться от чувства своей вины перед И.И.Удальцовым. Конечно, у меня были свои причины, ничто не проходит бесследно. После того как не стало А.В.Топчиева, у меня появилось недоверие к лицам, с которыми меня сталкивала судьба в трагические дни моей жизни. Позже поняла: люди с благополучным течением жизни далеко не всегда могут понять психологию человека, в жизнь которого ворвалась трагическая неожиданность, большое человеческое горе. Исключение составляют люди с большим, человеческим сердцем, перед которыми надо склонять колени. Как А.В.Топчиев. Оказавшийся на его месте академик Миллионщиков, не знаю, обладал ли умом, но сердцем нет! Перед ним не склонишь ни голову, ни колени. Он из племени высокопоставленных бюрократов.
Вернувшись в Москву накануне нового, 1966 года, меня поразила искренняя радость сердечной встречи Кирилла Семеновича с Дау. А так называемый друг Е. М.Лившиц вовсе не навестил, не зашел поздравить ни с возвращением, ни с наступлением нового года.
Разбирая новогоднюю почту, Дау одно письмо передал мне со словами: «Бедная Верочка, прочти ее письмо. Мне всегда и раньше казалось, она любила меня, и до сих пор любит. Мне жаль ее, я был в нее влюблен целых пять лет! На большее меня не хватило, а очень грустно, когда разлюбишь девушку, а она продолжает тебя любить. Только в тебя влюбился навечно!». {430}
Я стала читать письмо:
«Дорогой, любимый, хороший Дауленька!
Поздравляю тебя, Кору и Гарика с Новым годом!
Сердечно желаю всем вам здоровья и счастья.
Даунька, если можешь, прости меня за все, не сердись на меня. Не бывает дня, чтобы я не думала о тебе и не молила судьбу, чтобы ты совсем поправился, чтобы ваша семья была опять счастлива. Но, видно, это мало помогает тебе...
Я, наверное, стала совсем ненормальной, иногда брожу возле твоего дома и вижу, как ты гуляешь.
Дауленька, милый, прости меня! Я знаю, это плохое утешение для тебя, но я очень, очень несчастна!
Господи! О, только бы ты совсем поправился, тогда и мне было бы легче дышать! Да и не обо мне речь. И не во мне дело. Ты должен быть здоров и счастлив!
Сразу после этих праздников я ложусь опять в больницу, хочу пожелать тебе еще и еще здоровья!
Пишу ужасно бестолково, и за это прости.
Ты должен знать и помнить, что для многих-многих хороших и умных людей очень важно знать, что есть чудесный человек и талантливейший физик — Дау!
Целую тебя крепко-крепко! Прости меня».
Видно, Верочка казнилась, она была инициатором поездки в Дубну на машине.
Заканчивая читку Верочкиного письма, я уже рыдала.
— Коруша, что с тобой? Это ты от письма Верочки?
— Дауля, мне ее очень жаль! Я и раньше знала, чувствовала, что она тебя любила, как и я, на всю жизнь! И называет она тебя так же, как и я.
— Коруша, я и так был в нее влюблен целых пять лет! Остальными девицами я увлекался год, ну от силы два, и никогда не в ущерб моей вечной влюбленности в тебя! Корочка, ну, успокойся, вот на прочти еще одно милое послание!
«Дорогой Дау!
Возможно, вы меня и не помните, уж слишком незначительное место я занимала в вашей жизни. Тогда разрешите просто поздравить вас с наступившим Новым годом и от всего сердца пожелать вам скорейшего {431} полного выздоровления, бодрости духа и всех земных благ.
С большим удовольствием вспоминаю свое знакомство с вами — встречи в Москве летом 61 г. и в Киеве на криогенной конференции. Это один из самых интересных и незабываемых дней в моей жизни! Радует то, что наше знакомство и вам тогда, по-моему, было приятно.
Очень бы хотелось опять увидеть вас. Разрешите ли вы мне это? Когда?
Искренне ваша Лена».
— Зайка, мой «наглядный квантово-механический»! Я совсем не уверена в том, что, выздоровев, ты целый год будешь мне верен! Уверена только в том, что, когда бы ты ни ушел на свидание к другой, я клянусь тебе, буду искренне радоваться, лишь бы ты был здоров, стал прежним во всем! Твоя хромота не нанесла тебе ущерба! Я буду теперь радоваться твоим успехам у женщин!
Эти два письма привела потому, что мне дал их прочесть сам Дау.
Сейчас, перечитывая их, опять лила слезы над письмом Верочки, а новогоднее поздравление Л.Т. показало мне красоту человеческих чувств.
Пусть у Дау было много таких встреч, тем больше он подарил счастья другим! Он умел красиво любить красивых женщин. И умел трудиться с наслаждением!
Во мне кипит протест, когда сейчас доходят слухи, слухи нелепые, будто бы Ландау разбрасывался в любви, был развратен, его высочайшее наслаждениее творческой работой связывают с сексуальностью только потому, что он говорил, что от своего творчества в науке он получает ни с чем не сравнимое наслаждение.
Все это чушь? Я должна напомнить, что он впервые поцеловал женщину в 26 лет, и тогда был чист и невинен, но уже объездил Европу, уже у него была работа о ферромагнетизме, поставившая его в ряд физиков международного класса.
Мне хочется сказать, что Ландау был одарен еще и талантом педагога. В любом желторотом юнце он видел человека, он мечтал найти в юности талант и {432} отшлифовать этот талант в драгоценность. Как он восхищался талантом Володи Грибова. Он с восторгом говорил: «А друг Грибов переплюнет меня!».
На учеников он тратил очень много своего времени, терпения и сил. Для всех жаждущих приобщиться к настоящей науке двери его дома были всегда открыты.
А у великого из великих Эйнштейна ни одного ученика за всю длинную жизнь! Этот факт известен всем!
Уже идет 1966 год. В этом году, наконец, Кирилл Семенович Симонян, по-моему, уже сам пришел к убеждению, что мозг Ландау травма не коснулась. Привожу его воспоминания:
«И вот теперь, особенно после возвращения его из Чехословакии, восстановление интеллекта пошло быстрым ходом. Но прежде, чем говорить об этом, упомяну, что в конце 1965 года (если не ошибаюсь. Скажу, как Дау: спросите у Коры!) я пригласил на консультацию психиатра Тамару Алексеевну Невзорову, которой очень доверял. Я подробно рассказал ей о Дау и его индивидуальных особенностях и просил ее быть внимательной и помочь мне советом, что делать дальше.
Мы оставили ее наедине с Дау, но не прошло и двух минут, как она оттуда вышла и сказала, что можно ехать. По дороге в машине она рассказала, что она тотчас же поняла, что у Дау интеллект разрушен, так как он не помнит ничего, что было несколько часов назад или хотя бы вчера, а без этого ни о каком интеллекте не может быть и речи.
Меня глубоко потрясла поверхностность ее осмотра больного и, по-видимому, формальное отношение к моей просьбе. Теперь, когда дело пошло на лад, мне хотелось пригласить ее еще раз, но Кора воспротивилась, так как она была глубоко обижена, что я привел «такого» психиатра, и наотрез отказалась видеть Невзорову {433} снова в своем доме, коль скоро это не жизненно необходимо для Дау.
Восстановление интеллекта происходило как-то по всем направлениям сразу. Если я заставал больного в сносном положении в смысле болевых атак, с ним можно было говорить обо всем и он охотно соглашался на беседы. Некоторые из них я приведу, поскольку они раскрывают характерологические особенности личности замечательного физика.
Дау не понимал музыку не потому, что не любил ее. Напротив, говорил, что, насколько он знаком с гармонией (она интересовала его как производное звуковых, то есть механических колебаний), музыка должна, по-видимому, доставлять наслаждение, но он ничего не может поделать с собой, так как воспринимает ее только с ритмической стороны. Мелодии он не слышит — она для него все равно что шум. Поэтому он не выносит и оперы, где певцы бездействуют и шумят, а слова их не согласуются с делом: когда надо спешить, они стоят на месте. Действие в опере представлялось ему просто как нелепо построенная пьеса.
Другое дело драма. Он любил хорошие спектакли и хорошую игру. В театрах бывал часто!
Дау любил литературу. Даже в первый год моего наблюдения он мог читать на память английские баллады, знал многие из них и в русском переводе. Читал он с удовольствием, говоря о многих писателях мира, начиная с Гоголя и Льва Толстого. Он очень любил поэзию. Его любимые поэты — Лермонтов, Пушкин, Гумилев, но в первую очередь — Лермонтов.
— Почему Дау, разве Пушкин менее силен, чем Лермонтов?
— Не знаю. Это очень субъективно. Лермонтов мне ближе, я больше его люблю. Ну уж, конечно, и его прозу, которая несравненно сильнее, чем у Пушкина. Это я берусь доказать.
Дау любил эстраду, но остроумную. Смешанные программы ему не нравились, потому что они содержали много посредственных и даже пошлых номеров. Райкин — его любимый эстрадный актер. Последний год его жизни я предлагал ему повторить визит Райкина, {434} но он сказал: «Нет, до тех пор, пока вы не снимете мне полностью боли в животе, об этом не может быть и речи. Я не хочу еще раз осрамиться».
Дау утверждал, что творчество — это наслаждение. Он легче думал о физических задачах в минуты увлечения тем типом женщин, который ему нравился. Но это не значило, что отсутствие таких эмоций мешало решать ему физические проблемы. Просто это были периоды зарядки.
К сфере науки Дау относил то, что подчинялось в конечном счете количественному выражению. Но не все. Кибернетику, по мнению Дау, нельзя называть наукой — это область знаний прикладного характера. Медицина? Это если и наука, то пока еще не вышедшая за пределы эмпиризма и индивидуального опыта. Когда физика и химия проникнут в медецину, так, что дадут ей методы и формулы применительно к процессам биологического плана, тогда медицина станет наукой. Это непременно произойдет.
Однажды я попросил его перелистать книжку с перечнем всех академиков и дать им характеристику. Моя цель заключалась в том, чтобы отвлечь Дау от боли. Он взял в руки книжку, листая ее, стал комментировать. Это было поразительно для моего уха. Хорошо зная свои медицинские круги и цену каждому из близких моей специальности, избранник в АМН не по положению, а по «гамбургскому счету», я все же был неподготовлен к таким уничтожающим характеристикам, какие вылетали из уст Дау в адрес физиков, химиков, биологов и т. д.
— Такой-то — посредственность, такой-то — просто дурак. Покойный Вавилов — гениальная личность (брат того, чья фамилия попалась на глаза). Этот — талантливый химик.
— Дау, но как же они попали в академики?
— А это обман трудящихся.
Выражение «обман трудящихся» он употреблял часто в ироническом плане характеристики не только человека, но и событий или фактов.
Дойдя до раздела философии, он сказал:
— Давайте это пробросим!
— Почему? {435}
— Потому что философия — это не наука. Это мировоззрение ученого.
Дау считал, что такие науки, как физика, химия, биология, нуждаются в том, чтобы именно ученые занимались популяризацией новых идей и достижений.
Он прочитал последнюю книгу Данина о Резерфорде, опять же с перерывами, когда боли в животе ослабевали.
Во время своего 60-летнего юбилея он спросил у Капицы:
— Петр Леонидович, правда ли, что священник, отпевая тело Резерфорда, сказал такие слова: «Мы благодарим Тебя за труды и дни брата нашего Эрнеста», или это Данин выдумал?
Капица подтвердил, что Данин привел подлинные слова священника.
Даже в первый год нашего общения, когда мыслительная деятельность Дау еще была под, так сказать, всеобщим сомнением, он с большим юмором относился к себе и окружающим. Юмор у него был мягкий и сочный.
В дальнейшем он стал проявляться постоянно даже при разговорах на самые серьезные темы.
Однажды я спросил его, что он может сказать о золотой пропорции.
— Такая же пропорция, как и другие. Уверяю вас, в ней нет ничего особенного.
— Почему тогда ее назвали золотой и кто это сделал?
— Очень просто. Шел по Греции грек. Настроение у него было хорошее. Принадлежал он к пифагорейской школе и, значит, думал о числах. Взял и придумал золотую пропорцию.
— Но почему он все же дал ей такое название?
— Я же вам сказал, что у него было хорошее настроение.
— Дау, будьте серьезным!
И тут он вполне серьезным голосом сказал:
— С математической точки зрения в золотой пропорции нет ничего примечательного.
Тогда я рассказал ему о Пачоли, о Леонардо и о том, как Цейзинг нашел, что совершенное соотношение {436} частей тела достигается соблюдением золотой пропорции. Я также сказал, что и в объемных отношениях различных составных организма мы находим устойчивость гомеостаза именно при движении этой пропорции к отношению 5:3 — 3:2.
— Ну это ведь совсем другое дело, когда в математическое понятие вкладывается физический смысл. Тут может быть много интересного, и если хотите, мы вернемся к этому вопросу после того, как пройдут мои боли. Я ведь не жду от медицины невозможного. Мне хотелось знать, удастся ли вам меня от них избавить.
— Да, — ответил я, — несомненно.
— Когда?
Первое время я говорил: быть может, через два-три дня, и такой ответ его удовлетворял. Но позже и по мере того, как шло время, мне становилось трудней. Я уже не мог отвечать как прежде, потому что на это следовало возражение: «Вы мне уже это говорили, и даже не один раз».
Примерно за полгода до спаечной атаки, которая в конечном счете и привела его к смерти, он мне сказал:
— Я чувствую большую потребность вернуться к своей деятельности, но боль в животе не дает мне сосредоточиться, потому что она не оставляет меня. Что вы намерены делать?
— А много ли надо вам заниматься, например, математикой, чтобы вернуться к должному уровню? — спросил я, уходя от прямого ответа.
— Математикой мне вовсе не надо заниматься. Математика — это своего рода аппарат, с помощью которого решаются физические проблемы. Вот в физике я поотстал. Чтобы догнать то, что произошло без меня, мне понадобится, может быть, два месяца, думаю, что не больше.
— Дау, мне хотелось бы настоять на том, чтобы Лившиц пришел и повторил с вами тот урок, который он дал мне в начале нашего знакомства.
— Можете пригласить любого физика, кроме Лившица.
И он произнес в адрес своего соавтора презрительно бранное слово «Ворюга!». Такое отношение было вызвано инцидентом, о котором мне не хочется здесь {437} рассказывать, и, если это нужно, о нем можно в подробностях узнать от Коры.
Но какой смысл было вызывать кого-нибудь из физиков к Дау? Вокруг Дау после катастрофы образовался вакуум. Физики от самопожертвования перешли к сожалению о нем, а потом к равнодушию. За три года, особенно за последние два с половиной, ни один из них не только не пытался навестить его, но и избегал встреч, на которые их приглашала по моему настоянию Кора. Были только два человека, которые искренне грустили о нем и пытались ему помочь: Капица и Данин. Последний посещал Дау, предлагал свои услуги в любой роли и даже предпринимал сам отчаянные попытки помочь больному, как в случае с женщиной-гипнотизером (Данин привозил гипнотизера).
Мне было ясно, что, если Дау вернется к работе, ученикам своим он уже будет не нужен. Вакуум заполнился. Почти пять лет жизни института без Дау сделали свое дело.
Все эти мысли я ему однажды выложил. Выслушав меня внимательно, он спокойно ответил:
— Видите ли, Кирилл Семенович, мои ученики выросли, и они мне не больше нужны, чем я им. Хотя в последнем я сомневаюсь. Но ведь дело не в этом, а в том, что я привык и люблю работать с молодежью. Молодежь будет всегда. Между прочим, это барометр нашей старости. До тех пор, пока я буду испытывать влечение к молодежи, я не посчитаю себя старым. С того дня, как мой интерес к ней иссякнет, наступит старость.
Итак, звать кого-либо, чтобы показать, что Дау становится прежним, вряд ли имело смысл. Я полагал, что его возвращение к творческой работе скажет само за себя, но задача состояла в том, чтобы снять боли в животе.
Если просмотреть в аспекте движущейся киноленты динамику тех изменений, которые происходили на моих глазах и на глазах близких к нему людей, то все менялось, кроме болей в животе, которые в сочетании со вздутием кишечника то более, то менее сильно беспокоили больного. Учтя все это, я пришел к выводу, что настало время попытаться прогнозировать течении болезни и подумать, что предпринять. {438}
Для построения прогноза имела значение еще и динамика процесса. Если эта схема, которой мы пользуемся применительно к острым хирургическим заболеваниям, дает для оценки динамики процесса час или два — не более, то в состоянии Дау не было повода к поспешности, но все же построить прогноз было необходимо. Коль скоро в психике больного наметились признаки явного улучшения, следовало ожидать и дальнейшего и, по-видимому, все убыстряющегося возвращения к нормальной мыслительной деятельности. Дело было, конечно, не в фантомных болях, поскольку этот «фантомный синдром» рассыпался — боли в ноге прошли, ежеминутное желание пойти в туалет стало сменяться 10—20 минутными перерывами, а после лечения кандидамикоза и еще реже. Не было оснований думать и о гибели гипотетических клеток ближней памяти, ибо в состоянии Дау не было ничего исключительного в сравнении с обычной глубокой контузией мозга с длительной потерей сознания. Мне всегда казалось при анализе таких состояний, что глубокие ушибы мозга скорее бьют по ассоциативным связям и эти связи восстанавливаются по мере выхода клеток из состояния стойкой ишемии. Таким образом, центр тяжести в оценке прогноза перемещался к спаечной болезни, именно тут надо было подумать о будущем. Спаечная болезнь при таком настойчиво интермиттирующем течении, как подсказывал мне мой опыт, обобщенный в соответствующей монографии, могла привести больного к острой спаечной атаке внезапно или постепенно, и тогда спасение больного будет предприниматься в условиях свершившейся катастрофы в брюшной полости.
Но вопрос об оперативном лечении был преждевременен.
Второй год наблюдения показал, что наши предположения верны.
К сожалению, они оказались верны во всем.
Все разговоры, которые приведены мною, происходили в основном после возвращения Дау из Чехословакии. У него появилась потребность общения с людьми. Он охотно высказывал свои суждения. Он беседовал с сыном, проверил его знания и сказал, что он сделает его теоретиком». {439}
К заключениям К.С.Симоняна хочу добавить: после кандидамикоза и последующей промывки кишечника в Карловых Варах у Дау исчезло чувство страха перед грозящим извержением кишечника.
В дни болезни Дау, когда наглое и хамское поведение Женьки вселило в Дау мысль о самоубийстве, мысль о его обреченности, я была так поглощена состоянием Дау, что забыла, что у меня есть еще и сын. И только глубокой ночью, когда Дау спал после двух часов, вспоминала: а ведь Гарик еще не вернулся. Уже три часа ночи. Обостренное нервное состояние. Было ужасно! Вдруг слух улавливал еле слышное движение внизу. Облегченно вздыхаю. Наклоняюсь вниз через перила лестницы: «Мальчик, почему так поздно?». Еле слышный шепот: «Мама, а зато я не курю». — «Согласна, вопросов больше нет. Еду найди сам».
Но в один прекрасный день сын зашел ко мне в кухню и сообщил:
— Мама, я решил жениться.
— Гарик, когда тебе было три года, ты уже тогда меня испугал, заявив, что ты решил жениться. Тогда я тебя спросила: «Ты сейчас решил жениться?». Ты мне ответил: «Нет, что ты, мама, когда мне будет 8 лет».
— Мама, я уже просрочил более десяти лет.
— Гаренька, а не рано ли? Главное, папка наш так еще болен. Ты не мог бы подождать его выздоровления?
— Понимаешь, мам, на нашем курсе уже должно произойти распределение. У Светы нет московской прописки, ее могут распределить в Крым. Она ведь астроном. В Москве ее могут оставить, только если мы поженимся. Если она уедет, я могу ее потерять. А я этого очень боюсь.
Причина разумная, подумала я.
— Гарик, а ты понимаешь, что это на всю жизнь.
— Да, мама, я полюбил серьезно.
— Но на всю ли жизнь? — подумала я. Потом вспомнила: поздние возвращения, по выходным дням сообщения: «Еду на дачу, там переночую». Он стал ездить на нашей «Волге».
— Ну что же, Гарик, я согласна. Пойди скажи папе.
— Мама, скажи папе сама, когда я уйду. {440}
— Нет, мальчик. Если ты уже решил жениться, найди в себе мужество сам сообщить отцу.
— Мама, пойдем вместе.
— Хорошо, пойдем.
— Танечка, идите обедать. Я уже вам накрыла стол. Гарик закрыл за Таней плотно дверь. Я села возле Дау, Гарик, смущенный, тонкий, высокий, стал возле постели отца.
— Папа, я хочу жениться.
Дау рассмеялся.
— Вот это новость, Гарик. Ты, по-моему, еще не имеешь собственной зарплаты, а уже собрался жениться!
Гарик обратился в спасительное бегство.
— Дау, ну зачем ты так обидел мальчика? По-моему, они уже два года любовники. Когда мы вернулись из Чехословакии, мне сообщили, что у Гарика жила в наше отсутствие очень красивая девочка. А вдруг у них уже намечается ребенок, рисковать нельзя. Девочка она очень скромная, из деревни. Папа и мама работают в совхозе.
Дау закричал:
— Гарик, Гарик, вернись наверх, ко мне!
Вошел Гарик.
— Гарик, почему же ты мне вначале не сообщил, что вы уже любовники целых два года. Проверили свои чувства. Я ведь по ошибке решил, что ты покупаешь «кота в мешке»! Я не мог знать, что твоя девушка так умна! Я, конечно, согласен. Передай ей, что я очень хочу с ней познакомиться. Обязательно приведи ее ко мне.
В этот же вечер Светочка познакомилась с Дау. Спустились вниз очень счастливые. Светочка сообщила с большим восторгом:
— Меня Лев Давидович пригласил в поездку в Париж.
Когда наши дети ушли, я вспомнила. Когда-то, еще в Харькове, он тоже обещал свозить меня в Париж.
— Ну, как тебе понравилась наша Светочка? — спросила я у Дау.
— Она производит очень хорошее впечатление. {441} Очень мила. Но, Коруша, ты гораздо красивее. Увы, снохачом я не буду.
— Тоже не плохо, Даунька. Светочка красива, и даже очень.
— Что ты, Коруша. Ты гораздо красивее ее.
Уверять его в обратном я не могла.
— Да, Коруша. Ты не возражаешь, я ее пригласил поехать с нами в Париж.
— Я буду самая счастливая, если эта поездка состоится, но до Парижа так несбыточно далеко.
В своем прогнозе в 1966 году я, к сожалению, ошиблась. Дауньке злой рок не позволил увидеть прелестную девочку, дочку Гарика. У нас ведь был мальчик. А маленькая девочка — это еще лучше!
<...>
Мне не очень нравилось, что все наши физики-теоретики академики своих сыновей делают теоретиками. Почти с пеленок начинают натаскивать их по математике, а потом академик папа легко может подарить сыну диссертацию, так я думаю и сейчас! Сын с раннего детства проявлял себя как экспериментатор.
— Даунька, Гарик уже школьник. Ты играешь с ним только как с котенком. Ну хотя бы раз поинтересовался его способностями, позанимался бы с ним. Вот Яша Зельдович, Вовка и Мигдал так натаскивают своих сыновей перед школой по математике, что они в школе идут «киндервудами».
— Коруша, я не понимаю: кто у нас в семье еврей — я или ты. Ты склонна к разным еврейским штучкам. Воспитывать и натаскивать детей с детства глупо. Я буду сына обучать математике, а он вдруг родился музыкантом. Пусть растет, наслаждается беззаботностью детства, с возрастом появятся наклонности, не навязанные родительским мнением, а свои! Свою специальность, свою профессию человек должен любить. Только когда человек любит свою профессию, он может быть счастлив. Тогда он будет с наслаждением трудиться. Надо помнить: труд обезьяну сделал человеком! А у лодырей может отрасти хвост, и он полезет жить на дерево.
До шестого класса сын болел, очень много пропускал. В пятом классе, болея, пропустил больше месяца. {442} Во время болезни, связанной с высоким мозговым давлением, врачи заниматься запрещали. Когда после длительных пропусков сын шел в школу, я всегда боялась, что он сильно отстанет.
— Мальчик, что у вас сегодня было на уроках?
— Сегодня была контрольная работа по арифметике.
— Ты решил?
— Да.
На следующий день спрашиваю:
— Гарик, вам сказали результаты вчерашней контрольной по арифметике?
— Да.
— Какая у тебя отметка?
— Пять.
— Мальчик, ты списал вчерашнюю контрольную?
— Нет, мама, я решил сам.
— Как ты мог решить. Ты больше месяца пропустил. Не мог знать пройденного материала.
— Мама, ты же не знаешь. У нас вчера было два урока по арифметике. Так вот на первом уроке два мальчика у доски решали такие задачи, какие нам с небольшими изменениями дали на втором уроке решать на контрольной работе.
Я облегченно вздохнула. Подумала: неужели унаследовал какие-то гены отца?
Физики совсем забыли Дау. Даже Померанчук стал заходить редко. Его тоже постиг злой рок. Наблюдал его Вишневский и сообщил нам страшнейшую вещь: у Чука рак пищевода. Оперировать нельзя, опухоль на аорте. И как всегда, в таких случаях, когда не остается никакой надежды, посылают на облучение. Услышав эту страшную вещь, я подумала, почему рак избрал лучшего, талантливейшего ученика, столь любимого Даунькой? Почему?
Последний визит безнадежно больного Чука к выздоравливающему Дау: {443}
— Учитель, ты знаешь, — последовало изложение работы какого-то американского физика.
Дау, недослушав, сказал: «Это чушь». И привел свои научные опровержения. Чук радостно рассмеялся.
— Учитель, я пришел к тому же мнению вчера вечером. А вот работа: (был назван какой-то физик из Швейцарии, если я не ошибаюсь)...
Оба с упоением пришли к выводу: работа стоящая. Дау добавил: «какую пользу это может внести, в конце концов, в науку».
Чук пришел в полный восторг. Чук опять подчеркнул, что в той области, которой Дау занимался последние свои два года, 1960—1961-е, еще ничего не сделано. Эту проблему все физики мира считают неразрешенной. И, по-видимому, никто над этой проблемой не работает.
— Учитель, твое открытие ждет тебя! Понимаешь, учитель, новые Эйнштейны и Боры еще не родились. И, кроме тебя, сейчас нет физика, который смог бы осилить эту проблему, за которую ты взялся в 1960 году и когда ты ее разрешишь — переплюнешь самого Эйнштейна.
— Чук, не говори ерунды. Эйнштейна переплюнет Володя Грибов!
— Учитель, ты прав. У Грибова мощнейший талант. Меня он уже переплюнул. Ну, а тебя, учитель, как и Эйнштейна, переплюнуть невозможно!
Это все, что я вынесла из их разговора. Не знала я, что тогда мне было необходимо запомнить хоть какие-нибудь физические термины. Не понимая их, я их не фиксировала, к сожалению, в своей памяти. Не знала я, что присутствую, когда Дау и Чук разговаривали в последний раз.
Сам Чук исхудал, выглядел святым мучеником. Дау не сводил с него глаз.
— Учитель, — сказал на прощение Чук.— Ты ведь знаешь, я никогда тебя ни о чем не просил.
— Да, Чук. Это так!
— Учитель! Сейчас у меня к тебе просьба. Пожалуйста, проголосуй за Мигдала. В приближающихся выборах он будет баллотироваться в академики. Он достаточно талантлив, он должен стать академиком.
— Чук, я не могу тебе отказать. Я проголосую за Мигдала. Его талант этого стоит, хотя наука понесет ущерб. Он разленится и может бросить работать. Даю тебе слово: голосую за Мигдала по твоей, Чук, просьбе. {444}
Перед очередными выборами физики зачастили к Дау. Пришел и Мигдал вместе с Артюшей Алиханьяном. К Артюше Дау еще со студенческих ленинградских лет, по-моему, питал очень теплые чувства.
А после войны они стали просто неразлучными друзьями. Очень часто я, Дау в компании с Артюшей посещали кино, рестораны, встречались по-дружески.
Приходу Артюши Дау очень обрадовался. А Аркадию сказал: «Миг, я голосую за вас. Умирающий Чук просил меня об этом. Я отдаю дань вашему таланту, но боюсь, что причиню ущерб науке».
Как-то, наконец, пришел и Женька. Я так боялась, что вдруг Дау его выгонит. Но Дау поднялся, ни слова не говоря, пошел в туалет.
Дау не спешил к Женьке. Выйдя из туалета, он прошел еще в физкультурный кабинет, сделал несколько упражнений, мне казалось, он не хочет разговаривать с Женькой.
Не успел Дау лечь в постель, вбежал Шурка Шальников.
— Дау, знаешь, Женю наш ученый совет выдвинул в членкоры. Ты будешь за него голосовать?
— Женьку в членкоры? — удивленно протянул Дау.— Ну, конечно, нет!
Женька красный, как ошпаренный рак, выскочил вон.
— Удивительно, почему со мной не посоветовались. Я очень хочу провести в членкоры на этих выборах Халатникова. А Женька — он ведь не физик.
Дау встал и в волнении стал ходить, потом решительно пошел в библиотеку, позвонил по телефону П.Л.Капице. Петр Леонидович сам снял трубку.
— Петр Леонидович, у меня к вам просьба. Пожалуйста, перед голосованием передайте нашему отделению мое пожелание. Я считаю, что самый достойный кандидат в членкоры от нашего отделения только Халатников.
Петр Леонидович ответил:
— Дау, устно объясняются только в любви. Напишите ваше ходатайство за Халатникова в письменной форме. Я прочту нашему отделению ваше пожелание.
Дау написал, и я лично отнесла эту записку Капице. {445} Ну, а Женька, выскочив от Дау, сел в свою «Волгу» и начал поочередно объезжать всех академиков, от которых зависило его избрание. Рыдая, что Дау окончательно сошел с ума: за лучшего друга и своего соавтора отказывается голосовать. Зельдович откликнулся на Женькин вопль, он зашел к Дау.
— Дау, мне Женя сказал: вы не хотите за него голосовать?!
— Яша, а вы не находите это естественным?!
— Дау, но ведь его работы...— он перечислил их.— Они не только хороши, они принадлежат к классическим работам в этой области теоретической физики.
Дау очень сердито воскликнул:
— Яков Борисович, вы это смеете говорить мне? Вы-то отлично знаете цену этим работам.
Лифшиц стал членкором АН СССР вопреки желанию своего учителя.
Это было в июле 1966 года.
Лето 1966 года. Мы никуда не поехали, на мое заявление на путевки в Крым наш лечебно-бытовой отдел предложил путевки обыкновенные, мотивируя тем, что даже всех членов Президиума они в этом году не смогли обеспечить люкс-путевками.
После смерти мамы на дачу не поехали. Лето было очень хорошее. Частые посещения Вишневского и Симоняна оправдали проведение этого лета в Москве. А вдруг, надеялась я, в один момент блокада Вишневского снимет боли и Дау будет здоров.
Очень много Дау гулял в институтском парке. Выходя на прогулки, нос к носу встречался с Женькой, но тот с высоты своего членкорского величия Дау не замечал, не здоровался.
В конце лета в Москве состоялась международная конференция физиков по низким температурам. Приехали иностранцы. Среди них был английский физик Шенберг. Он и раньше приезжал в институт П.Л.Капицы. Около года даже работал в Институте физпроблем, знал всех сотрудников хорошо. Прежде чем навестить Дау, он зашел к Женьке. Женька сдуру показал Шенбергу все те именные подарки, которые были вручены Дау в день его пятидесятилетия. Шенберг пришел в {446} восторг от подарков, которые Женька выкрал из нашей квартиры в наше отсутствие.
Когда Шенберг пришел к Дау, он сказал:
— Дау, вы замечательно выглядите. А Женя мне сказал, что вы в ужасном состоянии и чтобы я лучше к вам не заходил. Дау, Женя мне показал те именные подарки, которые вам были вручены в день вашего пятидесятилетия.
Он начал восторгаться подарками, продемонстрированными ему Женькой. Дау посмотрел на меня с упреком. Когда иностранец ушел, Дау сказал:
— Кора, я тебе простить не могу. Зачем ты скрыла от меня, что подарки украл Женька?
Дау быстро встал, вышел в библиотеку. Я услышала, как он сказал по телефону Женьке: «Зайди срочно ко мне».
Женька моментально прибежал. Я осталась в библиотеке. Дау был очень взволнован. Он закричал на Женьку:
— Подлый вор, мне Шенберг сообщил, что все подарки, исчезнувшие из кабинета в мое отсутствие, оказались у тебя. Сейчас же все мне верни.
Я не слыхала Женькиного голоса. Он молча быстро сбежал вниз. И, конечно, ничего не вернул. Дау очень нервничал, руки у него дрожали. Я ему дала капли, он понемногу успокоился. Но твердо сказал:
— Как только выздоровею, уволю Женьку и переиздам все свои книги по теоретической физике, но уже без соавтора-вора. <...> Но, Коруша, меня пугает другое: если Женька так обнаглел, если он уже поставил на мне крест, то я, наверное, никогда не выздоровею? Коруша, ты от меня это скрываешь? Столько лет боли в животе, после стольких травм. Я обречен на эти бесконечные мучения до конца дней? Я не вернусь в физику — вот где начинается трагедия. Ты мне самый близкий человек, самый дорогой мне человек, и ты меня обманываешь? Скажи мне правду, умоляю, я — обречен?
Я стала рыдать и его успокаивать.
— Нет, Дауля, нет. Поговорим серьезно. Ты помнишь Корнянского? Это из нейрохирургии.
— Этого «палача», конечно, помню. {447}
— Так вот, Женька с ним очень сдружился.
— Да, я помню. Мне Женька говорил, что это самый гениальный медик.
— Так вот. Этот Корнянский, как и Гращенков, были уверены, что у тебя потеряна ближняя память. Ты в те времена в больницах, да и дома, всем говорил: ничего не помню, спросите у Коры.
— Но ведь у меня спрашивали разные глупости.
— Дау, ты помнишь, как выгнал Лурье из палаты?
— Но он же дурак и психолог.
— Так вот. Общее заключение этих медиков говорит о том, у тебя погибла ближняя память. Даунька, а Александр Александрович Вишневский считает, что у тебя органические боли в животе.
— Но Александр Александрович уверил и Чука, что у него все благополучно. Назначил ему облучение вместо операции, и бедный Чук верит. Он и не подозревает, что он обречен.
— Даунька, если бы ты был обречен, я бы уже кончилась. Ты бы узнал это по мне. Посмотри, как я радуюсь, когда боли начинают стихать, я верю, я знаю, в один прекрасный день они полностью исчезнут. Когда прорастут те корешки нервов, что зажаты большой площадью сломанного таза. Каждый раз перед блокадой Вишневского я надеюсь, что его шприц наткнется на зажатый нерв и боли сразу исчезнут.
— Коруша, я тебе хочу верить. Я очень хочу тебе верить. Но меня настораживает поведение Женьки. Ведь он уворованные вещи так и не принес, не вернул. Он уже не верит в мое выздоровление.
— Даунька, ты забыл. Он теперь ведь имеет звание. Он из наглости, из присущего ему нахальства так похамски держится с тобой. А ты вспомни, как он из-за гвоздя устроил погром в твоем кабинете? Он с тобой все время мало считался. А его шуточки, унижающие тебя, довели меня до того, что я в твоем присутствии еще до войны, помнишь, набила ему морду. Он всегда был хамом! А сейчас, став членкором вопреки твоему желанию, он совсем охамел. Еще помнишь, у нас сетки от мух украл, когда ты из-за клопов выбросил его из нашей квартиры. Дау, он всегда был на руку не чист. Вот вспомни, он твои сетки тебе не вернул и все! {448}
<...>
— Корочка, я начинаю тебе верить. Так, следовательно, я не так, как Чук, я не обречен?
— Даунька, нет, нет и нет! Я бы тогда сошла с ума.
— Ну хорошо, Корочка. Я пока не буду кончать жизнь самоубийством. Скажи, Кирилл Семенович скоро вернется из отпуска?
— Да, Даунька. На днях он должен вернуться. Вскоре пришел Кирилл Семенович.
Рукопись К. С. Симоняна:
«1967 год.
Кора первое время присутствовала при моих визитах, а в дальнейшем часто оставляла нас одних. В один из таких дней, это было уже на третьем году наблюдения, он, попросив меня проверить, нет ли поблизости Коры, поставил передо мной вопрос ребром:
— Я должен вернуться к работе, но мне мешают боли в животе. Я хочу знать, если это неустранимо, мне нечего делать, кроме как покончить с собой. Такая жизнь, которую я веду, мне не нужна. Она меня не устраивает. Скажите, есть ли какой-либо выход?
— Да. Я полагаю, что вас надо оперировать, Дау.
— Зачем же стало дело? Оперируйте меня завтра!
— Не будем спешить. У нас есть время. Надо согласовать этот вопрос с другими врачами, с Капицей, с академией.
— Зачем же? Этот вопрос мы можем решить вдвоем. Для меня было ясно, что никто не поставит свою подпись перед необходимостью такой операции, поскольку у больного превалировала симптоматика атонии кишечника. Прямых доказательств в пользу спаечной болезни не было. Но она была и преимущественно носила толстокишечный характер.
План операции состоял в том, чтобы освободить толстую кишку от сращений и, поскольку она действительно атонична, пликировать ее на всем протяжении. Такие операции давали во многих случаях эффект, и больные, до того находившиеся на инвалидности, возвращались даже к физической трудовой деятельности.
У нас состоялся тягостный разговор с Корой.
Когда я сообщил ей, что необходима операция и что {449} вопреки мнению консилиума, поскольку Дау согласен на операцию, можем решить положительно этот вопрос сами, она долго металась из угла в угол, а потом спросила:
— А возможен смертельный исход?
— Никто не может предугадать исход наверное, Кора. Композитор Скрябин не думал, что умрет от сепсиса, который возникнет потому, что он расковыряет прыщ на лице.
— Тогда нет! — вскричала она, ломая руки. Зрачки ее вдруг сузились, и она стала отходить от меня, как будто я и есть та самая смерть, которая грозила Дау.
— Хорошо, — сказал я, — будем делать попытки, которые, может быть, к чему-либо приведут.
Но я уже не верил в это.
В один из ближайших после этой сцены дней я сказал Дау, что Кора опасается за исход операции и что поэтому надо повременить с тем, чтобы она привыкла к этой мысли. Дау сделал жест обеими руками, означающий согласие, но спустя минуту прервал меня, перешедшего уже на другую тему, и спросил:
— Только ли в Коре дело?
Его умные и добрые глаза светились такой доверчивостью, что я не смог солгать.
— Нет, Дау, не только в Коре, но и во мне.
Дау согласился с тем, что мое положение сложное, так же, как и Коры, но он не видит в этом непреодолимого препятствия. Он видел выход в нашей общей встрече с Капицей, и, если бы мы решили все это втроем, дальнейшее соблюдение необходимых формальностей Капица взял бы на себя.
На том и порешили, но не успели провести в жизнь задуманное, и тут главная вина падает на мою медлительность. Теперь, когда мне нужно было пойти к Капице, я откладывал этот визит со дня на день. Где-то в глубине сознания у меня таилось убеждение, что консилиум займет жестко отрицательную позицию, да и, кроме него, будут и другие препятствия».
После визита Кирилла Семеновича Дау не повеселел.
— Кирилл Семенович сказал, что надо оперировать мой живот. {450}
Когда Дау ушел на прогулку с Танечкой, под видом генеральной уборки я их попросила погулять подольше. Сама принялась тщательно обследовать его постель. Лезвий в доме не было, он давно пользуется электрической бритвой. Убрала все галстуки, все, что только могло вселить подозрение, снотворных у него не было. И все-таки страхи терзали меня. Убедительно было одно: «Если я не обречен, Женька не посмел бы мне так хамить». «Померанчук ведь не подозревает, что он обречен».
Все это так, но ведь Дау не обречен. Он выздоровеет и вернется в науку! Своими опасениями поделилась с Танечкой, на нее положиться можно. Моя жизнь очень осложнилась. В меня вселился страх. Это было ужасно!
После возвращения из Чехословакии Дау стал реже вставать ночью. Я уже начала ложиться в постель в соседней комнате. Теперь я одетая, только брала подушку, ложилась на пол, в коридоре у двери Дау, приоткрыв дверь в его комнату, всю ночь прислушивалась, ловя все шорохи ночи, пугаясь каждого вздоха Дау.
Как-то пришел с визитом академик Гинзбург. Он поднялся наверх к Дау. Там была Танечка. Вдруг слышу гневный голос Дауньки: он кричал Гинзбургу:
— Убирайтесь вон. Я видеть вас не желаю. Вон! Вон! Поднялась быстро наверх. Бледный, растерянный Гинзбург, пятясь, выходил из кабинета. У Тани тоже весьма растерянный вид. Гинзбург ушел.
— Зайка, милый, ты его за что выгнал?
— Как за что? Это первый друг и приятель Женьки. Выгнал его за дружбу с вором Женькой.
Логично? Безусловно.
Жизнь! Когда ты перестанешь мне подставлять подножку? Теперь и этот Гинзбург, его таланту Дау помог созреть в ученого, будет распространять весть, что Ландау сошел с ума. Это было невыносимо больно! Я очень расстроилась, в изнеможении опустилась возле Дау. Взяла его искалеченную руку из рук Танечки.
— Танечка, там обед в кухне готов. Идите пообедайте, а я помассирую ему руку. Мой милый Зайчик, ты всегда был белоснежный, без единого пятнышка. {451} Раньше ведь ты сам очень симпатизировал Гинзбургу. Гинзбург в отличие от Женьки ведь талантлив?
— Да, Коруша. Гинзбург талантливый. Но некая муть в нем есть.
— Даунька, скажи мне, как ты мог этого ворюгу Женьку так приблизить к себе? Его фантастическая скупость, его невероятная жадность к деньгам должны у каждого человека вызывать только презрение.
— Коруша, еще в Харькове, будучи студентом, он зацепился за меня. Отцепиться было невозможно. А потом он единственный из моих учеников провел в жизнь мою замечательную теорию «как надо правильно жить». Конечно, я не предполагал, что имею дело с вором.
— Зайка, что твой Женька — пакость, это я знала всегда. Сейчас просто не время заострять на этом внимание. Сейчас надо выздоравливать.
Опять этот весь инцидент с вором-Женькой и Гинзбургом припишут моей мелочности. Конечно, это я настраиваю Дау, чтобы он требовал свои подарки у Женьки, но не могу же я объявить по радио, что иностранцу Шенбергу член-корреспондент АН СССР Е.М.Лившиц продемонстрировал украденные им у больного Ландау именные подарки. А этот иностранец, будучи с визитом у Ландау, не ведая того, что Лившиц демонстрировал ему краденые вещи, с восторгом описал виденные им вещи у вора-Лившица.
Лившиц в пылу обуявшей его жадности, даже не заметил, что раз Дау помнит все, что ему сказал Шейнберг, то этим самым опровергается его вера в то, что у Дау погибли клетки ближней памяти. Большая беда была в том, что у Дау зародилась мысль: «Женька обнаглел, непомерно хамит, следовательно, я, как и Померанчук, обречен. Иначе быть не может!».
Бодрствуя ночью, не спуская с Дауньки глаз днем, я забывала поесть. И ночью, прикорнув на полу, не могла даже задремать от голода. А спуститься вниз поужинать боялась. Я буду ужинать — а Дау что-нибудь выкинет. К утру, к приходу Тани аппетит исчезал. Спать два часа в сутки я уже привыкла. Если бы эта мразь вернула подарки, возможно, Дау решил бы, что Женька {452} испугался, следовательно, он не обречен. Тогда у него исчезла бы страшившая меня мания о самоубийстве. Встретив случайно во дворе института Илью Михайловича Лившица, я обратилась к нему с просьбой:
— Леля, вы не можете посоветовать своему старшему брату вернуть все то, что он в наше отсутствие, без нашего разрешения вынес из кабинета Дау? Это Дау сейчас очень волнует!
— Как? Что вы такое говорите, Кора? Такого не может быть, чтобы Женя взял что-то без разрешения! Это невозможно!
— А вы, Леля, пойдите к Дау и спросите у него. К вам Дау был очень расположен всегда, а вы ни разу не посетили его больным.
— Мне Женя не советовал заходить к Дау, — последовал холодный лаконичный ответ.
Вот так вели себя друзья-физики, когда Ландау был болен.
Единственным моим утешением были посещения Ярослава Голованова. Часто вместе с ним приходил Валерий Генде-Роте. Валерий приносил новые снимки Дау, жизнь меняла окраску в более радостные тона. Дау подтягивался, веселел. Голованов приносил портативный магнитофон, некоторые рассказы Дау записывал на пленку. От этих визитов мы получали разрядку. Они были так далеки от мелких пошлых интриг, которыми была обогащена от природы натура Е.М.Лившица.
Наступил декабрь 1966 года. Не стало Померанчука.
Дау без конца восклицал:
— Такой талант! Такой молодой погиб! Так много еще Чук мог сделать в науке!
Вспоминала его последний визит: тогда он мне показался прозрачным, а сейчас, казалось, он растаял, его больше нет, и никогда я больше не услышу: «Учитель». Дау мрачно маршировал по верху нашей квартиры.
(Далее идет статья Ярослава Голованова «Дау без физики», которая здесь опущена.)
В начале весны зашел Алеша Абрикосов. Он рассказал: {453}
— Дау, мне пришлось отказаться от командировки в Париж.
— Почему? — удивился Дау.
— Понимаете, Дау, мне отказали оформить вместе со мной жену Таню.
Дау весело рассмеялся:
— Коруша, иди сюда. Посмотри на этого типа. Он отказался от поездки в Париж только потому, что его жена не может его сопровождать. Алеша, а может, в Париж вам и надо съездить без Тани? Поверьте, те, кто не захотел на вашу командировку оформить еще и вашу жену, желают вам добра. Вы все-таки вылезли бы из-под каблука вашей жены, съездите в Париж. Вдруг войдете во вкус жить на свободе. Ну, а если не понравится, по приезде опять залезете добровольно под каблук собственный жены. Алеша, Генрих IV в свое время сказал: «Париж стоит мессы». Поверьте мне, Алеша, своему учителю: Париж стоит того, чтобы в него съездить без жены!
Эти слова были пророческими: Алеша из Парижа привез новую жену.
Ранней весной я получила путевку в Крым, в санаторий «Нижняя Ореанда». После Сергеева, который за какие-то провинности был снят с поста главврача больницы, эти обязанности стал выполнять очень достойный человек и хороший врач Ростислав Владимирович Григорьев. Когда я стала собираться с Дау в Крым, он мне предложил организовать доставку Дау в самолет. Учтя трудности Чехословакии, хотела взять с собой в Крым Танечку, но у нее появился жених. Ростислав Владимирович мне очень помог: молодые, энергичные врачи на медицинской машине доставили не только нас в аэропорт, а подрулили к самому самолету. Мы с Дау летели в Крым в начале апреля 1967 года. Из Президиума Академии наук была дана телеграмма в санаторий, нас в симферопольском аэропорту ждала машина, удобная, длинная, марки ЗИМ.
После знаменитого крымского горного перевала Дау у меня потребовал туалет. Примерно год после активного лечения в Чехословакии Дау чувствовал себя отлично. Но потом опять участились ложные позывы в {454} туалет. Это был уже процесс травматических спаек в кишечнике, который развивался давно.
— Даунька, милый. Ты должен знать: позывы у тебя ложные.
— Коруша, а вдруг нет.
— Зайка, тогда мне придется ликвидировать «последствия аварии».
— Коруша, ты еще смеешь шутить? Попроси водителя остановить машину.
— Даунька, посмотри, кругом горы, скалы и ущелья!
— Да, Коруша, ты права.
Водитель знал — везет больного. Сверхбыстро домчал нас до санатория. Дау нервничал, метался, тосковал по туалету и совсем раскис. Сумерки уже спустились, оставив Дау в машине, я ворвалась в вестибюль санатория. Нарядная, благополучная публика танцевала. Где найти дежурного врача? Мой вид и энергичное требование врача вместо приветствия остановили танцы. Мне указали на диван, там сидел молодой врач в белом халате, рядом девушка.
— Доктор, здесь есть близко туалет?
— Да, — сказал он, явно растерявшись.
— Пожалуйста, помогите мне из машины у подъезда до туалета проводить больного мужа.
Водворив Дау в туалет, я представилась врачу. Он просветлел, поняв, что имеет дело с больным, но не с сумасшедшим.
— Мы вас ждали с утра. Ключи от ваших люксов у меня.
В люксе туалет и ванна оказались очень удобными. После ванны уложила Дау в роскошную постель, он быстро уснул.
Я осмотрела люкс: все как в сказке. Огромная столовая, дивная площадь для тренировочной ежедневной ходьбы. Обследовала пол: паркет гладкий, не имеет ни одного рубца. Дау не зацепится искалеченной ногой, это было главным. Окна открыты, непонятным ароматом напоен воздух. Выглянула в окно: парк, где-то вдали шепот моря. Море так не пахнет. Аромат незнакомый, но удивительно сильный, свежий. Уж не попала ли я в райский сад? {455}
Утром, на рассвете выглянула в окно — и замерла в восторге: на фоне морской синевы цвели деревья иуды, а аромат распространяли аметистовые каскады глицинии. Так вот как пахнет и цветет глициния! Я впервые в это время года в Крыму, впервые увидела цветы глицинии. Это не просто цветы, это благоухающие водопады. Я открыла стеклянную дверь столовой. С высоты небес все крыльцо в столовую охватила глициния — вот это аромат! В спальне тоже стеклянная дверь. Открываю — большая терраса, вид на море.
С утра пришел врач, привел массажистку. — В нашу общую столовую много ступенек вниз. Вам еду будут приносить сюда, в ваш люкс.
Пока массажистка занималась с Дау, я решила сбегать посмотреть море, но не тут-то было. Добежала до лифта, лифт уже ушел к морю. «Нижняя Ореанда» не соответствует своему названию: море внизу, а «Ореанда» — наверху. Бегом назад, к Дау. По дороге обратила внимание: площадь парка неровная. Ступеньки, подъемы, спуски — гулять ему будет трудно.
После завтрака пришел врач по гимнастике. На занятия гимнастикой надо приходить в лечебный корпус, в физкультурный кабинет. Назначил время. Погуляла с Дау по открытой веранде, усадила, снабдив его литературой, сама бегом решила посмотреть, где лечебный корпус и как туда пройти.
Еще назначили на завтра для Дау морские ванны. Дорога в лечебный корпус оказалась ровной, но ступеньки каменные, высота каждой ступеньки чуть ли не в два раза выше нормальных ступенек в нашей квартире. Эти ступеньки острые и очень зловещие. Все это вызвало тревогу: сумеет ли Даунька так высоко шагнуть искалеченной ногой?
С завистью смотрела: все отдыхающие идут, не замечая высоты ступенек, в лечебный корпус. В последнее время Дау стал посещать ученые советы в институте. В здании института с фасада ступеньки нормальной высоты, а справа, с боковой стороны — ступеньки завышены. Как-то, идя на ученый совет, Дау направился войти по ступенькам справа, сопровождающая его Танечка еле-еле удержала его от падения. {456}
Подошли с Дау вместе к ступенькам лечебного корпуса.
— Даунька, — спокойно сказала я.— Посмотри, ступеньки здесь немного выше нормы. Я тебя очень крепко держу. Постарайся как можно выше поднять ногу.
Осилили. Когда поднимал левую ногу, всем телом навалился на меня. Очень тяжело, но выдержать можно. Очень обрадовалась, что не попросила помощи. Спускаться легче, но тоже небезопасно: максимум напряжения, максимум внимания. Куда легче до десяти раз за ночь шнуровать высокие протезные ботинки. Ночью нет смертельной опасности. Но эти тренировки тоже пошли на пользу, через две недели Дау уже легко брал этот каменный барьер.
Когда я Дау подводила к этой зловещей лестнице, вся окружающая публика замирала. Получался кадр киноленты «стоп». Когда мы с Дау преодолевали лестницу, все легко вздыхали и улыбались, но ни один человек не подошел помочь мне. Почему? Вероятно, потому, что публика в этом санатории была именитая!
Узнала, что в лечебнице можно принимать сакинские лечебные грязи. Попросила врача назначить Дауньке грязи на живот и больную ногу. Врач ответил: «В санаторной карточке больного Ландау московские врачи не назначили ему грязи». Тогда пошла к главврачу санатория. Им оказалась очень симпатичная и добрая женщина. Она со мной согласилась, что грязи могут принести больному пользу.
Грязевые ванны были под строгим наблюдением врачей. Пульс был безупречен, больной стал себя чувствовать лучше. Грязевые ванны продолжались. Когда в Москве Александр Александрович Вишневский и Кирилл Семенович Симонян спрашивали Дау: «Опишите ваши боли в животе», он говорил: «Тысячи раскаленных иголок пронизывают весь мой живот».
После десятой грязевой ванны, в палате уложив Дау отдыхать, вдруг слышу — он закричал:
— Коруша, ура! Я выздоравливаю! Я кинулась к нему:
— Перестал болеть живот?
— Коруша, не совсем, но раскаленные иголки явно смягчили свои агрессии. {457}
Как он ожил! Глаза засверкали. Мы были очень счастливы, надеясь на ближайшее выздоровление.
После 14-й грязевой ванны в Крыму, в санатории «Нижняя Ореанда» в 1967 году в начале лета:
— Коруша, раскаленные иголки исчезли из моего живота совсем!
— Даунька, ты выздоровел?
— Нет, Коруша, понимаешь, у меня в животе остались какие-то сильные распирающие боли. Но характер болей совсем изменился. Боли потеряли остроту, но все равно они очень неприятные.
Так! Изменился характер болей. В те дни я огорчилась: одни боли кончились, другие, уже распирающие, возникли.
Я не медик, не могла знать, что распирающие боли в животе — это следствие послетравматических спаек. Острые боли зажатых нервов, видимо, заглушали распирающие боли. Итак, корешки нервов, зажатых сломанным тазом, сами проросли в июне 1967 года.
Ложные позывы увеличились. Теперь он уже ночью встает до десяти раз, не меньше! Послетравматические спайки в кишечнике уже активно начали развиваться!
Если бы мой муж был слесарь или шофер, при нем не состоял бы Е.М.Лившиц, тогда этому паразиту поживиться было бы нечем. Слесарь пришел в сознание, стал жаловаться на неотступные боли в животе, на бесконечные ложные позывы в туалет. Медики вспомнили бы о забрюшинной гематоме, по науке, в операционной вскрыли бы живот, и, конечно, разобрались бы в кишечнике. Эта область не состоит из сотни миллиардов микроскопических неизученных клеток. Человек был бы спасен. Но медики подняли несусветный шум на всю планету, имея в виду возвысить свою карьеру. Они все забыли, что у Ландау кроме мозга есть еще и кишечник.
| {458} |
Итак, Крым, начало лета 1967 года. Боли в животе изменили характер. Ходить стали лучше. Но в парке почва под ногами опасная. Библиотека в санатории замечательная, взяла для Дау массу иностранных детективов.
— Дунька, ты вот почитай, а я сбегаю к морю. Только окунусь, и назад. Ты ни в коем случае не ходи без меня. Ковры, ступеньки... я боюсь, что ты упадешь.
— Хорошо, Коруша, только ты поскорей возвращайся.
Заплыла, и назад. В мозгу возникли картины: Дау упал, зовет меня. Плыву что есть мочи назад. Судороги ног. Это нервы. Плыву стоя, плыву руками, еле добралась до берега. Прибежала в палату. Он лежит читает.
— Коруша, а я уже решил, если ты опоздаешь, хотел произнести тебе торжественную речь!
— И ты уже заготовил эту речь?
— Конечно
— Ну говори.
Я в изнеможении опустилась в кресло, нет, так к морю бегать невозможно. Сердце хочет выскочить!
— Коруша, если тебе надоело со мной возиться, ты сейчас имеешь полное право бросить меня. Я обещал тебя сделать счастливой, а сам уселся тебе на шею.
— Зайка, прекрати говорить глупости. Если бы заболела я, ты бы бросил меня?
— Ну что ты, конечно, нет.
— Ну тогда хватит говорить на эту тему. Даунька, мне очень жаль, что тебе здесь море недоступно. Чтобы добраться к морю, нужно преодолеть около ста ступенек, плюс лифт. Я решила перевести тебя в Алушту. Там есть филиал этого санатория, пляж там — ровный, не каменистый, рядом с санаторием, без единой ступеньки к морю.
Как-то, гуляя в парке, мы с Дау присели отдохнуть на скамейку. Подошла хрупкая аккуратная старушка. Обратилась к нам:
— Скажите, пожалуйста, здесь не проходил Сергей Степанович? {459}
— А мы не знаем Сергея Степановича.
Она присела рядом с нами.
— Как же так, отдыхаете у него в санатории и не знаете нашего Сергея Степановича? А мы, все окрестные колхозники, знаем Сергея Степановича и все идем к нему с нуждой. Вот мне прописали в районной больнице лекарство, а в аптеке его нет. Пришла к Сергею Степановичу, он написал бумажку в свою аптеку, я пошла — лекарство есть, а денег не хватило. У меня рубль, а лекарство стоит три рубля. Вот опять к нему. Он даст, он хороший, он добрый человек!
— Бабушка, возьмите, пожалуйста, трешку на лекарство. Очень приятно слышать о хороших, добрых людях.
Вспомнив этот рассказ старушки о сердечной доброте директора нашего санатория, я пошла к нему с просьбой перевести нас в Алушту, где ровная площадь и удобный пляж. Сергей Степанович, выслушав меня, моментально согласился.
— Завтра утром вас на машине перевезут в Алушту.
— Сергей Степанович, скажите, пожалуйста, в Алуште на пляже вашего филиала есть водные велосипеды.
— Нет, там водных велосипедов нет. Помня старушку, я решилась попросить:
— Сергей Степанович, а нельзя ли один велосипед перебросить в Алушту не на пляж, а в парке возле санатория поставить. Мужу очень полезно вертеть педали ногами. Ему все это ортопеды прописывали.
— Ну задали вы мне задачу. У нас на пляж в «Ореанде» на машине не подъедешь.
— Да, наверное, это невозможно. Там кругом скалы.
— Обещать не могу. Посмотрю, возможно ли это. Когда мы на следующий день приехали в Алушту, водный велосипед стоял в парке, возле санатория. Вот какие бывают добрые люди!
Этот филиал был райским уголком. Дворец выстроил в стародавние времена купец Елисеев у самого моря. Рядом пляж. Теперь в 7 часов утра Дау был уже на пляже. С 7 до 8 утра солнечные ванны и море.
— Даунька, можно я заплыву, вот на твоих глазах? {460} Ты меня не зови. Я хочу доплыть только до холодного течения и сразу вернусь назад.
— Ну хорошо, Коруша, плыви.
Только я отплыла, душераздирающий крик на весь пляж, на все море. «Ко-ру-ша!» Плыву назад, спешу, глотаю воду, боюсь, на нервной почве схватят судороги. Нет, плавать мне нельзя.
Все на пляже смотрят на меня с большим упреком. Хочется всем в оправдание сказать: «Больше плавать не буду». Нельзя, чтобы Даунька так нервничал, так кричал.
— Заинька, милый, прости меня. Я больше не буду плавать.
— Коруша, но ты ведь так далеко заплыла, я испугался, что ты не успеешь вернуться, а мне понадобится туалет.
Здесь, в доме отдыха для здоровых, массажистки не было, пришлось мне заниматься общим массажем и массажем конечностей. По выходным дням дома я всегда делала массаж. Приемы массажистов я уже изучила.
В 8 утра мы уже возвращались с пляжа. Боялась горячих лучей солнца — весь день проводили в парке у самого моря, но в тени. На водном велосипеде Дау тренировался до 10 раз в день. Икра на больной ноге заметно округлилась. Это было занятием вместо физкультурного велосипеда. Главное — Дау нравилось крутить педали.
В Алуште дом отдыха был немногочислен. Это создавало своеобразный уют. К одной из сестер по имени Клара Дау был очень расположен. Всегда встречал ее словами:
— Клара, зачем вы украли у Карла кларнет? Она ему вторила:
— Затем, что Карл у Клары украл кораллы.
В один из дней, гуляем с Дау в парке, навстречу идет Кларочка с Юлей Трутень.
— Мы вас разыскиваем. Вот к вам гость из Севастополя, — сказала Клара.
После приветствия Юля объяснила:
— У меня сейчас отпуск до первого сентября. Узнав, что вы обосновались здесь до осени, я с мамой приехала {461} отдохнуть сюда. Комнату на все лето я сняла у Клары, а целый день буду отдыхать здесь, в парке у моря. Кора, вы ничего не будете иметь против, если я с вами буду гулять?
— Юлечка, я просто счастлива. Вы погуляете с Дау, а я побегу и за весь сезон хоть раз заплыву.
Мы были обе счастливы. С появлением Юли я могла беззаботно плавать. Я видела, я знала — эти прогулки Юле доставляют большое счастье, мне Юля принесла большую помощь. Я даже могла заснуть днем.
Юлечка каждый день с утра приносила Дау свежие газеты, ее глаза сияли счастьем. Она сменяла меня у Дау, а я бежала к морю, упиваясь его зеленой синевой и свежестью. Спасатели меня уже знали и разрешали заплывать подальше. Юля быстро усвоила массаж больной руки, Дау был очень рад, что я имею отдых.
Да и их беседы были взаимно интересны. Дау всегда интересовался программой и работой средних школ, а Юля всю жизнь проработала в школе. Дау был уверен, если разумно составить школьную программу, выбросить балласт, полное среднее образование должно вместиться в восемь лет. Молодежь должна раньше приобщаться к труду, самостоятельной жизни, тогда не будет пустого праздного времени, которое очень вредно отражается на психологии созревающего человека.
Наплававшись вволю, разыскала Дау и Юлю. Они сидели на скамейке, Юля делала легкий массаж искалеченных пальцев. Дау с воодушевлением говорил:
— Моя программа средней школы с общим объемом полезных, необходимых знаний вместилась в 8 лет обучения. К примеру, в геометрии я выбросил все бесполезные шарады-теоремы, оставив только практически необходимые теоремы, которые нужны человеческому обществу для применения в технике и науке. Из общего курса по геометрии я оставил только 15 процентов истинно полезных теорем.
У меня вся полезная школьная программа была готова, когда вдруг в 1954 году министр просвещения мне позвонил и попросил составить примерный план школьной программы. Я на следующий день ее отвез в Министерство просвещения, но она годы где-то лежит под сукном или затерялась. {462}
В зарослях парка я присела почти рядом, осталась незамеченной. Дау ко мне сидел спиной, лицо Юли удачно освещало солнце. Меня впервые поразило — да ведь она красива, подумала я. Во всяком случае, была красивой. Правильные, почти точеные черты лица (примерно моего возраста).
Годы студенчества в стенах Харьковского университета у нас с Юлей были одни. Разница была только в факультетах: она — на физическом, я — на химическом. В те мои молодые годы университетские сплетни доносились на наш факультет о легендарном молодом профессоре Ландау и влюбленной в него без надежды на взаимность студентке-украиночке его факультета.
Сейчас мне кажется, что благополучная любовь — пусть большая, пусть взаимная — через десятилетия жиреет, исчезает трепетная сила любви. Ураганная сила любви может длиться бесконечно, если каждый день перед тобой встает угроза потерять любимого!
А у Юли тоже любовь, тоже большая, тоже на всю жизнь. Но любовь без надежды, без взаимности. В юности полюбить безответно и на всю жизнь! С молодых девичьих лет повесить над постелью портрет любимого, и точка! Раз в год, в отпуск обязательно приезжать в тот город, где живет Ландау, пятиминутный визит, короткий разговор о жизни, о науке и работе — и это все. Зарядка на год. В день рождения Дау и на Новый год — короткие поздравительные звонки из Севастополя. Чувство большой безответной любви у Юли было очень гордое, очень ранимое чувство. Никогда за всю жизнь ни единой попытки навязать себя. Дау к Юле относился всю жизнь с большим человеческим уважением, но женщину он в ней не видел, зная, что она его любит.
Когда я переехала в Москву к Дау и была в Малом театре на спектакле с участием знаменитой актрисы Яблочкиной, Дау мне рассказал легенду. Молодую актрису Яблочкину полюбил взаимно красавец-князь! Княжеские родители, категорически запретили молодому князю жениться на актрисе. Князь застрелился! Молодая актриса сохранила на всю свою долгую жизнь верность любимому. Это красиво и понятно. Но Юля, ее любовь к Дау? Это было непостижимо! {463}
Не каждый смертный может заслужить вот такую любовь. Это следствие обаяния могучего таланта, гениальности личности. Да, личность Дау гениальна. Это я знаю теперь, в 1975 году. Но как молоденькая, строгих правил студенточка в начале 30-х годов, это сумела оценить, понять, полюбить?! Так бескорыстно и на всю жизнь!
Как-то ночью Дау было плохо. Заснул Дау уже утром, я очень испугалась, спать не могла, и Юля утром застала меня в слезах. У Юли сделалось очень строгое и серьезное лицо.
— Кора, давайте выйдем. Я хотела с вами давно поговорить.
— Кора, может быть, вы думаете, что раньше, в молодости, у меня с Дау были близкие отношения?
Ни слова не говоря, я обняла ее:
— Милая Юлечка, я знаю лучше вас, что у вас с Дау никогда не было интимных отношений. А сейчас ваше появление здесь меня просто осчастливило. Мне сейчас даже трудно представить себе, как бы я обошлась без вас. Юлечка, мне так приятно, что Даунька с удовольствием остается с вами. Вы давнишний его настоящий друг. Я очень благодарна вам за вашу помощь. Ведь вы же мне здорово помогаете, я это очень ценю!
Юлечка, расцвела, повеселела. Видно, у нее свалился камень с души.
Вскоре, спокойно оставив Дауньку на Юлю, я только собралась нырнуть с причала, как ко мне подошла одна из отдыхающих.
— Вы давно знаете эту женщину, что без вас гуляет с вашим мужем в парке?
— Да, давно.
— А вы знаете, что она любит вашего мужа?
— И это я давно знаю, но как вы об этом догадались?
— Она сама об этом рассказала вчера вечером на женском пляже всем присутствующим. Так и сказала: я его люблю всю жизнь, с юности по сегодняшний день. Она так пламенно, так долго говорила о своей безответной любви к этому академику.
— Но ведь любовь прекрасна, — сказала я, нырнув в набежавшую волну. {464}
Я люблю плыть не оглядываясь, любуясь прозрачной, чистой цветовой гаммой сине-зеленых волн. Вот так плыву, любуюсь волнами и думаю: хорошо бы быть русалкой, как мягко, должно быть, спать, качаясь на волнах. Не успела выбраться из моря, меня атаковала все та же отдыхающая.
— Как вы можете так долго плавать, а эту женщину оставлять с мужем? Вы не боитесь? Вы не ревнуете?
У меня опустились руки.
— Он очень болен, — сказала я. Круто повернувшись, быстро ушла.
Но отдыхающие дамы заметно оживились. Теперь Юлечка и Дау гуляли под их пристальным надзором. Ко мне подходили еще отдыхающие дамы с жадным любопытством во взоре: как, неужели вы не ревнуете? Вы не ревнуете мужа к женщине, которая его любит?
Не могла же я объяснить этим дамам, что по теории Дауньки любовь и ревность несовместимы, хотя бы потому, что я сама за всю свою жизнь этого понять не смогла. А в данном случае Дау был прав.
Уехали мы в самом конце августа. Только в самолете я увидела, как Дау посвежел, загорел, окреп. Выглядел он замечательно. По возвращению из Крыма врачи, наблюдавшие Дау, пришли к единодушному мнению: живот вздут довольно сильно. Надо произвести тщательное обследование кишечника в клинических условиях. Вишневский сказал: «В загородной кунцевской больнице первоклассный рентгеновский кабинет». В конце октября отвезли Дау на три недели обследовать кишечник в эту больницу. На общительного Дауньку неразговорчивые новые, незнакомые врачи нагнали уныние. Он привык быть дома, чтобы я была рядом. Два раза он еще позволил себя раздеть и улегся на холодный металлический рентгеновский стол. Эта процедура сопровождалась еще уколами. А потом категорически заявил: «Сколько можно колоть, лежать на холодном металлическом столе и все — без толку? Вызовите мою Кору. Если она скажет мне о необходимости этих процедур, тогда я на них соглашусь».
Мне выписали пропуск в любое время дня и ночи. По вызову врачей я мчалась в больницу. Меня он слушал, {465} рентгеновский отдел в этой больнице был замечательный. Но Дау очень нервничал. Снимки были неудачные. Рентген повторяли много, много раз. Потом собрали консилиум. Я была в коридоре, меня не пригласили. Консилиум из врачей был в палате у Дау. Врачи вышли, мне ничего не сообщили. Я вошла к Дау в палату.
— Дауленька, что эти врачи тебе сказали?
— Коруша, они мне ничего не сказали. Понюхали, понюхали и прочь пошли. (Цитировал Гоголя всегда).
Да, этих врачей разговорчивыми не назовешь. Потом мне сообщили: рентгеновское обследование показало камни в желчном пузыре с грецкий орех. Как следствие забрюшинной гематомы, за годы болезни гематомы обизвестковались и превратились в камни. По-видимому, и вся печень в таких обизвестковавшихся гематомах. В печени нет нервов, они болей не дают. А камни в желчном пузыре необходимо удалить, надо оперировать. «Я согласна на операцию, — поспешила ответить я.— И муж тоже согласится. Чем скорее, тем лучше».
Сама подумала: прежде чем до желчного пузыря доберутся, увидят, что происходит в кишечнике.
На следующий день в больнице мне сообщили: желчь проходит, камни желчи не задерживают. Поэтому необходимость в операции отпала. С таким диагнозом в конце ноября я Дау привезла домой. Этот диагноз меня не взволновал, если камни не мешают желчи выходить, возможно, их и вовсе нет.
Я знала измотанную нервную систему Дауньки: когда он ложился раздетый на холодный металлический рентгеновский стол, он превращался в напряженный нервный комок. Возможно, просто были нервные спазмы, не пропускавшие пунктира.
Так и оказалось впоследствии: при вскрытии — печень чистая, без изъянов, как у новорожденного ребенка, желчный пузырь чист, никаких камней нет, обизвестковавшихся гематом тоже нигде не было.
В день приезда Дауньки из больницы в почтовом ящике без конверта достала бумагу с отпечатанным на машинке текстом. Не читая, я отдала ее Дау. А сама {466} спешила сервировать стол для обеда. Через некоторое время, войдя в комнату Дау, я была потрясена его опустошенным взглядом. Его внезапная подавленность поразила меня, он был так счастлив возвращению домой, с таким нетерпением ждал Гарика и Свету, и вдруг такая внезапная отрешенность.
— Даунька, что случилось?
Он безжизненным, вялым жестом поднял руку с этой бумагой.
— Коруша, где ты ее взяла?
— Даунька, в почтовом ящике. Она даже не согнута, была без конверта.
— Да это Женька сам ее напечатал и опустил в ящик.
— А в ней что-нибудь плохое?
— Куда хуже. Это мой приговор.
— Дай я прочту.
«В издательство «Наука»
Настоящим сообщаю, что я не возражаю против того, чтобы для сохранения преемственности со всем Курсом, на левом титульном листе книги «Релятивистская квантовая теория» над словами «Теоретическая физика» была указана моя фамилия.
Академик |
(Ландау) |
24/Х1-1967 г.» |
Я сразу все поняла. Как я могла не прочесть и отдать Дау? Это было непростительно, надо было уничтожить, не показывая Дау. Но я решила, что это институт оповещает, когда Дау прийти на очередной семинар. Обычно институтские бумаги опускались для Дау, не запечатанные в конверт.
— Коруша, подумай сама. Я еще в юности задумал создать этот курс теоретической физики. После этого курса — очень хорошего учебника для начинающих молодых физиков — я еще мечтал создать учебники для школы. У меня была заветная мечта — сделать в нашей стране образование лучшим в мире. А теперь я знаю — последние два тома мне не суждено дать физикам.
Говорил он тихо, медленно, как человек, потерявший {467} все. А сколько затаенной боли и горечи! Я разрыдалась.
— Даунька, мой драгоценный! Ты очень большое значение придешь этому подлецу Женьке. Он с младенчества усвоил, что на горе и несчастье ближних нужно создавать свое благополучие. Я забыла все его злые обиды, я ему устроила зеленую улицу, чтобы он посещал тебя. Было мнение, что этот «капуцин» вопьется в тебя, и ты начнешь заниматься ну не физикой, а начнешь работать над книгами. Я в это не очень верила, к этому меня вынудили медики. Дау, прости меня. Я его допустила к тебе, у тебя еще тогда полностью не восстановилась память.
<...>
— Коруша, но все это говорит о том, что я обречен и что я не выздоровею. Коруша, мне с тобой в прятки играть нечего — я обречен. Боли у меня никогда не исчезнут, в физику я не вернусь! Иначе Женька не позволил бы себе подобной наглости. Ты ведь меня, Коруша, любишь?
— Ну еще бы, Даунька. Если честно — ты мне дороже Гарика.
— Я так и думал. Ты должна мне помочь. Пойми, жить без физики я не могу. Коруша, помоги мне кончить жизнь.
Как это было сказано! Я задохнулась от рыданий. Я умоляла, я все отрицала. Я действительно очень верила, что Дау скоро выздоровеет. Но на все мои уверения, на все мои мольбы, он ответил тем же отрешенным голосом:
— Ну что ж, придется самому. Я так надеялся на тебя, на твою мне сейчас так необходимую помощь.
— Даунька, вот придет Вишневский...
— Коруша, хватит. Чук умер на руках Александра Александровича. А его последний звонок ко мне был полон радостных надежд на выздоровление. Смерть есть нормальное природное явление. Я не боюсь смерти, но жить в мучительных болях без физики я больше не могу! Существовать без науки невозможно! Мне хотелось от тебя ничего не таить, ничего не скрывать. Ближе тебя у меня никого не было и нет, а ты {468} отказываешь мне в необходимой помощи, без ненужных мучений уйти из жизни. Это жалкое существование без физики — для меня хуже смерти!
— Дау, остановись. Женька сейчас как с цепи сорвался. Он потерял контроль, он так легко сделался членкором против твоей воли. Он уверен, что у тебя погибла навеки ближняя память. Дау, пойми одно: Женька тебе всю жизнь зло завидовал черной завистью. А сейчас он хочет, как видно, по этой зловредной бумажке присвоить и то, что ты уже успел сделать для следующего тома.
— Коруша, Женьку я физиком никогда не считал, но что он такой подлец — я ожидать этого не мог. Коруша, так ты думаешь, мне удастся переиздать мои тома без Женьки?
Я уверяла Дау, но все-таки не спускала с него глаз ни днем, ни ночью. Теперь я старалась все время быть с Дау. Я почти не выходила из его комнаты, а уложив спать, садилась у постели в кресло. Сна не было и в помине. Был большой страх, а вдруг не услежу и он попытается кончить жизнь самоубийством. От Гарика все скрыла, рассказала только Кириллу Семеновичу. Кирилл Семенович мне сказал, что о самоубийстве ему Дау тоже говорил:
— Кора, не спускайте с него глаз.
— Кирилл Семенович, я так и делаю. У меня от страха сна больше нет. Заказы продуктов я оформила на дом. Из дома теперь не выхожу, я переполнена страхом, от малейшего шума вся трясусь.
Примерно через неделю вдруг зашел Питаевский — ученик Дау. Из новых молодых, Дау о нем говорил как об очень способном. Открыв дверь, я сказала:
— Дау наверху. Он сказал:
— Конкордия Терентьевна, я не к Дау, я к вам.
— Пожалуйста, заходите, — сказала я, приглашая его к себе.
— Конкордия Терентьевна, у нас, всех учеников Дау, к вам огромная просьба: дело вот в чем. Евгений Михайлович и я хотим выпустить 8-й том по курсу Ландау. Вы сейчас имеете очень большое влияние на Дау, если вы его попросите, он вам не откажет, а нам необходима подпись Дау вот под этим документом. {469}
Он протянул мне копию той же бумажки, напечатанной Женькой и принесшей Дау столько огорчений.
Сдерживая себя, я холодно сказала:
— Мне странно поведение учеников академика Ландау. Когда Дау был здоров, никому бы из вас в голову не могла прийти такая глупая вещь, что жена Дау должна влиять и вмешиваться в его научные дела. Так вот я вам заявляю категорически: Дау уже прежний, и посредничать между учителем и учениками я не буду. Если вы считаете такую просьбу дозволенной, то идите к нему и поговорите сами.
И он пошел, не придавая никакого значения моему слову «дозволенной». Он пошел наверх к Дау. Там была Таня. Я готовила обед. Через некоторое время он стал спускаться по лестнице. Я вышла его проводить, он весь сиял счастьем, улыбался, помахивая злополучной бумажкой.
— Неужели он вам подписал?
— Нет, конечно, он меня погнал, но я убедился: Дау — прежний, Дау выздоравливает!
«Что ж, — подумала я. — Этот Питаевский не законченный подлец. Он физик, доктор наук, Дау считал его способным. Неужели этот интеллигентный ученик академика Ландау не понимает, что нельзя обращаться к больному, неприлично сказать ему: «Ваша песня спета, вы уже никогда не сможете закончить своих книг, подпишите, мы закончим ваши книги, мы станем авторами ваших работ».
Даже новогодний таинственный букет роз не улучшил моего настроения. Дау был грустный, он сомневался в своем выздоровлении. Мне тоже не хотелось жить. Иногда подлость беспредельна!
Питаевский из более молодого поколения учеников Ландау. Дау при мне не высказывался о человеческих качествах Питаевского, а вот Дзялошинскому он явно симпатизировал. Еще до аварии он мне как-то сказал: «Очень славный Дзялошинский, Коруша, он влюбился в замужнюю девушку. А когда выяснилось, что ее муж по-хамски обращается со своей женой, он ее увел от мужа. И какая из них получилась счастливая пара! Между прочим они сегодня вечером придут к нам пить чай».
<...>
| {470} |
21 января 1968 года Дау исполнилось 60 лет. К сожалению, этот юбилей не был похож на 50-летний. Пошел уже седьмой год болезни. А авторитетные медики и медицинские учебники говорили: корешки нервов, зажатые сломанными костями, по опыту медиков второй мировой войны, прорастали к семи годам. Следовательно, этот год, мечтала я, — последний год болезни Дау.
Нет, мне не казалось, что я долго ухаживаю за больным Даунькой. Я не ощущала, что прошли годы. Нет, просто была трудная длинная ночь. После ночи наступит утро. Утро выздоровления. И жизнь снова засверкает всеми своими гранями. И Даунька еще увидит небо в алмазах, он даст жизнь новым открытиям!
Надежда на счастье, мечта о счастье — очень красит жизнь. Гостей ждала много. Стол раздвинула до предела, и, конечно, Петр Леонидович и Анна Алексеевна Капица были самые дорогие гости. Беседа Петра Леонидовича за столом была всегда интересна, остроумна. Почти всегда новый остроумный анекдот.
Патриарх Всея Руси прибыл в Америку. Его окружили репортеры. Первый вопрос к патриарху: «Как вы смотрите на публичные дома в Америке?».
Удивленный патриарх спросил: «В Америке есть публичные дома?». На следующий день все американские газеты сообщили: первый вопрос, который патриарх Всея Руси задал журналистам: «Есть ли публичные дома в Америке?».
В музее Лондона Бернард Шоу, рассматривая сапоги, которые тачал сам Лев Толстой, произнес: «Граф писал романы лучше».
Когда появился Гарик с молодой женой, все физики привстали, пораженные красотой молодой Светочки. Устремили вопросительные взгляды на Дау.
— Дау, когда же вы успели выбрать Гарику такую красавицу жену? Гарик не мог бы справиться сам. Зная вас, это не могло произойти без вашего участия.
Дау очень счастливо смеялся. На это ответил: «Наука имеет много «гитик». {471}
Статья Ярослава Голованова в день 60-летия Дауньки осталась мне памятным подарком на всю жизнь.
(Текст этой статьи здесь опущен.)
Наконец, 5 марта 1968 года Кирилл Семенович Симонян привел тех врачей, о которых я мечтала все годы болезни Дау. Профессора Вотчала и профессора Васильева, того самого Васильева, который славился своими медицинскими познаниями в области кишечника.
В первый день аварии — 7 января 1962 года, — осмотрев забрюшинную гематому кишечника, он записал: «Забрюшинная гематома смертельна. Помочь ничем не могу». Расписался и уехал. И вот спустя 6 лет он видит этого больного. Больной уже ходит и его только донимает боль в животе.
Я присутствовала, когда Васильев осматривал больного. Увидела, каким искренним счастьем засветились глаза профессора. Он был счастлив в своей ошибке. Он с восторгом выслушивал, тщательно изучал живот больного. Вотчал тоже был впервые. Это были знающие медики-клиницисты. Очень долго, очень внимательно они осматривали Дауньку. Потом внизу у меня в гостиной был консилиум из врачей: Паленко, ведущий врач Ландау из больницы Академии наук СССР, Симонян, Вотчал и Васильев. Они сказали мне так: «Больной в блестящей форме. Если ничего не делать, а просто ждать, через несколько месяцев боли уйдут сами по себе. Но мы приложим все свои старания и поможем больному избавиться как можно раньше от болей в животе». Медицина всей нашей планеты, увы, не умела просмотреть весь кишечник.
Надо ли говорить о том, как я была счастлива в этот день. Следовательно, все опытные медики, очень авторитетные, прошедшие фронт, видавшие тяжелые ранения, так же как и Вишневский, считают: боли уйдут. {472} Только один Кирилл Семенович предложил оперировать, но не очень настаивал на своем решении.
Как только закончился консилиум, Даунька повеселел, ему очень понравились новые, им впервые увиденные врачи. Они были очень оптимистичны, по-моему, он поверил их прогнозу, поверил в свое исцеление. Танюша уговорила меня лечь. Я уснула и проспала целых два часа.
Все последующее время месяца марта до 25-го числа пролетело как единый миг надежды на счастливое выздоровление. Надежды на счастливое выздоровление сменялись отчаянием. Бесконечные позывы в туалет. С утра приходил Вотчал. Он часто посещал Дау вместе с Кириллом Семеновичем. 23 марта Вотчал и Кирилл Семенович решили Дау назначить яблочную диету. Достав хорошую семиренку, тщательно очистив, удалила сердцевину и давала Дау мякоть нежного яблочного пюре.
Но 25 марта в 4 часа утра началась рвота. Рвал он желчью и очень, очень жаловался на боли в животе. Было воскресенье, я была с Дау одна. Встревожилась очень, но почему-то не решилась так рано никого беспокоить. Я тогда не знала, что непроходимость кишечника начинается со рвоты.
К 8 часам утра рвота увеличилась. Я позвонила профессору Вотчалу домой. Он скоро приехал, назначил сифонную клизму. Позвонила главному врачу Академии наук Ростиславу Владимировичу Григорьеву домой. Он срочно прислал скорую помощь, медсестру и вскоре приехал сам. В 10 часов утра позвонила Симоняну по совету профессора Вотчала. Он сказал, что на всякий случай необходим хирург. Измотанная до последней степени, от слова «хирург» едва устояла на ногах. Сифонная клизма не помогла — рвота и мучения Дауньки усиливались. Главврач Ростислав Владимирович Григорьев прислал уже карету с реаниматорами. Дау отказался от дальнейшего применения сифонной клизмы, попросил срочно вызвать Симоняна.
Я уже едва успеваю менять простыни и одеяла. Рвота льет фонтаном, врачи хлопочут около Дау, а я в ванной замываю рвоту желчи с пола, с кровати, с окружающих предметов. Когда в кабинете Дау все было пропитано рвотой, я его перевела в чистую комнату. {473}
Меня до истерики уже угнетает запах рвоты. Что-то есть зловещее в этом выделении ядовито-желто-зеленого цвета. Я вся сама пропитана рвотой, все с себя снимаю, стараюсь смыть горячей водой.
Звонок внизу. Накинув легкий халат бегу, открываю. Приехал Симонян. Как я сейчас многого от него жду. Вишневский из командировки не вернулся. Если операция неизбежна, оперировать будет только Симонян. Это все решила пока подсознательно. Увидев Кирилла Семеновича, ничего не могла сказать, боялась разреветься. Дау может услышать и испугаться. И когда у самого Симоняна с сифонной клизмой ничего не получилось, он сказал два слова: больница, операция!
Я заметалась. Дау увозила скорая медицинская. Вдруг появился Гарик.
Я мокрая, почти раздетая, в одном халате сунула босые ноги в сапоги, схватила плед, села в машину к Гарику, помчались вслед за скорой, увозящей Дау. Теперь уже навсегда!
В воскресенье, 25 марта 1968 года, в 16 часов, в больнице уже все готово к операции. Стал собираться консилиум, но не было анестезиолога. Машина, поехавшая за анестезиологом, где-то провалилась в яму и застряла. Гарик за рулем. Я с ним полураздетая, завернутая в плед, помчались за анестизиологом. Гарик что-то нарушил. Свисток. Его остановило ГАИ. Я сорвалась с места, бегу к милиционеру: «Поймите, муж, академик Ландау на операционном столе. Едем за анестезиологом. Дайте зеленую улицу».
Зеленую улицу дали. Анестезиолога привезли. Дау уже на коляске, готовый к операции. Коляска с Дау стоит у дверей операционной. Ему худо, из простыни возвышается вздутый живот. Он еще в сознании. Просит уже шепотом, силы его на исходе. «Пожалуйста, скорей, операцию»!
Я не выдерживаю, врываюсь на заседание консилиума, а там главный хирург больницы Романенко, спокойный, подобранный, медленно допытывается у Кирилла Семеновича: «А зачем вы с Вотчалом назначили больному яблочную диету?». Симонян отвечает: «От яблочной диеты еще никто не умер! Почему вас это волнует?». {474}
Я в упор подошла к Романенко. «Вы почему задерживаете операцию? Оперировать будете не вы, оперировать будет Симонян».
И этот Романенко спокойно ответил: «Ландау умрет на операционном столе. Я против операции. Он ее никогда не перенесет. Зачем оперировать?». Хотелось вцепиться в этого спокойного, бездушного хирурга и разорвать его, но сдержалась.
— Как зачем? Чтобы помочь больному. Нельзя допустить, чтобы он умер до операции. Вы врач, разве вы не понимаете, что операция — единственный шанс выжить или, в крайнем случае, пусть, как Королев, умрет под наркозом. Королев доверил свою жизнь хирургу, он умер под наркозом, без мучений. Я настаиваю на немедленной операции. Он измучен вконец, он сам умоляет о немедленной операции, спаечная атака началась сегодня с четырех часов утра. Кирилл Семенович, ведь вы врач, немедленно оперируйте. Пусть этот главный хирург возражает. Не обращайте на него внимания.
Обещали немедленно оперировать. Гарик меня вывел. Я металась. Потом Дау взяли в операционную. Мы с Гариком уехали домой в 0 часов ночи. В ту же ночь Романенко подал заявление главному врачу больницы Григорьеву в письменной форме, что он, главный хирург больницы АН СССР, за жизнь академика Ландау ответственности не несет, он против операции.
Еще человек жив, а медик, врач, давший клятву Гиппократа, мелочно снимает с себя ответственность — это медик-бюрократ!
Привожу рукопись К.С.Симоняна.
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛАНДАУ»
24 марта 1968 года. Воскресенье. 10 часов утра. Звонок по телефону. Кора Ландау сообщает, что Дау с утра стало хуже — вздут живот, — что она уже позвонила Борису Евгеньевичу Вотчалу, который обещал скоро приехать, и что она просит меня не отлучаться из дому. Обещаю.
Последние несколько дней действительно жалобы Дау на боли в животе усилились, да и живот стал более вздутым, чем обычно. Мы с Вотчалом решили испробовать разгрузочную яблочную диету, но она, по-видимому, {475} не помогла. Зная склонность Коры Ландау к преувеличению жалоб мужа, успокаиваю себя, что все обойдется, тем более что телефон молчит.
Однако в 12 часов дня звонок. У телефона Кора Ландау. Дау хуже, и мы договариваемся, что, если процедуры, проводимые работниками больницы АМН, не помогут, мне придется приехать, когда она даст знать. В 15 часов позвонил главный врач больницы АМН Ростислав Владимирович Григорьев, отличный администратор и чуткий, добрый врач. Он встревожен. Дау становится хуже и за мной выслана машина. Вотчал осмотрел больного и пожелал, чтобы Дау был немедленно осмотрен хирургом. Одеваюсь и выхожу к ресторану «Серебряный бор», где обычно меня ждет машина больницы при поездках к Ландау. Очень скоро приходит машина. Шофер мне незнаком, он доверительно сообщает, что все встревожены и что постарается доставить меня быстрее.
Лента шоссе. Поворот на Краснопресненский мост. Набережная реки Москвы. Мимо проплывает Новодевичий монастырь — контраст с сияющими крестами церкви словно утверждение, что движение — не лучшая форма существования материи. Сегодня хороший, по-настоящему весенний день. Неужели этот день для Дау — начало новой катастрофы? Именно теперь, когда он стал набирать темпы возвращения к творческому мышлению. Отгоняю эту мысль, которая упрямо возвращается, как омар, которому мешают усесться на выбранное им местечко. Минуем мост через Лужники, и машина, мягко поворачиваясь, проскальзывает на Воробьевское шоссе. Институт Капицы и Ландау. Капица и Ландау — звездное содружество двух огромных талантов, эксперимента и теоретической мысли.
Машина останавливается во дворе у длинного двухэтажного дома, разделенного на отдельные квартиры для сотрудников. Во второй квартире живет семья Ландау. Дверь распахивается.
— Слава богу! (Это ко мне, верней, к моему приезду).
— Очень плохо. (Это о состоянии Дау).
Ее вид! Сжатое гибкое тело, словно готовое к прыжку, поворот головы в сторону, где лежит Дау, взгляд из углов глаз направлен в мою сторону. {476}
Люди разговаривают глазами. Слова только корректируют диалог. Во взгляде Коры читаю весь рассказ о состоянии Дау с самого утра. Может быть, надо было сразу приехать! При первом звонке! Сбрасываю пальто и по винтовой лестнице вбегаю в кабинет больного, где он, как обычно, лежит на спине и усиленно разрабатывает правой рукой пальцы левой. Обычно это делает Таня, на протяжении всей болезни неотступный медик, превратившийся в преданного друга. Сегодня Тани нет. Дау сам разрабатывает пальцы, и по тому, как он это делает, видно, что боли усилились. Чем сильнее боли в животе, тем энергичнее разгибает он пальцы, чтобы болью в пальцах отвлечь боль в животе. Лицо Дау спокойно. Признаков интоксикации нет, и я издаю облегченный вздох. Только теперь замечаю, что в кабинете еще двое: Тоня — медицинская, очень опытная хирургическая сестра и врач неотложной помощи. Все приготовлено для сифонной клизмы, но Дау отказался что-либо делать до моего приезда. Сбрасываю одеяло, чтобы посмотреть живот, и ругаюсь: живот вздут как резиновый мяч, при надавливании передняя брюшная стенка пружинит. Пульс остается обыденным для Дау, не частит. Паралитическая кишечная непроходимость.
Будем пытаться освободить кишечник от газов. Если это удастся, опасность оперативного вмешательства минует.
— Дау, надо потерпеть, потому что меры будут энергичными и болезненными.
Больной делает жест, означающий согласие. Его глаза внимательно и спокойно направлены на врача.
— Кирилл Семенович, — спрашивает он, — может быть, это моя погибель пришла?
В его глубоких, умных и добрых глазах где-то мелькает искра юмора. Спасительный юмор. Он выручал его не раз.
Переводим больного в комнату его сына Гарика. И Тоня принимается за дело!
Проклятый вопрос! Он повис с самого начала, когда, казалось, все уже позади и остались только боли в животе. {477}
Что это за боли? Связаны они с корой головного мозга при отсутствии источника боли в животе? Или болит живот по другой причине, например, из-за наличия спаек? Сознание может ощущать боль в животе, когда нет причины для этих болей. Дело в том, что все органы и ткани организма имеют представительство в коре. В условиях патологии это представительство дает о себе знать, когда даже отсутствует орган, который болит. Хирурги отлично знают примеры, когда после ампутации конечности больной долгое время, иногда годы, жалуется на ощущение боли в пальцах давно отрезанной ноги.
Нейрохирурги относительно болезни Дау придерживались именно этой точки зрения. Жена Дау, Кора, всей силой своей натуры противилась этому взгляду. Что это — интуиция или страстное желание найти выход из создавшегося тупика?
Госпитализация Дау была разрешена Чахмахчевым (академия). Я предпочел, чтобы больного отвезли в госпиталь на Серебряном, но, пока Бочаров согласовывал этот вопрос с начальством, пришел звонок о том, что Дау можно везти в больницу Академии, и я не хотел терять лишних минут.
Когда мы приехали в больницу, потребовалось созвать консилиум. Дело было в воскресенье. С трудом удалось добыть Арапова и Бочарова. Дело застряло на анестезиологе. Больница Академии не имеет своих дежурных анестезиологов, и вообще операции производятся гастролерами как хирургами, так и анестезиологами. Много времени ушло на обзванивание ведущих анестезиологов. Как назло, никого не оказалось дома, и мне пришлось вызвать Ю.А.Кринского, за которым послали машину. Машина провалилась в яму и застряла. Выслали другую, та не сразу нашла адрес, и прошло еще часа два, пока Кринский приехал. Еще какое-то время ушло, чтобы подлатать наркозный мешок, весь в дырах, и найти интубационную трубку необходимой длины.
Пока Кринский в недоумении готовился к наркозу (к его чести, он провел наркоз блестяще), состоялся консилиум. Хотя от министра здравоохранения Б.В.Петровского было получено согласие на то, чтобы {478} больного оперировал я, мне казалось, что этот вопрос надо решить собравшимся. Никто не хотел оперировать Дау — Бочаров чувствовал себя неважно, Арапов еще не владел пальцем после перелома, а зав. отделением больницы Академии В.С.Романенко, просто сказал, что участвовать в операции не будет. Никто не выразил согласия и на ассистенцию, и поэтому мне пришлось оперировать больного с дежурными хирургами. К счастью, это были опытные врачи, а одна из них — Олимпиада Федоровна Афанасьева — много лет до этого работала со мной в Институте им. Склифосовского.
Перед операцией во второй раз (первый раз он спросил меня дома) Дау спросил:
— Может быть, это моя погибель пришла?
— Дау, не говорите таких слов под руку! Просто настало время вас оперировать.
— Но вы же этого давно хотели.
— Вот именно, — сказал я и подумал с горечью: «Не при таких обстоятельствах».
— Во всяком случае, это будет проверкой ваших предположений, и меня это очень устраивает, так как мы, наконец, съедем с мертвой точки.
Его состояние было обычным для непроходимости обтурационного плана. Живот был вздут и тверд как бочка, но общих симптомов интоксикации не было. Он, конечно, очень страдал от болей.
Атака у Дау началась с утра, а оперировали мы его глубокой ночью (в 3 часа ночи).
Я был близок к отчаянью, когда убедился в том, что причиной непроходимости был подозреваемый мною обширный спаечный процесс. Все оказалось так, как я полагал, и присутствовавшие при операции Арапов и Бочаров заметили это вслух, как только обнаружилась картина патологии в брюшной полости.
Тонкая кишка была свободна от спаек, но множественные сращения брюшины со слепой, восходящей и нисходящей петлями толстой кишки ограничивали ее функцию и были причиной постоянно поддерживаемого пареза. Поперечная кишка, напротив, была предельно раздута и была как бы сжата восходящей и нисходящей петлями. Операция состояла в том, чтобы освободать {479} кишечные петли от сращений и наложить цекостому. В спокойном периоде я бы произвел еще пликацию всей толстой кишки, но в данных обстоятельствах об этом не могло быть и речи. Я сделал то, что было нужно, и больной был снят со стола с хорошим давлением и пульсом.
Вопреки ожиданиям на следующий день после операции состояние Дау было не столь тяжелым, как это можно было ожидать. Он быстро пришел в себя и был доступен контакту. Пульс частил до 120 ударов в минуту. Живот оставался вздутым и стома активно не функционировала. Поэтому приходилось добиваться отхождения газов с помощью сифонной клизмы через стому. Больного приходилось поворачивать то на один, то на другой бок. Газообразование было весьма обильным. На второй и третий день повысилась температура до 37,5—38,0. Это объяснили присоединившейся пневмонией, которая была подтверждена рентгенологически, но меня смущало несоответствии между температурой и пульсом, который участился до 130 ударов и был недостаточно полным. Введение никотинамида не урежало пульса.
Помня о том, что больной перенес тромбофлебит после отморожения стопы, мы с Кринским опасались тромбоза (подозрение на это высказал и Вишневский в один из консилиумов в ближайшие после операции дай), поэтому ежедневно и постоянно больному вводили гепарин в столь больших дозах, что рисковали вызвать кровотечение.
Уже на следующий день после операции Дау забыл о позывах на низ, и на вопрос, почему он не просится в туалет, он отвечал, что не испытывает нужды в этом.
В состоянии больного наблюдалась волнообразность течения. Начиная с четвертого дня были часы, когда казалось, что он справится с болезнью, но пульс все равно оставался частым. Каждые два-три часа приходилось его сифонить. В попытке вызвать активную перистальтику мы прибегли к помощи доктора Лившица из Института Вишневского, который провел пару сеансов электростимуляции кишечника, впрочем, безрезультатно. За время болезни благодаря активной разгрузке кишечника у больного исчезло чувство {480} распирания в животе, и он перестал жаловаться на боли. Свойственный ему юмор не покидал его. При просьбе повернуться на правый бок он спрашивал:
— А вы знаете, что понятие «правый» и «левый» относительно? Поэтому я не знаю, какой бок вы имеете в виду.
— Правый бок, Дау, это тот, который смотрит в окошко, а левый тот, который смотрит в стену.
— Это другое дело, — он поворачивался на бок, предоставляя себя процедуре.
За время болезни его посетила родная сестра. Он неохотно согласился принять ее, и в течение пяти минут они оставались одни. Сестра ушла успокоенная и, как мне казалось, с убеждением, что я преувеличиваю тяжесть его состояния. Однако наши опасения не уменьшились. Пульс постепенно набирал частоту, и это можно было объяснить либо развитием перитонита (пневмония уже разрешилась), либо тромбозом. Против перитонита свидетельствовало отсутствие интоксикации, в пользу тромбоза — субфебрильная температура и частый пульс. На восьмой день после операции с утра Дау был задумчив, но в его состоянии не было ничего нового, что могло бы вызвать тревогу. Днем он спросил:
— Может быть, вызвать Кору?
— Как хотите, Дау.
— Да нет, впрочем, не надо.
Спустя час он, однако, спросил: «Может быть, вызвать Гарика?». Я согласился, но он тут же отказался и от этой мысли, полагая, что особой нужды в этом нет.
Все эти дни он не требовал, чтобы его отпустили в туалет, охотно разговаривал на те же темы, что и дома. Его посетил Чахмахчев, и я не помню, кто еще, но со всеми он разговаривал.
К вечеру восьмого дня после операции он сделался задумчивым. Мой сотрудник Юрий Александрович Кринский, который давал Дау наркоз, оставался при нем все эти дни и вел послеоперационный период весьма искусно и, я бы сказал, смело. Так, разделяя мои опасения относительно возможного тромбоза, он использовал большие дозы гепарина с первых же часов после операции, рискуя вызвать кровоточивость сосудов. {481} Аденозинтрифосфат, гентамил, какорбоксилаза и препараты урецилового ряда — все было использовано, но пульс частил, не поддаваясь действию даже новокаинамида.
Вечером Дау сказал только одну фразу, как-то улыбнувшись в себя:
— Все же я хорошо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось!
Эта фраза ввергла нас в уныние, потому что, когда больной приходит к таким мыслям и как бы подводит итоги, это всегда прогностически плохой признак. И действительно, он вдруг потерял сознание, и несколько последних часов длилась агония, о которой он уже ничего не знал и которой не чувствовал.
Где-то около 10 вечера наступила смерть.
Секция была произведена на следующий день. Вскрывал труп профессор Раппопорт. Перитонита не оказалось. Причиной смерти явился тромбоз легочной артерии, исходящий из хронического тромбофлебита, кажется, правой голени, о котором я упоминал. На этом все окончилось.
Мне осталось подвести итоги, как бы сделать заключение относительно главного вопроса, который все время стоял передо мной.
Вокруг Дау (вольно или невольно — все равно) был создан миф о наличии трех клинических смертей, последовательно развившихся. Этот миф, который, с одной стороны, должен был бы прославить врачей, с другой стороны, породил убеждение, что мозговая деятельность Дау безвозвратно утрачена и он обречен на вегетативный образ жизни.
Легенда, созданная врачами, пользовавшими его, так часто повторялась ими, что они сами в это поверили, ив этом я видел причину, почему усердие, с которым его лечили вначале, сменилось безразличием даже физиков — товарищей Дау. Они примирились с потерей его как ученого и потеряли надежду. Единственные, кто верил в возможность излечения и ожидал и способствовал ему, были Капица, Данин и Кора.
В действительности основной травмой Дау была глубокая контузия головного мозга с длительной потерей сознания и медленным, крайне медленным {482} восстановлением функциональной деятельности центральной нервной системы. Другие виды травмы привели частично к увечью больного, и эти процессы репарации закончились задолго до того, как он стал ориентироваться в окружающей его обстановке в полной мере. Так оно и бывает, и ожидать, что травма мозга и костей разрешится в одно и то же время, было необоснованно и наивно.
Дау умер при полном возврате умственной деятельности от тромбоза легочной артерии в связи с наличием старого тромбофлебита — отморожение ноги из-за преждевременной выписки его из больницы. Это могло произойти и без оперативного лечения.
12.11.72 г.»
Кирилл Симонян — ученик С.С.Юдина, сам замечательный хирург, в ночь 25 марта 1968 года сделал одну из своих самых блестящих операций — операцию академику Ландау. Это была первая операция после автомобильной катастрофы. Мы с Гариком сидели дома и смотрели на телефон. После 3-х часов ночи зазвонил телефон: операция позади, Дау в сознании. Звонил Кирилл Семенович. На следующий день меня в больнице встретил главврач Ростислав Владимирович Григорьев. Он сказал:
— Конкордия Терентьевна, все гораздо лучше, чем мы все ожидали. Я присутствовал на операции, я еще не был дома со вчерашнего дня. Кирилл Семенович блестяще прооперировал. Я впервые в жизни видел столь безукоризненную работу хирурга. Вы знали, кому доверить оперировать академика Ландау. Кирилл Семенович не отходит от больного, он сам за всем следит, он сам учитывает все послеоперационные, необходимые мелочи.
Да, Кирилл Семенович сделал все, что мог и даже чего не мог! Главврач Р.В.Григорьев тоже не выходил из больницы. Больной был обеспечен всем, и казалось, все было хорошо.
Потом вспышка температуры, прошел ложный слух — перитонит. Но температура выровнялась, вспышку дали легкие, как следствие общего наркоза. Появился аппетит, и, наконец, он уже съел яйцо, бульон, и все {483} съеденное не попросилось обратно. Крепла надежда! Дау сказал: «Кирилл Семенович, а я, кажется, выскочил!». И боли, боли с первых дней сознания державшие его шесть лет и три месяца, не прекращавшиеся ни днем, ни ночью, боли, наконец, исчезли. Исчезли и ложные позывы в туалет. Слишком поздно наступил момент, когда все уже убедились, что боли в животе были органические. А не мозговые!
...На восьмой день в субботу были сняты швы. Дау сказал Кириллу Семеновичу:
— Кирилл Семенович, я уже себя хорошо чувствую. Идите домой, отдохните. Вы же здесь из-за меня извелись.
— Нет, Дау, я еще не могу уйти. Дау, я сам знаю, когда мне уйти.
Но 31 марта Даунькина палата встретила меня плотно закрытой дверью.
— Что случилось?
— Срочный консилиум. Приехал Вишневский. Без сил опустилась в кресло.
Кто-то принес мне сердечные капли. Как медленно тянулось время.
Наконец из палаты вышли Вишневский, Бочаров и Арапов. Их лица сказали все! Войти в палату — не могу. Не могу встретить пытливый взгляд Дау. Нет, охватившее меня отчаяние снять с лица невозможно! Он сразу увидит в моих глазах свой приговор. Нет никаких сил переступить порог палаты Дау.
Главврач больницы Академии наук Григорьев был на высоте. Больной был обеспечен всем, ни в чем, ни к кому у меня не могло быть претензий. И по сей день я испытываю глубокую благодарность к Григорьеву и Симоняну. Медики сделали все возможное! Но выстрелил тот тромб, из той вены, от того тромбофлебита, который академик Ландау получил из-за отмороженной ноги, когда 25 декабря 1964 года он по устному приказу вице-президента Академии наук СССР Миллионщикова был насильно выдворен из больницы в разгар зимы.
31 марта, уже темно. Я дома, рядом Гарик. Я, кажется, не теряла сознания, но ничего не помню. Помню только глубокую печаль на лицах Вишневского, Бочарова и Арапова! {484}
— Гарик, ты сегодня заходил в палату к папе?
— Нет, мама. Я не смог.
— Гаренька, я тоже не смогла.
Сегодня 1 апреля 1968 года. Сегодня понедельник. Сегодня 8-й день после операции. Сегодня первый день, когда кончились мои силы. В больницу ехать не могу, встать тоже не могу, шевелиться тоже не могу. Гарик рядом! Еще вчера неслась на крыльях надежды в больницу! Сегодня 1 апреля — традиционный день шутки на планете. Как любил этот день Дау! Сегодня уже вечер 1 апреля 1968 года. Опять черные, зловещие сумерки сгущались. Мы с Гариком молча смотрим на телефон. Стрелки часов подползали к 10, зловещий телефонный звонок раздался. Судорожно схватила трубку. Голос Кирилла Семеновича сказал: «Уже — конец!». Оглушила черная пустота. Ужасающая пустота, ужасающая чернота. Все исчезло, закачались стены. Нет! Нет! Нет! Этого не может быть! Я кричала, обрушилась лавина горя, она раздавит. Пусть. Жить ни к чему. И вдруг — серо-зеленое лицо сына. Совсем прозрачное, а в глазах — горе и большой страх. Страх — уже за меня! Это я кричала, нет, нет, кричать нельзя и рыдать нельзя. Нельзя, нельзя терять себя, рядом сын! Есть сын! Его сберечь и как тогда, 7 января 1962 года, человека-женщину-жену победила мать, сегодня, сейчас, только сберечь сына. Помочь ему перенести горе, настоящее громадное человеческое горе, нельзя обрушить на его слабые, почти детские плечи и еще свое горе!
— Гарик, папка так любил шутку. И словно пошутил — умер в день 1 апреля.
| {485} |
Майя Бессараб
Впервые я увидела Дау (таково было неофициальное имя Льва Давидовича Ландау) во дворе нашего дома в Харькове. Это огромный двор на улице Дарвина, 16, где для детей было такое раздолье, что загнать нас домой было нелегким делом. Вероятно, Дау внешне выделялся в толпе, во всяком случае узнала я его сразу, хотя до этого видела лишь мельком, когда он проходил по коридору, направляясь в Корину комнату.
Мы занимали квартиру из трех комната, на тесноту никто не жаловался, впрочем, в нашей семье не принято было жаловаться. Тон задавала бабушка, авторитет ее был велик, дочери, все три, слушались ее беспрекословно. Звали ее Татьяна Ивановна Дробанцева, и было ей в ту пору лет пятьдесят. В 1934 году она все еще была хороша собой, ей даже сделал предложение учитель музыки, но она ничего не хотела менять в своей жизни. Быть может, в другое время все было бы иначе, однако, в те годы в нашей семье произошло страшное несчастье, и все держалось на бабушке.
Харьков был похож на средневековой город, охваченный эпидемией чумы: повсюду слезы по тем, кого арестовали накануне, брали и жен, исчезали и дети. {486} Мой отец, прошедший путь от солдата до комдива, понял, что он тоже попадет в эту мясорубку, и, чтобы спасти маму и меня, оформил с ней развод — тогда это делалось моментально по заявлению одного из супругов — и уехал в неизвестном направлении. Мама просто с ума сходила, все знали, что НКВД находил беглецов. Нам пришлось поменять нашу большую четырехкомнатную квартиру в центре на меньшую, где у меня уже не было отдельной комнаты, чему я обрадовалась несказанно: жить в одной комнате с бабушкой, которую я так любила — об этом можно только мечтать. Но потом к нам с бабушкой подселили еще Надю, младшую из трех сестер. Это случилось после того, как однажды поздно вечером к нам прибежала Кора. Она была вся в синяках, заплаканная, в разорванном платье. То, что она рассказала, привело всех в ужас. Ее муж, его звали Петя, запустил в нее утюгом за то, что она плохо выгладила его рубашку. Попал в плечо. Когда мать и сестры увидели ее раны, они сказали, что больше не пустят Кору к мужу.
Он и раньше ее поколачивал, но они любили друг друга и быстро мирились. Это была на редкость красивая пара: про Петю говорили, что он как две капли воды похож на знаменитого голливудского киноактера Рудольфе Валентине, ну, а Кора непременно стала бы королевой красоты, если бы в те времена существовали подобные конкурсы.
Петю я не помню, помню только его фотографию, она и в самом деле свидетельствовала о мужественности и красоте. Что же касается его интеллектуального уровня, то он был невысок. Они жили на главной улице, на Сумской, и по вечерам он говорил жене: «Пойдем пройтица». Это был мастер на все руки, и он неплохо зарабатывал, хотя и не имел высшего образования. Но однажды Петя поехал в командировку, из которой вернулся... инженером! Смеясь, рассказал жене, что купил подлинный диплом.
На выпускном вечере в Харьковском университете, когда Кора закончила химфак, она познакомилась с Дау. Он пришел на вечер и попросил кого-то из коллег: {487}
— Познакомьте меня с самой хорошенькой девушкой.
Ну, конечно, это была Кора Дробанцева.
* * *
Кора была смелая, ее трудно было обескуражить, застать врасплох. Помню, как ей удалось за две минуты вернуть спокойствие в нашу семью. Это было связано с Надей, она тогда училась на четвертом курсе, и незадолго до того рассталась с молодым человеком, за которого чуть не вышла замуж. Впрочем, романа никакого не было, они несколько раз ходили в кино, он ее провожал и раза два поцеловал. Звали его Филипп, Филя. Он был худой и мрачный, а Надя очень милая, веселая и так прекрасно училась, все обрадовались, когда она решила больше не встречаться с Филей. Но когда она сообщила об этом своему поклоннику, он сказал, что так с ним никто не смеет обращаться. Она, мол, вела себя таким образом, что он считал ее своей будущей женой.
Дальше — хуже. Надя достала из почтового ящика письмо, в нем лежала ее фотография с выколотыми глазами и порезами на шее; Филя шел за ней по пятам, когда она отправлялась в институт, и когда возвращалась домой; в институт ее провожала бабушка, обратно — группа студентов. Дома у нас все боялись, что Филя ее ранит, все это было ужасно.
Но как-то вечером, когда ненормальный бывший жених позвонил, чтобы покуражиться, к телефону подошла Кора.
— Надю! — потребовал тот.
— Филя, вы — говно.
— Вы не имеете права! — заорал оскорбленный донжуан.
— Имею. Вы разонравились моей сестре, и все. Точка. Мужчина в таких случаях уходит. А говно распускает сопли.
Кора повесила трубку. Больше о Филе никто не слышал.
| {488} |
* * *
Петру Леонидовичу Капице приписывают фразу: «Беда Дау в том, что у его постели сцепились две бабы: Кора и Женя». Это когда после автомобильной катастрофы начались скандалы между женой Корой и соавтором Дау, Евгением Михайловичем Лившицем.
Но взаимная неприязнь началась раньше, еще с тех пор, когда Лившиц занимал одну комнату в квартире Дау. Ну, а когда Дау не стало, и Коре кто-то сказал, что соавтор ее мужа получил деньги в каком-то немецком издательстве и за себя и за своего патрона, вот тогда Кора сорвалась. Я обо всем узнала от нее по телефону. Зная, что ее враг номер один очень пунктуален, она ждала его неподалеку от гаража около десяти часов вечера. Вокруг — ни души. Подъехал Женя, поставил машину, и, когда он запирал свой бокс, она нанесла первый удар. Он выронил ключ и бросился бежать. «Ты не представляешь, как он быстро бегает!» — воскликнула моя тетя. Кора ежедневно занималась гимнастикой, она сумела догнать беглеца у его двери, но он никак не мог вставить ключ в замочную скважину, и тут она начала нещадно колотить его длинной палкой для гимнастических упражнений. «Он как-то странно повизгивал, а я все колотила его по заду, уже ничего не соображая, так далеко заводила палку и била с таким размахом, что могла бы перебить позвоночник, поэтому целилась пониже спины».
Я заплакала. Она возмутилась:
— Значит, тебе Женьку жалко! А меня кто пожалеет?!
Я ей напомнила Митрофанушкин сон — «Бедная матушка, ты так устала, колотя батюшку!». Она возразила:
— Мое дело швах. Я забаррикадировала дверь и выходить в ближайшие дни не буду. Ты мне завтра привези хлеба, ладно? К телефону я не подхожу, если что важное, звони так: три раза подряд и сразу клади трубку, на четвертый раз я трубку сниму, но буду молчать.
Кора упомянула, что позвонила только Кириллу {489} Семеновичу Симоняну, и мне захотелось узнать его мнение обо всем случившемся.
— Какое мнение, я ржал, — спокойно ответил врач, хорошо знавший всех действующих лиц.— Успокойте, бога ради, вашу тетю. Ни в какую милицию Лившиц жаловаться не пойдет. Так же, как и в поликлинику. Если бы он сунулся в какое-нибудь учреждение с таким делом, там бы все по полу валялись от хохота, что баба его побила по жопе палкой.
Кирилл Семенович оказался прав. Кора с неделю сидела дома, несколько раз видела из окна осунувшегося, хромающего соседа, он еле передвигал ноги, опираясь на палочку...
Больше они не общались.
* * *
После смерти Дау Кора сникла, у нее пропал интерес к жизни. К счастью, остался любимый сын, Игорь, но все же она угасала. И как-то сразу постарела. Она часто говорила о прошедших годах, о том, стоило ли ей оставаться с Дау, когда у него появились любовницы. Однажды я услышала слова, которые меня потрясли:
— Дауньку нельзя было оставить этим финтифлюшкам. Так, как я, за ним никто бы не ухаживал. Он нуждался в постоянном присмотре, забывал поесть, мог простудиться. Нет, я бы места себе не находила вдали от него. И потом, эти проститутки, они готовить толком не умеют.
* * *
Кора была из тех матерей, которых называют сумасшедшими. Сына она любила безумно. Моя мама говорила, что Кору держит на этом свете любовь к Гарику. Держала, да не удержала.
Это трудно объяснить, вроде бы ничего не менялось, но она отдалялась, уходила, замыкалась в себе. Придешь к ней — на столе разложены фотографии Дау, она перекладывает их с места на место, убирать не {490} велит. Перечитывает письма. Ну, и разговоры большей частью о нем.
— Я только сейчас поняла, как он был прав. Конечно, ревность — это варварский пережиток. Ну какое для меня вот сейчас имеет значение, что у него была девушка по имени... ой, я даже имен не помню.
Она говорила медленно, и лицо ее становилось мягче, исчезала горестная складка у рта. Она постарела, но была красивая. Нет, она не молодилась, просто — красивая старуха, хотя это слово — старуха — к ней совершенно не подходило. Улыбаясь своим мыслям, она продолжала:
— У меня к его девушкам не то что ревности, у меня даже неприязни нету. Кроме одной идиотки, которая ему не дала.
Тут тетушка строго на меня посмотрела.
— Чего это ты вскинулась? Я ж ничего нецензурного не сказала. Ну как с тобой после этого разговаривать. Эх, ты! Если бы ты не была такой дурой, я бы тебе такое рассказала...
Чтобы как-то разрядить обстановку, я напомнила ей старинный анекдот: бабушка рассказывает внукам, откуда берутся дети. По ее версии — их находят в капусте. Внук тихонько спрашивает у сестры: «Сказать ей, или пусть умрет дурой?».
* * *
Но вот что осталось неизменным, так это любовь к чистоте: по-прежнему все сияло и блестело, и по-прежнему делала она это легко, без напряжения, словно играючи. Брызнул дождик, тетя придвигает к кухонному столу табурет, залезает на подоконник, раскрывает окно и через пять минут окно вымыто, да так, словно стекла вообще нет.
И чувство юмора тоже осталось в полной мере до самого конца. Как-то утром Кора позвонила и сказала, что получила потрясающее письмо, от кого — говорить не стала. Приедешь — покажу.
Работать после этого звонка я уже толком не могла, и отправилась на Воробьевское шоссе.
Это было письмо от Пети, ее первого мужа. Узнав {491} из газет о смерти Ландау, он написал Коре обстоятельно о себе, о своей жизни, вспомнил, что они все-таки бывшие одноклассники.
— Обрати внимание, — заметила Кора, отрываясь от чтения письма, — он ни словом не обмолвился, что мы, мол, любили друг друга и были мужем и женой. Наверное, это не так уж и важно. Но вот что одноклассники — это да!
У этого письма интересный конец: «Кора, приезжай! Таких свиней заведем!».
— Нет, ты представляешь?! Это какое самомнение надо иметь! И не забывай, как мы расстались. Я когда первый раз прочла, то даже не поняла, не поверила своим глазам. А перечитавши, хохотала до слез. К тому же, он наверняка женат. Хитрая бестия, получив мое согласие, он бы выгнал несчастную женщину на улицу и начал всем хвастаться, что у него жена — вдова Нобелевского лауреата.
Внезапно она заговорила другим тоном:
— Но главное, что я скорее бы умерла, чем разрешила кому-нибудь к себе прикоснуться. А вообще Петя даже глупее, чем я думала. Надо же, одноклассник выискался!
* * *
Она продолжала жить странной жизнью — не в настоящем времени, а в прошлом, в котором был Дау. Кора сама справлялась с уборкой, с покупками, она, так же, как и ее сестры, не принадлежала к числу женщин, заставляющих близких заботиться о собственной персоне.
Я не слышала жалоб на одиночество. Она много читала, иногда смотрела кинофильмы по телевизору. Не было слез, уныния. И в то же время в ее мыслях постоянно присутствовал Дау. Потому так естественно было для нее начать писать о нем. Я посоветовала ей написать воспоминания потому, что она часто рассказывала мне что-то по телефону и я сказала, что надо записывать, иначе все забудется. И дала ей совет, услышанный когда-то от Корнея Ивановича Чуковского: «Пишите, как пишется, и ни в коем случае не добивайтесь стилистического совершенства в процессе {492} написания. Пишите, не останавливаясь. Править текст будете потом».
Это стало для нее спасением: ведь тут уж было постоянное общение с Дау. Она была труженица, и в написании мемуаров это ей помогло: сидела с утра до ночи. Может быть, это ее и держало. Кончила писать и сразу расхворалась...
Незадолго до смерти сказала:
— Моя самая большая удача — что я встретила Дау.
Москва
январь 1999 года
| {493} |
Абрикосов Алексей Алексеевич (род. 1928),
академик АН СССР с 1987 г.
Алиханов Абрам Исаакович (1904—1979),
академик АН СССР.
Алиханьян Артем Исаакович (1908—1979),
членкор. АН СССР, академик АН Арм. ССР,
брат А. И. Алиханова.
Арцимович Лев Андреевич (1909—1973),
академик АН СССР.
Вишневский Александр Александрович (1906—1975),
академик АМН СССР.
Гращенков Николай Иванович (1901—1965),
академик АМН СССР.
Зельдович Яков Борисович (1914—1987),
академик АН СССР.
Капица Петр Леонидович (1894—1984),
академик АН СССР, организатор и первый директор
Института физических проблем.
Келдыш Мстислав Всеволодович (1911—1978),
академик АН СССР, президент АН СССР с 1961 по 1975 гг.
Кикоин Исаак Константинович (1908—1984),
академик АН СССР.
Леонтович Михаил Александрович (1903—1981),
академик АН СССР.
Лифшиц Евгений Михайлович (1915—1985),
академик АН СССР с 1979 г.
Лифшиц Илья Михайлович (1916—1982),
академик АН СССР с 1970 г., брат Е.М.Лифшица.
Мигдал Аркадий Бейнусович (1911—1991),
академик АН СССР.
Миллионщиков Михаил Дмитриевич (1913—1973),
академик АН СССР, вице-президент АН СССР с 1962 г.
Питаевский Лев Петрович (род. 1933),
академик АН СССР с 1990 г.
Померанчук Исаак Яковлевич (1913—1966),
академик АН СССР.
Тамм Игорь Евгеньевич (1895—1971),
академик АН СССР.
Топчиев Александр Васильевич (1907—1962),
академик, вице-президент АН СССР с 1958 по 1962 гг.
Халатников Исаак Маркович (род. 1919),
академик АН СССР с 1984 г.
Шальников Александр Иосифович (1905—1986),
академик АН СССР с 1979 г.
| {494} |
Кора Ландау-Дробанцева
АКАДЕМИК ЛАНДАУ Как мы жили. Воспоминания
Содержание
Кора Ландау-Дробанцева
Воспоминания............................................ 5-484
Майя Бессараб
Штрихи к портрету Коры Ландау, моей тети.................. 485-492
Справка об академиках.................... 493
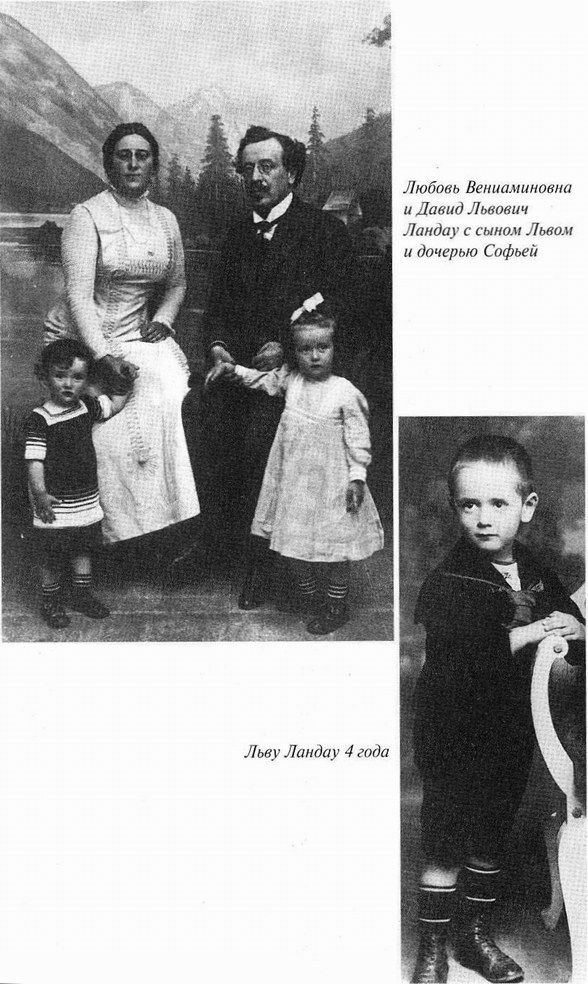
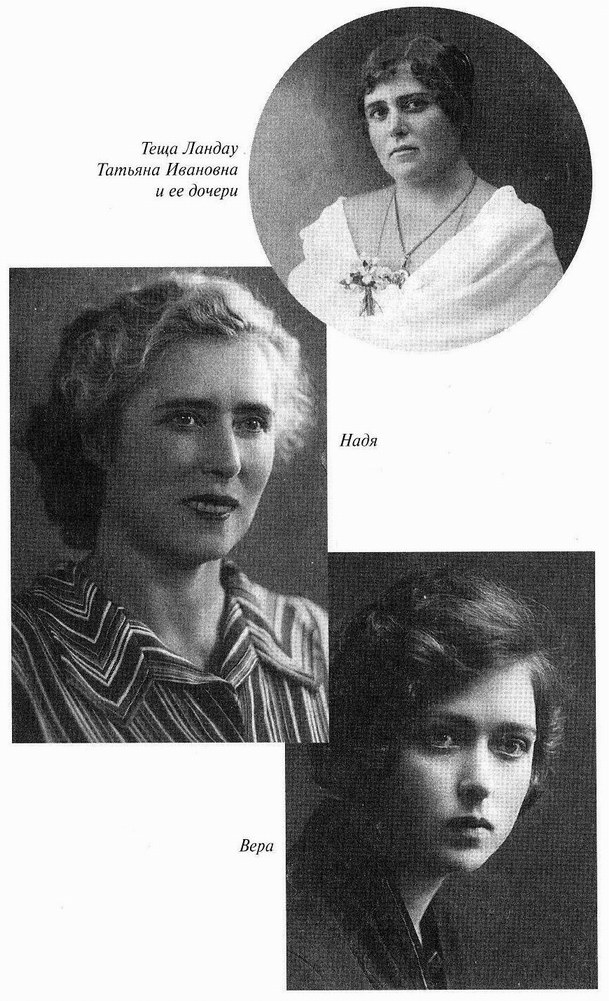
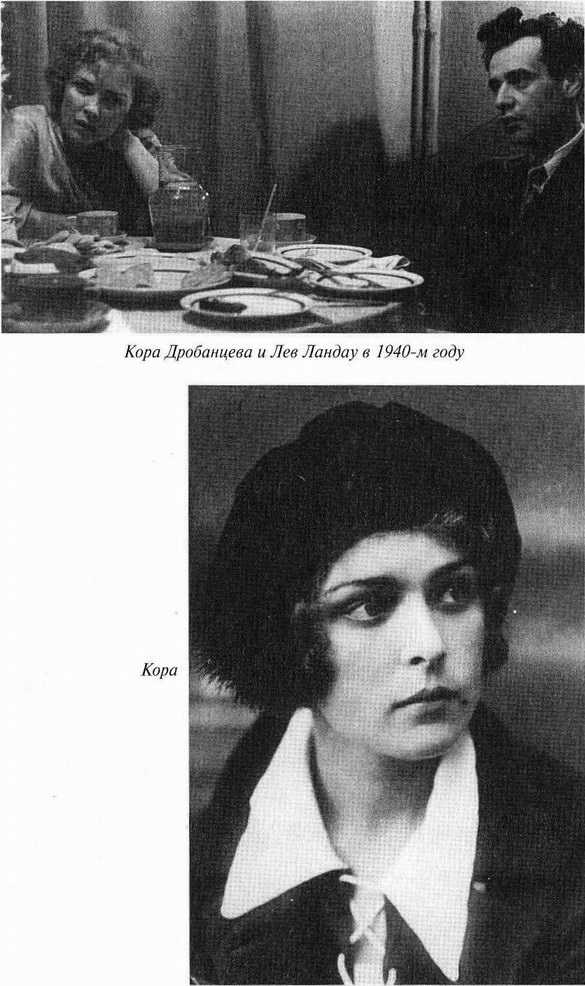




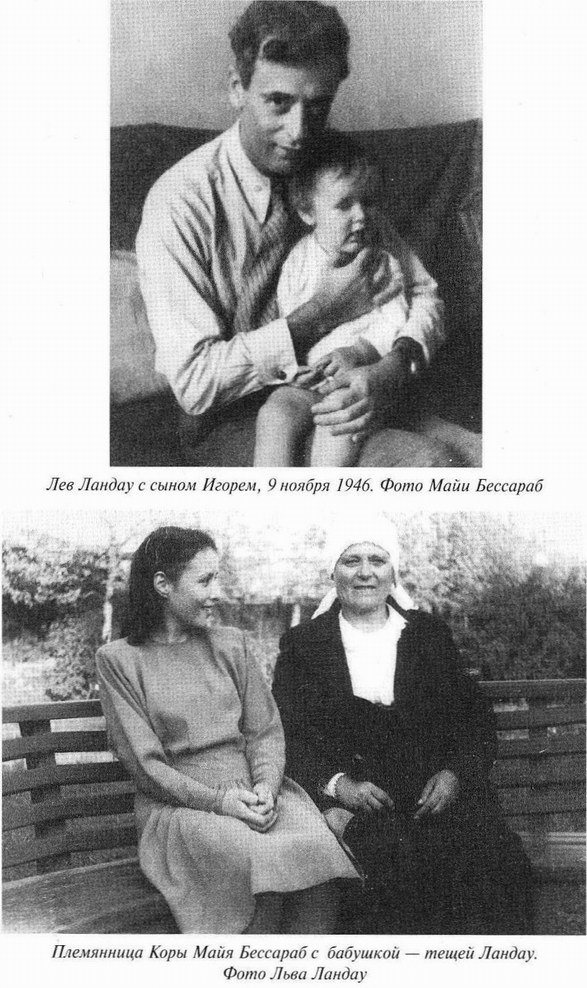
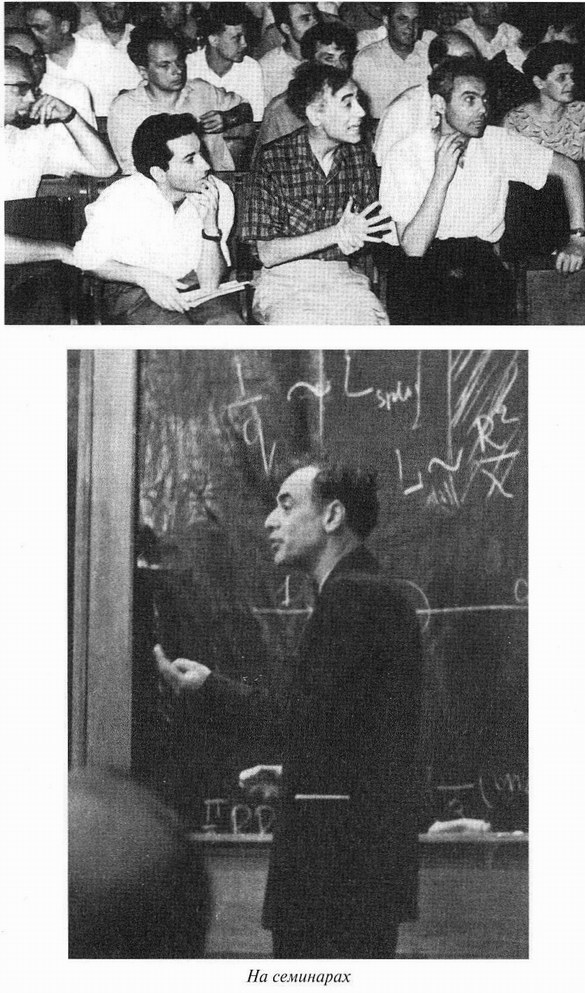
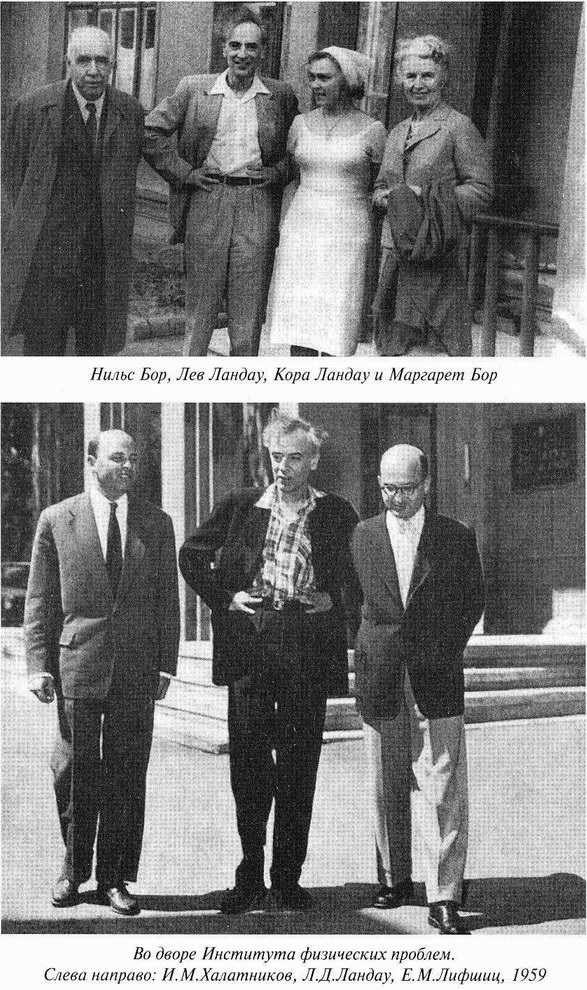


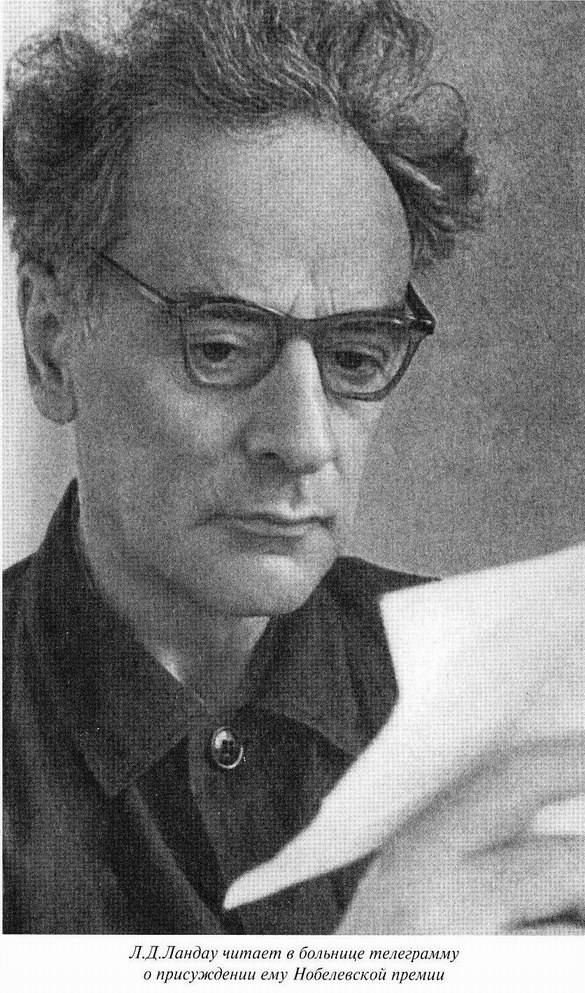
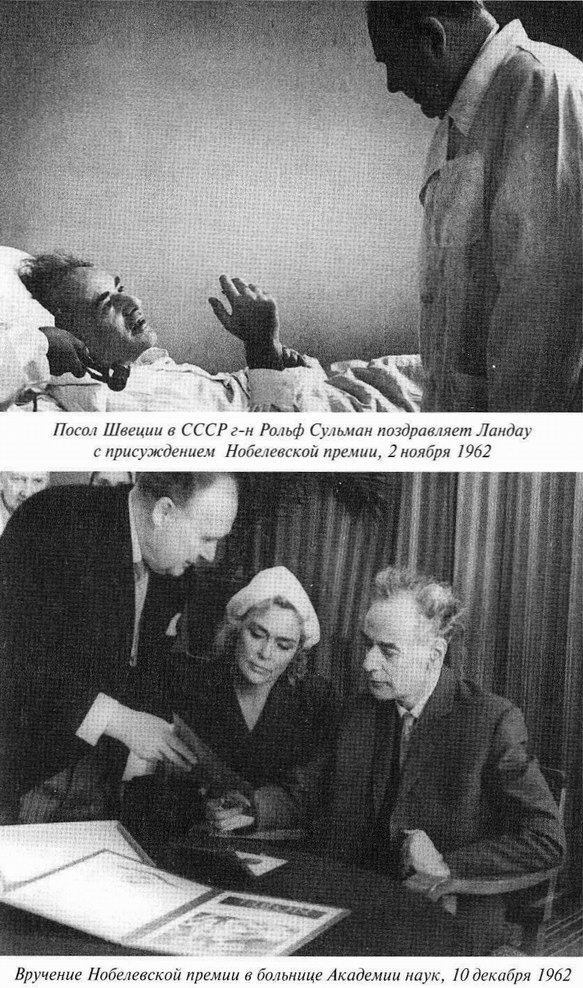
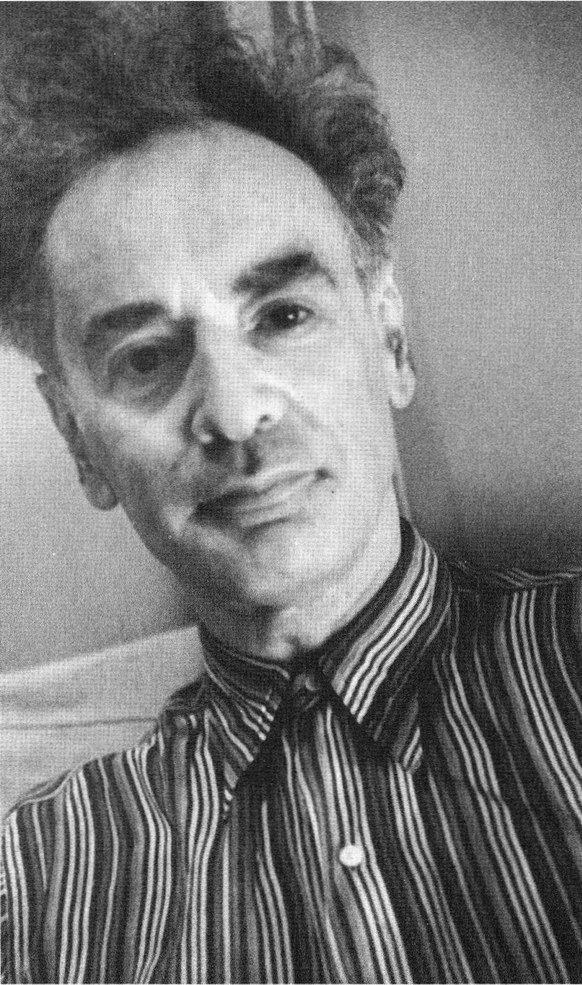


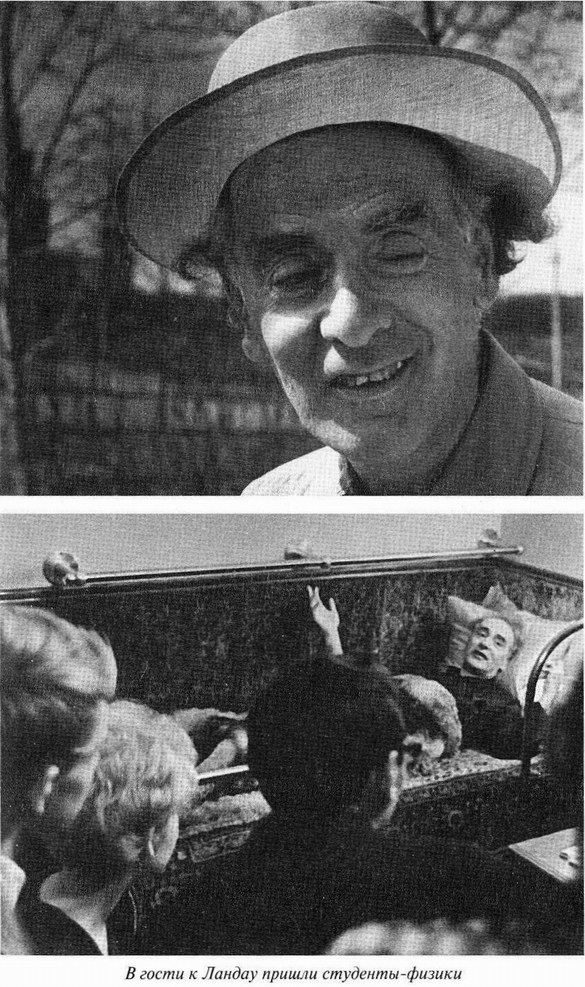



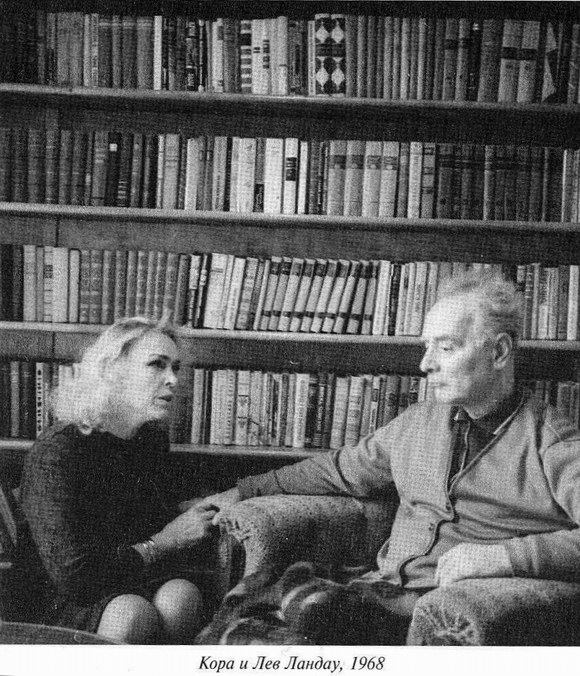


ISBN 5-8159-0019-2
Редактор И. Е. Богат Художник А. В. Кокорекин
Верстка Н. М. Блохина Корректор Л. О. Кройтман
Издатель ЗАХАРОВ
Лицензия ЛР № 06779 от 1 апреля 1998 года. 103473 Москва, ул. Краснопролетарская, 16.
Директор И. Е. Богат Телефон редакции: 973-1930
Подписано в печать 20.02.90. Формат 84 х Ю8'/зг.
Печать офсетная. Объем 31 п. л. Гарнитура «Таймс».
Тираж 11 000 экз. Изд. № 19. Заказ № 4014
Отпечатано с готовых диапозитивов в ПФ «Красный пролетарий» 103473 Москва, ул. Краснопролетарская, 16
* В некоторых местах рукописи по настоянию И.Л.Ландау сделаны купюры.