
Рис. 1. Тициан. Портрет Павла III (1543). Национальный музей и галерея Каподимонте, Неаполь.
Традиционные реконструкции истории «увещания Галилея» кардиналом Р. Беллармино (1616) и процесса 1633 г. представляют эти драматические эпизоды интеллектуальной истории как события, разворачивавшиеся исключительно в концептуальном пространстве конфронтации науки и религии. В данной работе предлагается принципиально иное понимание характера богословской полемики по поводу гелиоцентрической теории, активно защищавшейся Галилеем. Причины, динамика и фактологическая картина событий, приведших к увещанию Галилея, определялись системой сложным образом взаимодействующих контекстов: логико-методологического, конфессионально-политического, теологического, социокультурного и личностно-психологического. При таком системно-поликонтекстуальном подходе история увещания Галилея, во-первых, выходит за рамки пресловутого конфликта между наукой и религией — любимого жупела советской историографии, — обретая противоречивую многомерность, а во-вторых, теологическая компонента этих событий органично встраивается в широкий контекст культуры конфессиональной эпохи. В итоге сложный исторический феномен представлен в данной работе не как некий исторический казус на фоне фрагментированной реальности, но органически вписывается, интегрируется в ее целостный, многослойный образ, в историческую динамику культуры.
Глава I. Тридентская увертюра
Глава II. Roma locuta, causa finita
Глава III. Импетусы мышления
Глава IV. Увещание
Настоящая монография посвящена одному из самых сложных событий в истории науки Нового времени — так называемому «первому делу», а точнее — увещанию Галилея (1616), которое, по мнению многих историков науки, стало прологом знаменитого инквизиционного процесса над Галилеем 1633 г. Этой теме посвящена громадная литература1.
Традиционные интерпретации причин как увещания, так и процесса 1633 г., исходят из допущения, что в основе указанных событий лежал конфликт ученого с католической Церковью, вызванный несоответствием коперниканской гелиоцентрической теории, которую активно защищал Галилей, и теологической картины мира, основанной на тексте Св. Писания и мнениях Отцов Церкви. И даже когда историки, как, например, А. Фантоли2, доказывали полную лояльность Галилея по отношению к католической Церкви, эпицентром их исследований оказывается анализ именно богословской полемики вокруг гелиоцентризма.
В данной работе предлагается принципиально иное понимание природы упомянутых событий: их причины, динамика и фактологическая картина определялись, по моему мнению, системой сложным образом взаимодействующих контекстов: логико-методологического, конфессионально-политического, теологического, социокультурного и личностно-психологического. При таком системно-поликонтекстуальном подходе история увещания Галилея, во-первых, выходит за рамки пресловутого конфликта между наукой и религией — любимого жупела советской историографии, — обретая противоречивую многомерность, а во-вторых, теологическая компонента этих событий органично встраивается в широкий контекст культуры конфессиональной эпохи, тогда как логико-методологическая компонента, сопряженная с теологическим и иными контекстами, обретает новые грани. Примером может служить полемика Галилея с кардиналом Роберто Беллармино, которая в конечном счете фокусировалась на проблеме природы научного доказательства. Именно здесь проходил нерв полемики ученого с его оппонентами (в том числе и с клерикальными).
Изучение истории увещания Галилея предполагает также анализ гетерогенности теологического и социокультурного контекстов рассматриваемой эпохи. К примеру, Р. Беллармино, Фр. Инголи, М. Барберини и другие прелаты католической Церкви оценивали взгляды Галилея с различных позиций, что говорит о глубоком расколе в среде церковной интеллектуальной элиты и острой борьбе мнений внутри самого клира. Важно также, что наиболее глубокие причины событий, приведших к увещанию Галилея, начали формироваться задолго до начала XVII в., в эпоху позднего Средневековья, когда были предприняты серьезные попытки переосмыслить как традиционный статус эмпирического знания, так и природу математических объектов и математической достоверности, что на рубеже XVI—XVII столетий привело к острой полемике между клерикальными интеллектуалами, глубоко вовлеченными в натурфилософскую культуру своего времени. Речь идет прежде всего о конфронтации между доминиканцами и иезуитами в посттридентской Европе.
Увещание Галилея, на первый взгляд, представляется неким драматическим эпизодом, разыгравшимся исключительно в концептуальном пространстве конфронтации науки и религии. И только использование системно-поликонтекстуального подхода позволяет за теологической оболочкой событий различить логико-методологические, политические, социокультурные и иные детерминанты. В итоге сложный исторический феномен представляется не как некий исторический казус на фоне фрагментированной реальности, но органически вписывается, интегрируется в ее целостный, многослойный образ, в историческую динамику культуры. Иными словами, речь идет не о списочной рядоположенности контекстов, но об их контрапункте.
Теперь о технических деталях. Цитаты из сочинений и переписки Галилея даются по «Edizione Nazionale» под редакцией А. Фаваро. Разумеется, я использовал имеющиеся русские переводы, каждый раз, однако, сверяя их с первоисточником.
Данная монография, выполненная при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 04-03-00385а), является частью задуманного многопланового исследования, посвященного интеллектуальной революции XVI—XVII вв.
1. Основные работы указаны в сносках к тексту глав.
2. Фантоли А. Галилей: В защиту учения Коперника и достоинства Святой Церкви / Пер. с итал. А. Брагина. М.: Издательство «МИК», 1999.
| Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста, — На холсте уста вселенной, но она уже не та.
О.Э. Мандельштам1 |
Традиционно Контрреформацию характеризуют как эпоху, «когда католическая Церковь жесточайшим образом подавляла проявления свободомыслия»2, и связывают с такими явлениями как усиление центростремительных тенденций в политике римско-католической Церкви, репрессии, возрождение в 1542 г. римской Инквизиции, поставившей под свой контроль практически все сферы человеческой деятельности, публикация Пием IV «Index librorum prohibitorum» (1564) и создание Григорием XIII Конгрегации Индекса (1572), ограничение интеллектуальных свобод, отрицание позднесредневекового и ренессансного культурного плюрализма в пользу томизма и т. д.
По характеристике Б. Рассела (отчасти справедливой), «Реформация и Контрреформация в равной степени представляют собой восстание менее цивилизованных народов против интеллектуального господства Италии. В случае Реформации восстание носило одновременно политический и теологический характер <...>. В случае Контрреформации восстание было лишь против интеллектуальной и нравственной свободы Италии эпохи Возрождения»3.
Один из крупнейших историков Контрреформации Делио Кантимори отмечал, что репрессии, чинимые Инквизицией, «основывались на строжайшей догматической ортодоксии и крайне подозрительном отношении ко всем, кто не раболепствовал перед духовенством. <...>. Со времени папы Павла IV (понтификат: 1555–1559 — И.Д.) в Риме стал преобладать испанский тип священнослужителя — суровый и непреклонный. Гуманиста вытеснил теолог, аскетичный и несгибаемый, жесткий и бескомпромиссный по отношению к мирянам и еретикам»4. Излюбленными примерами, иллюстрирующими несвободу мысли в эпоху Контрреформации, стали у историков процесс над Дж. Бруно и «дело Галилея».
Однако вся эта терминология — репрессии, догматическая ортодоксия, реакционность и проч. — взята из понятийного арсенала XIX—XX столетий и представляет собой терминологию «победителей» в длительном идейном и культурном противостоянии, истоки которого восходят к началу Нового времени. Архитекторов же католической Реформы волновали несколько иные проблемы, суть которых далеко не всегда можно передать, используя традиционную оценочную терминологию.
Важнейшим событием религиозно-политической жизни Европы стал Тридентский собор, воздействие решений которого сказывалось в течение многих десятилетий после его завершения. Сказалось оно, как будет ясно из дальнейшего, и на «деле» Галилея. Поэтому далее я обращусь к истории созыва этого Собора и к его важнейшим постановлениям.
1. Мандельштам О.Э. Совр. соч.: в 3-х тт. 2-е изд. / Под ред. проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Т. I. Стихотворения. Мюнхен: Международное литературное содружество, 1967. С. 223.
2. Штекли А.Э. Кампанелла и процесс Галилея // От Средних веков к Возрождению. Сб. статей в честь профессора Л.М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2003. С. 121–131; С. 123–124.
3. Рассел Б. История западной философии. Кн. III. Ч. 1, гл. 5. М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2004. С. 632.
4. Cantimori D. Italy and the Papacy // The New Cambridge Modern History. Vol. II. The Reformation, 1520–1559 / Ed. by G.R. Elton. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1975. P. 272.
В 1545 г. Павел III (в миру — Alessandro Farnese, 1468–1549; понтификат: 1534–1549) (рис. 1) — тот самый, которому Н. Коперник посвятил «De Revolutionibus» — созвал в Тренте1 XIX (согласно счету римско-католической Церкви) Вселенский собор, начавший свою работу 13 декабря 1545 г. и закончившийся 4 декабря 1563 г. (т. е. за 73 дня до рождения Галилея). Тридентский собор имел огромные последствия для судеб католицизма и — что важно в контексте нашей темы — его решения так или иначе повлияли на всю богословскую полемику, которая велась в начале XVII-го столетия вокруг коперниканства.

Рис. 1. Тициан. Портрет Павла III (1543). Национальный музей и галерея Каподимонте, Неаполь.
Уже в период с 1400-х до начала 1540-х гг. в католической Церкви наблюдаются спорадические попытки провести внутренние преобразования. Эти попытки, или, скорее, декларации, имели своим основным источником низовые структуры церковной иерархии и, за немногими исключениями, были, по словам Элизабет Глисон, «консервативно-ретроградными, ориентированными на реставрацию того, что было, а не на поиски в новых направлениях»2.
Цели создававшихся в начале XVI в. общин и орденов (тиацинов, 1524; капуцинов, 1528; барнабитов, 1530; урсулинок, 1537 и др.) были вполне традиционными: следование принципам монашеской аскезы (если речь шла о монашеской общине или конгрегации) и благочестия, служение Богу, Церкви и ближним3. Задача борьбы с протестантизмом при этом не ставилась. Даже основанное в 1539–1540 гг. Общество Иисуса задумывалось поначалу как инструмент борьбы с эразмианством, которое, как считалось, разлагало изнутри единство и боеспособность Церкви4. Не менее консервативно была настроена и церковная элита, о чем свидетельствуют документы V Латеранского собора (1513–1517). Разумеется, многие в высших эшелонах церковной иерархии высказывались за известные преобразования, однако, речь при этом шла о реставрации старых добрых порядков Церкви, о соблюдении ее законов и устранении злоупотреблений, но отнюдь не о глубоких реформах, которые укрепили бы Церковь перед угрозой нарастающей критики в ее адрес и антиклерикализма5.
Пожалуй, наиболее важным документом предтридентского периода, касавшимся целей предполагаемых реформ, служит доклад «Consilium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendand ecclesia»6, составленный в 1537 г. по заказу Павла III специальной комиссией кардиналов и других прелатов. Этот доклад отличается от обычных для начала XVI в. сочинений, содержащих ставший уже стандартным перечень неустройств и злоупотреблений в церковной среде — хроническое отсутствие прелатов на вверенных им территориях, невысокий уровень профессиональной подготовки, а то и просто безграмотность низшего духовенства, распространение среди священнослужителей таких пороков, как пьянство и конкубинат, участие их в охоте и в других светских увеселениях, незаконное наделение духовных лиц привилегиями и землями и т. д.7 Авторы «Consilium» указывают, что источником всех этих неустройств и пороков является неправильное понимание характера папской власти (в чем виноваты, конечно, злокозненные папские советники и юристы). Папа должен осознать, что его власть — исключительно духовная, а отнюдь не политическая и уж тем более не экономическая. Однако дальше этих констатаций дело не пошло, никаких конкретных советов или целостной программы действий авторы не предлагали, поэтому Павел III мог спокойно положить их труд в дальний ящик. Но проблема церковной реформы оставалась, становясь с каждым годом все острее. Нужно было что-то делать.
Павел III был слишком проницателен, чтобы просто начать импровизировать. Вместе с тем, в отличие от своего предшественника Климента VII (в миру — Giulio de'Medici; 1478–1534; понтификат: 1523–1534), он был человеком решительным. Он ясно понимал протестантскую опасность для католической Церкви и разрушительность бесконечных войн между Габсбургами и Валуа для Италии. В этой ситуации, когда папская власть столкнулась с Реформацией в Германии, схизмой в Англии, с проявлениями религиозного инакомыслия в самой Италии, непредсказуемым французским королем Франциском I (1494–1547, король — с 1515) и к тому же испытывала мощное давление императора Карла V (1500–1558; испанский король — с 1516 по 1556, император — с 1519 по 1556), Павел III осознал, что созыв Вселенского собора, который должен дать толчок католической реформе — наиболее верный ход8. Буллою от 12 июня 1536 г. он объявил, что собор должен начаться в мае 1537 г. в Мантуе. Однако Третья война между Габсбургской империей и Францией (1535–1538) разрушила эти планы. Позднее, в 1541 г., на встрече папы с императором в Лукке, было решено созвать собор в ноябре 1542 г. Но и этот план был сорван из-за очередной, четвертой по счету, войны между Карлом V и Франциском I, продолжавшейся с 1541 по 1544 г. И только после подписания мирного договора в Крепи (18 сентября 1544 г.) Павел III буллою от 19 ноября 1544 г. объявил о созыве собора в Тренте в марте следующего года. Но духовенство съезжалось так медленно, что торжественное открытие Тридентского собора состоялось лишь 13 декабря, причем на первой сессии присутствовало только 34 участника.
С самого начала среди присутствующих четко обозначились две соперничающих группы:
— проимператорская, настаивавшая на быстрой и эффективной реформе Церкви и на искоренении злоупотреблений духовенства (т. е. на устранении из церковной практики всего, что служило основанием для критики — прежде всего протестантской — самого института римско-католической Церкви), а также допускавшая известные уступки протестантам в области догматики;
— проримская или консервативная группа, строго ортодоксальная и традиционалистская в вопросах догматики, не принимавшая никаких компромиссов в доктринальной сфере и боровшаяся за создание единого католического фронта в непримиримой борьбе с реформационными движениями.
Консерваторы позаботились, чтобы в Тренте не повторить своих прежних ошибок, в частности, не допустить провозглашения принципа «авторитет собора выше папы», как это случилось на соборах в Констанце (1414–1418) и в Базеле (1431–1449). Кроме того, проримская партия добилась, чтобы голосование происходило не по нациям, а поголовно, и чтобы решающий голос имели только епископы (это обеспечивало консерваторам перевес, поскольку число итальянских епископов превышало их число из других стран). Председательствовали на сессиях папские легаты — кардиналы Джованни Мария Дель Монте (G.M. Ciocchi del Monte, 1487–1555), Марчело Червини (M. Cervini, 1501–1555) и Реджинальд Поль (R. Pole, 1500–1558). Именно им и только им принадлежало право ставить вопросы для обсуждения и голосования. При этом каждый вопрос сначала рассматривался теологами-консультантами в специальной комиссии или конгрегации, а затем подготовленные там решения передавались в генеральные комиссии или конгрегации, состоявшие из епископов. Когда последние приходили к окончательному соглашению, их решение принималось и утверждалось на торжественном публичном (пленарном) заседании.
Павел III настаивал, чтобы сначала обсуждались догматические вопросы, что противоречило желаниям проимператорской партии. В итоге 22 января 1546 г. было решено, что одни конгрегации займутся догматикой, а другие — внутрицерковной реформой. Однако вследствие укрепления политических позиций Карла V9 Рим стал опасаться усиления императорского давления на Собор. Поэтому Святейший в начале 1547 г. счел необходимым перенести место проведения заседаний в Болонью, вторую столицу Папской области, поближе к Риму, под предлогом, что, мол, в Тренте вспыхнула чума. Восемнадцать епископов отказались покинуть Трент, а те, кто перебрался на новое место, фактически бездействовали. Таким образом, первая сессия охватывает период с 13 декабря 1545 по 2 июня 1547 г. и включает в себя 10 заседаний. 17 сентября 1549 г. (незадолго до смерти Павла III, скончавшегося 10 ноября того же года) Собор был распущен.
Новый папа Юлий III (в миру — Giovanni Maria Ciocchi del Monte, 1487–1555; понтификат: 1550–1555; бывший папский легат на первой сессии), получив тиару на продолжавшемся десять недель конклаве 1550 г., уступая требованиям Карла V, вновь созвал собор в Тренте 1 мая 1551 г. На этот раз явились даже светские послы некоторых протестантских князей, вюртембергские и саксонские богословы. Но диалога не получилось, раскол между протестантами и католиками оказался столь глубоким, что стороны уже просто не слышали друг друга. Вторая сессия длилась меньше года. Из-за возобновления военных действий между Морицем Саксонским и Империей Собор вынужден был прекратить свои заседания 28 апреля 1552 г.
Следующая сессия открылась лишь спустя 10 лет — 18 января 1562 г. Главная причина столь длительного перерыва связана как с политическими (отречение Карла V в 1556 г.), так и с религиозными, точнее, религиозно-политическими событиями: заключение Аугсбургского религиозного мира (25 сентября 1555 г.), т. е. договора между католическими и лютеранскими сословиями Империи при условии свободного определения вероисповедания каждым подданным императора10; пришедшийся на 1555–1559 г. понтификат Павла IV (Gian Pietro Carafa; 1476–1559), бывшего главы инквизиционного трибунала в Риме, человека подозрительного, глубоко консервативного, с поразительно узким умственным горизонтом, полагавшегося исключительно на репрессивные меры и не видевшего никакой необходимости в продолжении заседаний11.
Новый папа Пий IV (Giovanni Angelo de'Medici; 1499–1565; понтификат: 1559–1565), хотя и не числился среди сторонников реформ, однако, исходя из новой религиозно-политической ситуации в Западной Европе (конфессиональное обособление и внутренняя консолидация лютеранства, религиозный конфликт во Франции), решает продолжить работу Тридентского собора. Его последняя, третья сессия (заседания XVII—XXV) продолжалась с 18 января 1562 по 4 декабря 1563 г. (рис. 2). Буллою «Benedictus Deus» от 26 января 1564 г. папа утвердил соборные постановления. Кроме того, торопясь закрепить успех и подытожить догматические принципы, провозглашенные Тридентом, Пий IV, а затем его преемник Пий V (Michele Ghislieri; 1504–1572; понтификат: 1566–1572) издали формулу католического вероисповедания («Professio fidei Tridentina»; 1564), на следование которой должны были присягать все духовные лица, а также профессора католических университетов12.
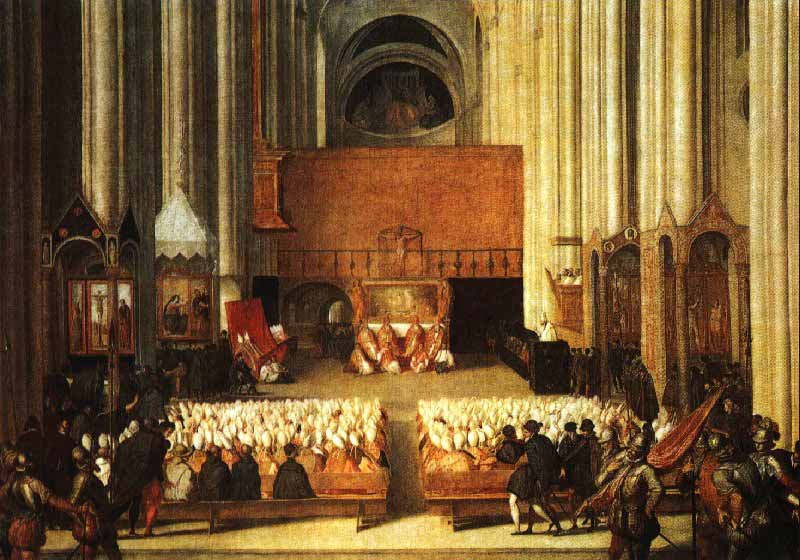
Рис. 2. Итальянская школа (ранее картина приписывалась Тициану). Заключительное заседание Тридентского собора (ок. 1564). Париж. Лувр
Постановления Тридентского собора распадаются на «Decreta» и «Canones». В «Decreta» изложены догматы католической веры и постановления, касающиеся церковной дисциплины, в «Canones» кратко перечислены основы протестантского вероучения с оговоркой, что они предаются анафеме. Излагая далее основные постановления Собора (доктринальные и дисциплинарные), я уделю основное внимание тем доктринальным решениям, которые были приняты на 4–7 заседаниях первой сессии, состоявшихся, соответственно, 8 апреля и 17 июня 1546 г., 13 февраля и 3 марта 1547 г.
1) Уже в самом начале первой сессии было принято, — и это отразилось в постановлении от 8 апреля 1546 г., приводимом далее — что единственно каноничным текстом католической Библии является ее перевод на латинский язык, сделанный в IV-м столетии Св. Иеронимом (ок. 340–420), т. е. «Vulgata». Все огрехи и неточности этого перевода были приписаны переписчикам и, кроме того, признавалось, что все они (т. е. неточности и ошибки перевода) не влияют на понимание смысла священного текста13. Впрочем, пожелание внести в текст «Vulgata» необходимые исправления также было высказано. Хотя формально перевод и чтение Библии на национальных языках (в приватном порядке) Собор не запрещал, фактически такой запрет был введен Индексами запрещенных книг 1559 и 1564 г.14
2) Первый из декретов, принятых на четвертом заседании I сессии Собора 8 апреля 1546 г., утверждал ответственность Церкви за чистоту толкования обоих Заветов, — «дабы в Церкви сохранялась чистота Писания от скрытых ошибок (ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur)»15. Тем самым подтверждалось исключительное право Церкви (и только Церкви) быть посредником между божественным Откровением и верующими.
3) Далее, в отличие от протестантского принципа sola scriptum, т. е. принципа, утверждавшего абсолютный приоритет библейского текста как единственного трансцендентного источника конечной истины, Собор, в том же постановлении от 8 апреля 1546 г., сформулировал принцип библейской, апостольской и церковной традиции как источников вероучения. При этом различия между каноническими и неканоническими книгами Священного Писания не делалось, все книги, вошедшие в состав «Vulgata», считались боговдохновенными источниками веры, а тех, кто так не считал (как, например, представители восточной Церкви), Тридентский Собор предал анафеме.
Священное Предание было признано источником вероучения, равносильным Священному Писанию и даже «более обильным», нежели последнее. Наряду со Священным Преданием, берущим начало от самого Иисуса Христа и апостолов, признавалось также, как равное ему, предание церковное, хранимое в практике поместных церквей, т. е. легитимировались устные традиции Церкви («истины и правила, изложенные в книгах и устном предании (veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus)»)16.
Вот полный текст декрета Собора от 8 апреля 1546 г. о каноне Священного Писания: «Священный вселенский и всеобщий Тридентский собор, законно собравшийся в Духе Святом под председательством трех легатов Апостольского Престола — неизменно полагая своей целью сохранить в Церкви, после устранения заблуждений, саму чистоту Евангелия: то, что было обещано ранее через пророков в Священном Писании (Рим. 1:3; ср. Евр. 1:1 и сл.), Господь наш Иисус Христос, Сын Божий сначала провозгласил Своими устами, затем велел Своим Апостолам проповедовать всей твари (см. Мф. 28:19; Марк. 16:15) как источник полной спасительной истины и правило нравственности: сознавая, что эта истина и правило содержатся в написанных книгах и неписанных преданиях, которые были приняты Апостолами из уст Самого Христа или же внушены Святым Духом и дошли до нас, переданные ими как бы собственноручно: следуя примеру православных отцов, все книги, как Ветхого, так и Нового Завета, ибо единый Бог есть Создатель их обоих, а также само Предание, относящееся и к вере и к нравственности, так как оно дано либо устно Христом, либо внушено Духом Святым и сохранено непрерывной преемственностью в католической Церкви — с одинаковым чувством благочестия и благоговением принимает и почитает.
Собор постановил перечислить в этом декрете все Священные Книги, чтобы не могло возникнуть никакого сомнения относительно того, какие книги он принимает.
Эти книги следующие: Ветхого Завета — пять Моисеевых, т. е. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие; И. Навина, Судей, Руфь, 4 кн. Царств, 2 кн. Паралипоменон, 1 Ездры и 2-я, называемая Неемии, Товита, Иудифи, Есфири, Иова, 150 Псалмов Давида, Притчей, Екклесиаста, Песнь Песней, Премудрости, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Исайи, Иеремии, Варуха, Иезекииля, Даниила; Двенадцати пророков, т. е. Осии, Иоиля, Амоса, Авидия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии, две книги Маккавейские, первая и вторая.
Нового завета: четыре Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна; кн. Деяний Апостолов, написанная евангелистом Лукой; четырнадцать посланий ап. Павла: к Римлянам, два к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, два к Фессалоникийцам, к Титу, к Филимону, к Евреям, два послания ап. Петра; три послания ап. Иоанна; одно ап. Иакова; одно ап. Иуды; и Апокалипсис ап. Иоанна». Таким образом, наряду с письменным источником веры — боговдохновенным текстом Библии — признавался и другой источник: экзегеза Священного Писания, которая представляет собой продукт человеческого разума, результат его усилий постичь спасительную истину Откровения. В этом пункте соборное постановление вполне отвечало учению Св. Фомы Аквинского (ок. 1225–1274), согласно которому божественная истина открывается миру через священный текст и его толкование. Тем самым признавалась ценность человеческого разума в поисках пути к спасению. Однако в силу слабости этого разума, в силу того, что «истина о Боге, отысканная человеческим разумом, была бы доступна немногим, притом не сразу, притом с примесью многочисленных заблуждений»17, толкование Священного Писания необходимо было поставить под строгий церковный контроль. Этому вопросу посвящен следующий соборный декрет, датированный тем же днем — 8 апреля 1546 г.
4) Со времени папы Иннокентия III (Lotario de' Conti; 1160–1216; понтификат: 1198–1216) католическая Церковь воспрещала чтение Библии мирянам, дабы не пробуждать в них духа исследования и критицизма и не порождать тем самым ересей и расколов. Тридентский собор также признал невозможность правильного толкования Священного Писания без руководящего участия епископов и папы, пастырские функции которых завещаны Евангелием. Фактически постановление Собора на этот счет утверждало исключительное право Церкви на экзегезу библейского текста. Более того, оно устанавливало церковную монополию на все вопросы, касающиеся веры:
«Имея целью поставить в будущем под контроль мятежные души и достигнуть единства в вопросах нравственности и веры, а также христианского учения, Собор постановляет, что никто не имеет права иметь собственные суждения и искажать смысл Священного Писания согласно собственным убеждениям, а также толковать его в смысле, противоречащем тому, что установила Святая Матерь-Церковь. Только ей одной принадлежит право определять истинный смысл и значение Писания; а оно было установлено единодушным согласием Отцов Церкви»18.
5) Следующая группа постановлений Тридентского собора, принятых на 5-м (17 июня 1546 г.) и 6-м (13 января 1547 г.) заседаниях, касается двух христианских доктрин: первородного греха и оправдания.
a) Само выражение peccatum originale (или peccatum ex traduce) впервые употребил Св. Августин (354–430)19, который акцентировал три аспекта этого понятия: склонность к греху является неотъемлемым свойством человеческой природы; первородный грех — это не только порок, но и своего рода болезнь души, ибо первородный грех сопровождается повреждением всей человеческой природы, как нравственной, так и физической; грех Адама передается из поколения в поколение, т. е. является наследуемой виной.
Несколько иначе концепцию первородного греха трактовал Св. Фома. Он полагал, что грехопадение не привело к утрате человеком его естественных особенностей. Адам потерял лишь изначальную праведность, которая была сверхприродным божественным даром (donum supernaturale), т. е. чем-то внешним по отношению к его естеству. И если говорить о первородном грехе как о болезни души, то суть этой болезни Св. Фома определяет как отсутствие этой изначальной праведности (defectus originalis justitiae)20.
Соборный декрет о первородном грехе, по сути, отошел от августинианского понимания peccatum originale, восприняв позицию даже не Св. Фомы, но Ансельма Кентерберийского (St. Anselm, Archbishop of Canterbery; ум. 1109) и Дунса Скота (Bl. John Duns Scotus; ум. 1308), которые сводили суть первородного греха к недостатку той праведности (justitiae debitae nuditas), которую первый человек получил как дар благодати и которую он обязан был сохранить. Кроме того, Собор подчеркнул передаваемость первородного греха вместе с природой человека через рождение и, — видимо, делая уступку августинианству, — принял понимание peccatum originale как первородной вины (reatus). Наконец, в постановлении Собора отмечалось, что первородный грех, хотя и передается из поколения в поколение, однако, несколько умаляется таинством крещения21.
Вопрос о природе первородного греха важен в контексте тематики настоящей работы потому, что он связан с другим вопросом — о границах человеческого разума и человеческих способностей, в том числе и способностей познавать окружающий природный мир. Если встать на позицию Св. Августина, то тогда надо признать, что бремя первородного греха ставит границы — и, возможно, очень жесткие — человеческим возможностям понять устройство мира. Более мягкая концепция Дунса Скота (и даже Св. Фомы) допускает расширение познавательного потенциала человека. Тридентский собор, как следует из сказанного, занял в вопросе о первородном грехе прогуманистическую позицию, чем заслужил со стороны представителей иных христианских конфессий упреки в полупелагианстве. «Тридентский собор, — писал русский богослов, — в своем определении о первородном грехе говорит, что Адам, преступив заповедь Божию, тотчас утратил святость и правоту, в которой был установлен, подвергся гневу Божию и наказанию, подпал власти диавола и переменился к худшему по телу и душе («secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse»). Но как понимать перемену к худшему <...> собор не пояснил». Однако, опираясь на труды посттридентского поколения теологов, в первую очередь кардинала Бел-лармино, можно понять, что же имелось в виду: «отрицая какую бы то ни было порчу в человеческой природе, оно [католичество] проповедует об одной только наследственной виновности человека перед Богом. Грех не внес в человеческую природу никакого расстройства, но только сделал Адама и всех его потомков виновными перед Богом. Взгляд, близко граничащий с заблуждениями древнего пелагианства. <...> Пелагианство отличалось от католичества только тем, что не признавало передачи виновности от человека грешника к его потомкам. Поверхностный взгляд католичества на следствия грехопадения вызвал совершенно противоположные крайности у протестантов. <...> Католики учили, что падение не внесло в нашу природу никакой порчи. По воззрениям же протестантов, порча, напротив, так велика, что в человеке не осталось ничего доброго»22. He вдаваясь в межконфессиональные споры, отмечу только, что именно этот «поверхностный взгляд католичества на следствия грехопадения» и позволял сохранять веру в познавательные и творческие возможности человека, не воздвигая между ним и окружающим его творением непреодолимого барьера, обусловленного глубокой поврежденностью человеческой природы — в том числе и «расстройством» когнитивных способностей людей — вследствие peccatum originale.
b) Теперь обратимся к декрету об оправдании. Согласно соборному постановлению, сам человек не способен заслужить божественную милость, но его добрые дела могут склонить Всевышнего к милости и оправданию, т. е. к союзу («кооперации») верующего с Богом («cooperatio hominis cum Deo»). «Таким образом, Собор возвращался к идеям Св. Фомы, обнаруживая "третий путь", синтезируя экстремальность лютеранства ("sola fide") и оправдание труда в реформатской доктрине»23. При этом «добрые дела не ограничивались, как в кальвинизме, лишь социальной, житейской сферой, распространяясь на весь спектр священного ритуала: паломничество, покаяние, аскеза, почитание святых, пост, молитва за живых и мертвых»24, страсти Христовы и т. д.25
Иными словами, верующий проходит путь от состояния предрасположенности к греху к состоянию благодати26. Только оправдание дает человеку надежду на спасение. В соборном постановлении особо подчеркивалось, что оправдание есть божественный акт, дар Всевышнего верующему27, и причины Его решения скрыты от людей.
Одной человеческой воли недостаточно для оправдания, ибо путь к спасению требует со стороны человека серьезных усилий. В соборном постановлении детально изложен процесс «кооперации» божественного и человеческого факторов на пути к спасению. Само по себе оправдание, как акт божественный, не может быть следствием веры или каких-либо человеческих действий28. Но вместе с тем спасение не может быть достигнуто без концентрации человеческой воли, без соблюдения целомудрия и без благих дел29.
Хотя в соборных постановлениях доктрине оправдания отводится довольно много места и одни и те же мысли и формулировки неоднократно повторяются (что само по себе свидетельствует о накале полемики), тем не менее, многие вопросы остались не разъясненными, в частности, вопросы о соотнесенности божественной благодати и свободной воли человека (подобно ли отношение между ними отношению между физической причиной и ее следствием?), о случайности божественного выбора (имеют ли человеческие поступки по отношению к божественному предопределению статус случайных или гипотетических?), о достоверности (является ли божественное предзнание будущих поступков человека достоверным?) и т. д. Все эти и иные недосказанности стали причиной многих последующих споров и ересей. В контексте настоящей работы важно отметить, что названные выше теологические проблемы имели свои корреляты в сфере математических наук и натурфилософии, где интенсивно обсуждались такие вопросы, как достоверность математического знания, гипотетическая природа математических сущностей (скажем, являются ли эпициклы и эксцентры реальностью или же они были введены в теорию движения планет в качестве математической гипотезы для «спасения явлений») и т. д.
6) На седьмом заседании первой сессии Собора (3 марта 1547 г.) были приняты постановления, касавшиеся таинств. Семь таинств определялись спасительными для верующих (т. е. несущими благодать) ex opere operat, т. е. в смысле их реального воздействия в случае, если сам верующий (его внутренняя воля и убежденность) им не противодействует (non ponat obicem)30. «Верующему, тем самым, являлась надежда на действительное оправдание, чем разрушалась догматическая посылка реформаторов о символическом толковании причастия и вместе с тем отрицалась благодатная роль лишь евхаристии и крещения»31.
Кроме доктринальных, Собор принял также ряд дисциплинарных постановлений. Прежде всего была особо выделена роль священника как сакральной фигуры в противовес общинному, лишенному святости статусу пастора у протестантов.
Далее, в центре забот апостольского престола оказывался епископат. Епископы превращались не только в важнейшее звено обновленной Церкви: «на них отныне возлагалась и главная ответственность за успешное противостояние протестантизму на местах. Именно с епископом были связаны главные организационные проблемы: ряды прелатов нуждались в пополнении, а для этого требовалась в высшей степени квалифицированная подготовка, хорошо развитая способность к самостоятельной и энергичной деятельности, глубокое знание богословских и правоведческих нюансов. Административная реформа должна была идти нога в ногу с усовершенствованным образованием.
В католической пропаганде большое место отныне уделялось образу аскетичного, благочестивого и вместе с тем ученого пастыря»32. Вообще вопросы образования как духовных лиц, так и мирян, стали и на Соборе, и в посттридентское время едва ли не главными. Разумеется, речь шла в первую очередь о католическом воспитании и образовании, но оно включало в себя в той или иной мере элементы светского образования. Постановлением Собора предусматривалось вблизи каждой церкви, монастыря и публичной школы создать lectio sacrae scripturae (т. е. своего рода кафедры по изучению Священного Писания)33. Было также решено, что учителя должны безвозмездно учить бедных школяров грамматике («clericos aliosque scholares pauperes grammaticam gratis doceat») с тем, чтобы те могли затем изучать Св. Писание. Вблизи соборов и больших церквей было велено создать семинарии для способных молодых людей — особенно выходцев из бедных семей — чтобы готовить их к духовному званию.
Как справедливо заметила Р. Фельдхей, принятие подобных мер свидетельствовало о победе того направления, которое «уходило своими корнями в христианский гуманизм»34. В результате прелаты нового, посттридентского поколения выпестовывались в новых педагогических центрах, которые, в свою очередь, стали, наряду с курией, обновленным епископатом и новыми монашескими орденами, движущими силами католической Реформы.
Разумеется, образовательные инициативы Тридента столкнулись с множеством проблем. Укажу только на одну из них. В соответствии с решениями Собора, ответственность за реализацию новой образовательной политики возлагалась на епископат. При этом прогуманистически настроенное крыло Собора понимало роль епископа в духе Амвросия Медиоланского (S. Ambrosius; ок. 340397) и Св. Августина — епископ должен совмещать в одном лице проповедника, духовного наставника и церковного администратора. Это ущемляло интересы нищенствующих орденов, которые с XII-го столетия обладали монополией на проповедническую деятельность, за что получали от пап многочисленные привилегии и были выведены из-под юрисдикции диоцезов. Кроме того, Собор потребовал, чтобы религиозные ордена, особенно орден доминиканцев, перенесли центр тяжести своих интеллектуальных усилий со схоластико-теологических штудий на изучение Св. Писания35, а также на его разъяснение среди верующих, притом контролировать всю эту деятельность должны были опять-таки епископы. Доминиканцы, интеллектуальным лидером которых на первой сессии Собора был Доминго де Сото (D. de Soto; 1494–1560), не отрицали необходимости нести знание Библии в народ, но они опасались, что сужение занятий собственно теологией ослабит их позиции, а следовательно, и позиции католической Церкви в целом в ее противостоянии протестантизму.
И еще одно важное обстоятельство: принимая решения об организации тех или иных новых образовательных центров, Собор не уточнял многие существенные аспекты и детали, в частности, ничего конкретного не было сказано относительно содержания образования (и это неудивительно, ибо почти каждое соборное постановление было результатом не столько консенсуса, сколько компромисса между различными позициями и интересами). Это открывало известную свободу действий в ходе реализации тридентских декретов. Более того, выявилось существенное расхождение между католическими интеллектуальными элитами — прежде всего между доминиканцами36 (традиционалистами) и иезуитами (если не новаторами, то, по крайней мере, сторонниками обновления католического мира) — в том числе и в вопросе о стратегии образовательной политики посттридентской Церкви. Это обстоятельство, как будет ясно из дальнейшего, сыграло важную роль в «деле Галилея».
В целом же, оценивая итоги Тридентского собора, можно сказать, что хотя каких-либо революционных преобразований in capite et in membris не произошло, — да и не могло произойти, — его решения оказались важными прежде всего тем, что «отныне Церковь получила твердые основы — и догматические, и организационные — дальнейшего существования. Был преодолен опасный кризис, резко осложненный Реформацией и расколом: противоречие между старыми формами и новыми силами. Собор венчал почти полувековые усилия не одного поколения католических реформаторов добиться обновления в решающих пунктах. Католицизму удалось ясно дистанцироваться от протестантских вероучений, сформулировать собственное видение догмы, но самое главное — не разрушить преемственность предшествующей традиции. Реформа церкви не переросла в ее разрушение, а элементы консерватизма не возобладали над желанием развивать Реформу»37. Говоря же о доктринальных решениях Собора, следует отметить, что, как выразилась Р. Фельдхей, «все они выражали признание потенциальной способности человека (the adequacy of the natural human potential) служить мостом между мирским и трансцендентным»38.
Огромное влияние на ход тридентской полемики, а также на посттридентскую церковную идеологию и практику оказали идеи Св. Фомы Аквинского. И это вполне закономерно, поскольку именно на основе томизма можно было достичь искомого синтеза (гармонии) разума и откровения, естественного и сверхъестественного, рационального познания и доктрины спасения, согласовать до аскетичности строгую христианскую этику и гуманистический строй мышления и жизни. Кроме того, именно томизм предлагал, как казалось (особенно доминиканцам), наилучший способ систематизации знания и такую модель организации познавательной и образовательной деятельности, которая наиболее полно отвечала требованиям тридентской ортодоксии. Далее я коснусь некоторых аспектов учения Св. Фомы, необходимых для понимания дальнейшего.
1. Нем. Trient, лат. Tridentum, совр. итал. Trento — город в южном Тироле.
2. Gleason E.G. Catholic Reformation, Counterreformation, and Papal Reform in the Sixteenth Century // Handbook of European History: 1400–1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation. Vol. II. Programs and Outcomes / Ed. by Thomas A. Bradly, Heiko A. Oberman, James D. Tracy. Leiden; New York; Koln: E.J. Brill, 1995. P. 317–345; P. 320.
3. Подр. см.: Religious Orders of the Catholic Reformation. Essays in Honor of John C. Olin on his Seventy-fifth Birthday / Ed. by R.L. De Molen. New York: Fordham Univ. Press, 1994.
4. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола: 1555–1648. СПб: ИЦ «Гуманитарная академия», 2002. С. 121. Разумеется, борьба с эразмианством была отнюдь не единственной и даже не главной целью Общества Иисуса, о чем см. далее.
5. Minnich N.H. The Catholic Reformation: Council, Churchmen, Controversies. Hampshire: Aldershot, 1993; Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe / Ed. by P.A. Dykema and H.A. Oberman. Leiden; New York: E.J. Brill, 1993.
6. Concilium Tridentinum: Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova Collectio. Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im Katholischen Deutschland. Ed. Soc. Görresiana. Friburgi Brisgoviae: Herder, 1901. T. 12. P. 131–145.
7. В 1541 г. иезуит Лефевр писал И. Лойоле: «Дал бы Бог, чтобы здесь, в Вормсе, нашлось бы только два или три священника, которые не были бы конкубинарами и не были бы запятнаны еще и другими преступлениями и которые хоть сколько-нибудь заботились о спасении своей души» (Crétineau-Joly J. Histoire religieuse, politique, et littéraire de la Compagnie de Jésus: composée sur les documents inédits et authentiques. T. 1. Paris: P. Mellier (Lyon: Guyot), 1844. P. 166).
8. На этом настаивал Карл V, но папа Климент VII умер в 1534 г., так и не созвав собора. Павел III получил тиару при условии, что собор будет созван.
9. В июне 1546 г. между Империей и Шмалькальдентским союзом протестантских чинов началась война, которая принесла Карлу V убедительную победу. При этом Павел III сначала оказывал императору серьезную поддержку людьми и деньгами, но затем, после первых императорских побед, папа прекратил свою помощь.
10. Подр. см.: Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 50–56.
11. Именно Павел IV наделил инквизиционный трибунал широкими полномочиями и санкционировал издание полного официального «Index librorum prohibitorum» 1559 г., который не только перечислял еретические или подозрительные фрагменты в книгах, но и запрещал чтение Библии на национальных языках.
12. Вслед за тем, в 1566 г., был издан «Тридентский катехизис» («Cathechismus Romanus»), а в 1568 г. — «Римский бревиарий» («Breviarium Romanum»). Кроме того, в 1570 г. был утвержден новый порядок мессы («Missale Romanum»).
13. Iglesias S.M. El decreto tridentino sobre la Vulgata y su interpretacion por los teologos del siglo XVI // Estudios biblicos, 1946. T. 5. P. 145–169.
14. Delumeau J. Catholicism between Luther and Voltaire: A new View of the Counter-Reformation / Transl. J. Moiser; with an introd. by John Bossy. London: Burns & Oates Ltd.; Philadelphia: Westminster Press, 1977 P. 9.
15. Marcocchi M. La Riforma Cattolica: Documenti e Testimonianze. Figure ed istituzioni dal secolo XV alla met'a del secolo XVII / Saggio introduttivo di Mario Bendiscioli. In 2 tt. Brescia: Morcelliana, 1967–1970. T. 2. P. 572.
16. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... Поначалу, правда, предлагалась иная формулировка: «Partim in libris scriptis partim sine scripto traditionibus» (Jedin H. Storia del Concilio di Trento / Transl. G. Lecchi & O. Niccoli. In 3 tt. Bresia: Morcelliana, 1973–1982. T. 2. P. 67–118; P. 69). На этой редакции настаивали более консервативно настроенные теологи, полагавшие, что согласное мнение отцов церкви также может служить источником веры. Но их предложение принято не было, главным образом, по причине неясности, что значит partim (отчасти). Но и принятая редакция вызывает вопросы. В частности, остается неясным отношение между двумя типами источников: была ли устная традиция инкорпорирована в письменную или же она должна служить отдельным, дополнительным источником веры. Как заметила по этому поводу Р. Фельдхей, «компромиссу, достигнутому в Триденте, присуща внутренняя неопределенность (an inherent ambiguity), обусловленная неспособностью придти к консенсусу. Именно эту смысловую неясность, а отнюдь не догматизм, важно иметь в виду, чтобы понять менталитет контрреформационной Церкви» (Feldhay R. Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical Dialogue? Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 78).
17. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I. q. 1. 1c.
18. Я воспользовался переводом, приведенным в книге: Фантоли А. Галилей... С. 177–178. Оригинал см.: Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 2. P. 575.
19. Augustine St. De diversis quaestionibus ad Simplicianum. I. 1. 10.
20. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I. q. 94; q. 95; q. 83, a. 2.
21. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 2. P. 586–587.
22. Беляев Н. Пелагианский принцип в римском католичестве // Православный собеседник. 1871. Ч. I (февраль-март). С. 84–120, 184–236; С. 187–188.
23. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 124.
24. Там же.
25. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 2. P. 598; 601–602.
26. «Ut sit translatio ab eo statu, in quo homo nascitur filius primi Adame, in statum gratiae...» (Ibid. P. 590).
27. «Ita neque propria nostra justitia tamquam ex nobis propria statuitut, neque ignoratur aut repudiatur justitia Dei illa eadem Dei est...» (Ibid. P. 605).
28. «Gratis autem justificari ideo dicamur, quia nihil eorum, quae justificationem praecedunt, sive fides, sive opera, ipsam justificationis gratiam promeretur...» Marcocchi M. La Riforma Cattolica... P. 595).
29. «Mortificando membra carnis suae et exhibendo ea arma justitiae in sanctificationem per observationem mandatorum Dei et ecclesiae: in ipsa justitia per Christi gratiam accepta, cooperante fide bonis operibus, crescunt atque magis justificantur...» (Ibid. P. 597).
30. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio: in qua praeter ea quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius... et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidere ea omnia insuper suis in locis optime disposita exhibentur/quae Joannes Dominicus Mansi... evulgavit. Graz, 1961. Vol. 33. Sess. VII.
31. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 124; Sacrorum Conciliorum... Sess. VII.
32. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 125.
33. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 1. P. 495; Sess. V, 17. VI. 1546. Аналогичное решение по монастырям см.: Ibid. P. 497–498.
34. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 85.
35. Jedin H. Storia del Concilio di Trento. P. 127.
36. Доминиканцы, или орден братьев проповедников (Ordo fratrum praedicatorum) — основан Св. Домиником (St. Dominic [Guzman]; 1170–1221). Приехав в 1205 г. в Прованс и Лангедок, Доминик решился проповедью бороться против ереси альбигойцев и основал, при поддержке епископа тулузского, монастырь в Приуле. В 1215 г. он отправился в Рим, чтобы получить от папы Иннокентия III разрешение на устройство нового ордена. Папа согласился исполнить его просьбу лишь с тем условием, что тот выберет себе правила одного из существующих уже орденов. Доминик выбрал правила Св. Августина. Официальное утверждение ордена состоялось 22 декабря 1216 г. в понтификат папы Гонория III (в миру — Cencio Savelli; ?–1227; понтификат 1216–1227). В 1218 г. Доминик переселился из Тулузы в Рим и был назначен папой «magister sacri palatii», т. е. управляющим папским дворцом, и придворным проповедником. В 1233 г. католическая Церковь признала его святым. Орден быстро распространился во Франции, Испании и Италии. На первом генеральном капитуле в Болонье в 1220 г. орден был объявлен нищенствующим: на его членов была возложена обязанность отказаться от всякого имущества и доходов и жить подаяниями. Однако это постановление строго не соблюдалось и в 1425 г. было отменено папским решением. Третий Великий магистр ордена, Св. Раймунд де Пеннафорте (St. Raymond de Pennafort, 1180–1275) издал собрание его статутов (1238). Было учреждено, что во главе ордена стоит избирающийся Великий магистр (сначала его избирали пожизненно, а потом на 6 лет), а в каждой стране должен быть провинциальный приор. Над этими начальствующими лицами стоит капитул, т. е. общее собрание, созываемое каждые три года. Главная задача ордена состояла в миссионерской деятельности среди неверных; но вместе с тем он ревностно занимался церковной проповедью и богословием. Членами ордена были Альберт Великий и Фома Аквинский, а также Эккард и Савонарола. Magister sacri palatii, всегда избиравшийся из числа доминиканцев, заведовал высшей цензурой; папа Григорий IX (в миру — Ugo или Ugolino di Segni; 1170–1241; понтификат: 1227–1241) передал им также Инквизицию. В эпоху своего наибольшего процветания орден насчитывал до 15000 членов в 45 провинциях (из них 11 вне Европы), и 12 конгрегаций, под управлением самостоятельных генеральных викариев. Позднее доминиканцы были оттеснены иезуитами от школ и проповеди при дворах, а отчасти и от миссионерской деятельности.
37. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 124–125.
38. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 87. Разумеется, выше были очерчены лишь отдельные факты, догматические позиции и идеологемы, связанные с работой Собора, а именно те, которые так или иначе соотнесены с главной темой настоящего исследования. Более детальную информацию о Тридентском соборе и эпохе Контрреформации можно почерпнуть в следующих статьях и монографиях: Bossy J. Christianity in the West: 1400–1700. Oxford [Oxfordshire]; New York: Oxford University Press, 1985; Delumeau J. Catholicism between Luther and Voltaire: a new view of the Counter-Reformation. (Последнее французское изд-е: Delumeau J., Cottret M. Le catholicisme entre Luther et Voltaire. 6e ed. Paris: Presses universitaires de France, 1996; первое франц. изд-е: 1971); History of the Church / Ed. by H. Jedin, J. Dolan. In 10 vols. New York: Crossroad, 1980–1982. Vol. V. Reformation and Counter Reformation. 1980; Alberigo G. Du Concile de Trente an tridentinisme // Irenikon, 1981. T. 54. P. 192–210; Jedin H. Geschichte des Konzils von Trient. Bds. 1–4. 3 Aufl. Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder, 1978. См. также литературу, указанную в цитированных выше работах E. Gleason (p. 343–345) и А.Ю. Прокопьева (С. 114–116).
В период формирования средневековой мысли Природа понималась как ens creatum, причем полагалось, что в силу грехопадения все природно сущее лишено присущего ему изначально божественного слова. «Фундаментальная позиция средневековой мысли определяется пониманием бытия как слова. Из этого понимания проистекает риторическое Слово Августина, грамматическое Слово Ансельма, логическое Слово Фомы Аквинского и поэтическое Слово Данте»1. В «логическом» Слове Св. Фомы все сущее подлежит человеческому познанию, кроме Бога — то же, «что преподано Богом в откровении, следует принять на веру»2. Св. Фома исходил из того, что источником конечной истины, которая внеположна человеческому разуму, является Бог3, точнее, божественный интеллект, неотделимый от божественной воли. Божественная истина может быть раскрыта человеку через откровение и сообщена посредством Св. Писания и его толкования4. Однако эта истина доступна не всем, а лишь тем, кто предопределен тайным решением Бога к спасению5. В этом взгляды Св. Фомы практически совпадают с позицией Св. Августина и других Отцов Церкви. Но, в отличие от последних, Св. Фома делает больший акцент на рациональном мышлении, которому он отводит важную роль как в познании сотворенного мира, так и в поисках пути к спасению6.
Высшей формой познания, согласно Св. Фоме, служит созерцание. Хотя он и принимает аристотелеву максиму — в разуме нет ничего, чего ранее не было бы в чувствах (nihil est in intellectu nisi prius fuerit in sensu)7 — тем не менее реальное познание представляет собой, по мнению «ангельского доктора», выделение сущности вещей разумом, ибо томистский Бог рационален, в силу чего рациональным оказываются мир и человек.
«Истинное <...>, — рассуждал Аквинат, — в своем исходном смысле находится в интеллекте. В самом деле, коль скоро всякий предмет может быть истинным постольку, поскольку имеет форму, соответствующую его природе, с необходимостью следует, что интеллект, поскольку он познает, истинен в меру того, насколько он имеет подобие познанного предмета, которое есть его форма, коль скоро он есть интеллект познающий. И потому истина определяется как согласованность между интеллектом и вещью. Отсюда познать эту согласованность означает познать истину. Но последнюю чувственное восприятие не познает никоим образом. <...>. Интеллект же в состоянии познать свою согласованность с постигаемой вещью: однако он не воспринимает ее в том смысле, что познает некоторое неразложимое понятие; но, когда он высказывает о вещи суждение, что она такова, какова воспринятая им от нее форма, лишь тогда он познает и высказывает истину. И делает он это, слагая и разделяя. Ибо во всяком суждении он либо прилагает к некоторой вещи, обозначенной через субъект, некоторую форму, обозначенную через предикат, либо же отнимает у нее эту форму»8. В итоге Св. Фома приходит к заключению, что «чувственное восприятие не схватывает сущности вещей, но только их внешние акциденции. Равным образом и представление схватывает лишь подобия тел. Лишь один интеллект схватывает сущность вещей»9.
Таким образом, опираясь на свои органы чувств и свой интеллект, человек может прийти к истинному знанию сущности вещей, к познанию гармоничного порядка и каузальности Универсума, что Фома и называл созерцанием вещей. Оно дается долгой и упорной тренировкой интеллекта в процессе обучения различным дисциплинам. Более того, правильное интеллектуальное созерцание вещей Св. Фома интерпретировал как путь к спасению: «конечная и совершенная красота, которую ожидают найти в грядущей жизни, в принципе состоит первично в созерцании, а вторично в надлежащем действии практического разума, направляющего человеческие действия и страсти»10.
Еще раз подчеркну: спасение понимается Аквинатом скорее в терминах интеллектуального созерцания, нежели в терминах деятельности, ибо деятельность присуща и животным. В итоге дело спасения, с одной стороны, и образовательная практика, приуготовляющая ум к интеллектуальному созерцанию, с другой, оказались в учении Св. Фомы тесно связанными. При этом — и здесь важное отличие позиции Аквината от взглядов Св. Августина — даже не осененный божественной благодатью человеческий разум может стать средством адекватного познания сотворенного мира. Тем самым изучение сотворенного мира, являющееся единственным, хоть и косвенным, путем к познанию Творца, обретает легитимность не только в инструменталистских терминах, как это имело место у Св. Августина, но и в морально-религиозных.
Важно также отметить, что божественная истина, согласно Св. Фоме, как бы запечатлена в Природе, в силу чего невозможно противопоставить истины Природы и Бога, благодать не разрушает, но совершенствует природу (gratia naturam non tollit, sed perficit), оба мира — дольний и горний — связаны едиными законами причинности и разума, и законы эти могут быть истолкованы на основе аристотелевой концепции необходимости.
Реальное знание (т. е. собственно scientia) есть, по Св. Фоме и Аристотелю, познание причин, т. е. знание необходимых связей между следствием и его причиной11. Это знание возникает путем абстрагирования от пестроты и многообразия чувственных данных и использования дедуктивных рассуждений с целью установления каузальных связей между сущностями. Так формируется предмет натурфилософского исследования. Далее, познание может обратиться к изучению нематериальных сущностей, которое, в свою очередь, вело к установлению начал, коим подчиняется мир природных субстанций. На этом этапе формируется предметная область метафизики. И, наконец, венчает познавательный процесс постижение истин теологии, тех из них, которые доступны рациональному познанию12. Одоление каждой ступени на этой эпистемологической лестнице означало приближение к главной цели — спасению души. Но какое место в описанной иерархии занимает математика, третья часть философии в аристотелевой системе наук?
Согласно Аристотелю, каждая область знания в идеале должна строиться на собственных, единых и истинных началах, которые лежат в основании дедуктивных выводов. Кроме того, первоначала каждой области знания должны быть того же рода, что и объекты этой области, ибо только тогда можно реализовать дедуктивный вывод. Очевидно, что, к примеру, астрономия и оптика нарушают это требование однородности экспланаса и экспланандума теории (и, соответственно, нарушают аристотелев запрет на метабасис) именно потому, что строят свои объяснения и выводы, опираясь на чистую математику. Поэтому Аристотель классифицировал эти дисциплины как подчиненные более высоким13.
Этот таксономический ход Стагирита был в известной мере ad hoc решением проблемы классификации наук, что породило впоследствии длительную полемику о том, можно ли используемые в астрономии и в оптике доказательства считать ведущими к истинному знанию.
По мысли Св. Фомы, который в вопросе о дисциплинарном статусе математики в целом следовал Аристотелю, математические сущности представляют собой «квазисубстанции», не подверженные — в отличие от физических субстанций — каким-либо изменениям, а потому не имеющие прямого отношения к реальности14. Поэтому математике, которая имела дело только с количественными характеристиками, а не с процессами и не с телеологией, отводилось в томистской иерархии дисциплин промежуточное место между физикой и метафизикой.
Вместе с тем Св. Фома признавал, что есть такие области знания, где роль математики очень велика, как, например, в механике, оптике, астрономии, в учении о музыкальной гармонии. Эти дисциплины (науки) Аквинат относил к категории «смешанных»15. Смешанные (или математические) науки не имели самостоятельного значения и статуса, они были «подчинены» иным дисциплинам. Соответственно оценивался и статус используемых в этих смешанных науках математических теорий. К примеру, птолемеевы эксцентры и эпициклы рассматривались Св. Фомой лишь как математические гипотезы, не отвечавшие истинной природе вещей16.
Действительно, поскольку математические сущности не были реальными субстанциями, то их использование для объяснения наблюдаемых явлений не могло гарантировать постижение истинных физических причин, т. е. не могло с необходимостью привести к истинному знанию. Более того, поскольку все астрономические объяснения основывались на «слабом» силлогизме — от явлений к их причине (причинам), — то астрономические выводы нельзя считать строго доказанными, необходимыми истинами, но лишь вероятными, способными «спасать явления» утверждениями. Иными словами, тот факт, что астрономическая теория (скажем, теория движения планет Птолемея) позволяет, используя математические сущности (эксцентры, эпициклы и т. д.), рассчитать видимые движения планет, не является достаточным доказательством истинности данной теории, «потому что можно предположить существование и другой гипотезы, с равным успехом объясняющей те же явления»17.
Здесь необходимо сделать два пояснения. Первое — относительно понятия «гипотеза», как оно использовалось Св. Фомой. Под гипотезой он понимал некое утверждение, позволявшее обосновать видимости природных явлений, не претендуя при этом на объяснение их истинной природы. Именно в этом смысле он и его последователи говорили о гипотетическом характере системы Птолемея. В этом же смысле позднее говорилось и о гипотезах Коперника, в частности, кардиналом Роберто Беллармино. Причем если натурфилософскую гипотезу можно проверить на истинность с помощью надлежащих наблюдений и опытов, уточнив тем самым ее эпистемологический статус, то истинность чисто математической гипотезы, относящейся к физическому миру, доказать сведением ее к истинным первоначалам и/или к очевидностям нельзя.
Второе пояснение относится к понятию «спасение явлений». «Спасти явление» — значит построить некую теоретическую модель его, выраженную в словах и в знаках, которая бы позволяла объяснять видимости и которая служила бы своего рода «мостом» между принятыми метафизическими утверждениями и наблюдаемыми данностями. К примеру, эпициклы и эксцентры встречаются в астрономических текстах, признанных каноническими (скажем, в «Альмагесте»), но не на небе. При этом данные наблюдений интерпретировались в соответствии с геометрическим характером принятой модели движения планет. В свою очередь, эта геометрическая модель должна была быть по крайней мере совместимой с некоторыми метафизическими принципами (скажем, с принципом равномерных круговых движений небесных тел, с принципом «лунной грани», т. е. качественной разнородности над- и подлунного миров и т. д.) и одновременно устанавливать границы, определявшие возможности астрономов приписывать Природе известную регулярность и упорядоченность18.
Таким образом, традиционный астрономический дискурс оперировал систематическими наблюдениями явлений, а не интерпретацией последних как неких «природных знаков», несущих информацию о других физических явлениях19. Предметом интерпретации в средневековой традиции мог быть только текст, тогда как природные явления, манифестирующие друг по отношению к другу некие каузальные связи, должны изучаться через дедукцию, берущую свое начало в представлении изучаемых объектов в уме и в языке.
Возвращаясь к официальной позиции Церкви по отношению к природознанию, уместно отметить, что Церковь, хотя и не интересовалась (или мало интересовалась) конкретным содержанием знания о Природе (поскольку любые интеллектуальные занятия обретали смысл и легитимность исключительно в их сотериологических коннотациях), оказалась весьма чувствительной к вопросам эпистемологического статуса тех или иных натурфилософских учений, принципам организации и классификации и т. д., особенно когда речь шла о необходимости проведения образовательных реформ, обозначенных в соответствующих тридентских решениях, поскольку для реализации последних необходимо было систематизировать и инвентаризировать весь корпус профанного знания, сохранив при этом ортодоксальное ядро традиционного христианства.
Здесь-то и дали о себе знать глубокие расхождения, раздиравшие посттридентскую католическую элиту, причем полемика развивалась не только по линии идейного и культурного противостояния доминиканцев и иезуитов, но и внутри каждого ордена. Именно в ходе этих дебатов были посеяны семена «дела Галилея», перемолотые затем, в 1615–1616 и в 1632–1633 гг., в жерновах внутриконфессиональных столкновений.
1. Сергеев К.А., Толстенко А.М. К вопросу о сущности средневековой метафизической позиции // Verbum. Вып. 1. Франсиско Суарес и европейская культура XVI—XVII веков. Альманах Центра изучения средневековой культуры при философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 1999. С. 96–99; С. 97.
2. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 1. 1 ad 1.
3. Ibid. II—II, q. 1, a. 1c; q. 1, a. 10c; q. 17, a. 6c.
4. Ibid. II—II, q. 1, a. 9 ad. 1.
5. Ibid. I—II, q. 3, a. 5; III, q. 48, a. 6c.
6. Здесь уместно напомнить, что истина христианского вероучения есть всецело истина спасения. Все знание тут соотносится с порядком дела спасения.
7. «По закону своей природы человек приходит к умопостигаемому через чувственное, ибо все наше познание берет свой исток в чувственных восприятиях» (St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 1, 9c).
8. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 16, 2c.
9. Ibid. I, q. 57, 1 ad 2.
10. Ibid. I—II, q. 3, a. 5.
11. St. Thomas Aquinas. De verit., q. 3, a. 3c.
12. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 1, a. 8 ad 2.
13. Подр. см.: McKirahan R.D. Aristotle's Subordinate Sciences // The British Journal for the History of Science, 1978. Vol. 11. P. 197–220.
14. St. Thomas Aquinas. In Boeth. De Trin., lect. 2, q. 1, a. 3.
15. Ibid., lect. 2, q. 5, a. 3; In II Phys., lect. 3; Sum. Theol. I—II, q. 35, a. 8; II—II, q. 9, a. 2 ad 3.
16. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 32, a. 1; In II De caelo, lect. 17.
17. Ibid. I, q. 32, a. 1.
18. Интерпретационный вектор был направлен, как заметили Р. Фельдхей и М. Хейд, от «textual models» к наблюдаемым явлениям, т. е. «как это ни странно, явление могло восприниматься как правомерная (valid) интерпретация модели, а не наоборот» (Feldhay R., Heyd M. The Discourse of Pious Science // Science in Context, 1989. Vol. 3. № 1. P. 109–142; P. 116).
19. Как показал Я. Хакинг, до конца XVII в. не принято было рассматривать природные явления как некие «естественные знаки», поскольку такое рассмотрение считалось ненаучным (Hacking I. The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas About Probability, Induction and Statistical Inference. Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
В тридентский и в посттридентский период две группы клерикальных интеллектуалов лидировали в католическом мире Западной Европы — доминиканцы и иезуиты. Учитывая отмеченную выше важность конфронтации между ними для понимания глубинного контекста первого «дела Галилея» (1616), я остановлюсь далее на образовательной политике и социально-культурной ориентации каждого из этих орденов. Начну с доминиканцев.
Три обстоятельства определяли их роль в интеллектуальной и религиозной жизни Европы, начиная с основания ордена в XIII столетии:
— их твердая, даже жесткая ориентация на томизм1;
— создание ими хорошо организованной сети образовательных центров (начиная с XIII-го в.), включавшей как монастырские школы, так и studia generalia (т.е. университеты);
— их преобладание в Инквизиции.
В этом разделе я кратко коснусь образовательной политики ордена.
Согласно доминиканской доктрине, учение (studia) следует рассматривать как наиболее достойный путь к достижению идеала праведной жизни. Во-первых, потому, что учение ведет к обретению vita contemplativa, а следовательно, к спасению души. При этом созерцательная жизнь образует основу доминиканского жизненного идеала (речь, разумеется, шла о правильном созерцании rerum Divinarum2. Во-вторых, интериоризованная мотивация обращения к миру знания дополнялась экстериоризованной модальностью, а именно: одной из главных обязанностей ордена было обучение и наставление народа в истинной вере (officium docendi) — обязанность, которая давала доминиканцам многочисленные привилегии. В курии многие прелаты прекрасно понимали, что невозможно укреплять веру, игнорируя образовательные задачи, ибо невежество — мать ошибок и ересей. В-третьих, знание охраняет душу от соблазнов плоти. Последний довод указывал на характерное для Средневековья понимание всякой интеллектуальной деятельности как способа ухода от мира, хотя, конечно, доминиканцы сознавали, что лежащая на них «обязанность учить» не допускает полной изоляции ордена.
В итоге надлежащим образом организованные интеллектуальные занятия рассматривались «сынами Св. Доминика» как средство приближения человека к Богу — тезис, в основе которого лежало томистское представление о возможности познания мира и истины божественного Откровения с помощью интеллекта. Однако в силу поврежденности человеческой природы процессы учения и познания должны быть поставлены под строгий контроль старших братьев, которые обязаны следить за обучаемым, «чтобы то, что [старший брат] заметил в тот момент, когда возможно исправить, исправлял бы (in stadiis corrigenda viderit corrigat)»3.
В первом уставе ордена вообще запрещалось изучать даже основы artes liberales без разрешения генерала. Правда, строгость первоначальных ограничений умерялась их искусными толкованиями со стороны жаждущих приобщиться к азам знания братьев. Впоследствие изучение светских наук допускалось, но с условием, что эти штудии должны направляться исключительно к цели спасения души, а не быть средством удовлетворения чьего-либо любопытства или чьих-то амбиций4.
Однако в посттридентский период — и даже несколько ранее, в середине XVI столетия — стало ясно, что золотой век доминиканцев и доминиканского образования остался в прошлом. «Ubi enim doctissimi et religiosissimi illarum religionum patres, qui non nobis duntaxat, sed toti Europae ornamento erant? — с горечью спрашивал Магистр ордена, открывая в 1561 г. очередной Capitula Generalia5. — Ubi tantus studiorum (имеются в виду университеты. — И.Д.) numerus?»6 и т. д. Вопрос «ubi sunt» действительно становился все более актуальным. Документы ордена, прежде всего «Acta Capitulorum» за 1558–1628 гг., ясно показывают картину глубокого кризиса, который затронул все сферы деятельности доминиканцев, в том числе и образовательную7. Studia generalia, т. е. университетское образование, стало источником привилегий для малых элитных групп, контролировавших эту деятельность и не желавших никаких реформ, тогда как базовое образование пришло в такой упадок, что доминиканцы вынуждены были иногда посылать своих новициев учиться к конкурентам, т. е. в иезуитские школы8, где уровень образования был выше, а методика совершенней.
Столкнувшись с кризисными явлениями в сфере образования и одновременно с требованием тридентской Церкви повысить образовательный уровень народа, отцы-доминиканцы оказались в трудном положении. С одной стороны, будучи последовательными консерваторами, они прилагали усилия к укреплению традиций ордена, что означало, в частности, усиление преподавания метафизики и теологии9. С другой же стороны, доминиканская элита осознавала необходимость возрождения духовной жизни путем постепенной адаптации новых тенденций и смыслов. В итоге было решено разрешить избирательное чтение гуманистической литературы, а также ввести изучение древнегреческого и древнееврейского языков. Кроме того, курс теологии был разделен на две части: спекулятивную (по Св. Фоме) и моральную (по Св. Фоме и по «Sententiarum libri IV» Петра Ломбардского (Petrus Lombardus; ум. 1164))10. Фактически это означало введение новой дисциплины, преподавание которой, хотя и было обставлено множеством оговорок и ограничений, стало каналом трансляции в доминиканскую среду новых идейных веяний времени (в частности, предметом изучения стали труды Ф. Каэтана (Th. De Vio Cajetan; 1468–1534)).
Однако в целом доминиканская культура оставалась укорененной в средневековом идеале vita contemplativa. Сохранялась также тенденция к изоляции от мира и агрессивная реакция на малейшие подозрения в ереси и отклонения от традиционного томизма11. На фоне этой консервативной реакции доминиканцев на вызовы времени особенно рельефно выглядит деятельность их основных соперников — иезуитов.
1. Доминиканцы неизменно объявляли себя «чистыми томистами» и, по сути, таковыми были в действительности. С XIV-го столетия они восприняли учение Св. Фомы как «здравый путь», а с середины XVI-го приняли Summa Theologiae в качестве основного пособия по теологии в контролируемых ими учебных заведениях.
2. «[Нечто] соответствует созерцательной жизни, в то время как созерцание предназначено для понимания божественных истин, что направляет процесс обучения (vitae contemplativae proprium est; nam contemplatio ordinatur ad rerum Divinarum considerationem, quae recte studio dirigitur)» (Regula beati Augustini et Constitutiones fratrum Ordinis Praedicatorum... (cum suis declarationibus insertis, editis per... F. Vincentium de Castronovo, ...cum additionibus per... F. Vincentium Justinianum Chiensem, ejusdem Ordinis generalem magistrum... Constitutiones monialium Ordinis Praedicatorum. Regula fratrum et sororum de Penitentia beati Dominici. Liber de instructione officialium fratrum Ordinis Praedicatorum (per F. Umbertum de Romanis). Item Formularium... Item Chronica generalium magistrorum cum indicentibus nonnullis et viris illustribus Ordinis Praedicatorum. Romae: apud F. Caballum Rome, 1650. P. 241); глава XIV («Destudentibus») этого уставного документа, выдержавшего три издания в рассматриваемый здесь период (1566, Roma; 1607, Venetia; 1650, Roma), является одним из главных источников по образовательной политике доминиканцев в посттридентскую эпоху.
3. Regula Beati Augustini et Constitutiones... P. 240.
4. Ibid. P. 241–242.
5. Capitula Generalia — конгрегация избранных на местах официальных представителей всех провинций, собиравшаяся раз в три-четыре года и реально руководившая работой ордена. Решения Capitula заносились в сборники «Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum» (издавались под ред. Б. Райхерта (B.M. Reichert) в Риме в конце XIX — нач. XX вв.), многие из принятых на таких собраниях решений заносилось впоследствии в уставные документы ордена, т. е. в «Regula Beati Augustini et Constitutionis...» — И.Д.
6. «Где же ученейшие и благочестивейшие отцы, которые не только для нас, но и для всей Европы были украшением? Где все многочисленные университеты?» — И.Д.
7. Подр. см.: Feldhay R. Galileo and the Church... P. 98–109.
8. Mortier R.P. Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs. En 7 tt. Paris: Picard, 1903–1914. Т. VI. 1589–1650; 1913. P. 323.
9. Acta Capitulorum... / J.A. Frühwirth, recensuit B.M. Reichert. (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica). In 14 tt. Romae: In domo generalitia, 1898–1904. T. XI. 1564; 1901. P. 63.
10. Acta Capitulorum... T. XI. 1571. P. 133.
11. По словам Р. Фельдхей, доминиканцы «преобразовали томизм, превратив его из религиозно-интеллектуальной системы в некую обязательную (binding) доктрину, придав ему тем самым статус, который до эпохи Контрреформации он не имел» (Feldhay R. Galileo and the Church... P. 109).
В современной литературе по истории и философии науки принято противопоставлять отношение к природознанию в протестантских и в католических кругах, изображая динамизм и устремленность на «благие дела» (среди которых значилось и изучение Природы) кальвинизма на нарочито темном фоне христианской (католической) ортодоксии.
«Для средневекового католицизма, — писал Р. Мертон, — как и для кальвинизма, мир — греховен. Но если для первого было характерно стремление уйти от мира в покой монастыря, то второй требовал подавления мирских искушений путем переделки мира непрестанным, упорным, тяжелым трудом»1.
Аналогичные оценки можно встретить и у других авторов2. В подобных характеристиках католицизм как культурная сила оказался весьма скверным для науки партнером. Особенно резкие оценки достались Обществу Иисуса (иезуитам), так сказать, «правому крылу» католицизма. Вот один из примеров: «Характернейший симптом: на самом пороге эпохи сознания и свободы <...> иезуитизм выступил с неслыханным по силе импульсом погашения личной воли и собственного суждения. В «Конституциях» к Ордену Игнатия Лойолы описана идеальная парадигма нового человека: "Я должен рассматривать себя как труп, с которым можно делать что угодно..." (Сент-Бев дает классическую формулу этой парадигмы: абсолютное повиновение внутри, абсолютное властолюбие вовне). <...>. Цель воистину оправдывает средства, и целью было не спасение прежних ценностей, а порча новых...»3. И все-таки вглядимся в эту ситуацию пристальней. Но сначала краткая историческая справка.
Монашеский орден Общество Иисуса (первоначально — Compania de Jesus, и только позднее стали использовать латинизированное название Societas Jesus) был основан в 1534 г. отцом Иниго-Лопец де-Рекальдо Лойола (I. Loyola; 1491–1556)4. 27 сентября 1540 г. орден был утвержден папой римским Павлом III буллой «Regimini militantis ecclesiae»5. Иезуиты получили большие привилегии: Общество было освобождено от государственных налогов, выведено из подчинения светской юрисдикции, оно не зависело от власти епископата, члены ордена подчинялись только своему начальству и папе. Орден получил большое влияние во Франции (при Людовике XIV (правл.: 1643–1715) и Людовике XV (правл.: 1715–1774)) и особенно в Германии и Испании. Однако со второй половины XVIII в. иезуитов стали постепенно изгонять из европейских стран (в 1759 г. — из Португалии, в 1767 — из Испании), а в 1773 г. папа Климент XIV (в миру — Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, 1705–1774; понтификат: 1769–1774) под давлением светской и духовной знати вынужден был объявить о роспуске Общества Иисуса «повсеместно и навсегда». Впрочем, в отдельных странах орден некоторое время еще продолжал существовать: в Пруссии — до 1781 г., в Белоруссии и Литве — до начала XIX столетия. Впоследствии делались попытки его восстановления.
Орден иезуитов резко отличался от других монашеских конгрегаций XVI—XVII вв. По образной характеристике А.Ю. Прокопьева, «организованный на принципах жесткого единоначалия вопросы орден (самоназвание: игнатиане, члены Общества Иисуса; название "иезуиты" дано в хулительном значении протестантами в начале [15]40-х гг.) не являл собой лишь формализованную структуру, для членов которой поддержание устава и порядка было самоцелью. Не поиск Бога в монастырской келье должен был быть причиной уединения в ней, но защита Его во образе Церкви и папы <...>. В этой изначальной посылке крылось глубокое различие в концепции Лойолы и предшествовавшей монашеской традиции. Чтобы стать полноправным членом ордена, необходимо было обрести и закалить веру в душе. Лойола последовательно и блестяще показал пути ее обретения в своих "Духовных упражнениях". Именно завещанная им индивидуальная концентрация всех возможных духовных и физических усилий на вере сближала его с реформаторами, а вкупе с ними — и с традицией "подражания Христу", восходящей к позднему Средневековью. И именно это позволяет считать его "Упражнения" и принципы замечательным вкладом в сокровищницу гуманистической мысли раннего Нового времени. При всем воинственном порыве, столь сильно поощряемом в ордене папами второй половины [XVI-го] века, иезуиты организационно и потенциально скрывали в себе гораздо большие возможности влияния на все сферы социальной жизни католической паствы, к реализации которых члены ордена приступили уже с первых лет его существования. На момент основания орден насчитывал лишь 60 членов, однако уже в последние годы жизни Лойолы, ставшего первым генералом ордена, число иезуитов, равно как и объем их пасторской деятельности, стремительно увеличились, что позволило организовать первые орденские провинции в Испании и Португалии. Наивысшего влияния орден достиг в генералаты ближайших преемников Лойолы: Диего Лайнеса, Муция Вителлески, Клавдия Аквавивы... Среди пап мы не встречаем ни одного члена Общества Иисуса, однако в лице Григория XIII [в миру — Ugo Buoncompagni; 1502–1585; понтификат: 1572–1585] находим самого энергичного патрона и защитника орденской деятельности»6.
В основу своей догматики иезуиты положили учение Св. Фомы Аквинского, который в 1567 г. был объявлен ими «пятым учителем Церкви». Идейным стержнем иезуитской догматики стали следующие положения:
— всякое множество должно быть упорядочено в единстве, единство без множества или отрешенное от своего множества есть пустое созерцание;
— бытие вещей оправдывает бытие Бога, т. е. прежде всего — бытийственная сторона Бытия, а уж затем божественная;
— одни и те же схемы мысли накладываются на бесконечную пестроту конкретных вопросов, будь то пять доказательств бытия Бога или оправдание границ допустимого в финансовой деятельности;
— основная антитеза любого бытия и блага — это противостояние «потенциального» и «актуального»; если актуальное есть реализованное, завершенное, осуществленное, а также добро, красота, истина и благо, то потенциальное — все ему противоположное (зло, вред, уродство, ложь, но не заблуждение!) и т. д.; актуальное не может становиться потенциальным;
— имеет место принцип порядка и четкости во всем — и в божественных делах, и в человеческих;
— имеет место «принцип индивидуации»;
— «сущее» и «благо» есть понятия взаимозаменяемые;
— не разделяй, а властвуй.
Испанский иезуит, представитель «второй схоластики» Франсиско Суарес (F. Suarez; 1548–1617), почитавшийся величайшим теологом, дополнил эти тезисы следующими7:
— сущность равна существованию — каково существование, такова и сущность;
— единичное обладает всеми преимуществами перед общим;
— Бог не предопределяет судьбу человека, но предвидит;
— личность есть самое благородное во всей разумной Природе;
— интеллект сильнее воли, но в мирских делах и в делах совести любовь важнее познания;
— любые крайности порочны, любовь всегда посередине;
— из двух взглядов на конкретный вопрос каждый может опираться на конкретное основание, но ни один не может считаться абсолютно достоверным, но лишь вероятным.
Иезуиты не просто восприняли и дополнили учение Св. Фомы, они его в ряде пунктов существенно переработали, что и послужило причиной длительной полемики между Обществом и доминиканцами, считавшими себя «чистыми» томистами8. На этой полемике я детальней остановлюсь далее, сейчас же ограничусь несколькими общими замечаниями.
Иезуиты разделили, «развели» понятия божественного знания и божественной воли. Согласно их концепции, еще до принятия какого-либо решения и независимо от него Бог обладает некоторым «промежуточным знанием (scientia media)» о будущем, и знание это отнюдь не гипотетическое (таковым оно является только для человека). Как заметили по этому поводу доминиканцы, получается, что возможно абсолютное знание о гипотетических сущностях. Бог сначала знает, причем прямо и непосредственно, а затем, опираясь на это свое абсолютное знание, принимает решение по своей воле, но с учетом естественного хода вещей, естественной предрасположенности предметов, их природы. Тем самым на божественное предопределение накладываются известные ограничения, что, в свою очередь, оставляет место для проявления свободной воли человека. Именно в поисках компромисса между божественным провидением и человеческой волей и была введена иезуитами концепция scientia media. Неабсолютности божественного предопределения отвечала неабсолютность человеческого знания причин явлений, знания, полученного путем выдвижения гипотез, выведения следствий из них и последующей проверки наблюдаемости этих следствий.
Интересна в этом аспекте позиция немецкого математика и астронома, одного из создателей григорианского календаря Кристофера Клавиуса (Chr. Clau или Clavius; 1537 или 1538–1612). По его мнению, гипотетические сущности, которыми оперируют математики, имеют корни в реальном мире, и потому математические построения могут дать истинное знание о реальности. «Математические сущности» служат, по Клавиусу, связующим звеном между рациональными структурами ума и реальными структурами физического мира. Разумеется, Клавиус понимал, что математические доказательства еще не могут гарантировать истинность принятых гипотез и потому необходимо обратиться к наблюдениям (Клавиус как астроном апеллировал именно к наблюдениям). Но даже если наблюдаемые явления и подтверждали данные математических расчетов, это также не гарантировало справедливость гипотезы, ибо всегда оставалась возможность иного объяснения, основанного на иной математической гипотезе. Как же быть? Клавиус полагал, что человеческое познание, в отличие от божественного, ограничено, человек не может, подобно Богу, непосредственно, a priori схватывать истинные причины явлений, а потому остается одно — признать, что движение к истине — это не чисто формально-логический процесс, он включает в себя скачок — выдвижение гипотезы. Это несовершенный, но единственно реальный способ постижения ограниченным человеческим разумом неограниченного многообразия Природы. Далее я еще вернусь к затронутым в предыдущих трех абзацах вопросам ввиду их важности для понимания дальнейшего.
Иезуиты много сделали для развития науки, особенно математики, «экспериментальной философии» (физики), медицины, инженерии. Между 1600 и 1700 гг. ими было опубликовано около 4000 книг, 600 журнальных статей и составлено около 1000 рукописей.
Сам Св. Игнатий весьма подозрительно относился к чисто интеллектуальной деятельности, и собравшиеся вокруг него в 1530-х гг. единомышленники являли собой смесь людей действия и тех интеллектуалов, которые ставили апостольские принципы христианской жизни выше схоластического теоретизирования. Первоначальные цели игнатианцев состояли в проповедовании, благотворительности и миссионерской деятельности в Европе и за ее пределами (что и подчеркивалось в папской булле 1540 г.). Что же касается образовательных целей, то таковые поначалу не ставились, более того, в первой версии устава Общества было заявлено с солдатской прямотой: «No estudios ni lectiones en la compania»9. Тем не менее спустя всего неполных два года после основания «компаньи» последняя столкнулась с необходимостью обеспечить себя достаточным количеством высокообразованных людей для реализации всего того, ради чего эта самая «компанья» и создавалась10. А поскольку образовательный уровень большинства духовенства, да и мирян, был, как я уже отмечал выше, мягко говоря, невысок, то «ковать кадры» пришлось самим. И хотя Лойола сохранял негативное отношение к интеллектуализму как образу жизни, однако в одном из писем 1542 г. он выразил пожелание, чтобы члены Общества улучшили свои познания в латыни и в свободных искусствах11. Но традиционное университетское образование не отвечало целям Общества, и оно начало формировать свою образовательную программу, свой studium. К 1546 г. были составлены первые (падуанские) «Constitutiones Scholasticorum».
Институциональной основой деятельности иезуитов стал университет и колледж. Так например, в 1551 г. Лойола основал Римский колледж (Collegio Romano) как школу грамматики, гуманности и натурфилософии, с бесплатным обучением. Поначалу в нем обучалось всего 15 студентов, а занятия вели три преподавателя. Но в течение нескольких лет Collegio Romano превратился в один из лучших образовательных центров Европы. С 1584 г. этот колледж получил статус университета.
Накануне роспуска Общества его члены занимали более 85 кафедр математики, надзирали за более чем десятком физических кабинетов (большая часть которых существовала вместе с кафедрами экспериментальной физики), работали во всех 25 существовавших тогда учебных обсерваториях Европы, и хотя обсерватории в Гринвиче и в Париже превосходили в техническом отношении иезуитские, последние держали большую сеть постоянных наблюдателей-астрономов.
В 1550–1560-х гг. открылись десятки иезуитских колледжей, а к концу века их уже было несколько сотен по всей Западной Европе. Иезуиты первыми ввели разделение учащихся по возрастам, активно использовали физические упражнения, создавали театры12 и т. д.
Все это было бесконечно далеко от аскетичной практики доминиканцев, да и других монашеских конгрегаций. Если сыны Св. Доминика держались идеала vita contemplativa и старались оградить себя от мира, то последователи Св. Игнатия предпочитали vita activa. Они не только не чурались мира, но настойчиво проникали во все его поры, ячейки и структуры, даже если их туда не звали. В своей деятельности иезуиты всегда руководствовались прагматическими соображениями, а также жесткими, раз и навсегда установленными принципами. Образовательная политика иезуитов отличалась не только высоким качеством обучения, включавшего в себя прогуманистические элементы13, не только впечатляющими количественными показателями (к 1600 г. в Европе насчитывалось 245 колледжей, основанных или контролируемых Обществом, не считая других образовательных центров), но и гибкостью. Скажем, поначалу, как уже отмечалось, никаких особых образовательных задач Общество перед собой не ставило, но спустя три десятилетия вопрос о целесообразности дальнейшего расширения его образовательной деятельности стал предметом интенсивной полемики. Действительно, новиции не хотели обучать плохо подготовленных учеников, поскольку это отвлекало их от собственных занятий, тем более, что многие из обучаемых вовсе не собирались связывать свою дальнейшую жизнь с Обществом Иисуса, интернаты также требовали к себе много внимания и т. д. Однако, несмотря на оппозиционные выступления (пафос которых сводился к тому, что чрезмерная занятость обучением отвлекает от главных целей Общества), к началу 1570-х гг. преподавание стало рассматриваться не как officio, т. е. обязанность среди прочих иных, но как ministerio (миссия), а образование — как универсальный барьер, защищающий мирян и клириков от ересей и неверия (разумеется, если оно поставлено под должный клерикальный контроль).
Но вместе с тем было бы преувеличением видеть в иезуитах эдаких веселых прагматиков, озабоченных повышением образовательного уровня населения и устраивающих театральные перформансы с балетными интермедиями и т. д. Это, конечно, не так. Достаточно обратиться к фрагменту из правил для школяров, составленных Жеромом (Иеронимом) Надалем (H. Nadal; 15071580) в 1563 г. «Пусть каждый знает, — писал Надаль, — что Общество располагает двумя средствами, с помощью коих оно стремится к своей цели. Первое есть некая сила, духовная или божественная, которую обретают через таинство, молитву и религиозные упражнения во всех добродетелях и которая даруется особой божественной благодатью. Другая [сила] заключена в способности, которая приобретается посредством обучения (alterum est positum in facultate quae ex studiis comparari solet)»14.
Таким образом, таинства, молитва и духовные упражнения приуготовляют верующего к восприятию божественной благодати, «настраивая» его волю на волю Бога. Учение же приуготовляет человека к постижению конечной истины, заостряя и шлифуя его интеллект, приводя его — в пределах возможного — в соответствие с божественным Интеллектом. Тем самым воля и интеллект статусно и функционально разделялись, что легитимизировало несозерцательную интеллектуальную деятельность как путь к Богу и к спасению, придавая этой деятельности известную автономию. В традиционном томизме, носителями и охранителями которого были доминиканцы, созерцание понималось как мост между интеллектуальным поиском истины и божественным знанием. (Напомню, что созерцание, согласно Св. Фоме, достигается упорным упражнением интеллекта). Для иезуитов созерцание, по словам Р. Фельдхей, «было наделено более мистическими коннотациями»15, оно инкорпорировано в эмоциональную религиозность, сформированную в «Духовных упражнениях» И. Лойолы, оно рядоположено молитве, таинствам и иным религиозным практикам. Учение же и ученость образуют самостоятельный путь к спасению и этот путь совсем не обязательно и даже вовсе не нужно истолковывать в терминах созерцания.
Таким образом, пуритане и их протестантская родня были отнюдь не единственными религиозно мотивированными интеллектуалами, которые внесли вклад в развитие ранней науки Нового времени. (Кстати, по авторитетному мнению Ч. Уэбстера, распределение религиозных позиций среди интеллектуалов XVII столетия подчинено скорее «нормальной кривой»).
Для естественнонаучной деятельности иезуитов характерно странное, на первый взгляд, соединение двух тенденций: традиционализма (отсюда тяготение их натурфилософии к аристотелизму) и эмпиризма бэконианского толка.
Чтобы понять истоки иезуитского образа науки, следует принять во внимание важную особенность их идеологии — акцент на понятиях апостольской духовности и апостольского служения. Идеал апостольской духовности требовал, чтобы члены Общества, подобно святым апостолам, посвятили себя мирским трудам с целью служения ближнему и во славу Господа. Отец Игнатий мечтал о создании высокодисциплинированной интеллектуальной элиты, деятельность которой была бы направлена в те сферы мирской жизни, которые обычно не стояли в тесной связи с христианской догматикой. Для «сынов Игнатия» стандарты святости коренились не в созерцательной молитве, но в целенаправленной деятельности от имени и во имя Бога, что санкционировало такие черты характера и ума, которые были необходимы для успешного выполнения мирских задач: усердие, прилежание, трудолюбие, систематичность, активность и т. д. И хотя отец Игнатий не был автором выражения «работа как молитва», тем не менее оно хорошо отражает динамичный, активный менталитет членов Общества, от «мирских братьев» до профессов.
Среди многочисленных мирских дел, которыми занимались иезуиты в монастырях и в миру, учение, ученость, изучение Природы имели для них особенно высокий статус. Лойола предупреждал своих последователей: у них не будет много времени для умерщвления плоти и для долгих молитв и медитаций, ибо братья, посвящающие себя учению, которое, в известном смысле, требует всего человека, не менее, а скорее более милы Богу. Ученые занятия, таким образом, рассматривались как легитимная альтернатива молитве и посту. Акцент, который Общество делало на учености и научных изысканиях, с неизбежностью вовлекал интеллектуалов-иезуитов в контакт с теми или иными научными течениями. Опытная проверка гипотез, их «доказательство посредством испытания», стандарты рациональности и т. д. стали критериями приемлемости тех или иных идей, понятий и представлений. Те интерпретации явлений Природы, которые отрицали рациональность и постижимость творения (как, например, скептицизм в его крайних формах), которые допускали существование «скрытых агентов», недоступных разуму (как, например, ряд алхимических доктрин), и которые угрожали человеческой свободе и достоинству (скажем, судебная астрология) были преданы анафеме. (Кстати, иезуиты практически первыми начали разрабатывать концепцию прав человека).
Специфическая структура образа знания, принятого Обществом Иисуса и связанного с концепцией апостольской духовности, в сочетании с освящением учености и труда направляла внимание иезуитов на те формы науки начала Нового времени, которые включали в себя и классические (аристотелевы и эвклидовы) и активно-эмпирические элементы.
Сказанное позволяет провести некоторые параллели между столь часто отмечаемым в литературе «наукоподобием» протестантского религиозного сознания и изоморфностью идеологии иезуитов структурам рационального дискурса. Пуританские ценности (прилежание, усердие, трудолюбие и полезность) находят своих двойников в идеалах эффективности и практичности у отца Игнатия, а пуританское понятие «добрых дел» (по Р. Мертону, перводвигатель пуританского усердия) — в иезуитском идеале апостольского служения. Волевая стихия активной догматики Общества, искоренение разномыслия по поводу любых вопросов, сколько-нибудь значимых для него и для католической Церкви вообще, давали множество побочных и незапланированных эффектов.
Именно к христианской догматике, по мысли М.К. Петрова, «восходят основные наборы установок психологии научной деятельности: непримиримость к противоречию, твердая вера в разрешимость любой дисциплинарной проблемы, осознание повтора как дисциплинарного преступления, "плагиата", самоустранение из описания по принципу "не от себя говорить буду"»16 и т. д. Но между протестантским и католическим образом науки есть и существенные различия. Отметим лишь одно, в нашем контексте наиболее существенное.
Как было показано М.К. Мамардашвили17, можно говорить о двух ипостасях науки: о науке как познании и науке как культуре. Познание — это прежде всего «живой, актуальный элемент внутри науки, взятой как целое, характеризующийся двумя колебательными движениями: колебанием в сторону разрушения нормативных структур, выхода к определенному "нулевому" состоянию знания и, наоборот, обратным движением от нейтрального, почти "нулевого" состояния в сторону новой возможной структуры. И так постоянно. Это экспериментирование с формами, а не сами формы»18. Наука как познание предполагает преодоление любого наличного опыта, это то, что «связано не просто с человеком, но с возможным человеком»19. Короче, познание — это продуктивная сторона науки.
«Наука как культура — нормативна. Она предполагает определенные структурные или <...> культурные механизмы, которые амплифицируют (от лат. amplificatio — распространение, увеличение. — И.Д.) природные силы, энергию человека и, амплифицировав, трансформируют их действие в результат, который природным образом получить нельзя»20. Культурой наука является в той мере, в какой в ее содержании «выражена и репродуцируется способность человека владеть им же достигнутым знанием универсума и источниками этого знания и воспроизводить их во времени и пространстве, т. е. в обществе, что предполагает, конечно, определенную социальную память и определенную систему кодирования. Эта система кодирования, воспроизводства и трансляции определенных умений, опыта и знаний, которым дана человеческая мера, вернее, размерность человечески возможного, система, имеющая прежде всего знаковую природу, и есть культура в науке, или наука как культура»21.
В контексте этих констатаций можно взглянуть и на процессы формирования науки Нового времени и, в частности, на проблему влияния на эти процессы католического и протестантского менталитета.
В католицизме христианская доктрина лишь отчасти основана на библейском тексте, не меньшую роль, как уже отмечалось выше, играет церковная (апостольская) традиция. Причем в понимании идеологов Общества Иисуса традиция — это творческий процесс создания (а не искажения) источников веры. Акцент на роли традиции обусловил и высокий ценностный статус интерпретации, причем не только как способа соотнесения наблюденного и познанного со Священным Писанием, но и как способа охвата сложной реальности (социальной и природной). Каждый объект подлежал интерпретации, в результате чего интерпретатор приходил к тому, что можно назвать veritas creata, сотворенной истиной. В результате объект не познается в своей исходной чистоте и цельности, но как бы «замещается» иной, мыслительной конструкцией. Более того, объект знания может и не существовать реально (как, например, эпициклы в системах Птолемея и Коперника). Правильно построенная интерпретация (модель) позволяет упорядочить кажущийся хаос наблюдений, что увеличивает статус мыслящего субъекта, который в этой ситуации должен был занять некую познавательную позицию.
Для иезуитов (и вообще для католицизма), в отличие от протестантизма, приемлемость того или иного утверждения целиком зависела от его интерпретации, откуда и возникала необходимость социального и идеологического контроля. Контроль же опирался на традицию — отсюда опора на Аристотеля, Эвклида, Птолемея и Фому Аквинского. Но если протестантизм дал идеологическую санкцию на развитие науки как познания Творца через познание его творения, облегчив тем самым процесс социализации естествознания в обществе с новой шкалой ценностей, то католицизм — в лице ученейших представителей Общества Иисуса — дал действенный импульс развитию науки как культуры, импульс, так сказать, «кумулятивного» свойства, направлявший «движение за науку» в культурное русло традиционной идеологии.
1. Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England. New-York: H. Fertig, 1970. P. 58.
2. Свасьян К.А. Становление европейской науки. 2-е изд. М.: Evidentis, 2002 (1-е изд. — Ереван: Изд-во АН Армении, 1990); Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени: философский аспект проблемы. М.: Наука, 1989.
3. Свасьян К.А. Становление европейской науки... С. 191–192.
4. Лойола, сын дворянина из испанской провинции Гвипускоа, родился в 1491 г., получил обыкновенное образование тогдашних дворян в Испании, т. е. читал много рыцарских романов. Молодость посвятил военной службе. Проявил себя храбрым офицером, кроме того, его обширные связи и другие благоприятные обстоятельства содействовали скорому продвижению по службе. В 1521 г., при осаде французами Памплоны, он, защищая этот оплот испанской Наварры от армии Франциска I, сдался врагу, лишь получив страшное ранение: пушечным ядром и обломком стены ему раздробило обе ноги. Отдавая дань уважения мужеству испанского офицера, французы вынесли его с поля боя и с почетом вернули пленного домой. Период выздоровления был долог и мучителен, Лойола заставлял врачей вновь ломать, пилить и вытягивать воротом уродливо сросшиеся кости ноги. Болезнь была очень продолжительна, и, чтобы не томиться долгою праздностью, он попросил что-нибудь почитать. Ему дали «Flores Sanctorum» — легенды о святых, рассказанные с простотой средневековых летописей. Это чтение произвело на Лойолу чрезвычайно сильное впечатление. Он вообразил себя рыцарем девы Марии. Однако многие приняли это настроение его духа за признак сумасшествия. Он бросил военную службу и в 1523 г. отправился в Палестину. Когда же он прибыл на Восток, его поразило собственное невежество: в спорах он не мог отвечать на догматические мусульман. Тогда, вернувшись на родину, тридцатипятилетний рыцарь, герой-калека и мистик сел за парту рядом с зеленой молодежью. Лойола учился сначала в испанских университетах в Алькале и Саламанке, а затем, для завершения образования, отправился в Париж. Парижский университет он закончил с дипломом бакалавра свободных искусств. Учась в Париже, Лойола познакомился с людьми, близкими ему по образу мысли: один из них принадлежал также к знатной испанской фамилии. В 1534 г. их было уже шестеро и они решились основать новый орден. Но прежде решено было отправиться в Палестину. Однако исполнить намеченное не удалось: они не нашли в Венеции корабля, поскольку в то время шла война с турками. В 1540 г. папа Павел III утвердил новый орден, который поначалу был весьма немногочислен. Он отличался от других орденов тем, что к трем обыкновенным обетам в нем присоединялся четвертый: безусловное повиновение папской власти. В самом начале члены ордена высказали намерение служить везде и всевозможными средствами к утверждению католицизма и папской власти.
5. Bullarium Romanum. Torino, 1860. См. также: Monumenta paedagogica Societatis Iesu / Ed. ex integro refecit novisque textibus auxit Ladislaus Lukàcs. Romae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu», 1965–1992. T. I—VII. T. II. 1974. Introductio. P. I.
6. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 121–123. Уточняющий текст в квадратных скобках добавлен мною. — И.Д.
7. Черносвитов Е.В., Флоренский П.В. Иезуиты в России — русские у иезуитов // Кентавр. 1992. № 1–2. С. 61–70.
8. Аквинат с 1244 г. и до конца жизни (1274) был членом ордена доминиканцев.
9. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu... Т. I. P. 6, n. 23.
10. Уже в 1540 г. первая группа игнатианцев была послана в Парижский университет, год спустя еще несколько человек были отправлены на учебу в Падую, а затем, в 1542 г., последовали «десанты» в Лувен и Коимбру.
11. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu... Т. I. P. 7, n. 4.
12. Сохранилось, к примеру, описание театрального представления, устроенного в 1622 г. в Collegio Romano по случаю канонизации Игнатия Лойолы и Ф. Ксавье (F. Xavier или Javier, 1506–1552), знаменитого иезуитского миссионера. Пьесу по этому случаю написал профессор риторики отец Винченцо Гуиниджи (V. Guiniggi) (Bjurström P. Baroque Theater and the Jesuits // Baroque Art: The Jesuit Contribution / Ed. by R.W. Wittkower, I.B. Jaffe. New York: Fordham University Press, 1972. P. 99–110; P. 101). Как правило, в пьесах, разыгрывавшихся в иезуитских театрах, сочетались две тенденции — морализаторская и политически злободневная. Между актами, а их обычно насчитывалось три или пять, ставились интермедии с песнями и танцами. Иезуиты быстро оценили возможности балета и даже разработали специальную латинскую балетную терминологию (Boysse E. Le Théâtre des Jésuites. Genève: Slatkine Reprints, 1970 [репринт парижского издания 1880 г.]. P. 31–58).
13. Семилетний курс гуманистических штудий в иезуитских университетах предусматривал знакомство с трудами Л. Валла, Эразма Роттердамского, И.-Л. Вивеса, Цицерона и Квинтиллиана (Nadal H. De studii generalis dispositione et ordine // Monumenta Paedagogica Societatis Iesus... Т. I. P. 138–140; Olave M. Ordo lectionum et exercitationum in universitatibus. S. I. // Ibid. P. 168–170). Последние два года изучались древнегреческий и древнееврейский языки. Курс философии включал изучение математики и «смешанных» наук по текстам Региомонтана и Лефевра д'Этапля (Nadal H. De studii generalis... P. 149).
14. Nadal H. Regulae pro scholaribus Societatis // Monumenta Paedagogica Scietatis Iesus... Т. II. P. 114–121; P. 116.
15. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 126.
16. Петров М.К. Язык, знак, культура. М.: Наука, 1991. С. 251.
17. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию... / Сост. и предисл. Ю.П. Сенокосова. М.: Прогресс, 1990. С. 337–356.
18. Там же. С. 349.
19. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию... С. 353.
20. Там же. С. 348–349.
21. Там же. С. 341.
Теперь я обращусь к вопросу (отчасти уже затронутому выше), который, на первый взгляд, бесконечно далек от главной темы моего исследования, а именно — к анализу разгоревшейся в конце 1590-х гг. масштабной и острой полемики между доминиканцами и иезуитами по поводу отношения между божественной благодатью и свободной волей человека (хотя в действительности обсуждался более широкий круг понятий). При всей кажущейся иррелевантности этого спора по отношению к дискуссии, которая в середине 1610-х гг. развернулась в Италии вокруг коперниканской картины мира, в действительности между этими событиями существуют, как будет показано далее, глубокие и многообразные связи.
Дебаты охватили период с 1597 по 1607 г. Толчком к ним послужил спор между профессором университета в Саламанке доминиканцем Д. Баньесом1 и профессором теологии в университете Эвора иезуитом Л. де Молина2 по поводу концепции воли. Последний опубликовал в 1588 г. книгу о согласии свободной воли человека с даром божественной благодати и с божественным предопределением3. В ответ Баньес в соавторстве с доминиканцами Педро Эррерой (P. Herrera) и Дидакусом Альваресом (D. Alvarez) составили обширный трактат, в котором доказывалось, что учение Молины несовместимо с истинным томизмом и вообще является еретическим4.
Эта поначалу приватная дискуссия вскоре выросла в широкие публичные дебаты, которые фактически стали формой борьбы за интеллектуальную гегемонию в посттридентской Европе и привлекли внимание папы Климента VIII (в миру — Ippolito Aldobrandini; 1536–1605; понтификат: 1592–1605), который назначил в 1598 г. особую конгрегацию — Congregatio de auxiliis gratiae5. Шесть раз, с 1597 по 1607 г., доводы сторон рассматривались различными комиссиями консультантов-теологов и в кардинальских собраниях (одно только пятое рассмотрение, 1602–1605 гг., потребовало 67 заседаний!). Отмечу, что заметную роль во всей этой истории сыграл кардинал Р. Беллармино (о нем см. далее), который, будучи членом Общества Иисуса, выступал на стороне молинистов. Все шесть раз позиции последних сурово осуждались собраниями экспертов-теологов. Кончилось дело тем, что после последнего рассмотрения, продолжавшегося с 1605 по 1607 г., Павел V (в миру — Camillo Borgese; 1550–1621; понтификат: 1605–1621) решил, что дальнейшую дискуссию продолжать бессмысленно и вредно. Он созвал комиссию из 12 кардиналов и поставил перед ней один-единственный вопрос — не будет ли лучше в интересах Церкви завершить полемику De auxiliis апостолическим решением ex cathedra. Десять из двенадцати прелатов ответили утвердительно. Папа — как полагалось в таких случаях — дал поручение кардиналам проследить за подготовкой текста соответствующей буллы. Потом доминиканские и иезуитские историки долго спорили о том, был ли такой текст составлен или нет, но достоверно известно одно — никакой папской буллы по поводу означенной полемики De auxiliis опубликовано не было. Павел V просто пригласил лидеров спорящих сторон и объявил им, что своё официальное решение он обнародует, когда сочтет нужным, а до того всякие дебаты следует прекратить. Мудрый понтифик все рассчитал правильно. Издай он буллу, в которой не могло содержаться ничего, кроме осуждения молинизма, и это апостолическое решение привело бы к полному запрету Общества Иисуса, которому пришлось бы если не юридически, так морально выступать в роли коллективного ответчика. Это было не в интересах Церкви, хотя бы потому, что Общество стало главной опорой в проведении католической реконфессионализации, да и связи оно имело обширные, прочные, а главное — разнообразные. Кроме того, папская булла усилила бы позиции доминиканцев, а укреплять позиции какой-то одной стороны в сложном раскладе внутриконфессиональных отношений не всегда разумно. По этим и многим другим причинам Павел V, как до него Климент VIII, не стал придавать цензорским решениям авторитет догмы. Это позволило молинизму не только выжить, но и получить известное распространение, а иезуитам чувствовать себя победителями6. Теперь о сути полемики De auxiliis.
Ее идейные истоки восходят к рассмотренным выше декретам Тридентского собора о первородном грехе и оправдании, поскольку эти декреты легли в основу посттридентской доктрины спасения, в свою очередь, связанной с концепцией предопределения. Поэтому о последней следует сказать здесь несколько слов. Ее краткое и емкое объяснение дал В. Соловьев: «Существа нравственно свободные могут сознательно предпочитать зло добру; и действительно, упорное и нераскаянное пребывание многих во зле есть несомненный факт. Но так как все существующее, с точки зрения монотеистической религии, окончательным образом зависит от всемогущей воли всеведущего Божества, то, значит, упорство во зле и происходящая отсюда гибель этих существ есть произведение той же божественной воли, предопределяющей одних к добру и спасению, других ко злу и гибели. Это заключение не представляет особенной трудности для такой религии, которая — как (позднейший) ислам — видит в Божестве исключительно или по крайней мере преимущественно беспредельную силу или абсолютный произвол, требующий только безотчетной покорности; но так как в христианской идее Божества выдвигается на первое место сторона внутренней разумности, или смысла (Логос), и любви, то предопределение ко злу со стороны Божества оказывается здесь немыслимым. Некоторые отдельно взятые места у апостола Павла (Римл. IX:11 и след.) как будто выражают такой взгляд; но в контексте эти выражения допускают другое толкование, которого и держались все христианские писатели до начала V в., <...>, давшее человеческой свободе такое широкое значение, при котором не оставалось места не только действию, но и предвидению со стороны Божества. Сам Августин сопровождал, впрочем, свое учение о предопределении различными смягчительными оговорками; но после его смерти вопрос обострился вследствие возникшего в монастырях Южной Галлии спора о пределах человеческой свободы между ревностными учениками Августина и некоторыми последователями восточного аскетизма, которые, с добрым намерением отстаивая значение нравственной свободы, неосторожно признавали за ней первый шаг в деле спасения»7.
Тридентское понимание предопределения, противостоявшее как его кальвинистской, так и пелагианской трактовкам, тяготело к томистскому толкованию, которое Баньес и Молина развивали по-разному. Обе спорящие стороны соглашались в том, что Бог не только поддерживает и сохраняет непосредственно Им сотворенное бытие, но также является действующей причиной всех следствий, продуцируемых сотворенными Им (т. е. вторичными) причинами, включая также акты свободного выбора. Бог действует как общая, универсальная причина всех естественных следствий, порождаемых силами и способностями, укорененными, согласно божественной воле, в природных субстанциях. К примеру, в дереве укоренена, в соответствии с божественным замыслом, способность гореть. Иными словами, полено горит по естественным причинам, но источником этой причинности является Бог. Этот непосредственный «каузальный вклад» Бога в общую причинно-следственную цепочку (или сеть) в схоластической литературе назывался concursus generalis.
Таким образом, в каждом конкретном случае следствие (например, горение полена) проистекает как от Бога, так и от соответствующей вторичной причины (горючести древесины), причем оба вектора каузальности (божественный и «вторично-причинный») действуют согласованно, в одном направлении. То обстоятельство, что из всех мыслимых следствий имеет место некое определенное (скажем, при кидании полена в огонь оно горит, а не превращается в вино), первично обусловлено не каузальным вкладом Всевышнего (хотя, поднимаясь по лестнице причин, мы в конечном итоге придем к Нему), но вторичными причинами, т. е. каузальностью сотворенных сущностей (в нашем примере — огня и дерева). Если же ожидаемое следствие не наблюдается вовсе или наблюдается в искаженном или ослабленном виде (полено не горит или горит плохо), то Бог в этом каузально не виновен (Он вообще ни в чем никогда не виновен, ибо сотворенная Им причинность совершенна и достаточна), дело не в Нем, а в искаженности, «порче» вторичных причин (скажем, полено отсырело, следовательно, его исходная каузальность нарушена).
Итак, если естественное следствие данной причины или причин имеет место (полено хорошо горит), то можно говорить об эффективной, действенной согласованности двух упомянутых видов каузальности, если же нет, то божественный «каузальный» вклад просто достаточен, но он ослаблен, частично нейтрализован или модифицирован какими-то вторичными причинами по попущению Творца, но не по его интенции.
Теперь спроецируем сказанное на область морали. Здесь ситуация осложняется, поскольку приходится иметь дело с каузальным агентом иного, чем в неодушевленной Природе типа — человеком, наделенным свободой воли, свободой выбора. Продолжая приведенные выше рассуждения, следует признать, что любые человеческие поступки — добрые или дурные — не могут иметь действия без божественного concursus generalis, по крайней мере, в конечном итоге они замыкаются либо на божественную «предписывающую» волю, либо на божественное попущение. Однако каузальный вклад Бога всегда имеет интенцию к добру (абсолютного предопределения ко злу не существует). Т. е. в совокупном действии первичной (прямой божественной) и вторичной причинности каузальный вклад Всевышнего всегда идет, так сказать, со знаком плюс. А вот человеческий вклад может быть разным. И если человек по своему свободному выбору совершает заведомо дурной поступок, то божественная каузальность оказывается ослабленной, недейственной, хотя и достаточной. Зло, таким образом, совершается в силу испорченности данного человека, агента свободного выбора, а не по божественной интенции.
Вместе с тем, кроме указанных обстоятельств, имеет место еще и особый союз (cooperatio) Бога и человека — через каузальное воздействие на свободную волю последнего сверхъестественной божественной благодати. Божественная благодать дает человеку возможность и даже толкает его к совершению действий, направленных на спасение. Иными словами, благодать включается в каузальность человеческих поступков (если, конечно, Бог наделил даром благодати данного конкретного человека и тот сознательно не отверг этого дара). Тут, однако, важна одна деталь.
Доминиканские теологи, исходя из того, что Бытие и Познание соединены в Боге, настаивали на том, что каждое божественное предвидение, точнее, предзнание (praescientia) событий (к примеру, будущих поступков человека) сочетает в себе божественную волю с божественным знанием. Более того, само божественное знание есть результат принятого Богом волевого решения. Такое решение в форме благодати двигает человеческую волю к соединению, кооперации, с волей Господа, причем баньесианцы понимали это «двигает» почти в буквальном, физическом смысле слова, как проявление природы, глубинной сущности благодати8. Т. е. благодать действенна сама по себе — «l'efficacita intrinseca della Divina Grazia»9 — и служит первопричиной этого движения.
Бог, стало быть, знает будущее, потому что (и после того как) он принял решение о том, чему надлежит случится. Иной последовательности и быть не могло, ведь если бы Бог принимал решение, исходя из знания предстоящего, т. е. если бы сначала «включалось» божественное всеведение, а затем к нему «подключалось» божественное всемогущество, и все это являлось бы миру в форме божественного предопределения, то до момента принятия решения, т. е. до реализации Potentia Dei absoluta, Бог имел бы достоверное, ясное и отчетливое знание о гипотетических событиях10. Этого томизм допустить не мог, поскольку по средневековым логическим канонам гипотетическое отождествлялось с фиктивным и иметь о нем абсолютное знание нельзя. Кроме того, абсолютное решение Бога не могло основываться на знании, которое, по мнению доминиканцев, даже не было достоверным11. Божественное предвидение должно иметь абсолютный характер, т. е. оно предполагает онтологическую модальность объекта знания. При этом баньесианцы подчеркивали, что трансцендентный волюнтаризм не лишает человеческую волю той меры свободы, которую дал ей Бог, ибо воля человека, хотя и оказывается под воздействием «движущей силы» благодати, однако действует в соответствии с заложенной в нее Богом природой, т. е. свободно.
В итоге scientia (т. е. истинное знание) для доминиканцев — это знание о реальных объектах, тогда как знание о гипотетических объектах рассматривалось ими как логически невозможное. Только при этом условии закон божественного предопределения получал статус онтологической необходимости.
И еще один немаловажный в контексте темы настоящей работы нюанс: если, как допускали доминиканцы, божественная благодать непосредственно продуцирует некие следствия в силу самой своей сущности и это действие благодати аналогично тому, как реализуется божественное всемогущество во всех сотворенных вещах, то тогда возможности исследования человеком естественных (вторичных) причин заметно сужаются. Какой смысл силиться понять естественные причины, если в любой момент они могут стать предметом прямого воздействия свыше?
Иную позицию в вопросе о соотношении благодати и свободы воли заняли иезуиты. Я говорю об иезуитах, а не о молинистах потому, что по особенностям организации Общества Иисуса, даже те интеллектуалы этой «компаньи», которые поначалу не соглашались с учением де Молина (например, Р. Беллармино, Ф. Толедо, Б. Перера) к середине 1590-х гг. успешно ассимилировали молинистскую теологию.
Если Бог своим волевым решением толкал человека к принятию божественной благодати, то как же тогда быть с человеческой свободой воли? — недоумевали иезуиты. Получается, что Господь «навязывает» человеку благодать, не оставляя ему практически никакого выбора. Поэтому Молина предложил отказаться от концепции абсолютного предопределения. Бог, по его мнению, перед тем, как даровать Свою Благодать, отбирает людей, способных своим свободным выбором, т. е. реализуя свою свободную волю, придти к cooperatio humilus cum Deo, к союзу со Всевышним. Но для этого Бог должен обладать неким «критерием отбора», т. е. знанием о будущих поступках и действиях человека, знанием, которое и определяет, кому именно Бог дарует благодать, кто будет предопределен Им к спасению. Это божественное знание Молина назвал scientia media.
Все бы хорошо, но в этих рассуждениях есть одна деталь, по поводу которой, собственно, и шла полемика: будущие поступки человека, о которых Бог имеет предзнание (scientia media), сами по себе, как действия существа, наделенного свободой воли, жестко не предопределены, т. е. являются случайными. Выходит, что scientia media Бога — это знание особого рода. Это — полное и безошибочное знание (а иного знания у Бога быть не может) о жестко недетерминированных событиях.
Позицию Молина понять можно, ибо он искал средний путь между кальвинистским абсолютным детерминизмом и гуманистическим антропоцентризмом, а потому сознательно отказывался абсолютизировать божественное предзнание будущих поступков человека. Но молинистское решение проблемы соотнесения божественной благодати, божественного предзнания и божественного предопределения, с одной стороны, и свободной волей человека, с другой12, сталкивалось с логическими и теологическими трудностями, поскольку объектами божественного scientia media оказывались гипотетические события, не (или еще не) предопределенные божественной волей. Иными словами, допуская безошибочность божественного знания и, соответственно, его достоверность, иезуиты одновременно отказывались от мысли, что Бог делает будущие поступки человека еще и онтологически необходимыми, поскольку, по их мнению, божественная благодать отчасти определяется свободной волей человека, ибо последняя полностью не подчинена божественной благодати как своей первопричине.
Но, согласно традиционным эпистемологическим нормам, знание (в том числе и божественное) гипотетических сущностей, как уже было сказано, не могло быть абсолютным. Традиционный томизм признавал лишь два типа божественного знания в соответствии с его онтологическим статусом:
— знание Богом реально существующих вещей, т. е. знание достоверное, непосредственное и безошибочное (scientia visionis);
— знание о потенциально возможном, но в данный момент актуально не существующем, т. е. гипотетическое знание (simplicis intelligentiae)13.
Божественное praescientia будущих поступков человека не могло быть, согласно Св. Фоме, определено в терминах simplicis intelligentiae, поскольку подобное определение не гарантировало бы абсолютный характер божественного предопределения14. Но куда серьезней другое обстоятельство.
В терминах аристотеле-томистской логики говорить о достоверном знании Богом гипотетически возможных действий человека — тяжелейшая логическая ошибка. Именно ее-то, на взгляд доминиканцев, и делали иезуиты.
Концепция scientia media до основания разрушила традиционную средневековую дихотомию между реальным и гипотетическим знанием (последнее, отождествляемое с фикцией, вообще не считалось scientia15) и размывала традиционное различие умозрительного (реального и истинного) и практического (ненадежного и неистинного в силу его запечатленности в чувствах) знания, ибо scientia media не относилось ни к тому, ни к другому типу знания, но представляло собой нечто промежуточное.
Реакция доминиканцев была вполне предсказуемой. Баньес противопоставил молинистской концепции scientia media августинианскую концепцию absolutum Decretum divinae voluntatis, т. е. традиционное понимание божественного предопределения — в основе последнего лежит волевое решение Всевышнего, а потому божественная воля воплощает в себе абсолютное божественное знание будущего. Но вернемся к позиции иезуитов.
Если отвлечься от теологических коннотаций концепции scientia media, то нетрудно заметить известную общность этой концепции с некоторыми идеями и подходами, сформировавшимися в конце XVI столетия в сфере научного, и в частности, математико-астрономического дискурса. Примером могут служить работы уже упоминавшегося выше К. Клавиуса.
Клавиус, как уже отмечалось, отстаивал мысль о том, что и астрономия, и натурфилософия формируют свои утверждения одним и тем же способом — от наблюдений (видимостей) к поиску причин наблюдаемого. «Точно так же, — писал Клавиус, — как в натуральной философии мы можем придти к знанию причин через знание их следствий (т. е. наблюдаемых явлений. — И.Д.), так и в астрономии... Необходимо, чтобы мы пришли к знанию о них [небесных телах], — об их расположении, об их составе — через [знание] явлений, т. е. через знание небесных движений, постигаемых нашими органами чувств. И точно так же, как натурфилософы, следуя Аристотелю, выводят из череды возникновений и уничтожений природных вещей [существование] первичной материи, а также других начал природных трансмутаций (см.: Физика I. 7. — И.Д.) и множество иных вещей, точно так же астрономы, исходя из различного рода небесных движений, отыскивают точное число небесных сфер»16.
И далее следует любопытное критическое (по мнению Джеймса Латтиса, «perhaps even hypocritical»17) замечание: «Некоторые [астрономы] говорят о восьми [сферах], поскольку они признают восемь различных движений, тогда как другие — о десяти»18. Но Клавиусу здесь важно не расхождение во мнениях астрономов, а сам факт, что из наблюдения видимых движений выводятся заключения о невидимых сущностях. В поносимой им теории гомоцентрических орбит — сторонники которой, кстати, тоже по-разному определяли число сфер небесных — познавательная ситуация складывалась совершенно иначе: в стремлении к философской непорочности предзаданных теоретических констатаций реальные видимые движения небесных тел полностью игнорировались. И это, по Клавиусу, было куда хуже, чем указанная выше разноголосица в оценках числа сфер.
«И аналогично, — продолжает Клавиус, — с помощью таких же рассуждений, но исходя из иных явлений, [астрономы] устанавливают порядок небесных сфер <...>. Уместно и весьма разумно, что из отдельных движений планет и разнообразных видимостей астрономы определяют число отдельных орбит, а также их структуру и формы при условии, что причины всех движений и видимостей установлены правильно и из этого не может быть выведено ничего абсурдного, что оказалось бы в противоречии с натуральной философией»19.
Касаясь онтологического статуса математических сущностей, Клавиус замечает, что математические дисциплины в общей иерархии наук, если классифицировать их по предмету, ими изучаемому, занимают промежуточное положение между метафизикой и физикой (наукой о природе). Если метафизика отвлекается от всякой материи, а физика, наоборот, изучает чувственно воспринимаемые вещи, то некоторые разделы математики (арифметика и геометрия) полностью абстрагируются от материи, другие же (астрономия, учение о перспективе, учение о музыкальной гармонии, геодезия, практическая арифметика и механика), наоборот, «связаны с нашими чувствами, поскольку относятся к пассивной чувственно воспринимаемой материи»20. Более того, математические сущности, по мнению Клавиуса, одновременно и связаны, и не связаны с физическими телами.
Позиция Клавиуса — это позиция «практического реализма (practical realism)»21. В рамках средневекового «умеренного» реализма, наиболее последовательно выраженного в томизме22, эпистемологическая достоверность зависит от онтологической реальности, в том смысле, что может быть познано только то, что действительно существует. Однако то, что реально существует не есть (или, точнее, не всегда есть) нечто предданное человеку, но должно быть выявлено или аналитически (a priori), или эмпирически (a posteriori). Доверие средневекового реализма метафизическим спекуляциям было обусловлено самой природой реалистического дискурса, предусматривавшего движение мысли от самоочевидных первопринципов к частности (particularium), а затем в обратном направлении. Реализм опирался, таким образом, на веру в существование глубинной связи между рациональными структурами ума и реальными структурами внешнего мира, связи, осуществляемой с помощью философских понятий и рассуждений. Номиналисты же, напротив, предпочитали разделять онтологию и эпистемологию. По их мнению, то, что существует, может быть познано только a posteriori, но такое познание лишено полной достоверности, ибо достоверно лишь то, что является результатом умственной деятельности. Но связь между умотвор-ными сущностями и реальностью остается неясной. Отсюда — недоверие номиналистов к человеческой способности достижения достоверного знания о мире.
Усилия Клавиуса были направлены на то, чтобы по-новому связать онтологические и эпистемологические аспекты познавательного идеала. В качестве такого связующего звена он предлагал использовать математику. Математические сущности, по его мнению, должны выполнять и выполняют в номиналистическом дискурсе те функции, которые философские понятия выполняли в дискурсе реалистическом, они связывают умозрение и реальность. Соответственно, астрономия, которая строит свои теории, опираясь на данные наблюдений, т. е. идя от фиксации следствий (видимых движений небесных тел) к установлению их причин через выдвижение математических гипотез (а иного пути у астрономов просто не было), является, как полагал Клавиус, истинной scientia в аристотелевом смысле слова. Действительно, если математические доказательства, построенные на этих гипотезах, являются подлинными доказательствами, то тогда астрономия, а с ней и остальные математические дисциплины, обретали статус, сопоставимый со статусом философии. Позиция Клавиуса, наделявшего математические сущности особым статусом и заявлявшего, что «физика не может быть понята без математики»23, бросала вызов традиционным схоластическим принципам, как онтологическим, так и эпистемологическим. Он неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что философы Общества Иисуса, ссылаясь на использование математиками гипотетических сущностей (например, эпициклов), не признавали за математическими дисциплинами статуса истинного и реального знания.
Здесь ясно выявляется аналогия между эпистемологическими предпосылками, лежавшими в основании клавиусовского образа математических наук (определенных Св. Фомой как scientia media) и теологическим образом божественной scientia media, по поводу которой разгорелась полемика De auxiliis.
Подобно тому, как философы (в том числе и иезуиты) отрицали возможность истинного познания гипотетических (в частности, математических) сущностей, имевших отношение к природным объектам, так и доминиканские теологи отрицали возможность абсолютного знания о гипотетических будущих действиях человека до волевого решения Бога. И так же, как оппоненты Клавиуса протестовали против доказательности всякого теоретизирования, использующего гипотезы, так и доминиканцы отрицали абсолютную природу знания об объектах, не определенных божественным решением. В обоих случаях объекты знания не рассматривались как реальные.
Согласно же Клавиусу, не следует ограничивать область знания реально существующими объектами; существует истинное знание о математических сущностях, чей онтологический статус он определял как «гибридный» или промежуточный между гипотетическим и реальным, полностью игнорируя возникавшие при этом логические и эпистемологические трудности.
1. Доминик (Доминго) Баньес (D. Báñez; 1528–1604) — учился в Саламанке, в 1547 г. вступил в орден доминиканцев, преподавал в университетах Саламанки, где с 1581 г. занимал кафедру теологии, а также Авилы и Алкалы. Написал два тома комментариев к Summa Theologia Фомы Аквинского, комментарии к Метафизике Аристотеля и трактат по философии права.
2. Луис де Молина (L. de Molina; ок. 1535–1596) — учился в университетах Саламанки и Алкалы, в 1553 г. вступил в орден иезуитов, новициат проходил в университетах Коимбры и Эвора, последние шесть месяцев своей жизни занимал кафедру моральной теологии в Мадриде.
3. Molina L. de. Concordia liberi arbitri cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione ad nonnullos primae partis [Summæ Theologicæ] D. Thomae [Aquinas] articulos. (Appendix ad concordiam). Olyssipone (Lisbon), 1588. (Более позднее издание: Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione / altera sui parte auctior D. Ludovico Molina auctore; adjecti indices, rerum alter, alter Scripturae locorum, auctoris opera prioribus accuratiores; accedit nunc Appendix ad hanc Condordiam. Parisiis: Sumptibus et typis P. Lethielleux, 1876).
4. Báñez D., Herrera P., Alvarez D. Apologia fratrum praedicatorum in provincia hispaniae sacrae theologiae professorum, adversus novas quasdam assertiones cuiusdam doctoris Ludovici Molinae nuncupati. [?], 1595.
5. Serry J.H. La Storia de Auxiliis del Ch. P.G. Serry... tradotta e compendiata da R. Norimene. Brescia, 1771 (более раннее издание: Serry J.H. Historiae congregationum de Auxiliis divinae gratiae sub summis pontificibus Clementae VIII et Paulo V libri quatuor... autore Augustino Le Blanc. Lovanii apud Aegidium Denique. 1700).
6. Я не буду разбирать здесь стратегию и тактику доминиканцев и иезуитов в этом столкновении; см. об этом: Feldhay R. Galileo and the Church... P. 191–198.
7. Соловьев В.С. Предопределение // Энциклопедический словарь: В 41 т. (82 кн.) / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1890–1904. Т. 25 (кн. 50). СПб., 1898. С. 15–16.
8. Serry J.H. La Storia de Auxiliis... P. 102–103.
9. Ibid. P. 98.
10. Или, как сформулировала этот аспект доминиканской позиции Р. Фельдхей, «никакого достоверного знания о будущих действиях человека до принятия Богом волевого решения существовать не может, ибо именно это решение и обусловливает меру реальности объектов безошибочного знания» (Feldhay R. Galileo and the Church... P. 183).
11. Serry J.H. La Storia de Auxiliis... P. 246.
12. Serry J.H. La Storia de Auxiliis... P. 87.
13. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I—I, q. 14, a. 9.
14. Stagnitta A. Per una metateoria della logica medioevale: logica, ontologia, semantica modale Palermo: Stampa, 1980. P. 100–101.
15. New Catholic encyclopedia / Prepared by an editorial staff at the Catholic University of America. In 17 vols. Palatine, Ill.: J. Heraty, 1967–1979. Vol. 12. P. 1190–1193.
16. Clavius Chr. Commentaries] in Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco (1611) // Christophori Clavii Bambergensis e societate Jesu operum mathematicorum: V tomis distributa. Moguntiae (Mainz): Hierat, 1611–1612. T. 3. P. 300 (далее: Sphaera).
17. Lattis J.M. Between Copernicus and Galileo: Christoph Clavius and the collapse of Ptolemaic Cosmology. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1994. P. 128.
18. Clavius Chr. Sphaera... P. 300.
19. Ibid.
20. Clavius Chr. Opera mathematica... 1611. T. 1. P. 3. Аргументация Клавиуса во многом заимствована из трудов падуанского математика Франческо Бароцци (F. Barozzi, лат. Barocius, 1537–1604), который, в свою очередь, опирался на взгляды Прокла. Сохранилась переписка между Бароцци и Клавиусом.
21. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 215.
22. Соколов В.В. Средневековая философия. М.: Высшая школа, 1979. С. 358–359.
23. Цит. по: Feldhay R. Galileo and the Church... P. 218.
| Философ. Ваше величество, дамы и господа, я могу только вопрошать себя, к чему все это поведет?
Галилей. Полагал бы, что мы, ученые, не должны спрашивать, куда может повести истина. Философ. Господин Галилей, истина может завести куда угодно! Б. Брехт. Жизнь Галилея1 |
| Как раз бездумность современников и позволила Галилею достичь столь многого.
Пол Фейерабенд2 |
Итак, я очертил в меру необходимости для дальнейшего изложения контуры теологического, а отчасти эпистемологического и политико-религиозного контекстов так называемого «первого дела Галилея». Разумеется, названные контексты отнюдь не единственные, но, на мой взгляд, определяющие. Теперь следует обратиться к рассмотрению основных событий 1615–1616 гг., так или иначе связанных с так называемым первым «делом Галилея» (1616)3. Их анализ будет приведен в форме комментированной хронологии. Но перед этим уместно дать, также в форме комментированной хронологии, краткий очерк начальных стадий богословской полемики вокруг коперниканства, охватывающих 1610–1614 гг.
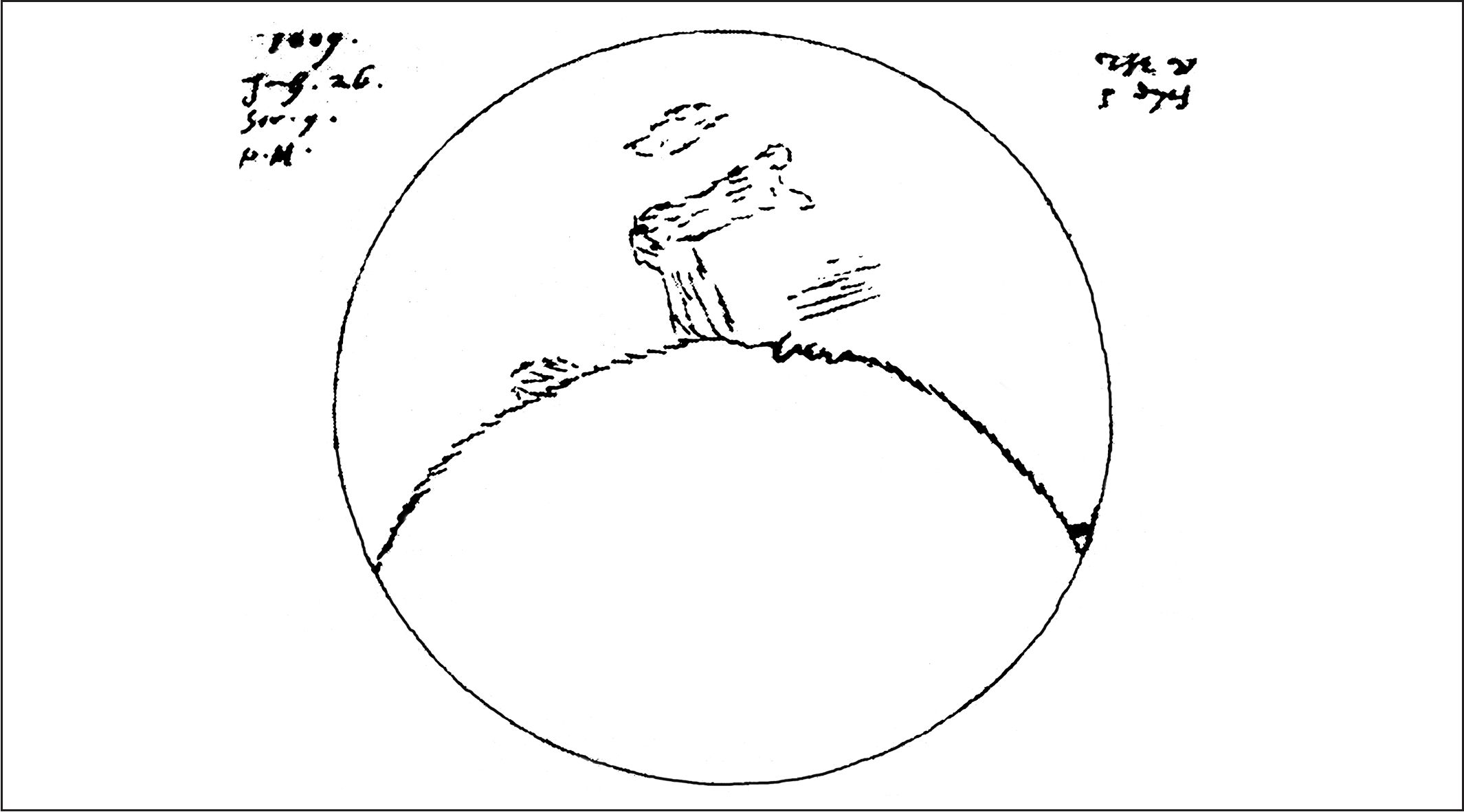
Рис. 3. Т. Хэрриот. Зарисовка лунной поверхности (1609). Petworth House Archives, Великобритания.
1. Брехт Б. Жизнь Галилея / Пер. с нем. Л. Копелева // Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М.: Издательство «Художественная литература», 1972. (Библиотека всемирной литературы. Серия III. Том. 139). С. 689–780; С. 722.
2. Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с англ. и нем. А.Л. Никифорова; общая ред. и вступит. статья И.С. Нарского. М.: Прогресс, 1986. С. 125–466; С. 258.
3. Термин, хотя и весьма распространенный в литературе, но неточный, потому как лично для Галилея вся описанная далее история закончилась увещанием (его даже не вызывали на допросы в Инквизицию) и последующей радушной аудиенцией, данной ему 11 марта 1616 г. папой Павлом V.
В среду 26 июля 1609 г. (по старому стилю) в 9 часов вечера английский математик и астроном Томас Хэрриот (Th. Harriot или Hariot; 1560–1621) направил свой телескоп с шестикратным увеличением на небо с целью рассмотреть детальнее поверхность Луны1. Сделанная им беглая зарисовка увиденного сохранилась2 (рис. 3). Разумеется, рисунок Хэрриота, мягко говоря, мало похож на то, что можно увидеть даже в столь несовершенную «перспективную трубу (perspective tube)» голландской работы, которая была в его распоряжении, или просто невооруженным глазом (о чем ясно свидетельствуют изображения Луны на картинах Я. ван Эйка, Леонардо да Винчи и многих других художников XV—XVII вв.)3. Но дело не только в степени сходства рисунка с оригиналом. Хэрриот не «разглядел» на Луне ни гор, ни кратеров. Напомню, что, согласно традиционным представлениям, восходящим к Аристотелю, Луна, как и другие небесные тела, имела идеальную сферическую форму. В христианской традиции она олицетворяла собой Пречистую Деву Марию, поэтому многие художники часто изображали последнюю стоящей на такой идеально гладкой Луне4. Наличие же видимых даже невооруженным глазом «пятен» на лунном диске объясняли неоднородностью лунной материи.

Рис. 4. Д. Веласкес. Непорочное зачатие (ок. 1619). Лондон. Национальная галерея
Спустя четыре месяца после упомянутого наблюдения Луны Хэрриотом аналогичные исследования, но с помощью более мощных телескопов (с восьми-, а затем с 15-, 18- и 20-кратным увеличением), начал Галилей, которому удалось сделать ряд замечательных открытий, а именно: выяснилось, что «Млечный Путь представляет собой не что иное, как скопление бессчетного множества звезд, расположенных как бы группами; и в какую бы область ни направить зрительную трубу, сейчас же взгляду представляется громадное множество звезд, многие из которых кажутся достаточно большими и хорошо заметными»5; были обнаружены спутники Юпитера6; оказалось, что «звезда Сатурна не является одной только, но состоит из 3, которые как бы касаются друг друга, но между собой не движутся и не меняются»7; и, наконец, Галилей пришел к выводу, что поверхность Луны не является «совершенно гладкой, ровной и с точнейшей сферичностью, как великое множество философов думает о ней и о других небесных телах, но, наоборот, неровной, шероховатой, покрытой впадинами и возвышенностями, совершенно так же, как и поверхность Земли»8. Луна стала первым объектом его систематических наблюдений небесных тел. Галилеевы акварельные рисунки лунной поверхности (рис. 5), с которых потом делались гравюры для его сочинения «Sidereus Nuncius» («Звездный вестник»), существенно отличаются от наброска Хэрриота. На четырех сохранившихся акварелях показаны фазы Луны между 30 ноября и 2 декабря, а на двух других — соответственно, 17 и 18 декабря 1609 г. Эти небольшие (диаметр лунного диска составляет 57–59 мм) рисунки демонстрируют хорошее владение Галилеем искусством disegno9 и, в частности, приемами chiaroscuro10. (Галилей, замечу, с 1613 г. был членом флорентийской Accademia del Disegno, основанной в 1584 г. Дж. Вазари (G. Vasari; 1512–1574). В ней живописцы, скульпторы, архитекторы и теоретики искусства могли встречаться не как члены некой «художественной гильдии», но как интеллектуалы, собирающиеся вместе, чтобы обсуждать волнующие их вопросы философии, литературы, искусства и науки11. Кроме того, в этой Академии преподавались анатомия и геометрия (с акцентом на теорию перспективы и технику chiaroscuro). В 1588 г. Галилей даже намеревался получить там место преподавателя геометрии, но безуспешно).
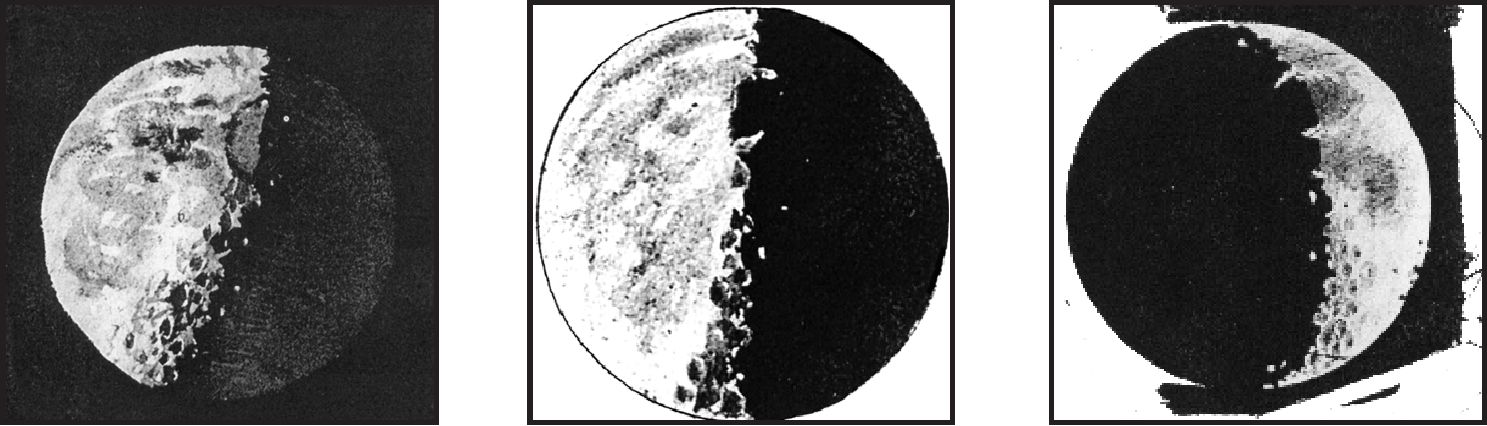
Рис. 5. Акварельные зарисовки лунной поверхности, сделанные Галилеем в 1609–1610 гг.
Впрочем, сравнение акварелей Галилея с современными фотографиями лунной поверхности показывает, что первые, при всей их кажущейся реалистичности, сильно искажают видимую картину (причем на гравюрах в «Sidereus Nuncius» искажения оказались еще более значительными, и у историков нет уверенности, что это связано исключительно с ошибками или неумелостью гравера). Галилей, в частности, заметно увеличивает относительные размеры отдельных кратеров, и это не случайно. Если представить их в реальном масштабе, то, учитывая небольшие размеры рисунков, передать игру светотени будет труднее и изображение потеряет свою наглядность. Таким образом, здесь, как выразился биограф Галилея, имеет место «не телескопическая загадка, а хорошая педагогика»12 или, что, на мой взгляд, точнее — Галилей, подготавливая рисунки, выстраивал своего рода антиперипатетический визуальный нарратив13, который должен был последовательно, от рисунка к рисунку, наглядно представлять регулярное (периодическое) изменение структуры светотени на лунной поверхности, доказывая тем самым ее неровность, а вовсе не служить картой, отображающей все детали лунной топографии с фотографической, как бы мы сегодня сказали, точностью. В контексте такой задачи Галилею было совершенно неважно, в какой пропорции к размерам лунного диска изображен тот или иной кратер. Луна на рисунках Галилея — это некий модельный объект, хотя степень абстрагирования от несущественных для галилеева замысла деталей здесь иная, чем, скажем, в случае диаграммной репрезентации последовательных положений спутников Юпитера в том же «Sidereus Nuncius». Видимо, это обстоятельство понимали и многие современники Галилея, поскольку в 1610-х гг. никто не упрекал его в искажении пропорций в представлении лунной поверхности и прочих неточностях, поскольку речь шла о другом — о существовании или несуществовании гор и кратеров на Луне, о доверии или недоверии телескопическим наблюдениям и т. д. Упреки в неточности галилеевых рисунков и гравюр появились позднее, к 1647 г., т. е. ко времени публикации в Нюрнберге трактата Иоганна (Яна) Гевелиуса (J. Höwelcke или Hevelius; 1611–1687) «Selenographia», когда сомнения в реальности лунных гор и кратеров уже развеялись.
К началу своих телескопических наблюдений Галилей уже имел богатый опыт изучения законов линейной перспективы и техники chiaroscuro. Многое он узнал из лекций Остилио Риччи (O. Ricci; 15401603) в 1580-х гг., который, кроме вопросов математики и механики, рассматривал также теорию линейной перспективы, используя, в частности, трактат Леона Баттисты Альберти (L.B. Alberti; 1404–1472) «Ludi Matematici»14. Большой популярностью у художников второй половины XVI — нач. XVII вв. пользовались богато иллюстрированные книги немецкого ювелира Венцеля Ямнитцера (W. Jamnitzer; 1508–1585) «Perspectiva corporum Regularium» (Nuremberg, 1569) и Лоренцо Сиригатти (L. Sirigatti; активный период деятельности: 1596–1625) «La Pratica di Prospettiva» (Venetia, 1596), где, в частности, демонстрировалась игра светотени на поверхностях сложной формы (рис. 6).
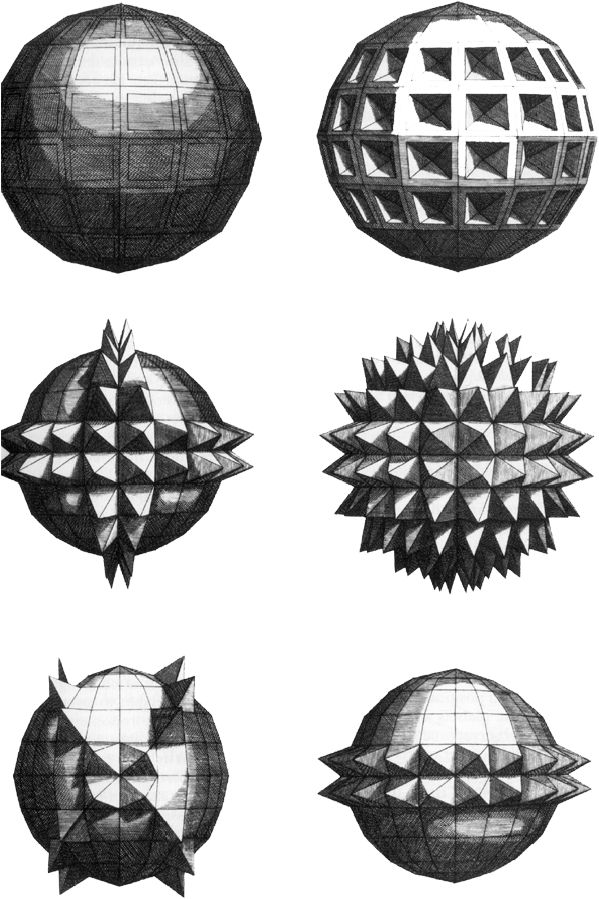
Рис. 6. Иллюстрации из трактата Л. Сиригатти «La Pratica di Prospettiva» (1596)
Таким образом, в ситуации, когда достоверность телескопических наблюдений многими ставилась под сомнение, «визуальный нарратив» Галилея, его аргумент от disegno, должен был, по замыслу тосканского virtuoso, стать существенным элементом выработанной им стратегии убеждения окружающих в правильности его выводов и интерпретаций. Друг Галилея, художник, скульптор, архитектор и инженер Лодовико Карди по прозвищу Чиголи (L. Cardi da Cigoli; 1559–1613)15 заметил как-то по поводу неприятия Клавиусом идеи неровности лунной поверхности: поскольку Клавиус не владеет приемами рисования, то он не только «лишь наполовину математик, но и человек, лишенный глаз (non solo un mezza matematico, ma ancho uno huomo senza o[c]chi)»16, т. е. адекватное понимание реальности подразумевает, по мнению Чиголи, не только ее восприятие органами чувств, но и способность к ее воспроизведению средствами живописи.
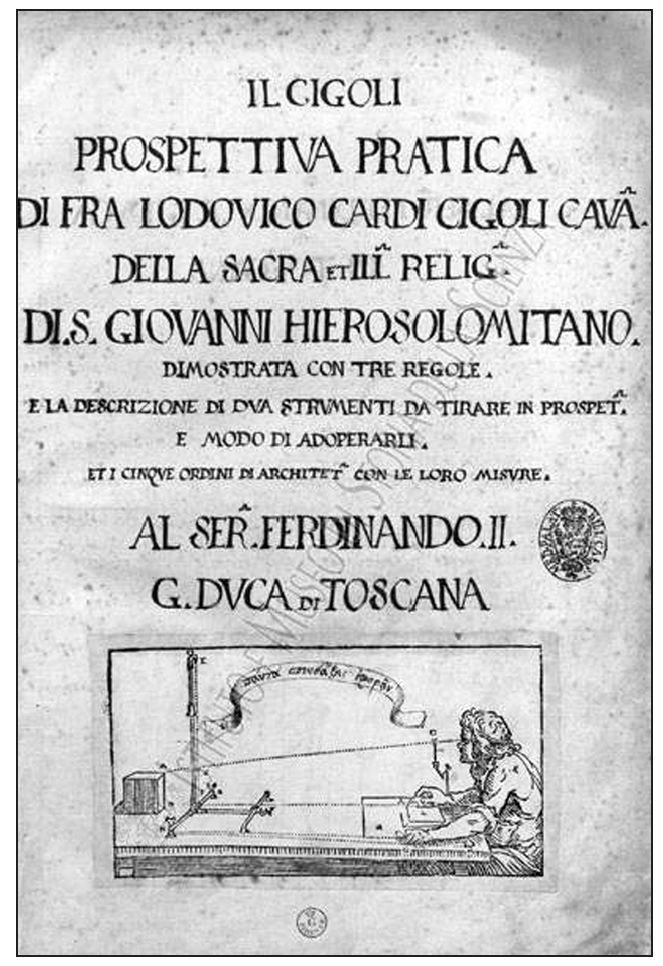
Рис. 7. Титульный лист рукописи Л. Карди (Чиголи) «Prospettiva Practica»
Сам Чиголи, живо интересовавшийся наукой, придумал «автоматическую машину» для построения перспективного изображения (перспектрограф)17 и описал ее в неопубликованном трактате «Prospettiva Pratica», с рукописью которого Галилей был знаком (рис. 7)18. Поразительна ирония истории — в капелле Боргезе (Cappella Paulina) римской церкви Санта Мария Маджоре (Sta. Maria Maggiore) есть купольная фреска, выполненная Чиголи в 1612 г. по заказу Павла V, на которой изображена мадонна, стоящая на Луне, причем лунная поверхность представлена неровной, в соответствии с тем, какой ее увидел в телескоп Галилей, а позднее и сам Чиголи (рис. 8)19. Таким образом, один из символов новой астрономии оказался в капелле папы, при котором «De Revolutionibus» — locus classicus этой астрономии — попал в Index librorum prohibitorum.

Рис. 8. Л. Карди (Чиголи). Непорочное зачатие. Фрагмент купольной фрески в капелле Боргезе церкви Санта Мария Маджоре. (1610–1612). Рим
В конце 1610 г. астрономы Общества Иисуса, в частности, отец Клавиус, поддержали открытия Галилея, сделанные им с помощью телескопа и изложенные в шестидесятистраничном трактате «Sidereus Nuncius» («Звездный вестник»), вышедшем 13 марта 1610 г. в Венеции тиражом 550 экземпляров и разошедшемся в считанные дни20. Трактат вызвал оживленную полемику21. Галилея поддержали И. Кеплер и некоторые другие астрономы и любители науки22. Однако уже в июне 1610 г. богемец Мартин Хорки (M. Horky; 1590?–1650) опубликовал небольшое сочинение под названием «Brevissima peregrinatio contra Nuncium Sidereum»23 с нападками на Галилея. Профессор Падуанского университета Чезаре Кремонини (C. Cremonini; 1550–1631) заявил, что все галилеевы астрономические открытия — не более чем оптическая иллюзия, ибо еще Плутарх (ок. 46 — ок. 120) писал об обманчивости оптических линз24. В 1611 г. флорентийский астроном Франческо Сицци (F. Sizzi; ок. 1585–1618) опубликовал трактат «Dianoia astronomica, optica, physica»25, в котором критиковал Галилея не столько с физических и астрономических, сколько с богословских позиций. Наконец, следует упомянуть об антикоперниканской (и антигалилеевой) кампании, развернутой флорентийским философом-аристотелианцем Лудовико делле Коломбе (L. delle Colombe; 1565—?). В 1611 г. Галилей получил рукописное сочинение «Di Ludovico delle Colombe Contro il moto della Terra»26. Если Ф. Сицци отрицал, опираясь на Св. Писание, только реальность спутников Юпитера («Медицейских звезд»)27, то Коломбе пошел много дальше — он использовал библейский текст для атаки на коперниканскую теорию вообще и на Галилея как ее наиболее последовательного и активного протагониста28. Коломбе цитирует подряд, не обращаясь к контексту, множество фрагментов из Библии, которые несовместимы с коперниканством:
«Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки» (Пс. 104:5; в православной Библии — Пс. 103:5);
«Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную; она не поколеблется» (1 Пар. 16:30)29;
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем» (Иов. 26:7);
«Я [премудрость] родилась прежде, нежели водружены были горы» (Прит. 8:25);
«Кто восходил на небо и нисходил?» (Прит. 30:3);
«Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» (Еккл. 1:5) и т. д.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление касательно тех цитат из Св. Писания, которые обычно использовались в теологической полемике по поводу коперниканства. И протестанты, и католики в первую очередь обращались к тем библейским стихам, в которых речь шла о неподвижности (устойчивости, незыблемости) Земли и о движении Солнца относительно горизонта. К цитированным выше фрагментам можно добавить следующие:
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки» (Еккл. 1:4);
«Он сотворил луну для указания времени; солнце знает свой запад» (Пс. 104:19; в православной Библии — Пс. 103:19).
При этом значительно реже использовались стихи, которые можно было трактовать по-разному, например:
«[Бог] сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат» (Иов. 9:6) и
«И сказал [Иисус Навин] пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день?"» (Иис. Н. 10:12–13).
Что касается последнего фрагмента, то всегда можно было сослаться на использование здесь обычного языка и тех констатаций, которые отвечают видимости и понятны неискушенному уму простецов, к которым, главным образом, и обращен библейский текст, отнюдь не претендующий, по крайней мере, на уровне дословного понимания, на описание научного факта. Отрывок же Иов. 9:6 даже на этом уровне интерпретации представлялся сторонникам птолемеевой космологии несколько «подозрительным»30.
Но вернемся к диссертации Коломбе. Последний понимал, что некоторые стихи Библии — например, вышеприведенный фрагмент из Иов. 9:6 — можно понимать и в гелиоцентрическом духе, однако он решительно возражал против такого толкования, называя его «безумным, сумасбродным, дерзким и опасным для веры (alii certe scientiam hanc deliram dicunt, nugatoriam, temerariam et in fide periculosam dicunt)»31. Кроме того — и это особенно важно в моем контексте — Коломбе отстаивал примат буквалистского толкования текста Св. Писания: «когда Писание можно понимать буквально (secondo la lettera), его нельзя интерпретировать иным образом»32.
Подобный способ аргументации — опора на буквальное понимание библейского текста плюс ссылка на единодушное мнение Отцов Церкви — получил широкое распространение в посттридентский период, но, как будет показано далее, не стал общепринятым.
Галилей меньше всего хотел ввязываться в теологическую полемику, полагая, что его задача — устанавливать научные факты, а соотносить их с библейским текстом — это дело ученых богословов. Поэтому он не стал публично спорить с Коломбе, но сам факт использования теологических аргументов в астрономических дискуссиях его, бесспорно, насторожил. Серьезность ситуации осознавали и некоторые друзья Галилея. Например, падуанский священник, настоятель собора Сан Антонио Паоло Гвальдо писал ему в мае 1611 г.:
«Я не встретил еще ни одного философа или астролога, которые захотели бы подписаться под утверждением вашей милости о том, что Земля вертится; еще в меньшей степени это захотели бы сделать богословы. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем публично утверждать истинность своего мнения; многие из высказанных вами положений могут вызвать полемику, особенно если вы будете слишком настаивать на их истинности. Особо следует учесть, что общественное мнение настроено против вас, и подобное отношение уже просочилось и закрепилось в сознании многих, как будто бы, если можно так выразиться, существовало там ab orbe condito (с основания мира. — И.Д.).
Мне кажется, что известность и славу можно вполне заслужить наблюдениями Луны и четырех планет (Медичи), и не нужно браться за защиту вещей, столь чуждых человеческому разумению и непостижимых; к тому же лишь немногие по-настоящему понимают, чту означают наблюдения над небесными телами и явлениями»33.
1. Хэрриот и его ассистент К. Тук (Chr. Tooke) славились как искусные изготовители линз и призм для оптических инструментов (Lohne J.A. Thomas Harriot (1560–1621): the Tycho Brahe of Optics // Centaurus. 1959. Vol. 1959. P. 113–121). Более того, Хэрриоту принадлежит открытие оптического «закона синусов» (ок. 1601 г.). Но поскольку он не опубликовал сообщения о своем открытии, то этот закон называют обычно законом Снеллиуса, в честь голландского математика, астронома и геодезиста (W. van Rojen Snell или Snellius; 15801626) и датируют 1621 г. (Shirley J.W. An Early Experimental Determination of Snell's Law // American Journal of Physics. 1951. Vol. XIX. № 12. P. 504–508).
2. Petworth House, Sussex (Great Britain). The private Library of Lord Egremont. MSS Leconsfield HMC 241/ix, fol. 26.
3. Reaves G., Pedretti C. Leonardo da Vinci's Drawings of the Surface Features of the Moon // Journal of the History of Astronomy, 1987. Vol. 18. P. 55–58.
4. Примером могут служить картины Б.Э. Мурильо (B.E. Murillo; 16171682) «Непорочное зачатие» (ок. 1660 г; Walters Art Gallery, Baltimore, USA); Д. Веласкеса (D.R. Velazquez; 1599–1660) «Непорочное зачатие» (рис. 4) и др.
5. Галилей Г. Звездный вестник // Галилей Г. Избранные труды: В 2-х т. М.: Наука, 1964. Т. I. С. 11–54 (пер. и коммент. И.Н. Веселовского); С. 37 (перевод мною слегка изменен. — И.Д.).
6. Сам термин «спутники Юпитера» был введен позднее Кеплером.
7. Галилей Г. Звездный вестник. С. 589–598; С. 594 (из письма Галилея Б. Винта от 30 июля 1610 г.; описанное в этом письме наблюдение Сатурна было произведено Галилеем 25 июля 1610 г.). Через два года Галилей обнаружил, что звездочки возле диска Сатурна исчезли, что казалось необъяснимой загадкой. Только в 1655 г. Х Гюйгенс установил, что Сатурн окружен кольцом, которое перестает быть видимым земному наблюдателю, когда оно поворачивается к Земле ребром.
8. Галилей Г. Звездный вестник. С. 23–24. В декабре 1610 г. Галилей сообщил Джулиано Медичи об открытии фаз Венеры.
9. О понятии disegno в XV—XVI вв. см.: Turner A.R. Inventing Leonardo. New York: Alfred A. Knopf, 1993. P. 22–23.
10. От итал. chiaro — светлый и scuro — темный (малоосвещенный). Речь идет об искусстве передачи игры (градаций) светотени на объемных поверхностях. Этот термин возник в Италии в XVI в. в качестве названия одного из видов гравюры на дереве, который в оттиске напоминает рисунок кистью, выполненный в колористической гамме из близких цветовых оттенков. Кьяроскуро как особую манеру светотеневой моделировки применяли в своих работах Леонардо да Винчи, Корреджо и венецианские мастера. Голландские живописцы, особенно Рембрандт, использовали кьяроскуро для передачи атмосферных эффектов, создания иллюзии пространства и трехмерного объема.
11. Reynolds T. The Accademia del Disegno in Florence: Its Foundation and Early Years: Ph. D. diss., Columbia University, 1974. Ann Arbor, Mich.; University Microfilms.
12. Shea W.R. Galileo Galilei: An Astronomer at Work // Nature, Experiment, and the Sciences. Essays on Galileo and the History of Science in Honor to Stilman Drake / Ed. by Trevor H. Levere and William R. Shea // Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 120. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1990. P. 51–76; P. 57.
13. Biagioli M. Picturing Objects in the Making: Scheiner, Galileo and the Discovery of Sunspots // Wissensideale und Wissenskulturen in der frühen Neuzeit (Ideal and Cultures of Knowledge in Early Modern Europe) / Herausgegeben von Wolfgang Detel und Claus Zittel. Berlin: Akademie Verlag, 2001. P. 39–96; P. 45.
14. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, MS. 10, fol. 1v-16v.
15. О дружбе Галилея и Чиголи см.: Kemp M. The Science of Art. New Haven: Yale Universiry Press, 1990. P. 93–98. Здесь уместно также привести фрагмент из знаменитой статьи Э. Панофского: Galileo as a Critic of the Arts (Aesthetic Attitude and Scientific Thought) // ISIS. 1956. Vol. 47. Pt. 1. № 147. P. 3–15 (в сокращенном русском переводе: Панофский Э. Галилей: наука и искусство (эстетические взгляды и научная мысль) // У истоков классической науки. Сб. статей / Сост. У.И. Франкфурт; под ред. А.Н. Боголюбова. М.: Наука. С. 13–34): «Галилей пришел на помощь Чиголи, когда тот, находясь в то время в Риме, был вовлечен в дискуссию по вопросам теории искусства, продолжавшуюся чуть ли не два столетия. Чиголи был скромным человеком, который чувствовал, что абстрактные рассуждения — не его сильная сторона и попросил Галилея снабдить его аргументами против тех, кто утверждал, что скульптура выше, чем живопись. Галилей пришел ему на помощь и в длинном письме, датированном 26 июня 1612 г., аутентичность которого следует принять в силу ряда соображений, в частности, потому, что главный приведенный там аргумент соответствует безусловно аутентичному отрывку, написанному рукой Галилея. Этот главный аргумент направлен против давних притязаний, будто трехмерные статуи, имеющие рельеф, которого лишены двумерные картины, в состоянии создать более убедительную иллюзию действительности. На это Галилей отвечает, интересным образом предвосхищая современное различение оптических и осязательных ценностей. Он говорит, что есть два совершенно различных рода рельефа, один из который вводит в заблуждение чувство осязания, а другой — чувство зрения. То, что чувство осязания вводится в заблуждение, Галилей не считает существенным, ссылаясь на совершенно очевидные, можно сказать, тривиальные соображения, которые, однако, раньше не приводились в подобной дискуссии: никто, притронувшись к статуе, никогда не поверит, что это живое существо. Относительно же того, что вводится в заблуждение чувство зрения, он утверждает, что все оптические эффекты относятся скорее к области живописи, чем к области скульптуры. Он говорит, что "произведения скульптуры имеют рельеф лишь постольку, поскольку они оттенены, т. е. частично освещены, частично находятся в темноте, а если мы покроем тенью все освещенные части скульптурной фигуры с помощью краски настолько, что ее тон полностью станет одинаковым, то фигура будет казаться полностью лишенной рельефа". Это положение, по существу, сходно с тем, что говорил другой защитник живописи — Леонардо да Винчи, но с одним важным отличием: утверждая, что статуя, освещенная вполне рассеянным светом, будет казаться плоской, Леонардо описывает то, что получается при определенных естественных условиях; Галилей же, предлагая покрывать статую темной краской там, где она светла, описывает то, что может создать вмешательство человека, влияя на естественные условия. Леонардо обращается к явлению, которое может произойти или не произойти; Галилей предлагает опыт, который можно повторять по произволу. <...>. Таким образом, Галилей сводит притязания скульптуры к одному неоспоримому факту: ее произведения ближе к естественным предметам в том отношении, что они обладают качеством трехмерности. Но говорит ли это обстоятельство в пользу скульптуры? Напротив, заявляет Галилей, это значительно снижает ее достоинство, потому что, и это самое замечательное принципиальное утверждение, чем дальше отстоят средства воспроизведения от воспроизводимого предмета, тем более заслуживает восхищения воспроизведение. "Разве мы не восхищаемся больше тем музыкантом, который вызывает в нас симпатии к любовнику, изображая его горести и страсти в песне, в большей мере, чем если бы он это делал с помощью рыданий? И разве мы не восхищались бы этим музыкантом еще больше, если бы он все это сделал с помощью одного только инструмента и добился бы своей цели только с помощью диссонансов и страстных музыкальных фраз?"» (С. 14–17).
16. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 68. Выражение un mezzo matematico можно перевести и как «посредственный математик».
17. Такие устройства и методы правильного перспективного изображения предметов разрабатывались многими учеными и художниками задолго до Чиголи, например, Дюрером, Альберти, Леонардо и др. (см. подр.: Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер — ученый (1471–1528). М.: Наука, 1987. С. 168–180).
18. Chappell M. Cigoli, Galileo, and Invidia // The Art Bulletin. 1975. Vol. 57. P. 91–98.
19. Bredekamp H. Gazing Hands and Blind Spots: Galileo as Draftsman // Science in Context. 2000. Vol. 13. № 3–4. P. 423–462; Booth S., Helden A. van. The Virgin and the Telescope: The Moons of Cigoli and Galileo // Idem. P. 463–486; Matteoli A. Lodovico Cardi-Cigoli, pittore e architetto. Pisa: Giardini, 1980. P. 246–249.
20. Galilei G. Sidereus Nuncius Magna, Longeque Admirabilia Spectacula pandens etc. Venetia: Apud Thomam Baglionum, 1610. Полное название: «Звездный вестник, возвещающий великие и очень удивительные зрелища и предлагающий на рассмотрение каждому, в особенности же философам и астрономам, Галилео Галилеем, Флорентийским патрицием, Государственным математиком Падуанской гимназии, наблюденные через подзорную трубу, недавно им изобретенную, на поверхности Луны, бесчисленных неподвижных звездах, Млечном Пути, туманных звездах и, прежде всего, на четырех планетах, вращающихся вокруг звезды Юпитера на неодинаковых расстояниях с неравными периодами и с удивительной быстротой; их, не известных до настоящего дня ни одному человеку, автор недавно первый открыл и решил именовать их Медицейскими звездами, — в Венеции, у Фомы Бальони, 1610, с разрешения властей и с привилегией». (См. также: Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 1. P. 53–96). Русский перевод — см. сноску 126. Как уже было сказано, в настоящей работе я буду ссылаться на двадцатитомное собрание сочинений Галилея, так называемое Edizione Nazionale: Le Opere di Galileo Galilei / Direttore A. Favaro. Firenze: G. Barbèra Editore, 1890–1909 (2-ое изд.: Le Opere di Galileo Galilei / Direttore Giorgio Abetti. Firenze: G. Barbèra. Ristampa della Edizione Nazionale, 1929–1939; 3-е изд.: Le Opere di Galileo Galilei. Nuova ristampa della Edizione Nazionale. Firenze: G. Barbèra, 1964–1966), далее сокр. Galileo Galilei. Le Opere. Об астрономических открытиях Галилея см.: Shea W.R. Galileo Galilei: an Astronomer at Work. P. 51–76; Helden A. van. Telescopes and Authority from Galileo to Cassini // Osiris. 1994. Vol. 9. P. 9–29; Biagioli M. «Playing with the Evidence» // Early Science and Medicine, 1996. Vol. 1. P. 70–105.
21. Фантоли А. Галилей... С. 94–107; Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome: The Rise and Fall of the Troublesome Genius. Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 26–30.
22. Получил он поддержку и от Томмазо Кампанеллы (T. Campanella; 1568–1639), который, находясь в неаполитанской тюрьме, прочитал Sidereus Nuncius и пришел в восторг от того, что Галилей «открыл глаза людям, показав им новое небо и новую Землю на Луне» (Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 23). Вместе с тем Кампанелла советовал Галилею почаще ссылаться на отцов Церкви и уверять, что именно ими предсказаны его открытия (Штекли А.Э. Кампанелла и процесс Галилея... С. 121–131). Порою Галилей именно так и поступал (о чем свидетельствуют, к примеру, некоторые пассажи из его письма Кастелли от 21 декабря 1613 г., см. далее), хотя трудно сказать, воспользовался ли он при этом советами Кампанеллы или сам додумался до такой тактики общения с контролерами и властителями дум. Однако восторги калабрийца вовсе не свидетельствуют о признании им коперниканства. В 1628 г. отец Томмазо писал Урбану VIII: «Не думайте, Ваше Святейшество, что я заодно с Коперником, небо движется не так, как того хочет Коперник, а так, как того желает Бог» (цит. по: Фантоли А. Галилей... С. 121, примеч. 28). Кампанелла почитал фичинову натуральную магию, да и сам провел в нелегкую минуту жизни сеанс магии в присутствии папы Урбана VIII с тем, чтобы предотвратить предсказанную последнему скорую смерть. Прочитав галилеевский Sidereus Nuncius и ничего в нем толком не поняв, но почему-то решив, что все планеты должны быть наделены разумными существами, он стал задавать вопросы касательно социальных форм инопланетной жизни. Автора Città del Sole и Astrologicum волновало, в частности, — «блаженны ли они [инопланетяне] или пребывают в состоянии, подобном нашему?» Что мог ответить на это Галилео Галилей, «государственный математик Падуанской гимназии»? Что он вообще должен был отвечать автору трактата «Вспомнят и обратятся...», в котором Кампанелла обращался последовательно к Богу, архангелам и святым, нечистой силе («Послание к дьяволам, дабы вспомнили сами и нам не мешали вспомнить»), «к роду человеческому» и затем — по нисходящей — ко всем христианам, к прелатам Римской церкви, к монахам, братьям и клирикам, ко всем христианским князьям и республикам, к французскому королю и прочим католическим монархам Европы в отдельности, к «философам и князьям заальпийским, особливо Германским», ко всем лютеранам, а также к абиссинскому царю, к Великому князю Московскому («каковой отчасти схизматик, отчасти еретик») и ко всем решительно языческим государям на земле, включая «китайского богдыхана»? Всех он убеждал, ссылаясь на Библию и свои астрологические выкладки, братски и немедленно объединиться в лоне католицизма, причем католицизма обновленного, или «натурального», соединявшего в себе веру Христову, натуральную магию и социальную утопию города Солнца (Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. С. 398). Галилей не ответил, он лишь холодно заметил на полях Apologia pro Galileo: «Падре Кампанелле. Я предпочитаю найти одну истину, хотя бы и в незначительных вещах, нежели долго спорить о величайших вопросах, не достигая никакой истины» (Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла. М.: Мысль, 1969. С. 143). О натурфилософских взглядах Кампанеллы см. также: Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция / Пер. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 316–350.
23. Horky M. Brevissima peregrinatio contra Nuncium sidereum ecc. Excusum Mutnae: Apud Iulianum Cassianum, 1610 // Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 1. P. 129–145.
24. Плутарх. О лике, видимом на диске Луны // Философия природы в античности и в средние века / Под общ. ред. П.П. Гайденко, В.В. Петрова. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 132–183.
25. Sitio F. ΔΙΑΝΟΙΑ Astronomica, Optica, Physica ecc. Venetiis: Apud Petrum Mariam Bertanum, 1611 // Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 1. P. 203–250.
26. Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 1. P. 253–290.
27. Сицци утверждал, что планет может быть только семь, поскольку в Иерусалимском храме стоит семисвечник. Аргументация Сицци, как подметил проф. Сантильяна, напоминает доводы доктора Слопа в беседе с сэром Тоби в известном романе Л. Стерна: «— Все это у нас невозможно, — сказал доктор Слоп, оборачиваясь к моему отцу; — такие вещи не могли бы случиться в нашей церкви. — Ну, а в нашей, — отвечал отец, — случаются сплошь и рядом. — Положим, — сказал доктор Слоп (немного пристыженный откровенным признанием отца), человек может жить так же дурно и в римской церкви; — зато он не может так спокойно умереть. — Ну, что за важность, — возразил отец с равнодушным видом, — как умирает мерзавец. — Я имею в виду, отвечал доктор Слоп, — что ему будет отказано в благодетельной помощи последних таинств. — Скажите, пожалуйста, сколько их всех у вас, — задал вопрос дядя Тоби, — вечно я забываю. — Семь, — отвечал доктор Слоп. — Гм! — произнес дядя Тоби, — но не соглашающимся тоном, — а придав своему междометию то особенное выражение удивления, какое бывает нам свойственно, когда, заглянув в ящик комода, мы находим там больше вещей, чем ожидали. — Гм! — произнес в ответ дядя Тоби. Доктор Слоп, слух у которого был тонкий, понял моего дядю так же хорошо, как если бы тот написал целую книгу против семи таинств. — Гм! — произнес в свою очередь доктор Слоп (применяя довод дяди Тоби против него же), — что же тут особенного, сэр? — Есть ведь семь основных добродетелей? — Семь смертных грехов? — Семь золотых подсвечников? — Семь небес? — Этого я не знаю, — возразил дядя Тоби. — Есть семь чудес света? — Семь дней творения? — Семь планет? — Семь казней? — Да, есть, — сказал отец с напускной серьезностью». (Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. СПб.: ИНАПРЕСС, 2000. С. 151; см. также: Santillana G. de. The Crime of Galileo. London: Mercury Books, 1961. P. 13–14).
28. Впрочем, имя Галилея упомянуто в этой рукописи всего один раз, при этом Коломбе высказывает свое восхищение человеком, открывшим спутники Юпитера. Однако все сочинение составлено так, что ни у кого не возникало сомнения, с кем в действительности спорил автор.
29. В латинском тексте Вульгаты: «Commoveatur a facie illius omnis terra; ipse enim fundavit orbem immobilem».
30. Westman R.S. The Copernicans and the Churches // God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science / Ed. by D.C. Lindberg, R.L. Number. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1986. P. 76–113; P. 91.
31. Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 1. P. 290. Сочинение Коломбе написано на итальянском языке, но главный свой вывод автор сформулировал на латинском, видимо, чтобы его позиция была ясна любому образованному человеку.
32. Ibid. Vol. III. Pt. 1. P. 290.
33. Galileo G. Le Opere. Vol. XI. P. 100–101.
Галилей понял, что ему необходимо заручиться поддержкой церковных властей и астрономов-иезуитов, а для этого надо ехать в Рим. Великий герцог возражать не стал, рассудив, что всё исходящее от его «возлюбленного математика и философа» полезно как для науки, так и для славы рода Медичи. Но выехать в Рим сразу же по получении герцогского разрешения на поездку Галилей не смог по состоянию здоровья. Два месяца он провел на вилле своего друга Ф. Сальвиати Le Selve под Флоренцией. А пока он медленно шел на поправку, с разных концов Европы стали приходить известия о признании его астрономических открытий или, по крайней мере, об интересе к ним. Собственно, первые свидетельства этого интереса проявились уже весной 1610 г., т. е. сразу после выхода «Sidereus Nuncius». «Когда вы откроете какую-либо другую прекрасную звезду, — советовал ученому французский сановник, — назовите ее именем великой звезды Франции, самой блестящей на всей земле и, если вы согласны, лучше именем Генрих без добавления Бурбон. Сделав это, вы совершите правильный, справедливый и необходимый поступок, и вы достигните славы, а также прочного богатства для себя и для своей семьи»1. В Праге император Рудольф II поручил Кеплеру изучить «Sidereus Nuncius» и высказать свое мнение. Последний 19 апреля 1610 г. опубликовал «Dissertatio cum Sidereo», в которой полностью поддержал Галилея2. Падуанский гуманист и археолог Лоренцо Пиньория (L. Pignoria; 1571–1631) писал, что открытия Галилея превосходят достижения Х. Колумба и А. Веспуччи. Герцог Збарац (Zbaraz) сообщал, что слава Галилея дошла аж до Москвы. Возможно, он не преувеличивал. Известно, к примеру, что 19 ноября 1614 г. царь Михаил Федорович приобрел у московского купца Михаила Смывалова «зрительную трубу» Галилея, и можно допустить, что сведения об открытиях итальянского ученого дошли до Москвы несколько ранее, в 1610 или 1611 г.3.
К началу весны самочувствие «возлюбленного математика и философа» улучшилось, о чем он сообщает Б. Винта (B. Vinta; ?–1613), госсекретарю (первому министру, Primo Segretario) Великого герцога Тосканского, и 23 марта 1611 г., испросив рекомендательные письма у Микельанджело Буонаротти (племянника великого художника и скульптора) и кардинала Антонио де Медичи к кардиналу Маффео Барберини (будущему папе Урбану VIII) — в дополнение к рекомендательному письму Козимо II к кардиналу дель Монте4 (лишние рекомендации не помешают) — ученый отбыл в Рим. По дороге во время остановок он продолжал наблюдения спутников Юпитера холодными и сырыми мартовскими ночами.
Спустя шесть дней, во вторник 29 марта Галилей прибывает в вечный город. Вновь назначенный тосканский посол в Риме Пьетро Гвиччардини (P. Guicciardini; 1560–1626) предоставляет ему и двум его слугам удобные апартаменты в Palazzo Firenze вблизи Пантеона. Все расходы Галилея Великий герцог распорядился оплатить из тосканской казны. По приезде Галилей, не откладывая, направляется к кардиналу дель Монте, а затем к астрономам Collegio Romano, где беседует с отцом Клавиусом и его младшими коллегами Христофером Гринбергером (Chr. Grienberger; 1561–1636) и Одо ван Мелькоте (O. van Maelcote; 1572–1615).
1 апреля 1611 г. Галилей так описывает Винта свои первые римские впечатления:
«Досточтимый синьор и покровитель мой!
Я прибыл сюда в святой вторник в добром здравии и представил письмо Светлейшего Великого герцога господину посланнику, который меня радушно принял и у которого я сейчас нахожусь. В тот же день я был принят Преосвященнейшим синьором кардиналом дель Монте, которому передал другое письмо Его Светлости и коему в общих чертах изложил суть дела, по которому я сюда прибыл. Дело мое Его Высокопреосвященство выслушал внимательно и принял к сердцу, выразив твердую надежду, что я не уеду отсюда, не получив удовлетворения и подтверждения полнейшей истинности всего, что я открыл, наблюдал и описал. На следующий день я был у отцов иезуитов и долго беседовал с отцом Клавием и с двумя другими отцами, его учениками, очень сведущими в своей специальности. Я застал их читавшими не без смеха (non senza gran risa) то, что в последнее время было против меня написано и напечатано синьором Франческо Сицци. Поверьте мне, досточтимый синьор, что мне было очень неприятно видеть в руках столь сведущих людей вещи, достойные осмеяния; очень неприятно потому, что автором их является флорентиец, а также и по другой причине, о которой я пока умалчиваю.
Оказалось, что названные отцы, убедившись, наконец, в истинности новых Медицейских планет, уже два месяца непрерывно производят наблюдения, которые протекают успешно. Я их сравнил с моими, и оказалось, что соответствие имеется полное. Они трудятся также над нахождением периодов обращений этих планет, но они вместе с математиком Императора (т. е. Кеплером. — И.Д.) полагают, что дело это очень трудное, почти невозможное. Я, однако же, имею твердую надежду найти и определить их и верю, что Всеблагий Бог, милостиво указавший одному мне путь к открытию столь чудесных творений Его рук, мне же соблаговолит предоставить и возможность найти законы их обращения. И возможно, уже к своему возвращению я закончу этот мой труд, поистине гигантский, и смогу предсказывать положение новых планет для любого будущего времени, а также указать их расположение в любое прошедшее время, лишь бы только хватило у меня сил продолжать наблюдения в течение многих ночных часов, как я делал это до сих пор. <...>.
Не смею более задерживать вашего внимания, попрошу вас только оказать мне милость, поцеловав от моего имени одеяние Их Светлостей. Вам же, досточтимый синьор, я, ваш преданнейший слуга, прошу Господа послать всяческих благ.
Рим, 1 апреля 1611 г.
Вашего превосходительства преданнейший слуга
Галилео Галилей»5.
Здесь уместно привести важное и точное замечание о характере Галилея, сделанное историками: «Галилей не был обычным благочестивым католиком (a conventionally devout Catholic), он был глубоко убежден, что избран Богом стоять выше не только некоторых, но и всех новых астрономов»6. Поэтому он часто сам делал из возможных союзников противников (как это было в случае с астрономом-иезуитом Х. Шайнером7), а из недоброжелателей — злейших врагов. Возьмем, к примеру, его отношения с упомянутым выше Л. делле Коломбе. Ясно, что сей субъект был ума необширного, невежествен и упрям. Но и Галилей со своей стороны сделал все возможное, чтобы отношения между ними приняли откровенно враждебный характер. Вот некоторые его высказывания в адрес Коломбе:
«Не стоит пытаться возражать тому, кто настолько невежествен, что для опровержения всех его глупостей (а их больше, чем строк в его сочинениях) потребовалось бы написать огромнейшие тома, бесполезные для сведущих кругов и ненужные толпе»; «можно ли унять глупцов, которые в момент, когда оспариваешь одну их глупость, выдвигают другую, еще большую»8.
И по мере роста его славы как исследователя и умного, эрудированного и остроумного собеседника он все чаще позволял себе тон «снисходительного превосходства»9. Галилей никак не мог — видимо, в силу своего полемического темперамента — следовать простой истине: когда имеешь дело с идиотами, надо быть проще.
В том же абзаце, где Галилей уверяет госсекретаря Великого герцога в своей избранности Господом для открытия «чудесных творений Его рук», он выражает надежду, что Всевышний поможет ему также открыть «законы их (т. е. Медицейских звезд. — И.Д.) обращения» вокруг Юпитера. Между тем ситуация не столь проста и однозначна, как ее представлял Галилей. Хотя последний не раз подчеркивал фундаментальную роль математики в изучении Природы, однако, за редкими исключениями, он не давал описываемым небесным явлениям математической интерпретации. А между тем именно на основе наблюдений «лун Юпитера» он смог бы сформулировать утверждение, которое сейчас называют третьим законом Кеплера10, что лишило бы его критиков основания утверждать, будто все телескопические открытия Галилея — не более чем оптические иллюзии; ведь тогда он действительно смог бы «предсказывать положение новых планет для любого будущего времени, а также указать их расположение в любое прошедшее время». Галилей не только не пытался сам найти законы движения планет, но фактически проигнорировал сделанное в этом направлении Кеплером. В итоге Галилей сам создавал себе оппонентов (или, по крайней мере, сам помогал им укрепить их позиции) не только язвительностью тона, но и неправильным выбором стратегии аргументации.
2 апреля, накануне Пасхи, Галилео посетил кардинал М. Барберини. Последний пришел в восторг от ума и эрудиции тосканского ученого и обещал всяческую помощь и поддержку.
Короче, все складывалось для Галилея как нельзя лучше: его открытия были признаны многими (хотя, конечно, не всеми) астрономами, он стал желанной фигурой при папском дворе, его слава росла и крепла.
Галилея приглашают в качестве почетного гостя на различные банкеты и собрания, где присутствовали знаменитые художники, писатели, музыканты, артисты, философы, римские аристократы и высшее духовенство. Так, например, он был приглашен на собрание неформальной Академии (Accademia degli Ordinari), организованной кардиналом Джованни Баттиста Дети (G.B. Deti; ок. 15921605), племянником папы Климента VIII. Описывая позднее эту встречу, Галилей с сожалением упомянул, что сам он воздержался от участия в интересной для него дискуссии, поскольку попал туда впервые и опасался показаться слишком напористым и навязчивым, но тут же пообещал, что в будущем с ним такого не случится. И слово своё он сдержал.
В другой раз, 14 апреля 1611 г., Галилео присутствовал на банкете, специально устроенном в его честь Федерико Чези (F. Cesi; 15851630), князем Сан Поло и Сен Анжело (с 1613 г.), герцогом Акваспарты и маркизом Монтичелли11. Еще в 1603 г. князь и трое его друзей основали так называемую Accademia dei Lincei12, которая центром своей деятельности сделала не гуманитарные штудии, но исследование природы и математические вопросы13. При этом позиции «рысьеглазых» были откровенно антиаристотелевскими. На этом банкете, проходившем на вершине Яникула, самого высокого римского холма, в винограднике монсиньора Мальвазии, Галилей демонстрировал свою occhiale14, причем как в светлое время суток (что позволило присутствующим рассматривать окружающие дома и даже прочитать надпись на базилике Сан Джованни ин Латерано), так и после захода Солнца15, когда можно было наблюдать ночное небо. Тогда же инструменту Галилея было присвоено то название, под которым он известен сегодня — телескоп16. Нельзя сказать, что Галилей получил полную поддержку на этом собрании. Простояв у телескопа и проспорив в течение семи часов холодной апрельской ночью, гости разошлись, так и не придя к единому мнению.
Введение телескопа — инструмента принципиально нового типа — в практику научных исследований создавало немало проблем: планеты, ранее казавшиеся точками, приобретали при наблюдении их в телескоп протяженную форму, поверхность Луны обнаруживала массу новых деталей, незаметных невооруженным глазом и т. д. Телескоп сделал значимым изучение в астрономии протяженных поверхностей, обладающих тонкой индивидуальной структурой, и потому Галилей, как уже было сказано, активно использовал опыт живописцев в передаче игры светотени на сложных поверхностях. Помимо адаптации к телескопу традиционных измерительных средств, «нужно было изобретать новые приемы, которые позволили бы точно описывать не только положение точек на небесной сфере, но и деталировку протяженных поверхностей.
Объяснение эффекта увеличения зрительных труб тоже до определенного времени представляло собой неразрешимую задачу. Средневековая оптика отнюдь не ассоциировала себя с пониманием природы света. Воззрения античных и средневековых мыслителей на эманацию species, наряду с представлением о зрительных лучах, ощупывающих предметы, слабо согласовывались с традиционной практикой позиционной астрономии и относились, скорее, к области физиологии зрения17. Считалось, что визуальный опыт имеет более-менее общий характер. (Интересное исключение представляет практика наблюдения китайских астрономов, в штате которых были наблюдатели, которым запрещалось выходить на дневной свет). Незначительные отклонения, связанные со случаями нарушения зрения, объяснялись некомпетентностью наблюдателя, что упраздняло необходимость дальнейшего изучения индивидуальных особенностей зрения; точнее, переводило этот вопрос в плоскость клинического дискурса коррекции, адаптации и т. д. Оптические стекла использовались для того, чтобы компенсировать испорченное зрение, но не для того, чтобы аккумулировать возможности здорового глаза. Общее представление о действии оптики сводилось к тому, что для нормального наблюдателя она создает не истинные, а искаженные изображения. Применение в астрономии оптических приборов внесло в эту науку визуальную неопределенность как особый тип сообщения, в котором индивидуальный опыт различения изображения становился существенным для получения нового знания. Этот опыт нуждался в новом типе сертификации, разработке процедур, после проведения которых можно было с уверенностью признать за ним статус достоверного.
В первое время единственным способом сделать наблюдение с помощью телескопа доступным широкому кругу лиц была либо непосредственная демонстрация, либо рисунок, дополненный словесным описанием. Демонстрации не всегда были вполне убедительными. Изображение в фокальной плоскости мог рассматривать (в одно и то же время) только один человек, что сильно осложняло его интерпретацию. Сохранилось много свидетельств того, что непосредственно после изобретения оптических приборов, вплоть до середины XVII столетия, философы и математики, равно как ботаники и врачи, нередко квалифицировали инструментальное зрение как зрение, обращенное на иллюзию. Эверард Хоум писал в 1640-х гг.: "Вряд ли стоит подчеркивать, что части тела животных не приспособлены для изучения сквозь сильно увеличивающие стекла; когда же они предстают увеличенными в сто раз по сравнению с их естественными размерами, нельзя полагаться на их видимость" (цит. по: Ямпольский М.Б. О близком. Очерки немиметического зрения. М., 2001. С. 34). Аналогично Мартин Горки (Horky) писал И. Кеплеру после демонстрации Галилеем в Болонье своих зрительных труб: "Я испытывал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов как для земных, так и небесных объектов. На земле он работает восхитительно; на небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными. У нас все пришли к выводу, что инструмент Галилея вводит в заблуждение" (цит. по: Helden A. van. Telescopes and Authority from Galileo to Cassini // OSIRIS, 1994. Vol. 9. P. 9–29).
Причинами такого недоверия были не только скептическая настроенность профессоров и авторитет разделяемой ими геоцентрической картины мира. Даже сегодня первое наблюдение в телескоп (значительно более совершенной конструкции) вызывает у новичка затруднения в интерпретации видимого изображения. Наблюдение в оптический прибор требует особой подготовки, заключающейся не только в адаптации глаза к изображению, создаваемому в фокальной плоскости инструмента, но и в обретении особого визуального опыта. Последнее же, скорее всего, затрагивает, в том числе, перестройку синопсической структуры зрительных нервных волокон. То есть не только глаз, но и мозг должен быть приспособлен к инструменту, на что, как правило, уходит довольно продолжительное время. Кроме того, визуальное восприятие небесных объектов само по себе могло служить основанием для сомнений. Земной визуальный опыт, так или иначе, может быть проверен с помощью других органов чувств. Осуществить же такую проверку для небесных объектов не представлялось возможным»18.

Рис. 9. Современный вид здания, в котором проходили первые собрания Accademia dei Lincei (Рим, Via della Maschera d'Oro, 21). Фото И.С. Дмитриева
25 апреля 1611 г. Галилей был принят в число членов Академии и с тех пор часто подписывался Galileo Galilei, Linceo (рис. 9). Сам Чези увлекался ботаникой и не очень-то разбирался в физических, астрономических и математических науках, — он вообще был скорее любителем науки, нежели ученым, — но ему хватило ума и проницательности оценить талант и достижения Галилея19. Кроме того, Чези, спустя два дня после памятного приема на Яникуле, дал объявление в «Avvisi»20, которое начиналось с того, что в Рим прибыл математик Галилео Галилей, «коего Великий герцог [Тосканы] назначил профессором в Пизе с жалованием в 1000 флоринов»21, а заканчивалось сообщением о встрече синьора Галилея с отцом Клавиусом, что намекало на поддержку тосканского математика астрономами Общества Иисуса.
Наконец, нельзя не упомянуть еще об одной встрече Галилея во время его пребывания в Риме. 22 апреля 1611 г. ученый пишет своему другу Ф. Сальвиати:
«Не имея времени писать всем моим друзьям и покровителям каждому в отдельности, пишу Вам одному и считаю, что пишу всем.
Я здесь пользуюсь благорасположением многих здешних преосвященных господ кардиналов, прелатов и различных вельмож, которые пожелали ознакомиться с моими наблюдениями и остались вполне удовлетворенными, и в свою очередь я получаю удовольствие, осматривая собранные ими изумительные статуи, картины, а также украшения жилищ, дворцы, сады и т. п.
Сегодня утром я имел счастие целовать ногу Его Святейшества (папы Павла V. — И.Д.), будучи представлен ему нашим посланником22, по словам которого, мне было оказано необыкновенное благоволение (straordinariamente favorito), так как блаженнейший отец не позволил мне, чтобы я произнес хоть одно слово на коленях»23.
Здесь уместно сказать несколько слов о самом Павле V. Он происходил из древнего тосканского (сиенского) рода Боргезе, известного с XII в. Члены этого семейства были, главным образом, юристами и дипломатами. В XVI в., когда Сьена попала под власть Медичи, семейство переселилось в Рим. В 1605 г. один из его членов — кардинал (с 1596 г.) Камилло Боргезе — после бурного конклава неожиданно был избран папой.
Историки — особенно биографы Галилея, — как правило, говорят о Павле V мало хорошего, ссылаясь на характеристику верховного понтифика, данную тосканским послом в Риме П. Гвиччардини: «здешний Князь (il Principe, т. е. папа. — И.Д.) испытывает отвращение к свободным искусствам и ко всему интеллектуальному (et questi ingegni), не хочет даже слышать обо всех этих нововведениях и тонкостях и каждый, кто желает быть у него в фаворе, должен изображать себя тупицей и невеждой»24.
Современники отмечали скрытность и осторожность Святейшего, а также его педантичность, угрюмость, сухость, любовь к строгой дисциплине. Из этих свидетельств проф. де Сантильяна сделал вывод, что Павел V был человеком предубежденным и посредственным25. Однако вряд ли подобные оценки стопроцентно справедливы.
Во-первых, не следует забывать, что укрепление и распространение католической веры, усиление единства Церкви, защита ее интересов (в том числе и материальных), а также борьба с ересями — все это входило в обязанности pontifex maximus. В ситуации же, сложившейся к началу XVII столетия в конфессионально и политически расколотой Европе, престол Св. Петра оказался далеко не самым уютным местом. Противостояние католиков и протестантов стремительно усиливалось, дело шло к войне европейского масштаба, которая и началась в 1618 г. Осложнились отношения Рима с Венецианской республикой26 и с Англией27. Кроме того, хотя Генрих Наваррский и заявил, что «Paris vaut bien une messe», тем не менее, сопротивление Риму во Франции было довольно сильным и курии приходилось лавировать.
Можно, конечно, порицать Павла V за те или иные действия, — в частности, за непомерные претензии на светскую власть, — но нельзя не принимать во внимание, что верховный понтифик действовал по стандартам своего времени, не хуже и не лучше других правителей. Он отстаивал интересы Папского государства и католической Церкви точно так же, как светские власти отстаивали свои интересы и интересы своих государств в эпоху глубокого изменения соотношения политических сил в Европе, в эпоху формирования национальных государств. В этом контексте вполне естественной представляется поддержка Павлом V миссионерской деятельности католиков (в первую очередь из числа иезуитов) в Азии и в Новом свете28. В 1613 г. в Риме была открыта специальная школа для подготовки миссионеров.
Во-вторых, Павел V много сделал в сфере культуры. Да, он не очень интересовался светскими науками, однако при нем и при его активном содействии обрел свой нынешний вид собор Св. Петра29, продолжилось строительство Палаццо Боргезе, жемчужины римского барокко30, были расширены Ватиканский и Квиринальский дворцы, восстановлены акведуки Августа и Траяна, что, в частности, позволило соорудить новые прекрасные фонтаны, была преобразована и увеличена Ватиканская библиотека, начато систематическое собирание греческих и римских древностей. Павел V принял участие в судьбе молодого художника, скульптора и архитектора Лоренцо Бернини (G.L. Bernini; 1598–1680). Короче, как выразился У. Роуленд, Павел V «был вовсе не той одномерной личностью, какой его часто представляли бесцеремонные клеветнические измышления (the offhand aspersions) известных историков и враждебных к нему дипломатов»31.
В пятницу 13 мая 1611 г. в Collegio Romano состоялся торжественный прием в честь Галилея. Мелькоте выступил с речью «Nuncius Sidereus Collegii Romani»32. В зале собрались все члены Collegio, кардиналы, знать и римские знаменитости, включая князя Чези. Фактически эта процедура эквивалентна присуждению звания почетного доктора в наши дни.
Мелькоте перечислил открытия Галилея, сделанные им с помощью телескопа, и рассказал об их подтверждении астрономами Collegio Romano. «Мы можем наблюдать, — живописал Мелькоте, обращаясь к характеристике лунной поверхности, — на вершинах лунных гор сияющие пики или, скорее, я бы сказал, маленькие глобулы, подобные блестящим шарикам в четках (quasi lucentia Rosarii granula), некоторые из которых разбросаны в разных местах, другие же располагаются вблизи друг от друга, как будто они стянуты нитью. Мы можем также видеть там, особенно вокруг самой низкой горы, нечто напоминающее пузыри. Эта часть лунной поверхности, украшенная и разрисованная такими пузыревидными пятнами, напоминает "глаза" на павлиньем хвосте (quibus pars faciei lunaris, ad modum caudae pavonis, quibusdam quasi oculis distinguitur ac variatur)». Впрочем, заметил Мелькоте, лично он всего лишь «звездный вестник», и слушатели вправе предлагать иные объяснения лунных пятен, к примеру, связывая их существование с «неодинаковой плотностью и разреженностью лунной материи» (этим словам оратор отдал дань гипотезе отца Клавиуса) или «с чем-то еще», кому как заблагорассудится33.
Здесь уместно сделать одно историко-астрономическое отступление. До открытий Галилея Луну обычно сравнивали с кристаллическим (иногда — с хрустальным или стеклянным) шаром, а видимые невооруженным глазом «пятна» на ее поверхности считали оптической иллюзией, обусловленной влиянием земной атмосферы. Почему Клавиус не торопился соглашаться с выводом Галилея о неровности лунного ландшафта? Главная причина заключалась в том, что, если такую гипотезу принять, то тогда светлые края лунного диска должны также выглядеть не гладкими, но «зубчатыми». Однако этого не наблюдается. К сожалению, биографы Галилея часто опускают эту причину сдержанного отношения почтенного астронома к утверждениям тосканского virtuosi34. А между тем, это обстоятельство требовало специального изучения. Галилей же, вместо такового, предпочитал отделываться от оппонентов сентенциями вроде той, что находим в его письме Галланцоне Галланцони (G. Gallanzoni) от 16 июля 1611 г.: «Если одному позволяется воображать все, что ему вздумается, то и другой может заявить, что Луна окружена кристаллической субстанцией, прозрачной и невидимой. Я готов это принять, с тем, однако, условием, что мне будет позволено утверждать, будто этот кристалл имеет на своей поверхности горы в тридцать раз выше земных, но невидимые по причине их прозрачности»35. И далее Галилей добавляет, что если определить Землю как небесное тело, включающее в себя плотную субстанцию и атмосферный слой толщиной, равной высоте самой высокой горы, то тогда можно утверждать, что «Земля имеет совершенно сферическую форму»36.
Все это, конечно, чрезвычайно остроумно и даже представляет известный интерес для читателей, склонных к умозрительным упражнениям, но от Галилея-то ждали не этого, от него хотели получить научный ответ, а не риторику, тем более, что такой ответ на упомянутое выше возражение Клавиуса (возражение, подхваченное, кстати, Коломбе) в то время вполне мог быть дан (Галилей решал куда более сложные задачи). Создается впечатление, что борьба шла не только за научную истину, но также (и даже преимущественно) за право свободно высказывать и отстаивать свое мнение.
Возвращаясь к позиции Клавиуса, можно сказать, что она не оставалась неизменной, хотя Галилей в какой-то момент отчаялся переубедить патриарха европейской астрономии. «Было бы почти святотатством (sacrilegio), — писал он 16 июля 1611 г., уже после возвращения из Рима, — докучать размышлениями и утомлять беседами (discorsi et osservazioni) старца, уважаемого за свой возраст, ученость и доброту. Он, уже заслуживший своими многими замечательными трудами бессмертную славу, может в данном случае — и это никак не умалит его славу — оставаться при своем мнении, в ложности которого так легко убедиться»37.
Нет, отнюдь не легко! И не только традиционалисту Клавиусу, но и коперниканцу Кеплеру. Казалось бы, для последнего открытие Галилеем фаз Венеры должно было стать веским аргументом в пользу коперниканской космологии38. Однако, Кеплера это открытие привело в недоумение. «Для меня результаты твоих наблюдений стали неожиданностью, — признавался он Галилею. — Так как яркость Венеры очень большая, то я думал, что она светится собственным светом. Теперь я размышляю, с чем можно сравнить поверхность этой планеты. Странно, если Цинтия (т. е. Венера. — И.Д.) окажется не позолоченной или, как я писал раньше, ее поверхность не состоит из чистого янтаря»39. Позолоченная Венера — это, пожалуй, не хуже хрустальной Луны. Как здесь не вспомнить слова Галилея о том, что Кеплер обладал «слишком» свободным умом40.
Клавиус же — вернемся к этой фигуре, — хотя и был консерватором, но по-своему последовательным. Поначалу он весьма скептически отнесся к телескопическим открытиям Галилея, о чем последнему сообщил Чиголи (письмо от 1 октября 1610 г.): «[Клавиус] лишь посмеялся над ними (речь идет о "Медицейских звездах". — И.Д.) и заявил, что сначала неплохо бы сделать увеличительное стекло, которое их создаст, а уж затем оно бы их и показывало. И сказал — пусть Галилей останется при своем мнении, а он [Клавиус] останется при своем»41. Но при своем мнении Клавиус оставался лишь до тех пор, пока его коллегам-астрономам из Collegio Romano — либо с помощью телескопа, изготовленного Д. Лембо (G.P. Lembo), либо используя телескоп, приобретенный у Антонио Сантини (A. Santini), не удалось увидеть-таки спутники Юпитера. Трудно точно сказать, когда это произошло, но к моменту прибытия Галилея в Рим (29 марта 1611 г.) иезуиты уже успели подтвердить все его основные астрономические открытия. Сохранившиеся документы (впрочем, весьма отрывочные) говорят о том, что спутники Юпитера наблюдались ими по крайней мере с 28 ноября 1610 г.42
Один из участников festa Galileana в Collegio Romano, Грегуар де Сент-Винсент (G. de St. Vincent) много лет спустя писал Х. Дюргейму, вспоминая об этом событии: «Галилей вошел в большой зал Академии <...> и мы, в его присутствии, детально рассказали о новых явлениях перед всем университетом Григорианского колледжа (a tutta l'Università del Collegio Gregoriano)»43, и «продемонстрировали с полной очевидностью, что Венера обращается вокруг Солнца, что для философов было скандалом (e dimostrammo con evidenza, sebbene con scandalo dei filosofi, che Venere gira attorno al sole)»44. Память не подвела Сент-Винсента. Мелькоте, рассказывая об открытии Галилеем фаз Венеры, заметил: «Теперь вам ясно, что Венера движется вокруг Солнца (и то же, без сомнения, можно сказать о Меркурии), словно Солнце — это центр наибольших орбит всех планет. И кроме того, не вызывает сомнения, что планеты (в отличие от звезд. — И.Д.) светят отраженным светом Солнца»45.
Клавиус внимательно отнесся к новым астрономическим фактам и даже, несмотря на преклонный возраст — к моменту приезда в Рим Галилея ему исполнилось 73 года, — сам принимал участие в телескопических наблюдениях. Перечень открытий, сделанных с помощью occhiale, он привел в последнем прижизненном издании «Sphaera» (1611)46, завершив его следующим выводом: «А так как реальность такова, то астрономы должны обдумать, как могут быть расположены орбиты планет, чтобы спасти эти явления»47. Но из этого еще не следует, что автор «Sphaera» готов был принять коперниканскую «систему мира». Равно неприемлема для него была и модель Тихо Браге. Скорее всего, он надеялся, что есть некий «третий путь»: усовершенствовать теорию Птолемея, используя новые астрономические открытия с помощью телескопа и некоторые коперниканские расчетные приемы и гипотезы (но не космологические!). На это недвусмысленно указывают строки из письма ученика Клавиуса отца Гринбергера Джузеппе Бьянкани (G. Biancani): «Когда он (Клавиус. — И.Д.) советовал принять во внимание другие сферы, то, говоря так, он надеялся больше на объяснение новых наблюдений с помощью старой теории, нежели на полную замену [последней]»48. Поэтому, на мой взгляд, не следует переоценивать ни консерватизм Клавиуса, когда речь шла о восприятии им новых фактов, ни его готовность перейти на принципиально новые позиции, когда дело касалось его отношения к коперниканству.
Но как бы то ни было, Галилей мог быть доволен результатом своей поездки в Рим. Конечно, он не одержал полной победы, — да на это было бы нелепо рассчитывать, — но многих, причем из числа церковной и светской элиты, ему удалось-таки убедить в достоверности своих открытий, в том числе и открытия Медицейских звезд, что имело для его патрона прежде всего политическое значение, а для самого Галилея — научное и статусное.
31 мая 1611 г., за несколько дней до отъезда Галилея во Флоренцию, кардинал Ф. дель Монте писал тосканскому герцогу: «Галилей, за время своего пребывания в Риме, доставил всем большое удовлетворение; думаю, что и он его получил, так как имел возможность демонстрировать свои открытия столь хорошо, что они были признаны всеми видными людьми и учеными этого города не только истинными и действительными, но и поразительными. Если бы мы жили в античной Римской республике, то ему, я твердо в этом уверен, была бы воздвигнута статуя на Капитолии, дабы оказать почет его выдающимся заслугам»49.
Здесь надо учесть одну архитектурную деталь: на Капитолии уже был один монумент — конная статуя императора-философа Марка Аврелия. И еще одно любопытное обстоятельство: Марк Аврелий, как известно, был стоиком, а с представителями этого философского направления Галилея связывали многие нити50, хотя дель Монте вряд ли вкладывал в свои слова подобные импликации.
Во Флоренции успех Галилея также не прошел незамеченным, но там его оценивали под иным углом зрения, что видно из письма госсекретаря Великого герцога Тосканского В. Винта послу П. Гвиччардини от 13 июня 1611 г.: «Возвратился синьор Галилео Галилей. Он с величайшей похвалой отзывается об оказанном ему с Вашей стороны почете и приеме; что же касается вновь открытых Медицейских планет, то, кажется, наиболее образованные и сведущие римские астрономы очень одобрили его мнение и тем придали ему более блеска и силы»51.
Кардинал Фарнезе (O. Farnese; 1573–1626) накануне отъезда Галилея из Рима устроил прощальный банкет и даже сопровождал ученого до Капрарола, загородной резиденции семейства Фарнезе52. Но это все светлая сторона событий. Была, разумеется, и иная.
1. Цит. по: Кузнецов Б.Г. Галилей. М.: Наука, 1964. С. 82.
2. Подр. см.: Веселовский И.Н. Кеплер и Галилей // Историко-астрономические исследования. Вып. XI / Отв. ред. П.Г. Куликовский. М.: Наука, 1972. С. 19–64; С. 35–40.
3. Соболь С.Л. Оптические инструменты и сведения о них в допетровской Руси // Труды Института истории естествознания АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 3. С. 138–140.
4. Видимо, речь идет о Франческо Мария Бурбон дель Монте (F.M. Bourbon del Monte, 1549–1627; кардинал с 1588).
5. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 79–80.
6. Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... P. 32.
7. О чем см. далее.
8. Цит. по: Кузнецов Б.Г. Галилей. С. 102–103.
9. Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция. Ч. I. Запрет пифагорейского учения. М.; Л.: Гостехтеориздат, 1934. С. 62.
10. Первые два закона были сформулированы Кеплером в трактате Astronomia nova (1609):
1. В невозмущённом движении (т. е. в задаче двух тел) орбита движущейся точки есть кривая второго порядка, в одном из фокусов которой находится центр силы притяжения. Таким образом, орбита материальной точки в невозмущённом движении — это некоторое коническое сечение, то есть окружность, эллипс, парабола или гипербола.
2. В невозмущенном движении площадь, описываемая радиус-вектором движущейся точки, изменяется пропорционально времени.
Третий закон был предложен Кеплером в сочинении «Harmonices Mundi» (1619):
3. В невозмущенном эллиптическом движении двух материальных точек произведения квадратов времен обращения на суммы масс центральной и движущейся точек относятся как кубы больших полуосей их орбит, т. е.
T12/T22 · (M0 + m1)/(M0 + m2) = a13/a23,
где Т1 и Т2 — периоды обращения двух точек, m1 и m2 — их массы, M0 — масса центральной точки, a1 и a2 — большие полуоси орбит точек. Пренебрегая массами планет по сравнению с массой Солнца, получаем третий закон Кеплера в более простой форме: квадраты периодов обращений двух планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их эллиптических орбит. Формулировки всех трех законов даны мною в несколько модернизированном виде. См. также: Белый Ю.А. Иоганн Кеплер (15711630). М.: Наука, 1971.
11. Olmi G. In essercitio universale di contemplatione e prattica: Federico Cesi e i Lincei // Universi, Accademie e Societа Scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento / Ed. by L. Boehm, E. Raimondi. Bologna: Mulino, 1981. P. 169–236. Титулы синьора Чези звучат, конечно, красиво, но надо сказать, что большая часть его владений представляла собой просто небольшие деревеньки.
12. Слово linceo в итальянском означает рысь и зоркий (т. е. зоркий как рысь), поэтому в отечественной литературе эту академию часто называют «академией рысьеглазых». Об этой академии, кроме указанной выше статьи Джузеппе Ольми, см. также: Biagioli M. Knowledge, Freedom, and Brothery Love: Homosociality and the Accademia dei Lincei // Configurations: A Journal of Literature, Science, and Technology, 1995. Vol. 3. № 2. P. 139–166.
13. Создавая Академию, князь Чези, кроме всего прочего, надеялся определить свой новый статус в изменившемся социальном контексте. Он был свидетелем быстрого упадка старой римской аристократии, в том числе и его семейства, и понимал, что отныне, чтобы сохранить свое положение в обществе, придется участвовать «in the courtly rat race», конкурируя с агрессивными честолюбцами типа его друга Чьямполи. И, конечно, Чези чувствовал себя крайне дискомфортно среди карьеристов и выскочек, окружавших, а подчас и занимавших престол Святого Петра (Biagioli M. Galileo Courtier: The Practice of Science in The Culture of Absolutism. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1993. P. 293).
14. Occhiale дословно — глазной. Другие названия: perspicullum, arundo optica.
15. Компания собралась небольшая, но довольно пестрая: выходцы из Германии Иоганн Шренк (Johann Schreck, Terrentius), студент Collegio Romano, в будущем миссионер в Китае, и врач Иоганн Фабер (Johann Faber); Ян Эк (Jan Eck) из Голландии; Франческо Пиффери (Francesco Pifferi) из Сьены, который в 1604 г. опубликовал итальянский перевод «Sphaera» Клавиуса; Антонио Персио (Antonio Persio), математик и астроном-коперниканец, Джулио Чезаре Лагалла (Guilio Cesare Lagalla), римский философ-аристотелианец; Иоганнес Демизиани (Johannes Demisiani), по прозвищу In Greco, математик кардинала Гонзаго.
16. Автором этого термина был либо Демизиани, либо сам Чези. См.: Rosen E. The Naming of the Telescope. New York: Henry Schuman, 1947.
17. См. обзор ранних теорий зрения в: Ronchi V. Optics: The Science of Vision / Transl. from the Italian and rev. by Edward Rosen. New York: New York University Press, 1957. Ср.: Parck K. Impressed Images: Reproducing Wonders // Picturing Science, Producing Art / Caroline A. Jones, Peter Galison editors with Amy Slaton. New York; London: Routledge, 1998. P. 254, 271; Gilson S.A. Medieval Optics and Theories of Light in the Works of Dante. Lewiston, New York: Lampeter: E. Mellen Press, 2000. — Примеч. К. Иванова.
18. Иванов К. История неба // Логос: журнал по философии и прагматике культуры. 2003. № 3 (38). С. 3–65; С. 19–21.
19. Между прочим, попасть в члены Академии было непросто. За восемь первых лет ее существования в члены Lincei было принято только четверо, и Галилей, таким образом, стал пятым, не считая самого Чези.
20. Буквально — «оповещения»; прообраз современной газеты. На страницах «Avvisi di Roma» сообщались римские политические и прочие новости, а также слухи, ходившие по городу.
21. Documenti sul barocco in Roma / Racolti da J.A.F. Orbaan. Rome: Societа Romana di Storia Patria, 1920. Vol. 2. P. 283. Как заметил Марио Бьяджиоли, «размер жалования имел общественную значимость (a public gesture). Если бы Медичи проявили скупость в отношении Галилея, то они тем самым автоматически умалили бы значение Медицейских звезд в общественном мнении. Жалование Галилея — это не предмет динамики спроса и предложения, характерной для рыночной экономики, но скорее продукт экономики чести (the economy of honor), характерной для обмена статусными дарами (status-carrying gifts)» (Biagioli M. Galileo Courtier... P. 7). 1 флорин (fiorino d'oro) был эквивалентен 3,54 г чистого золота.
22. По мнению А. Фаваро, это был Джованни Никколини, но к этому времени в Рим прибыл новый посланник Великого герцога — П. Гвиччардини, который начал принимать дела от своего предшественника, поэтому трудно сказать точно, кто именно сопровождал Галилея на этой аудиенции. — И.Д.
23. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 89.
24. Ibid. Vol. XII. P. 242.
25. «Павел V Боргезе не обладал открытым и восприимчивым умом, он вообще был человеком умственно довольно ограниченным. Это был твердый и угрюмый администратор, канонист по образованию, с характером негибким и доктринерским. Он как-то сказал, что предпочел бы давать рабочим новые заказы, чем брать от ученых новые идеи» (Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 111). Что касается «советскоязычной» литературы, то в ней такие характеристики верховного понтифика, как «фанатик и мракобес», стали стандартными.
26. Конфликт с Венецией возник задолго до начала понтификата Павла V. Он имел как политико-экономические, так и теологические корни (см.: Лозинский С. Г История папства. 3-е изд. М.: Изд-во политической лит-ры, 1986. С. 275–281). Обострению отношений между Республикой и курией способствовал запрет венецианских властей отчуждать в пользу духовенства земли и строить культовые учреждения в Республике без разрешения ее сената. В ответ Рим устами и пером кардинала Беллармино заявил: «Дух направляет и укрощает тело, поэтому светской власти не дозволено возвышаться над духовной, так же как распоряжаться ею или подавлять ее, что было бы равносильно мятежу и языческой тирании. Священнику надлежит судить императора, а не императору священника, ибо абсурдно утверждать, что овца направляет пастуха». Тогда друг Галилея Паоло Сарпи (P. Sarpi; 1552–1623), опираясь на французскую доктрину королевской власти, заявил, что светская власть имеет такое же божественное происхождение, как и папская. В ответ Павел V отлучил от церкви все высшие органы Венецианской республики, от дожа до государственных консультантов и наложил на Республику интердикт. Однако власти Венеции не дрогнули. Они получили поддержку части местного духовенства, а иезуиты, капуцины и театинцы вынуждены были переселиться в Папскую область. Дело чуть было не дошло до полномасштабных военных действий, которые, однако, были приостановлены вмешательством Франции. Начались переговоры, в ходе которых обе стороны пошли на уступки. Курия настаивала на возврате в Республику иезуитов, но дож Венеции Лудовико Донато твердо стоял на своем: он не потерпит присутствия на территории своего государства ни одного иезуита.
27. После провала Порохового заговора король Яков I (James I; правление: 1603–1625) и Парламент постановили ввести особую присягу (Oath of Allegiance) для каждого англичанина, независимо от его вероисповедания, следующего содержания: «Признаю искренно, в моей совести, перед Богом и пред людьми, что король Иаков — законный государь этого королевства, что папа ни сам собою, ни авторитетом Церкви не имеет власти низвергать короля, располагать его королевством, уполномочивать какого бы то ни было иностранного государя нападать на него, освобождать его подданных от верности и повиновения, давать кому бы то ни было из них позволение поднимать против него оружие, делать какое-либо насилие его личности или возбуждать смуты в государстве. Клянусь также, что, невзирая ни на какое провозглашение отлучения, изданное папой против короля, невзирая на разрешение присяги повиновения, данной его подданным, я сохраню верную присягу мою на подданство Его Величеству и буду защищать всей моею силою короля против заговоров, которые бы кто делал против его лица или короны под предлогом этого разрешения. Клянусь также, что я отвергаю как нечестивое и еретическое гибельное учение, что государи, отлученные или лишенные папой государства, могут быть низлагаемы или убиваемы подданными их или кем бы то ни было. Верую, что папа не имеет власти разрешить меня от настоящей присяги, и отрекаюсь от всякого освобождения от нее. Клянусь во всем этом согласно естественному смыслу слов, без всяких двусмысленностей, ни подразумеваемых ограничений (restrictio mentalis). Клятву эту подтверждаю верою христианина. Да поможет мне Бог!» Павел V запретил английским католикам приносить такую присягу. Как и в случае с Венецианской республикой, конфликт разгорался вокруг вопроса о соотношении статусов светской и папской власти. Когда же Яков I изъявил готовность признать папу главою церкви, но при условии отказа Св. Престола от претензий на низложение королей, Павел V заявил, что он не может отказаться от своих прав руководить светской властью, не впадая при этом в ересь.
28. Кстати, он разрешил принявшим христианство китайцам проводить службу на их родном языке.
29. В 1506 г. был заложен первый камень новой церкви, строительство которой продолжалось сто двадцать лет. В нем принимали участие такие мастера как Браманте (1444–1514), Рафаэль (1483–1520), Микельанджело (1475–1564), Фонтана (1541–1607) и др. К. Мадерно (C. Maderno; 1559–1629) руководил строительством собора в 1607–1617 гг. Так как Павел V пожелал, чтобы здание было более вместительным, архитектору пришлось придать ему базиликальный вид. Неф собора значительно удлинили, и поэтому возникло несоответствие между куполом и фасадом: если вы стоите перед входом в собор, вы не видите купол — он хорошо виден только с очень далекого расстояния. Внутренней отделкой собора руководил Лоренцо Бернини, создавший поистине сказочное великолепие, которое превышает возможности человеческого восприятия. Фасад, законченный К. Мадерно в 1614 г., украшен гигантскими колоннами античного происхождения, между которыми расположены пять дверей, средние из них сохранились от прежней базилики Св. Петра, они были отлиты из бронзы в 1445 г. Над колоннами идет крупная латинская надпись, где говорится о том, что это здание было построено при Павле V. Так как эти слова находятся как раз над центральным входом, то в Риме стали острить по поводу того, что этот храм скорее Павла, чем Петра. Собор освящен в 1628 г. папой Урбаном VIII (см. подр.: Федорова Е.В. Знаменитые города Италии: Рим, Флоренция, Венеция. Памятники истории и культуры. М.: Издательство Московского университета, 1985. С. 187–188).
30. Его сооружение продолжалось с 1590-х гг. до середины XVII столетия.
31. Rowland W. Galileo's Mistake: A New Look at the Epic Confrontation between Galileo and the Church. New York: Arcade Publishing, 2001. P. 12. В другом месте своей книги Роуленд, полемизируя с Сантильяной, позволил себе следующее едкое высказывание: «У меня есть сильное подозрение, что, получи проф. Сантильяна возможность встретиться и подискутировать с Павлом V или каким другим ренессансным папой, он вынужден был бы признать свою ограниченность по сравнению с их интеллектуальным совершенством. Ведь, в конце концов, они были ренессансными личностями, исключительными даже по меркам той эпохи» (P. 223).
32. Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 1. P. 293–298.
33. Ibid. Vol. III. Pt. 1. P. 295.
34. См., например, цитированные выше работы Выгодского и Фантоли.
35. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 143.
36. Правда, в Sidereus Nuncius Галилей останавливается на этом вопросе, давая «двоякое разрешение сомнений»: а) «промежутки между горами, расположенными в одном ряду или по одной окружности, будут загорожены другими возвышенностями, стоящими в других рядах»; б) «вокруг лунного тела, как и вокруг Земли, конечно, имеется некоторая сфера из вещества более плотного, чем окружающий эфир, которое может воспринимать и отражать солнечное излучение, хотя и не обладает такой плотностью, чтобы представлять препятствие взору <...>. Эта сфера <...> по краям лунного диска..., конечно, будет глубже <...> по отношению к нашим взглядам, пересекающим ее под косым углом; поэтому она и сможет препятствовать нашему взору и, в особенности, будучи освещенной, закрыть обращенную к Солнцу окружность Луны» (Галилей Г. Звездный вестник. С. 29–30). Однако, оба приведенные объяснения не представлялись современникам Галилея убедительными, поскольку включали в себя целый ряд ad hoc предположений, к тому же довольно умозрительных.
37. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 151.
38. Веским, но не решающим, поскольку теория Тихо Браге также объясняла фазы Венеры.
39. Цит. по: Фантоли А. Галилей... С. 122, примеч. 36.
40. «Я всегда ценил Кеплера за свободный (пожалуй, даже слишком свободный) и острый ум, — писал Галилей на склоне лет, — но мой метод мышления решительно отличен от его, и это проявляется в наших работах об общих предметах. Только в отношении движений небесных тел мы иногда сближались в некоторых схожих, хотя и немногих концепциях <...>, но это нельзя обнаружить и в одном проценте моих мыслей» (Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XVI. P. 163).
41. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 442.
42. Ibid. Vol. III. Pt. 2. P. 863–864.
43. Collegio Romano со времени своего основания в 1551 г. размещался в скромном римском особняке. В 1583 г. Collegio переехал в роскошный дворец, построенный при папе Григории XIII (понтификат: 1572–1585); см.: Villoslada R. Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressionem della Compagnia di Gesu (1773). Roma: Università Gregoriana, 1954. P. 198. — И.Д.
44. Galilei G. Le Opere. Vol. III. Pt. 2. P. 863–864.
45. Ibid. Vol. III. Pt. 1. P. 297. Впрочем, Мелькоте цитирует здесь письмо Галилея Клавиусу от 30 декабря 1610 г. (Ibid. Vol. X. P. 500).
46. Оно вошло в третий том пятитомного собрания его сочинений Opera mathematica (первые три тома датированы 1611 годом, остальные 1612-м).
47. «Quae cum ita sint, vident astronomi, quo pacto orbes coelestes constituendi sint, ut haec phaenomena possint salvari» (Clavius Chr. Opera mathematica. Т. III. P. 275). А. Фантоли замечает по поводу приведенных слов Клавиуса: «Этой перемене точки зрения отца Клавия Кеплер придавал большое значение» (Фантоли А. Галилей... С. 123, примеч. 47). Добавлю, что не только Кеплер, но и английский астроном-коперниканец Джон Уилкинс (J. Wilkins; 1614–1672) понял цитированную фразу в том же духе. Однако, следует отметить, что Клавиус употребил глагол constituere — ставить, помещать, располагать, выстраивать, устанавливать, формировать и т. д., а не, скажем, immutare — менять, изменять. Тем самым он хотел сказать, что птолемеева космология в том виде, как она традиционно излагалась и понималась, требовала определенных усовершенствований.
48. Цит. по: Baldini U. Legem impone subactis: Studi su filosofia e scienza dei Gesuiti in Italia, 1540–1632. Rome: Bulzoni Editore, 1992. P. 238.
49. Цит. по: Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 55–56.
50. См. подр.: Reeves E. Painting the Heavens: Art and Science in the Age of Galileo. Princeton: Princeton University Press, 1997; De Renzi S. Courts and Conversions: Intellectual Battles and Natural Knowledge in Counter-Reformation Rome // Studies in History and Philosophy of Science, 1996. Vol. 27. № 4. P. 429–449.
51. Цит. по: Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 63.
52. Галилей выехал из Рима в субботу 4 июня, а прибыл во Флоренцию 12 июня 1611 г. Как видим, дорога на родину заняла у него несколько больше времени, чем в вечный город, возможно, потому, что в обратный путь он отправился заметно обремененный славой.
Пока Галилей убеждал римский истеблишмент в том, что ежели они не глянут в его телескоп, то потеряют лучшую главу своей биографии, кардинал Роберто Беллармино, — член конгрегации святой Инквизиции, конгрегации Индекса запрещенных книг и многих иных многополезных и жизненно необходимых Святому Престолу конгрегаций, — не подымая лишнего шума, с характерной для него любезностью — как то и положено умнейшим представителям спецслужб, в том числе и идеологических, — послал астрономам Collegio Romano запрос следующего содержания:
«Преподобнейшие отцы!
Я знаю, что ваши преподобия осведомлены о новых небесных наблюдениях одного отличного математика (un valente mathematico), произведенных им при помощи инструмента, называемого трубой (can[n]one, букв. пушка, орудие. — И.Д.) или окуляром (occhiale). Я также видел с помощью этого инструмента некоторые весьма удивительные вещи (alcune cose molto maravigliose), наблюдая Луну и Венеру. Поэтому я хочу, чтобы вы доставили мне удовольствие, высказав откровенно ваше мнение о нижеследующих утверждениях. Верно ли:
1) что имеется множество неподвижных звезд, невидимых простым глазом, и, в частности, в Млечном Пути и в туманностях, представляющих собой скопление мельчайших звезд,
2) что Сатурн не является простой звездой, но тремя звездами, вместе соединенными,
3) что звезда Венера изменяет свою форму, нарастая и убавляясь подобно Луне,
4) что Луна имеет поверхность шероховатую и неровную,
5) что вокруг планеты Юпитер обращаются четыре подвижные звезды, движения которых различны между собой и очень быстры?
Я хочу это знать потому, что слышу на сей счет различные мнения. Ваши же преподобия, изощренные в математических науках, легко смогут сказать мне, прочно ли обоснованы (siano hen fondate) эти новые открытия, или же они обманчивы и ложны. Если вам угодно, вы можете ответить на этом же листе.
Квартира, 19 апреля 1611 г.
Ваших преподобий брат во Христе Роберт, кардинал Беллармино»1.
Если порядок вопросов имел для Беллармино какое-то значение (т. е. коррелировал с их важностью), то тогда обращает на себя внимание то обстоятельство, что кардинал начинает не с характера лунной поверхности и фаз Венеры, но со звезд, с Млечного пути и туманностей. Вполне возможно, — если, повторяю, порядок вопросов был важен для Беллармино! — что перед кардиналом встала тень Джордано Бруно с его идеей множественности обитаемых миров и т. п. (напомню, что Беллармино играл определенную роль в процессе над ноланцем)2.
Ответ не заставил себя долго ждать. Отцы-иезуиты в целом подтвердили достоверность галилеевых утверждений:
«Преподобнейший и достопочтеннейший господин и покровитель!
Отвечаем на этом же листе (поразительное умение экономить бумагу! — И.Д.), согласно приказанию Вашего Высокопреосвященства, на вопросы о некоторых явлениях, наблюдаемых на небе в трубу, причем ответы мы даем в том же порядке, в каком вопросы эти предложены Вашим Высокопреосвященством.
1) Верно, что в трубу наблюдаются многие звезды в туманностях Рака и Плеяд; относительно же Млечного Пути, то не является столь достоверным утверждение, будто весь он состоит из мельчайших звезд. Скорее кажется, что в нем имеются части, построенные плотнее других [частей], хотя нельзя отрицать и того, что в Млечном Пути имеется также много очень малых звезд. Правда, то, что наблюдается в туманностях Рака и Плеяд, дает основание с вероятностью предполагать, что и Млечный Путь является громаднейшим скоплением звезд, которые неразличимы, потому что они слишком малы.
2) Наблюдения показали, что Сатурн не кругл, какими мы видим Юпитер и Марс, но имеет яйцеобразное и продолговатое очертание <...>. Правда, мы не наблюдали две звезды по обе стороны, столь отдаленные от средней, чтобы мы могли сказать, что это отдельные звезды.
3) Совершенно верно, что Венера убавляется и нарастает, как Луна, мы видели ее как бы полной, когда она была вечерней звездой, а затем мы наблюдали, что ее освещенная часть мало-помалу уменьшалась, оставаясь все время обращенной к Солнцу и становясь все более рогообразной; наблюдая ее затем, после соединения с Солнцем, когда она стала утренней звездой, мы видели ее рогообразной, и освещенная часть снова была обращена к Солнцу. В это время она постоянно увеличивает яркость, и ее видимый диаметр уменьшается.
4) Нельзя отрицать большой неровности Луны; но отцу Клавию кажется более вероятным, что не поверхность ее неровна, но скорее само тело Луны имеет неоднородную плотность и имеет части более плотные и более разреженные; так же обстоит дело и с обычно наблюдаемыми простым глазом пятнами. Другие же думают, что неровна действительно поверхность; до сих пор, однако, мы еще не имеем в этом вопросе такой уверенности, чтобы мы могли утверждать что-либо без сомнения.
5) Возле Юпитера видны четыре звезды, которые очень быстро движутся, иногда все к востоку, иногда все к западу, а иногда одни к востоку, другие к западу по почти прямой линии; они не могут быть неподвижными звездами, потому что имеют очень быстрое движение, отличное от движения неподвижных звезд, и расстояние между ними и Юпитером постоянно меняется.
Вот то, что мы считаем нужным сказать в ответ на вопрос Вашего Высокопреосвященства; выражая вам свое смиреннейшее почтение, мы молим господа ниспослать вам счастия.
Римская коллегия
24 апреля 1611 г.
Вашего Высокопреподобия недостойные слуги во Христе
Христофор Клавий, Христофор Гринбергер, Одо Малькотио, Дж. Паоло Лембо»3.
Заметим — астрономы Collegio Romano дипломатично не стали делать из изложенных фактов никаких далеко идущих выводов, ограничившись только феноменологическими констатациями и не выходя за рамки поставленных кардиналом вопросов.
Что побудило Беллармино послать этот запрос Клавиусу? Мнения историков расходятся. Одни полагают, что Беллармино в действительности беспокоили только две вещи: несоответствие новых открытий аристотелевой натурфилософии, преподававшейся в Collegio Romano, и — что много важнее — несоответствие гелиоцентрической теории, с которой Галилей увязывал (не всегда, впрочем, обоснованно) свои телескопические открытия, тексту Св. Писания4. Другие считают, что Беллармино «почувствовал необходимость разобраться в новых известиях (об открытиях Галилея. — И.Д.) и прояснить их для себя. Очевидно, с этой целью он обратился за консультацией к математикам из числа собратьев по ордену»5. Наконец, третьи уверены, что властный и подозрительный кардинал с самого начала, опасаясь вредного воздействия «Pythagorean exaltation»6, не доверял Галилею и старался уличить его в ошибках.
Мне представляется, что Беллармино ясно представлял себе два аспекта всей этой «небесной истории» — философский (точнее, натурфилософский) и теологический. Естественно, последний волновал его куда больше первого. И хотя Галилей всячески избегал каких бы то ни было теологических обсуждений коперниканских идей, кардинал понимал, что тосканскому математику не удастся сколько угодно долго сохранять богословский нейтралитет.
Галилей страстно отстаивал физическую истинность гелиоцентрической теории, справедливость которой он доказать не мог, хотя его телескопические наблюдения заставляли усомниться в правильности той формы геоцентрической теории, в которой она тогда существовала. Но не более того. Это означало, что рано или поздно (а учитывая темперамент и полемический задор «рысьеглазого» коперниканца — скорее рано, чем поздно) полемика неизбежно перейдет в теологическую плоскость. Но чтобы вести богословскую дискуссию, Беллармино должен был удостовериться, что всё, о чем говорит Галилей, соответствует действительности, ибо в противном случае речь может идти просто о фантазиях или фикциях, не имеющих даже косвенных подтверждений, о чем кардинал ясно написал в конце запроса. Ведь, в отличие от нас, Беллармино не знал, что Галилей — великий ученый. (В апреле 1611 г. об этом вообще мало кто догадывался, кроме, разумеется, самого Галилея).
Хотя переписка Беллармино с астрономами-иезуитами и не содержала каких-либо указаний на её секретность, однако, кардинальский запрос носил официальный характер (несмотря на выражения типа «я хочу знать»). Но спустя всего две недели, 7 мая 1611 г., друг Галилея, апостолический референдарий (а после 1621 г. — архиепископ) Пьеро Дини (P. Dini; 1570–1625), племянник кардинала Оттавио Бандини (O. Bandini; 1558–1629), пишет Козимо Сассетти (C. Sassetti), владельцу шелковой мануфактуры в Перудже:
«Теперь — о Галилее. Не знаю, право, с чего начать, одного письма для этого мало. Короче, могу сказать, что ежедневно он обращает тех, кои [поначалу] ему не верили; правда, находятся немногие упрямые головы, которые, не соглашаясь, в частности, с существованием звезд возле Юпитера, не хотят даже посмотреть на них. Когда мне попадаются такие, я всегда убеждаю их взглянуть и [прямо] сказать, что они этих звезд не видят; и что для них это не доказательство (chè a questo non ci è riprova).
Кардинал Беллармино написал иезуитам письмо, в котором он просит осведомить его о некоторых вопросах, относящихся к открытиям (dottrine) Галилея; отцы ответили самым благоприятным, какое вообще может быть, письмом. Они являются великими друзьями Галилея; в этом ордене находятся крупнейшие имена, а наиболее значительные находятся здесь [в Риме]»7.
Более того, 27 мая 1611 г. Коломбе пишет из Флоренции (скорость распространения слухов и информации поразительная!) в Рим Клавиусу о чувстве глубокого удовлетворения, с которым он узнал об ответе последнего на вопросы кардинала Беллармино8. Но и Галилей не оставался долго в неведении обо всей этой закулисной возне. В его бумагах сохранилась копия ответа иезуитов Беллармино. Документ написан рукой писца, но подписи членов коллегии собственноручные. На обороте надпись рукой Галилея: «Свидетельство отцов иезуитов преосвященнейшему кардиналу Беллармино»9.
26 июня 1611 г. Галланцоне Галланцони, секретарь (maggiordomo) кардинала Франческо ди Жуайеза (F. de Joyeuse, 1584–1604) пишет Галилею:
«Посылаю вам копию письма, адресованного синьору Клавию, из которой вы ознакомитесь с мнением известного вам Лодовико [делле Коломбе] относительно неровностей Луны, которое многим представляется вероятным. Я крайне заинтересован узнать истину так же, как и ваш патрон; поэтому если у вас выдастся время, напишите об этом в двух словах, я передам ваше мнение кардиналу, который поручил мне передать привет вам от его имени, что я и делаю»10.
Вместо «двух слов» Галилей, осведомленный о близости Жуайеза Беллармино, 16 июля 1611 г. пишет многостраничное письмо11 Галланцони и Жуайезу («mio Padrone»), в котором, рассуждая об относительности понятия «совершенство» и критикуя перипатетическую манеру рассуждения в натурфилософских и астрономических вопросах, заметил, что «если бы кто-нибудь считал, что круговое движение не в меньшей мере присуще Земле, чем находящимся над нами телам, то отпали бы все основания принимать вечную и неизменную, бессмертную и бесстрастную небесную квинтэссенцию, абсолютно отличную от лежащих под нами субстанций. Это учение (об изменчивости и разрушимости небесных тел) было бы не только более обоснованным, но и более согласующимся с истинами Святого Писания, утверждающего, что небо было сотворено и подвержено изменению»12.
Таким образом, Галилей пытался сыграть на противоречии между аристотелевым представлением о неизменности неба и христианской доктриной сотворения мира. Однако в остальном он предпочел уйти от теологических дебатов с Коломбе, сосредоточившись на богословски нейтральной теме безграмотности своего оппонента. «На что я мог надеяться, — писал Галилей, — если бы взял на себя труд объяснить сложнейшие вопросы учения Коперника человеку, который в свои пятьдесят с лишним лет неспособен понимать простейшие принципы и самые легкие гипотезы его теории?13. Правильно, лучше иметь врагом одного Коломбе, чем всю мать католическую Церковь сразу.
Естественно, Жуайез не забыл показать письмо Галилея Беллармино, но на того оно не произвело абсолютно никакого впечатления, потому как кардинал ждал научных аргументов, а не антиаристотелевой риторики, в которой он и сам счастливо упражнялся в своих Лувенских лекциях14.
Отношение Беллармино к выступлениям Галилея можно проиллюстрировать и некоторыми другими примерами. Так, Гвиччардини в 1615 г. вспоминал, что как-то Беллармино конфиденциально сообщил ему: «Хотя почтение к его светлости (Великому герцогу Тосканскому Козимо II. — И.Д.) и велико, но если бы Галилей пробыл здесь дольше, то дело кончилось бы тем, что он был бы вызван для объяснений (a qualche guistificatione de'casi suoi)»15. Эти слова Беллармино можно понимать по-разному: и как угрозу, и как выражение недовольства поведением Галилея, и как проявление озабоченности со стороны человека, не настроенного к ученому заведомо враждебно. Последнего мнения придерживается А. Фантоли и, как мне представляется, его позиция ближе к истине, поскольку она лучше согласуется с последующими событиями.
Встречался ли Галилей, будучи в Риме, с Беллармино? Вполне возможно. На такую возможность указывает следующий фрагмент из письма Дини Галилео от 7 марта 1615 г. Дини сообщает, что беседовал с Беллармино «по вопросам, о которых вы пишете, но он уверял меня, что об этих вопросах (речь идет об обсуждении коперниканства в Инквизиции. — И.Д.) он ничего и ни от кого не слышал с той поры, как он с вами о них говорил устно (a bocca)»16. Но устно они могли говорить о коперниканстве только во время пребывания Галилея в Риме весной 1611 г.
Есть еще один документ, свидетельствующий если и не об отношении Беллармино к Галилею, то о внимании к ученому со стороны Инквизиции.
17 мая 1611 г. в протоколе заседания конгрегации Св. Инквизиции появилась следующая запись: «Посмотреть, не встречается ли в процессе Чезаре Кремонини имя Галилея, профессора философии и математики»17.

Рис. 10. Портрет Ч. Кремонини. Гравюра Г. Давида (H. David). Падуя, Museo Civico
Кремонини (рис. 10) был профессором философии Падуанского университета и другом (по выражению М. Бьяджиоли, «a good social friend») Галилея, который с 1592 по 1610 г. преподавал в том же университете (правда, получая при этом в два раза меньше Кремонини). Их связывали, как принято считать, приятельские отношения, хотя Кремонини, будучи аристотелианцем18, совершенно не разделял научных взглядов Галилея. В частности, он был вдохновителем, если не автором, трактата «Discorso intorno alla Nuova Stella», опубликованного в Падуе в 1605 г. под псевдонимом Антонио Лоренцини19. В трактате, в частности, подвергалось критике использование в спорах аргумента, основывающегося на отсутствии параллакса nova; а ведь именно его отсутствие заставило Галилея прийти к выводу, что «новое светило» находится намного выше лунной сферы. Согласно Лоренцини — Кремонини, невозможно применять к небесному миру математические правила и методы, опирающиеся на чувственные восприятия (а именно к таковым относится метод определения величины параллакса), так как они якобы действительны только для земных реалий20.
Позднее, 19 августа 1610 г., Галилей жаловался в письме Кеплеру, что самые знаменитые падуанские профессора, в том числе и Кремонини, отказались смотреть в телескоп, хотя им это предлагалось «бессчетное число раз»21.
П. Гвальдо писал Галилею в июле 1611 г.: «Встретив его (Кремонини. — И.Д.) как-то на улице, я сказал ему: "Синьор Галилей весьма огорчен, что вы написали обширный трактат о небе, отказавшись взглянуть на его (т. е. им, Галилеем, открытые. — И.Д.) звезды." На что тот ответил: "Я не верю, что кто-либо, кроме самого Галилея, их видел, а кроме того, глядение через этот его окуляр вызывает у меня головную боль. Довольно! Я не хочу больше ничего слышать об этом. Очень жаль, что синьор Галилей дал себя вовлечь в эти трюки и покинул нашу компанию и безопасную падуанскую бухту. Как бы ему потом не пришлось пожалеть об этом"»22.
Этот эпизод — отказ падуанских профессоров взглянуть в телескоп — был обыгран Б. Брехтом в его известной пьесе23, а биографами Галилея часто использовался в качестве «a handy epitome of the philosophers' silliness», как выразился М. Бьяджиоли. Однако, как было показано тем же Бьяджиоли24, а также П. Фейерабендом25, ситуация отнюдь не столь уж проста. У оппонентов Галилея были веские доводы критически относиться к телескопическим доказательствам, о чем речь пойдет далее. Возвращаясь же к истории с Кремонини, необходимо упомянуть следующие обстоятельства.
В апреле 1604 г. падуанская Инквизиция обвинила Кремонини и Галилея в ереси. Первого — в отрицании бессмертия души (и даже в атеизме)26, второго — в вере, будто звезды определяют человеческую жизнь. Донес на Галилея некий Сильвестро Паньони (S. Pagnoni), который работал подмастерьем и жил в доме ученого с июля 1602 по январь 1604 г. На допросе 21 апреля 1604 г. Паньони сказал, что «видел его (Галилея. — И.Д.) в его комнате составляющим гороскопы разных людей. Синьор Галилей заявил, что занимается этим уже около двадцати лет (т. е. после встречи с математиком Остилио Риччи, у которого Галилей брал уроки геометрии и механики. — И.Д.), чтобы заработать на жизнь, и уверял, что его предсказания должны сбыться»27. Паньони упомянул также о том, что мать Галилея — Джулия Амманати (G. Ammannati; 15381620) — рассказывала, будто её сын никогда не был на исповеди и не причащался. Правда, тут же доносчик добавил, что видел, как Галилей посещал мессу вместе со своей сожительницей, венецианкой Марией (Мариной) ди Андреа Гамба (M. Gamba)28.
Кроме того, Паньони утверждал, что Галилей читал запрещенные письма Пьетро Аретино, но вот относительно веры у Галилея все в порядке: «что до веры, я никогда не слышал от него ничего худого».
Обвинения против Кремонини были куда серьёзней. Еще в 1599 г. Инквизиция предупредила его, что он «не должен читать или толковать "De anima" Аристотеля ни публично, ни приватно, а также воздерживаться от комментариев на Александра Афродисийского и других авторов, противоречащих католической истине и св. соборам»29. В конце мая 1604 г. венецианскому дожу было сообщено, что против Кремонини выдвинуты новые обвинения и что папа запросил материалы процесса 1599 г.
Свою защиту в Венецианском сенате Кремонини строил, напрямую связывая свою честь с честью Республики. В итоге Венеция отказалась выдать и осудить падуанского профессора. Сенат признал, что обвинения против него — всего лишь наветы со стороны «испорченных заинтересованных лиц», т. е. со стороны его завистливых конкурентов. Что же касается Галилея, то обвинения против него были вообще признаны «чрезвычайно легкими и не имеющими последствий». Упомянутая выше запись в протоколе заседания Инквизиции от 17 мая 1611 г. также, насколько можно судить, последствий не имела. Возможно, потому, что, как выразился проф. де Сантильяна, «Кремонини ничего не имел общего с Галилеем, за исключением того, что постоянно враждовал с ним»30.
Кроме описанных выше событий, так или иначе связанных с настороженным отношением к идеям Галилея со стороны Инквизиции и кардинала Беллармино, необходимо сказать и о нападках на коперниканскую теорию и открытия Галилея ряда университетских профессоров и отдельных священнослужителей.
1. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 87–88.
2. См. подр.: Finocchiaro M.A. Philosophy versus Religion and Science versus Religion: the Trials of Bruno and Galileo // Giordano Bruno: Philosopher of the Renaissance / Ed. by H. Gatti. Ashgate, 2002. P. 51–96; Gatti H. Giordano Bruno and Renaissance Science. Ithaca; London: Cornell University Press, 1999; Aquilecchia G. Bruno: 1583–1585. The English Experience / A cura di M. Ciliberto, N. Mann. Firenze: Leo Olschki Editore, 1997. P. 117–124.
3. Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XI. P. 92–93.
4. Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... P. 35–36.
5. Фантоли А. Галилей... С. 102.
6. Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 28. Весьма любопытно объяснение А.Э. Штекли, по мнению которого Беллармино придерживался следующей тактики: «существующее, уж коль оно существует, не отрицают, его выхолащивают» (Штекли А.Э. Галилей. М.: Молодая гвардия, 1972. Серия «Жизнь замечательных людей». С. 146). А дабы отцы иезуиты, — развивает свою мысль Штекли, — «восприняли его [Беллармино] вопросник как инструкцию и не принялись рассуждать о том, о чем их не спрашивают», кардинал попросил астрономов Collegio Romano не переводить зря бумагу, а «ответить на этом же листе». Если трактовать всю эту историю как столкновение страдальца познания с церковными мракобесами, то лучшей версии и не придумать.
7. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 102.
8. «E mi piace ch'ella in particolare non approvi che la luna sia di superficia ineguale e montuosa» (Ibid. Vol. XI. P. 118), т. е. речь шла об осторожном отношении Клавиуса к утверждению Галилея о неровной поверхности Луны (см. п. 4 в ответе математиков Collegio Romano на запрос Беллармино).
9. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 92; Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 50. По мнению А.Э. Штекли, сам «кардинал Беллармино, дабы уберечь его (т. е. Галилея. — И.Д.) от рискованных шагов, предоставляет ему возможность ознакомиться со своим запросом и ответом математиков» (Штекли А.Э. Галилей. С. 147). Значит, так: Беллармино, намереваясь выхолостить астрономические открытия Галилея, показывает тому документ, из которого ясно, что эти открытия не являются заблуждением или фикцией, и делает это заботливый кардинал для того, чтобы Галилей не сделал «рискованных шагов». Каких? Самый рискованный шаг, который, с точки зрения кардинала, мог сделать (и сделал) Галилей — это последовательно отстаивать истинность гелиоцентрической теории, не имея достаточных доказательств. Интересно, а Коломбе узнал о переписке Беллармино с астрономами-иезуитами тоже от самого кардинала, или это Галилей на радостях отписал ему из Рима во Флоренцию — вот, мол, смотри, голубочек, какие люди признали мою правоту?!
10. Galilei G. Le Opere. XI. P. 131–132.
11. Ibid. Vol. XI. P. 141–155.
12. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 142.
13. Ibid. Vol. XI. P. 154–155.
14. Первая часть этих лекций касается, в частности, вопроса о неизменности неба. Беллармино цитирует антиаристотелевские и антитомистские взгляды различных авторов по этому вопросу и, обращаясь к тексту Св. Писания, доказывает, что между Землей и небом нет качественных различий и небо может подвергаться изменениям. Впрочем, он замечает, что мы можем с достоверностью сказать «только то, что небеса существуют, а что там и как, то это мы узнаем лишь тогда, когда туда попадем» (Bellarmine R. The Louvain Lectures / Ed. by U. Baldini, G.V. Coyne. Città del Vaticano: Vatican Observatory Publications, 1984. (Studi Galileiani. Vol. 7. № 2). P. 14).
15. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 207. В переводе А. Брагина эта фраза звучит нелепо: «если бы он (Галилей) задержался здесь еще подольше, то они, несомненно, смогли бы, в конце концов, убедиться в правомерности его положений» (Фантоли А. Галилей... С. 104). Перевод М.Я. Выгодского (повторенный затем Б.Г. Кузнецовым), хотя несколько точнее, но всё равно искажает и ужесточает сказанное Беллармино: «если Галилей зашел бы слишком далеко, то как бы не пришлось прибегнуть к какой-нибудь квалификации его деяний» (Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 52–53; Кузнецов Б.Г. Галилей. С. 96).
16. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 151.
17. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 275. И опять-таки мы сталкиваемся с совершенно неадекватным переводом этой записи в русском издании книги А. Фантоли (Фантоли А. Галилей... С. 103). «Рассмотреть, следует ли на процессе по делу Чезаре Кремонини упомянуть имя Галилея, профессора философии и математики». Ср. с оригиналом записи: «Videatur an in processu Doct. Caesaris Cremonini sit nominatus Galileus, Philosophiae et Mathematicae professor» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 275).
18. Точнее, он был представителем так называемого «падуанского аверроизма», последователем Джакомо Забарелла (G. Zabarella; 1533–1589) и Пьетро Помпонацци (P. Pomponazzi; 1462–1525). См. подр.: Фантоли А. Галилей... С. 60, 82.
19. Эту nova в 1604 г. наблюдали в созвездии Змееносца (почему звезду и назвали Stella Nova Serpentari) повсюду в Европе. Появление каждой nova ставило аристотелианцев в трудное положение, поскольку этот феномен противоречил перипатетической догме о совершенстве и неизменности неба. Nova была видна в течение полутора лет, её наблюдали многие астрономы, в том числе и И. Кеплер, который посвятил ей трактат De Stella Nova in pede Serpentarii (1606), а астрономы Collegio Romano устроили по этому поводу особое собрание (возможно, по инициативе О. ван Мелькоте), на котором было высказано мнение (противоречащее аристотелевскому) о надлунном местопребывании наблюдаемой новой звезды. В Падуе она была замечена 10 октября 1604 г., Галилей наблюдал её 28 октября. — И.Д.
20. Фантоли А. Галилей... С. 68. О Кремонини см. также: Schmitt Ch.B. The Aristotelian Tradition and Renaissance Universities. London: Variorum, 1984.
21. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 423. «Посмеемся же, мой Кеплер, — писал Галилей, — над великой глупостью людской (Volo, mi Keplere, ut rideamus insignem vulgi stultitam). Что сказать о первых философах здешней гимназии, которые с каким-то упорством аспида (aspidis pertinacia repleti), несмотря на тысячекратное приглашение, не хотели даже взглянуть ни на планеты, ни на Луну, ни на зрительную трубу (perspicullum)?»
22. Ibid. Vol. II. P. 165.
23. «Галилей. А что, если ваше высочество увидели бы через трубу все эти столь же невозможные, сколь ненужные звезды.
Математик. Тогда возник бы соблазн возразить, что ваша труба, ежели она показывает то, чего не может быть, является не очень надежной трубой.
Галилей. Что вы хотите сказать?
Математик. Было бы более целесообразно, господин Галилей, если бы вы привели нам те основания, которые побуждают вас допустить, что в наивысшей сфере неизменного неба могут обретаться созвездия, движущиеся в свободном, взвешенном состоянии.
Философ. Основания, господин Галилей, основания!
Галилей. Основания? Но ведь один взгляд на сами звезды и на заметки о моих наблюдениях показывает, что это именно так. Сударь, диспут становится беспредметным.
Математик. Если бы не опасаться, что вы еще больше взволнуетесь, можно было бы сказать, что не все, что видно в вашей трубе, действительно существует в небесах. Это могут быть и совершенно различные явления.
Философ. Более вежливо выразить это невозможно.
Федерцони. Вы думаете, что мы нарисовали звезды Медичи на линзе?
Галилей. Вы обвиняете меня в обмане?
Философ. Что вы! Да как же мы дерзнули бы? В присутствии его высочества?
Математик. Ваш прибор, как бы его ни назвать — вашим детищем или вашим питомцем, — этот прибор сделан, конечно, очень ловко.
Философ. Мы совершенно убеждены, господин Галилей, что ни вы и ни кто иной не осмелился бы назвать светлейшим именем властительного дома такие звезды, чье существование не было бы выше всяких сомнений.
(Все низко кланяются Великому герцогу).
Козимо (оглядываясь на придворных дам). Что-нибудь не в порядке с моими звездами?
Пожилая придворная дама (Великому герцогу). Со звездами вашего высочества все в порядке. Господа только сомневаются в том, действительно ли они существуют» (Брехт Б. Жизнь Галилея. С. 719–720).
24. Biagioli M. Galileo Courtier... P. 238.
25. Фейерабенд П. Против методологического принуждения. С. 237–281 и далее.
26. В первый раз подобные обвинения выдвигались против Кремонини в 1599 г., но тогда дело кончилось вынесением предупреждения.
27. Poppi A. Cremonini e Galilei inquisit a Padova nel 1604: Nuovi documenti d'archivio. Padua: Editrice Antenore, 1992 (Università di Padova; Centro per la Storia della Tradizione Aristotelia nel Veneto; Columbia University Seminars: University Seminar of the Renaissance. Saggi Testi, 24). P. 60.
28. С этой венецианской сиротой Галилей прожил в Падуе с августа 1600 по август 1606 г. У них родилось трое детей: Вирджиния (1600), Ливия (1601) и Винченцо (1606).
29. Poppi A. Cremonini e Galilei... P. 27.
30. Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 29. Вполне взвешенную и адекватную, на мой взгляд, оценку этой протокольной записи можно найти в книге: Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome...: «Широкий круг знакомых Галилея включал нескольких священнослужителей, а также некоторых известных bon vivants и сомнительных людей вроде Кремонини. Такие знакомства вполне могли вызвать подозрения у Беллармино, но он был порядочным человеком и боялся ошибиться. Проверка же любого, кто распространял новые идеи, было в Риме эпохи Контрреформации делом заурядным. И Галилей, по-видимому, так никогда и не узнал, что его имя упоминалось на собрании кардиналов-инквизиторов» (P. 36).
14 мая 1611 г. (когда Галилей еще находился в Риме) Козимо Соссетти написал своему другу монсиньору Дини о том, что два профессора Перуджинского университета утверждали, будто «зрительная труба показывает или такие вещи, которых вовсе нет, или такие, которые, хотя и существуют, но так ничтожны, что никакого влияния не имеют (quelle che non è, o si vero, quando pur sieno, sieno tanto minimi, che non influischino). И таких вещей на небе, как говорят, немало. Это мнение подкрепляется очень многими аргументами и доказательствами, начиная от сотворения Адама. Так как Вашему Преподобию это прекрасно известно, то я не стану эти аргументы повторять. Я слышал и другие доводы, но их я считаю очень несолидными и легко опровержимыми, а потому, если вы устраните вышеприведенный, то, я думаю, победа в споре будет одержана»1.
Дини переслал письмо Сассетти Галилею, который спустя неделю, 21 мая 1611 г., ответил пространным письмом, явно предназначенным для широкого распространения. Он начинает с того, что у перуджинских профессоров, скорее всего, просто плохая труба, а далее напоминает о повторяемости наблюдений, сделанных разными людьми с помощью различных телескопов. Поэтому никак нельзя допустить, что он, Галилей, был «обманут» трубой или сам сознательно обманывал других. И если бы у него была такая труба, которая могла бы создавать подобные иллюзии, то он ни за какие деньги не расстался бы с таким чудом и готов заплатить десять тысяч скуди, т. е. свое десятимесячное жалование, тому, кто создаст такой инструмент («procuri di fare un tale strumento, perchè io mi obligo di farglielo pagare 10 000 scudi»2).
Строго говоря, аргументы Галилея слабоваты. Тысячи людей из века в век видят, что прямая палка, частично опущенная в воду, кажется изогнутой, и тем не менее, она таковой не является.
Переходя ко второму замечанию своих оппонентов, Галилей писал:
«Что же касается другого возражения, т. е. того, что эти планеты, хотя они и существуют в действительности, но остаются бездейственными ввиду их малости, то я не усматриваю, каким образом это может обратиться против меня, никогда не говорившего ни одного слова об их действенности или об их влиянии (как будет ясно из дальнейшего, здесь Галилей слегка лукавил. — И.Д.); так что, если кто-нибудь считает их лишними, бесполезными и никому не нужными, то пусть они возбуждают процесс против Природы или Бога, а не против меня, ибо я не сотворил ничего и не претендую ни на что большее, кроме доказательств того, что они существуют на небе и обладают собственным вращательным движением вокруг Юпитера. Но если, желая услужить вам и выступая в качестве адвоката Природы, я должен буду сказать что-нибудь по этому поводу, то я скажу, что лично я воздержался бы утверждать, будто Медицейские планеты не оказывают того влияния, которое проявляют другие звезды, и мне кажется, что было бы смелостью, чтобы не сказать дерзостью, с моей стороны, если бы в узкие рамки моего понимания я бы хотел уложить намерения и образ действий Природы. В таком случае, когда в доме его превосходительства маркиза Чези, моего синьора, я видел рисунки 500 индийских растений, я должен был бы или утверждать, что это выдумка, и отрицать, что такие растения на свете существуют, или заявить, что, если уж они существуют, то совершенно излишни и бесполезны, потому что ни я, ни кто-нибудь другой из окружающих не знаем их качеств, свойств и действий. И, конечно, нельзя думать, что в древние, мало просвещенные века Природа воздерживалась бы от того, чтобы производить несметные количества (l'immensa varietà) растений и животных, драгоценных камней, металлов и минералов, наделять животных их органами, мускулами и членами; далее, чтобы она не двигала небесные сферы и вообще не создавала бы своих явлений — и все это на том лишь основании, что тогдашние необразованные люди не знали свойств растений, камней и ископаемых <...> и не изучили движения звезд. По правде говоря, мне кажется, смешно было бы думать, что вещи в Природе начали существовать тогда, когда мы начали их открывать и разуметь. Но если бы разумение людей должно было быть причиной существования вещей, то нужно было бы, или чтобы одни и те же вещи существовали и одновременно не существовали (существовали для тех, кто их знает, и не существовали для тех, кто их не знает), или чтобы разумения небольшого числа людей или даже одного человека было достаточно, чтобы сделать их существующими; но в этом последнем случае достаточно, чтобы один человек уразумел свойства Медицейских планет, чтобы они стали существовать на небе, и следовательно, чтобы другие удовлетворялись этим»3.
По возвращении во Флоренцию Галилей оказался вовлеченным в новые дебаты — на этот раз речь шла о плавающих телах, точнее, о плавающем льде. Эта полемика достаточно детально рассмотрена в литературе4, и потому здесь нет необходимости останавливаться на ней специально. Отмечу только, что спор о плавающих телах (вторая половина 1611 г.) еще более обострил отношения Галилея с Коломбе и другими аристотелианцами и дал толчок к созданию во Флоренции так называемой «голубиной лиги», сильной оппозиционной группировки консерваторов-перипатетиков, настроенной против новых идей в астрономии и в физике.
Другой важный для последующего развития событий эпизод — полемика Галилея с иезуитом Кристофером Шайнером (Chr. Scheiner; 1573–1650), профессором математики в Ингольдштадте, по поводу природы солнечных пятен и приоритета в их открытии. Опять-таки, в силу многоплановой изученности этой истории5, я ограничусь лишь несколькими замечаниями.
Письма о солнечных пятнах (и Шайнера, и Галилея) ходили по рукам с ноября 1611 г. Галилей, полагавший солнечные пятна своего рода «облаками», соприкасавшимися с поверхностью светила6, послал три письма Шайнера и свой ответ на них кардиналу Маффео Барберини, который похвалил ученого за проницательность и убедительность суждений. Однако мнение кардинала разделяли далеко не все.
16 декабря 1611 г. Л. Чиголи пишет Галилею:
«От одного моего друга, очень милого священника, весьма преданного вам, я узнал, что группа лиц, недоброжелательно и завистливо относящихся к талантам и заслугам вашим, собираются и совещаются в доме архиепископа. В озлоблении они стараются решить, нельзя ли нанести вам удар по какому-либо поводу, по вопросу ли о движении Земли или по какому-либо другому. Один из них уговаривал некоего проповедника, чтобы тот объявил с церковной кафедры, будто вы высказываете сумасбродные идеи. Этот отец, распознав здесь злобные намерения, ответил на эти предложения так, как то и подобает доброму христианину и священнослужителю. Я пишу вам об этом, чтобы вы остерегались зависти и недоброжелательства этих злоумышленников, часть которых вы знаете по их писаниям, смешным и невежественным, поэтому вы должны примерно знать, кто эти люди»7.
Информация Чиголи свидетельствовала о консолидации антигалилеевских сил и о необходимости предпринять ответные шаги. Конечно, Галилею была важна поддержка некоторых прелатов и влиятельных лиц, но в первую очередь его тревожила тенденция смещения полемики в область богословия. Поэтому в начале июля 1612 г. он посылает кардиналу Карло Конти (C. Conti; 1555–1615), префекту конгрегации Индекса запрещенных книг, копию своих писем о солнечных пятнах с просьбой высказаться по поводу отношения Церкви к взглядам Аристотеля и к новым астрономическим теориям и открытиям.
Конти ответил следующим письмом от 7 июля 1612 г.:
«Досточтимый и многоуважаемый синьор!
Вопросы, выдвинутые вами в вашей книге, очень интересны и занимательны, а ваши доводы основаны на достаточно прочном фундаменте и достоверных опытах. Однако, как всякая новая вещь, они не встретят недостатка в возражениях, которые, впрочем, — я убежден, — более послужат признанию ваших талантов и утверждению истины.
Вы спрашиваете, благоприятствует ли Святое Писание принципам Аристотеля, касающимся устройства Вселенной. Если вы говорите о неразрушимости неба, на что как будто бы указывает ваше письмо, где вы говорите, что ежедневно открываете на небе новые вещи, то на это я отвечу, что нет никакого сомнения в том, что Священное Писание не благоприятствует Аристотелю (la Scrittura non favorisce ad Aristotele), даже скорее наоборот, ибо общее мнение святых отцов состояло в том, что небо подвержено разрушению. Доказывают ли те вещи, которые появляются на небе, эту разрушимость — это требует долгого рассмотрения, как потому, что благодаря дальности неба от нас трудно что-либо утверждать о нем с достоверностью, без долгих наблюдений, так и потому, что если изменения существуют, то для этого должны существовать определенные причины. Эти изменения должны наблюдаться в строго определенное время и не допускать никаких других объяснений, кроме допущения разрушимости неба, ибо, например, некоторые думают, что можно вполне объяснить появление пятен на Солнце движением звезд, обращающихся вокруг Солнца. Эти доводы и многие другие, я полагаю, были тщательно вами рассмотрены и приняты в соображение. Я ожидаю поэтому от вас более обстоятельного объяснения ваших наблюдений и рассуждений (più longa dechiaratione delle sue osservatione et ragione).
Что же касается движения Земли и Солнца, то может быть речь идет о двух движениях Земли. Одно из них — прямолинейное, происходящее от изменения центра тяжести. Тот, кто утверждал бы существование такого движения, не высказывался бы ни в чем против Священного Писания, потому что это есть движение акцидентальное для Земли, как его именует Лорини в своих комментариях на первую главу Экклезиаста (речь идет о трактате Н. Лорини «Commentarii in Ecclesiasten, ecc. Lugduni sumptibus Horatii Cardon», 1606. P. 27. — И.Д.). Другое движение — круговое. В этом случае небо было бы неподвижным и казалось бы нам движущимся благодаря движению Земли, подобно тому, как мореплавателю кажется, что движется не он, а берег. Таково было мнение пифагорейцев, которому следовали затем Коперник, Кальканьино (Calcagnino) и другие. Оно представляется менее соответствующим Священному Писанию. Если те места, где говорится, что Земля стоит неподвижно и твердо, могут пониматься в смысле вековечности Земли, как указывает Лорини в указанном месте, то в тех местах, где говорится, что Солнце обращается и небеса движутся, Писание не может иметь другого истолкования, если только оно не говорит, сообразуясь с привычным образом понимания народа, но такой способ толкования без большой к тому необходимости не должен применяться (il qual modo d'interpretare, senza gran necessità non si deve ammettere). Тем не менее, Диего Стунига в комментариях на девятую главу Книги Иова, стих 6-й, утверждает, что более соответствует Писанию считать, что Земля движется, но его истолкование не является общепринятым. Вот то, что я сейчас могу найти по этому вопросу. Если бы вы хотели иметь пояснения других мест Писания, уведомите меня и я вам отвечу.
Что же касается тех темных пятен, которые вы наблюдали на Солнце, то я хочу послать вам копию того, что написано в одной малораспространенной книге, где показывается, что это звезды вращаются вокруг Солнца. Благодарю вас за присылку вашего замечательного труда. На сем заканчиваю и сердечно вас приветствую.
Рим, 7 июля 1612 г.
Готовый к услугам кардинал Конти»8.
Однако этот ответ показался Галилею недостаточным, и он пишет кардиналу второе письмо, но получает то же по смыслу, но более короткое и сдержанное послание (от 18 августа 1612 г.)9. Из этой переписки Галилей понял одно — в том, что касается ведущих идей новой астрономии (гелиоцентризм и движение Земли, суточное и годовое), кардинал требовал бесспорных доказательств их физической достоверности.
В это же время Галилей получает письмо из Рима от князя Чези, датированное 21 июля 1612 г., который сообщал об открытии Кеплером эллиптичности планетных орбит.
«Я полагаю вместе с Кеплером, — писал Чези, — что заставлять планеты двигаться по совершенным окружностям — значит ограничивать их движение дорогой, от которой они часто отклоняются. Я признаю, как и вы, что многие орбиты не концентричны Солнцу или Земле, но одни концентричны по отношению к Земле, а другие — к Солнцу и, возможно, все орбиты концентричны Солнцу, если их траектории эллиптичны, как утверждает Кеплер»10.
Оставляя в стороне своеобразие астрономических представлений Чези, замечу только, что Галилей весьма скептически отнесся к позиции Кеплера. Возможно, его раздражали частые обращения последнего к мистико-аллегорическим рассуждениям. Но главная причина состоит, по-видимому, в убежденности Галилея, что в отсутствии фактора, замедляющего перемещение тел, движения планет должны быть совершенными, т. е. круговыми11.
Между тем полемика с Шайнером продолжалась, отягощаясь приоритетными вопросами, что несколько охладило отношение иезуитов к Галилею. И когда он послал рукопись своей работы «Istoria e Dimostrazioni intorno alle Macchie Solari»12 цензорам для получения Imprimatur, то возникли некоторые сложности.
Возражение цензоров вызвало утверждение о том, что понятие «несокрушимости» неба является «не только неистинным, но и ошибочным и противным неоспоримым истинам Священного Писания», а также ссылка на Мат. 11:12 («От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его»13). Цензор усмотрел в обращении к библейскому тексту посягательство астрономов на область теологии. Пришлось вместо цитаты из Библии (цензор требовал убрать все прямые ссылки на Священное Писание) дать парафразу: «Уже давно человеческие умы посягали на небеса и наиболее отважные стремились завоевать их»14. Это цензора устроило. А вот с приведенной выше оценкой Галилеем идеи «несокрушимости» (неизменности) неба было труднее. Автор «Писем» предложил заменить критику этой идеи похвалой своей собственной позиции, которая «наиболее согласна с неоспоримыми истинами Священного Писания», и отметил изобретательность и тонкость мысли своих предшественников-аристотелианцев, когда они умудрялись согласовывать взгляды Стагирита с противоречащими этим взглядам фрагментами Библии путем выхода за рамки буквального истолкования библейского текста. Цензор намек понял (мол, если нашли способ согласовать Аристотеля с Библией, то почему бы тем же приемом не согласовать Библию с новыми астрономическими открытиями) и потребовал новой редакции. В итоге Галилей вынужден был убрать все ссылки на Священное Писание.
Таким образом, с одной стороны, Церковь упорно отказывала мирянам в праве толковать Библию, а с другой — Галилей столь же упорно доказывал, что его научные идеи «боговдохновенны», а потому взгляды его противников «противоречат Писанию».
Здесь уместно привести справедливые замечания некоторых историков о Галилее. Я ограничусь двумя взаимодополняющими оценками: «Расхожее представление о Галилее как мученике свободомыслия является чрезмерным упрощением. То, что его взгляды отличались от взглядов большинства представителей академического истеблишмента, еще не делает его либералом. Галилей надеялся (cherished the hope), что Церковь поддержит его идеи, и полагал, как и многие его современники, что просвещенное папство станет эффективным инструментом научного прогресса. Но он, по-видимому, так и не понял, что католическая Церковь, атакуемая протестантами за пренебрежительное отношение к Библии, будет вынуждена в качестве самозащиты ужесточить свою позицию. И все, что представлялось противоречащим Св. Писанию, должно было истолковываться с величайшей осторожностью»15.
И вторая, куда более суровая характеристика позиции Галилея, данная автором замечательной книги «Galileo's Mistake»:
«Ошибка [Галилея] состояла в его убежденности, будто Природа является сама себе интерпретатором. Это не так. <...>. Неправильно утверждать, как утверждал Галилей, что существует одно-единственное объяснение природных явлений, которое может быть получено с помощью наблюдений и рассуждений и которое все другие объяснения делает ложными. Ученые не открывают законы Природы, они их изобретают (scientists do not discover laws of nature; they invent them)»16.
Далее у меня ещё будет возможность обсудить методологические позиции Галилея, а сейчас вернемся к событиям начала 1610-х гг.
1 (или 2) ноября 1612 г. 67-летний доминиканец, отец Никколо Лорини (N. Lorini; 1544—?), приор монастыря Санта Мария Новелла во Флоренции17, в частной беседе с группой флорентийских интеллектуалов весьма резко выразился по поводу теории Коперника, указав на её противоречие Священному Писанию. По-видимому, в беседе было упомянуто имя Галилея. Поскольку все слухи, сплетни и мнения распространялись на родине Ренессанса с быстротой молнии, то Галилей, находившийся в то время под Флоренцией на вилле Сальвиати, вскоре узнал о высказываниях Лорини и тут же отписал доминикацу письмо протеста (впоследствии утерянное). 5 ноября Лорини пишет Галилею:
«Вы можете легко удостовериться, что подозрение, будто я в утро Дня Всех Святых вступил в философский спор и высказывался против кого-либо, совершенно ложны и безосновательны. Эти подозрения не просто ложны, они совершенно невероятны, поскольку я не только не преступал границ области моего предмета (церковная история. — И.Д.), но даже и не желал вмешиваться в подобные дела. Я не говорил о них ни с синьором Пандольфини, ни с кем-либо еще. Я крайне недоумеваю, откуда такое подозрение могло возникнуть, когда об этом у меня и мысли не было. Верно лишь то, что, отнюдь не собираясь вступать в спор, я, не желая стоять как чурбан, когда другие начали разговор, сказал несколько слов просто так, чтобы подать признаки жизни (ma per non parere une ceppo morto, sendo da altri cominciato il ragionamento, ho detto due parole per esser vivo). Я сказал тогда — и повторяю это сейчас, — что известное мнение некоего Иперника, или как там его зовут, кажется мне противоречащим Божественному Писанию. Но меня это мало интересует, так как я уверен — наша знать настроена безукоризненно католически и Академия дель Пиано уже много лет назад разгромлена.
Я желал бы быть полезным и служить вам как своему патрону. Если же вы не имеете ко мне никаких поручений, то позвольте пожелать вам счастливого времяпрепровождения и бодрости духа.
Монастырь Св. Марка, 5 ноября 1612 г.
Глубоко вас почитающий раб от всего сердца
Брат Никколло Лорини»18.
Галилей принял объяснения доминиканца — у него просто не было ни формальных, ни фактических оснований их не принимать, — но в письме Чези от 5 января 1613 г., вспоминая этот эпизод, заметил: «невежественный болтун (un goffo dicitore), взявшийся оспаривать движение Земли, не знаком с основателем этого учения и даже именует последнего Иперником. Теперь вы можете видеть, Ваше Высокопреподобие, каким испытаниям — и с чьей стороны! — подвергается бедная философия»19.
Фактически к началу 1613 г. предпосылки для перенесения центра тяжести полемики по поводу коперниканства на почву богословия сложились, и нужен был лишь толчок, чтобы вынудить Галилея начать теологические дебаты. Удобный случай представился в конце 1613 г.
В начале ноября этого года Бенедетто Кастелли (B. Castelli; 15791643), бенедиктинский монах из Монтекассино, занявший по протекции Галилея место профессора математики в Пизанском университете, прибыл к месту своей новой службы.
«В воскресенье вечером мы прибыли живыми и здоровыми, хотя немного промокшими, в Пизу, — писал Кастелли. — Тотчас же я отправился засвидетельствовать свое почтение монсиньору Артуро (д'Эльчи. — И.Д.)20. Он встретил меня изъявлением всяческих чувств, но с самого начала беседы сказал, что я не должен касаться учения о движении Земли и т. д. На это я ответил ему в таких выражениях: "Те указания, которые я получаю от вас в качестве предписания, были мне в качестве совета даны синьором Галилео, моим учителем, с которым я весьма считаюсь, тем более что я знаю, что сам он за двадцать четыре года своей профессуры никогда не касался на лекциях этого вопроса". На это Его Превосходительство ответил мне, что иногда в качестве отступления я мог бы затронуть подобные вопросы, говоря о них как о допущениях. Я добавил, что я воздержусь и от этого, если только Его Превосходительство не даст мне предписания поступать иначе»21.
Месяц спустя, 10 декабря 1613 г., Кастелли сообщает Галилею о кампании, ведущейся против Galileisti в Пизе, а также, описывая своё пребывание в великогерцогском дворце22, — куда он был приглашен для обычного в таких случаях once-over, — упоминает, как за завтраком каноник Беллавити поочередно защищал то коперниканскую (вечером), то птолемееву (утром) картину мира (речь шла о так называемом disputationis gratia, когда дозволялось условно защищать любой, даже заведомо еретический тезис)23.
Спустя четыре дня, 14 декабря 1613 г., Кастелли пишет Галилею о происшествии на завтраке у Великого герцога, на котором, кроме самого Козимо II, присутствовали его супруга Мария Магдалина, эрцгерцогиня Австрийская (?–1633), вдовствующая герцогиня (мать Козимо) Кристина Лотарингская (1565–1637) и, разумеется, многочисленные придворные:
«В четверг утром я присутствовал за столом Государя и на вопросы Великого герцога о положении дел в университете отвечал очень обстоятельно. Он выказал себя весьма удовлетворенным. На его вопрос, есть ли у меня зрительная труба, я ответил утвердительно, а вслед за тем стал рассказывать о своих наблюдениях Медицейских планет, произведенных мною прошлой ночью. Вдовствующая государыня пожелала узнать их расположение и затем стала говорить, что они действительно должны существовать и не являются обманом инструмента. Об этом же Ее Светлость задала вопрос и синьору Боскалья24, который ответил, что существование Медицейских планет, действительно, нельзя отрицать. Пользуясь этим случаем, я добавил все то, что я знал и мог сказать об удивительных ваших открытиях и, в частности, об установлении закона движения этих планет. За столом присутствовал и синьор Антонио25. Лицо его выражало такую радость и торжество, что было ясно — он доволен моим выступлением. Наконец, после многих разговоров, протекающих весьма пышно, присутствующие встали из-за стола и я удалился. Однако едва я вышел из дворца, как меня догнал камердинер Вдовствующей герцогини и пригласил вернуться. Но прежде чем я расскажу о последующем, должен сообщить, что за столом Боскалья все время что-то нашептывал на ухо Вдовствующей государыне. Он признавал истинными все новые явления на небе, открытые вами, но говорил, что лишь движение Земли невероятно и не может существовать. И особенно напирал на то, что Св. Писание очевидным образом противостоит этому мнению.
Теперь возвращаюсь к моему рассказу. Итак, вхожу я в покои Ее Светлости, где находились Великий герцог, Вдовствующая государыня и Великая герцогиня, а также синьоры Антонио, Паоло Джордано26 и Боскалья. Вдовствующая государыня, задав мне несколько вопросов, выразила несогласие со мной, опираясь при этом на Святое Писание27. Тогда я, после приличествующих возражений, выступил как богослов и с такой уверенностью и торжественностью, что вы были бы мною очень довольны, если бы могли меня слышать. На помощь мне пришел синьор Антонио, и это меня воодушевило. И хотя одного лишь присутствия Их Светлостей было достаточно, чтобы меня устрашить, я, однако, с честью выполнил свою задачу. Великий герцог и герцогиня были на моей стороне, а синьор Паоло Джордано очень кстати выступил в мою защиту с цитатой из Святого Писания. Только одна Вдовствующая герцогиня все еще мне возражала, да, и то, я думаю, лишь для того, чтобы меня послушать. Синьор же Боскалья за все время не сказал ни слова.
Все подробности этого спора, продолжавшегося добрых два часа, вам расскажет синьор Никколо Арригетти. Считаю своей обязанностью сообщить вам только то, что, когда я, войдя в покои герцогини, стал восхвалять вас, синьор Антонио начал также расточать вам похвалы так горячо, как только можно себе вообразить. Когда же я уходил, то он, с поистине княжеской добротой засвидетельствовал мне чрезвычайное расположение; более того, вчера он поручил мне, чтобы я уведомил вас об этом успехе и о том, что он говорил. Он также сказал мне следующие слова: "Напиши синьору Галилею, что я познакомился с тобой, и сообщи ему, что я говорил в салоне Ее Светлости". На это я ответил, что непременно доведу до вашего сведения об этом моем счастливом визите, при котором я имел честь стать слугой Его Сиятельства. Синьор Паоло также оказал мне всяческое расположение, так что дела мои (да будет хвала благословенному Господу, который содействует мне) идут так хорошо, как только можно желать.
Не имея больше времени, целую вам руки и молю небо ниспослать вам всяческих благ.
Пиза, 14 декабря 1613 г.
Ваш преданнейший слуга и ученик
Бенедетто Кастелли»28.
Однако Галилея это развеселое письмо Кастелли не только не обрадовало, но сильно встревожило. Ученые диспуты служили непременным элементом придворной, салонной и академической жизни. Причем при тосканском дворе диспуты с участием известных virtuosi преследовали две цели — образовательную (в первую очередь для наследников престола) и интеллектуально-развлекательную (для гостей и семьи герцога). Часто полемика возникала за столом спонтанно, как это, по-видимому, имело место в описанном Кастелли случае29. Вместе с тем, подобные споры представляли собой не просто безобидное умственное увеселение. Как отметил М. Бьяджиоли, «придворные диспуты были опасными играми. Участвуя в них, virtuoso мог либо содействовать, либо серьезно повредить своей карьере»30. Галилей сразу ясно осознал грозящую ему и его сторонникам опасность.
Во-первых, он понял, что избежать перемещения полемики в теологическую плоскость не удастся, и это, учитывая реалии эпохи Контрреформации и тридентские решения31, не вселяло оптимизма.
Во-вторых, дискуссия постепенно выходила за рамки узкого круга специалистов32, а это было чревато самыми неожиданными поворотами в ходе событий.
В-третьих, действия противников Галилея угрожали его положению при дворе. И кроме того, как заметил де Сантильяна, «прямая и честная бенедиктинская душа Кастелли была преисполнена желанием не позволить группе шантажистов скомпрометировать Церковь ради их своекорыстных целей. И Галилей разделял эту позицию»33.
21 декабря 1613 г. Галилей пишет свое знаменитое письмо Кастелли34:
«Вчера я встретился с синьором Никколо Арригетти, который рассказал мне о вашем священстве. Его рассказ доставил мне огромное удовольствие. Я узнал из него то, в чем и заранее не сомневался, а именно, что вы произвели в университете очень хорошее впечатление как на возглавляющих его лиц, так и на лекторов и на учащихся всех наций; одобрение их не увеличило при этом числа ваших соперников, что обычно случается с людьми, проявляющими себя таким же, как вы, образом; напротив, в числе соперников ваших остались очень немногие, и эти немногие должны будут утихнуть, если они не хотят, чтобы соперничество, которое иногда заслуживает названия добродетели, выродилось в поступки, достойные порицания и вредящие тем, от кого они исходят, больше, чем кому-либо другому. Но верхом удовольствия для меня было услышать сообщение о беседе, которую вы имели возможность, благодаря благоволению Их Светлостей, вести за их столом и продолжить затем в палатах Светлейшей вдовствующей герцогини, в присутствии самого Великого герцога и Светлейшей Великой герцогини, а также досточтимых синьоров Антонио, Паоло Джордано и некоторых господ философов. Какой же большей благосклонности можно желать, если Его Светлость сам находит удовольствие в том, чтобы разговаривать с вами, высказывать свои сомнения, выслушивать ваши разъяснения и в конце концов остается удовлетворенным ответами вашего священства?
Сообщенные мне синьором Арригетти сведения о некоторых высказанных Вами положениях дали мне повод обратиться к рассмотрению ряда вопросов, связанных с привлечением Священного Писания в спорах естественнонаучного содержания, а также некоторых других. В частности, я размышлял о том месте книги Иисуса [Навина], которое было приведено в опровержение движения Земли и неподвижности Солнца герцогиней-матерью и к которому присоединилась Светлейшая Великая герцогиня.
Что касается первого из вопросов вдовствующей герцогини, то мне кажется, что он был поставлен ею мудро и что ваше священство мудро согласились с тем, что Священное Писание никогда не может вводить в заблуждение или заблуждаться (non poter mai la Scrittura Sacra mentire o errare) и что его предписания обладают абсолютной и ненарушимой истинностью. Я только хотел бы добавить, что, хотя не может заблуждаться Писание, но заблуждаться могут иной раз некоторые его истолкователи и изъяснители (se bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de'suoi interpreti ed espositori). Ошибки эти могут быть различными, и одна из них является очень серьезной и очень распространенной; именно, ошибочно было бы, если б мы захотели держаться буквального смысла слов (puro significato delle parole), ибо таким образом получились бы не только различные противоречия, но и тяжкие ереси и даже богохульства, ибо тогда пришлось бы с необходимостью предположить, что Бог имеет руки, ноги, уши, что Он подвержен человеческим страстям, как, например, гневу, раскаянию, ненависти; что Он также иногда забывает прошлое и не знает будущего.
Итак, в Писании, правда, содержатся многие предложения, которые, взятые в буквальном смысле слова, кажутся ложными, но они выражены таким образом для того, чтобы приспособиться к невосприимчивости простонародья (all'incapacità del vulgo). Поэтому для тех немногих, которые достойны подняться над чернью, ученые истолкователи должны разъяснять истинный смысл этих слов и приводить основания, по которым этот смысл преподносится именно в таких словах.
Таким образом, если Писание, как мы выяснили, во многих местах не только допускает, но и с необходимостью требует истолкования, отличного от кажущегося смысла его слов, то мне представляется, что в научных спорах оно должно привлекаться в последнюю очередь; ибо от слова Божия произошли и Священное Писание, и Природа, первое как дар Святого Духа, а вторая во исполнение предначертаний Господа; но, как мы приняли, в Писании, чтобы приноровиться к пониманию большинства людей, высказываются многие положения, несогласные с истиной, если судить по внешности и брать буквально его слова, тогда как Природа, напротив, непреклонна и неизменна, и совершенно не заботится о том, будут или не будут ее скрытые основы и образ действия доступны пониманию людей, так что она никогда не преступает пределы законов, на нее наложенных. Поэтому я полагаю, что, поскольку речь идет о явлениях Природы, которые непосредственно воспринимаются нашими чувствами или о которых мы умозаключаем при помощи неопровержимых (necessarie) доказательств, нас нисколько не должны повергать в сомнение тексты Писания, слова которого имеют видимость иного смысла, ибо ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление Природы (non ogni detto [parole] della Scrittura è legato a obblighi così severi com'ogni effeto di natura). И если только с целью приноровиться к пониманию людей грубых и необразованных Священное Писание не воздержалось от того, чтобы затенить35 свои важнейшие догмы, приписывая даже Богу свойства, весьма далекие и противоположные Его сущности, то кто же станет настаивать, что, оставив без внимания эту цель, Писание, когда речь идет только попутно (incidentemente) о Земле, Солнце или другом творении, предпочитает со всей строгостью придерживаться ограниченного и узкого значения слов? В особенности, как это можно утверждать в тех случаях, когда об этих творениях рассказывают вещи, не имеющие прямого отношения к главной цели Св. Писания, и даже тогда, когда прямое и буквальное их высказывание могло бы повредить их основной цели, затруднив простонародью возможность постигнуть те догматы, которые направлены к спасению души.
Если же это так и если, с другой стороны, две истины никогда не могут друг другу противоречить, то обязанностью мудрого истолкователя является приложить труд к тому, чтобы найти истинный смысл текстов Писания, согласный с теми выводами науки о Природе, которые стали достоверными благодаря опыту или благодаря неопровержимым доказательствам. Напротив, если, как я уже сказал, Писание, хотя оно и даровано Святым Духом, по приведенным мной основаниям все же во многих местах допускает толкования, удаляющиеся от буквальных его выражений, и если далее мы не можем с уверенностью утверждать, что все толкователи Писания говорят по божественному вдохновению, то, мне кажется, разумно было бы никому не позволить пользоваться цитатами из Священного Писания таким образом, чтобы с их помощью вменить в обязанность считать истинными какие-либо утверждения естественнонаучного содержания, несостоятельность которых может быть неопровержимо доказана опытом и рассуждениями, обладающими силой необходимости и доказательности. Кто захочет поставить границы человеческому гению? Кто захочет утверждать, что нам известно уже все, что принадлежит к миру познаваемого? И потому к числу догматов, имеющих целью спасение души и утверждение веры, прочности которых не может грозить никакая опасность со стороны какого бы то ни было учения, если оно истинно и плодотворно, к числу этих догматов было бы разумнее всего не прибавлять других без необходимости к тому. А если так, то сколь же более неправильным было бы добавлять их по требованию тех лиц, которые, не говоря уж о том, что мы не знаем, говорят ли они по божественному вдохновению, совершенно лишены, как это легко видеть, тех знаний, которые необходимы, я уж не говорю — для того, чтобы опровергать, но хотя бы для того, чтобы понимать те доказательства, которыми пользуются точные науки для подтверждения тех или иных своих выводов.
Мне представляется, что Священное Писание стремится своим авторитетом внушить людям только те догматы и положения, которые необходимы для спасения их душ; а так как сила Его превосходит силу человеческого рассудка, то заставить уверовать в эти догматы не может никакая другая наука, и здесь нет никакого иного источника, кроме исходящего из самого Св. Писания. Но что Бог, даровавший нам чувства, рассудок и разум, пожелал, отстраняя их, сообщать нам иными средствами те сведения, которые мы могли бы приобрести при их помощи, этому, я думаю, никак нельзя верить; особенно это относится к тем наукам, лишь малая часть которых, и притом среди вещей совершенно иного рода, содержится в Писании. Такой наукой является как раз астрономия, о которой в Писании сказано так мало, что даже не перечислены все планеты. Если бы Моисей (Però se i primi scrittori sacri) имел намерение преподать народу законы расположения и движения небесных тел (di persuader al popolo le disposizioni e movimenti de'corpi celesti), он не сказал бы об этом так немного, почти ничего по сравнению с бесконечным количеством тех прекраснейших и чудеснейших истин, которые содержатся в этой науке.
Итак, Вы видите, ваше Преподобие, как неправильно поступают те, кто в естественнонаучных спорах, не имеющих прямого отношения к вопросам веры, в качестве главного довода приводят тексты Священного Писания, часто, сверх того, плохо ими понимаемые. Но если такие люди на самом деле считают, что они правильно понимают какое-либо выражение Писания, и потому считают, что они обладают абсолютной истиной в вопросе, о котором они намерены спорить, то пусть они скажут чистосердечно, считают ли они, что в естественнонаучном споре тот, кто защищает истину, имеет большее преимущество перед тем, кто защищает ложное положение. Они, я знаю, ответят мне, что это так и что тот, кто защищает истину, будет располагать тысячью фактов и тысячью доказательств в свою пользу, противник же его не будет иметь ничего, кроме софизмов, паралогизмов и ошибочных суждений. Но если они, не выходя за пределы естественнонаучных понятий и не пользуясь никаким другим оружием, кроме философского, в состоянии одолеть своих противников, то зачем же, вступая в схватку, они тотчас же берутся за оружие непреодолимое и страшное (un'arme inevitabile e tremenda), один взгляд на которое устрашает любого самого бдительного и испытанного бойца? Но, сказать правду, я думаю, что устрашены они сами и что, чувствуя себя бессильными противостоять нападению противника, они пытаются изыскать средство, чтобы не позволить ему приблизиться к себе. А так как, как я уже сказал, тот, кто защищает правое дело, имеет перед своим противником огромное преимущество, и так как невозможно, чтобы две истины друг другу противоречили (e perchè è impossibile che due verità si contrariano), то мы не должны страшиться нападений, откуда бы они ни исходили, ибо и мы имеем возможность говорить и быть выслушанными сведущими особами, отнюдь не уязвленными желанием поставить на первое место свои страсти и интересы.
В качестве подтверждения сказанного я рассмотрю сейчас то место из книги Иисуса [Навина], три объяснения которого вы предложили Их Светлостям. Я выбираю третье из них, которое вы предложили им как мое собственное объяснение, каковым оно в действительности и является. Я добавлю к нему далее некоторые соображения, которые, мне кажется, я вам еще не сообщал.
Итак, положим, сделав пока уступку противнику, что слова Св. Писания нужно понимать в прямом смысле (nel senso appunto ch'elle suonano), что Бог, внимая мольбе Иисуса, остановил Солнце и продлил день, что и дало возможность Иисусу одержать победу. Я требую, однако, чтобы этим соглашением мог пользоваться и я, т. е. чтобы противник не считал, что он меня им связал, но за собой сохранил свободу изменять значение слов Писания. Я утверждаю тогда, что это место доказывает ложность и невозможность системы мира Аристотеля и Птолемея и, напротив, прекрасно согласуется с системой Коперника.
Во-первых, я спрашиваю противника: знает ли он, сколько движений имеет Солнце? Если он это знает, то он должен ответить, что Солнце имеет два движения — годичное с запада на восток и суточное — с востока на запад.
Во-вторых, я спрашиваю: принадлежат ли оба эти движения, столь различные между собой и как бы противоположные друг другу, Солнцу, и являются ли оба его свойствами в равной мере? Он должен ответить, что нет, но что одно только из этих движений поистине принадлежит самому Солнцу — это движение годичное, другое же принадлежит не ему, а наивысшему небу или перводвигателю, который увлекает за собой (rapisce seco) Солнце и другие планеты вместе со звездной сферой, заставляя их совершать в двадцать четыре часа обращение вокруг Земли в направлении, как я уже сказал, как бы противоположном их естественному и собственному движению.
Я задаю теперь третий вопрос. Я спрашиваю: какое же из этих двух движений Солнца порождает день и ночь? Он должен будет ответить, что день и ночь порождаются движением перводвигателя; от собственного же движения Солнца зависит не смена дня и ночи, но смена различных времен года.
Но если день порождается движением не Солнца, а перводвигателя, то кому же не ясно, что для того, чтобы удлинить день, нужно остановить перводвигатель, а не Солнце? И найдется ли человек, знакомый хотя бы с самыми лишь начатками астрономии, который не признал бы, что если бы Господь наш остановил движение Солнца, то вместо того, чтобы удлинить день, он его сделал бы более коротким? Ибо, так как движение Солнца противоположно по направлению суточному обращению, то чем скорее Солнце двигалось бы к востоку, тем более казалось бы замедленным суточное его движение к западу; если же движение Солнца замедлилось бы или вовсе прекратилось, то тем скорее оно склонилось бы к закату. Такое явление мы как раз и наблюдаем у Луны, которая свое суточное обращение совершает настолько медленнее Солнца, насколько ее собственное движение быстрее собственного движения Солнца. Если, таким образом, совершенно невозможно в системе (nella costituzion) Аристотеля и Птолемея остановить Солнце и в то же время продлить день, что, однако, случилось, как утверждает Св. Писание, то либо нужно признать, что движение происходит не так, как хочет того Птолемей, либо нужно изменить смысл слов Писания и сказать, что когда Оно говорит, что Бог остановил Солнце, то Оно хочет сказать, что Бог остановил перводвигатель, но что, приспособляясь к пониманию тех, которым трудно представить себе, как совершается восход и заход Солнца, Оно говорит противоположное тому, что Оно сказало бы, если бы обращалось к людям сведущим (a uomini sensati). К этому присоединяется и другое соображение — совершенно невероятно, чтобы Господь остановил только одно Солнце, дозволив в то же время продолжать движение всем остальным сферам, ибо тогда Он без всякой необходимости изменил бы или расстроил весь миропорядок (senza necessità nessuna avrebbe alterato e permutato tutto l'ordine), расположение всех звезд по отношению к Солнцу и сильно нарушил бы ход всех явлений природы. Напротив, Он, вероятно, остановил бы всю систему небесных сфер, которые по истечении срока покоя, Им предписанного, могли бы возобновить свое движение, в котором не произошло бы никаких нарушений или изменений. Но так как мы уже согласились, что смысл слов Писания не должен подвергаться изменению, то необходимо прибегнуть к помощи другой системы устройства частей мира и посмотреть, согласуется ли она с буквальным смыслом слов Св. Писания прямо и беспрепятственно; и тогда увидим, что это имеет место в действительности.
В самом деле, как я обнаружил и неопровержимо доказал, Солнце вращается вокруг себя, делая свой полный оборот примерно в течение лунного месяца; таким же образом происходят обращения и других небесных тел. Далее, с большой вероятностью и с большим основанием можно полагать, что Солнце, как величайшее орудие Природы (come strumente e ministro massimo della natura), являющееся как бы сердцем мира, сообщает всем планетам не только свет, который они излучают затем вокруг себя, но также и движение. Если теперь, согласно с учением Коперника, мы припишем Земле в первую очередь суточное обращение, то кому же не станет ясно, что для того, чтобы остановить всю систему, не нарушая дальнейшего взаимного обращения планет, но лишь увеличив продолжительность дневного освещения, достаточно будет остановить Солнце, как и гласят слова Святого Завета. Вот каким образом, не внося никакого беспорядка в расположение частей мира и не изменяя слов Писания, можно представить себе, как, остановив Солнце, Господь продлил день.
Я написал гораздо больше, чем позволяет мне мое болезненное состояние, поэтому заканчиваю. Прошу принять заверение в готовности к услугам и целую ваши руки, моля Господа послать вам радостную встречу наступающих праздников и всяческого счастья.
Флоренция, 21 декабря 1613 г.
Вашего Преподобия почтительнейший и преданнейший слуга
Галилео Галилей»36.
Однако теологам все эти остроумные рассуждения Галилея представлялись малоубедительными. Их контраргументы могли сводиться (и сводились, как это будет видно из приводимого далее письма кардинала Беллармино Фоскарини от 12 апреля 1615 г.) к следующему: возможно, буквалистское истолкование библейского текста и наивно, но это все же текст Св. Духа, а не спекулятивные утверждения Галилея, в риторике которого никаких доводов, «обладающих силой необходимости и доказательности» не просматривается. Да, «две истины никогда не могут друг другу противоречить», но пока-то в наличии только одна — Св. Писание, тогда как утверждение, будто движение Солнца по небосводу — не более, чем иллюзия, еще нельзя считать «достоверным в силу опыта и <...> неопровержимых доказательств». Синьор Галилей явно переоценил убедительность своих аргументов, и в этом слабость его позиции. Ведь что, собственно, он хотел сказать в своем письме Кастелли? Что теория Птолемея противоречит буквальному смыслу Писания, а потому следует принять недоказанную теорию Коперника, которая тоже противоречит буквальному смыслу священного текста; к тому же, чтобы свести концы с концами, предлагается принять также некое аллегорическое толкование ряда фрагментов Библии. А чего ради?
Но этого мало. Теологи углядели в рассуждениях Галилея по поводу толкования Св. Писания контуры протестантской позиции в сфере библейской экзегезы37, допускавшей известную свободу индивидуального толкования священного текста, против чего было направлено специальное постановление Тридентского собора от 8 апреля 1546 г. (см. выше).
Посылая Кастелли столь важное послание, Галилей, конечно, понимал, что оно будет ходить по рукам во множестве копий. Так и случилось, причем одна из копий даже пересекла Ла-Манш и попала в руки Френсиса Бэкона38.
14 декабря 1613 г., в тот же день, когда Кастелли отправил Галилею письмо с описанием пизанского диспута, генерал ордена иезуитов Клаудио Аквавива (C. Aquaviva; 1543–1615)39 разослал послание, в котором настаивал на необходимости излагать натурфилософию в иезуитских школах по Аристотелю. Предписание Аквавивы возымело действие. 20 июня 1614 г. римский друг Галилея Джованни Барди (G. Bardi; ок. 1590—?) сообщает, что отец Гринбергер, сменивший в Collegio Romano отца Клавиуса, скончавшегося 6 февраля 1612 г., сказал, что отныне он обязан следовать Аристотелю, хотя сам он понимает, что тот во многом ошибался40.
Все это происходило как раз в то время, когда Галилей все более убеждался в истинности коперниканской космологии, о чем он писал 12 марта 1614 г. Джованни Балиани (G.B. Baliani; 1582–1666): «Что касается мнения Коперника, то я действительно считаю его достоверным, и не только на основании наблюдений Венеры, солнечных пятен и Медицейских звезд, но и по многим иным причинам, а также на основании многого того, что мне удалось открыть и что представляется мне решающим (concludenti) [аргументом]»41.
Письмо это представляет интерес и с другой точки зрения — в нем Галилей упоминает (впрочем, весьма глухо) о своем несогласии с космологической моделью Тихо Браге42. Модель эта редко упоминалась Галилеем43, иногда (особенно до 1619 г.) он строил свои рассуждения так, как будто ее и вовсе не существовало. М. Бьяджиоли объясняет это тем, что для Галилея «система Тихо вовсе не была системой», а представляла собой «некий кусочек астрономической мозаики, которая не шла ни в какое сравнение с тем, что сделали Птолемей или Коперник»44, а потому главная забота Галилея (особенно после увещания 1616 г.) состояла в том, чтобы гипотеза Тихо «не стала канонической для астрономов-католиков»45. И более всего тосканского ученого беспокоило, как бы Тихо не стал parton saint астрономов-иезуитов.
К концу 1614 г., после некоторого затишья, противники Галилея заметно оживились. Самое драматичное событие произошло в четвертое воскресенье рождественского поста — 21 декабря 1614 г., ровно год спустя после написания Галилеем письма Кастелли.
В этот день доминиканский монах Томмазо Каччини (T. Caccini; 1574–1648), выступая с проповедью в Санта Мария Новелла, — главной церкви Флоренции — публично обвинил Галилея, его сторонников и вообще всех математиков в ереси. По одной из версий происшедшего, Каччини начал словами из Деяний Св. Апостолов: «Мужи Галилейские [viri Galilei]! Что вы стоите и смотрите на небо?» (Деян. 1:11). И далее падре стал распространяться о том, что математика — наука дьявольская и все математики должны быть изгнаны за пределы христианского мира46. В качестве же главного аргумента против учения Коперника Каччини приводил уже цитированный выше фрагмент книги Иисуса Навина.
Здесь необходимо сделать пояснение. Разумеется, никаких протокольных записей проповеди доминиканца не велось, и информацию о том, что именно было им сказано, можно почерпнуть только из переписки Галилея, точнее, из ответов его корреспондентов, поскольку письма самого Галилея с пересказом проповеди Каччини не сохранились. Но в любом случае поступок доминиканца имел скандальный характер, как и сам фра Томмазо, который ранее уже получил взыскание от болонского архиепископа за несдержанность.
Обращает на себя внимание выбор Каччини адресатов его критики — это не философы, не натурфилософы, но именно математики. (Напомню, что официальный титул Галилея — Filosofo e Matematico Primario del Granduca di Toscana). Конечно, астрономия относилась к числу математических наук, но, полагаю, расчет Каччини состоял в другом: он знал, что в представлении его слушателей придворный математик — это прежде всего составитель гороскопов, астролог-«звездочёт»47. Астрологическая же практика (равно как и теория) официальной Церковью, мягко говоря, не поощрялась, и доминиканцы, с особым рвением исполнявшие взятую ими на себя роль «domini canes», нещадно преследовали всякую магию, астрологию и прочее. Тонкие астрономические материи прихожанам вряд ли были понятны, а вот обвинение в колдовстве или в оккультизме неясностей у паствы не вызывало.
1. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 103.
2. Ibid. Vol. XI. P. 105–116; P. 107.
3. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 107–108.
4. Drake S. The Dispute Over Bodies in Water // Drake S. Galileo Studies. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1970. P. 159–176; Shea W.R. Galileo's Discourse on Floating Bodies: Archimedian and Aristotelian Elements // Actes du XII-e Congrès International d'Histoire des Sciences. (Paris, 1968). Paris, 1971. T. IV. P. 149–153; Shea W.R. Galileo's Intellectual Revolution. New York: Science History Publications, 1972. P. 14–48; Galluzzi P. Momento. Rome: Edizioni dell' Ateneo, 1979. P. 227–246; Biagioli M. Galileo Courtier... P. 170–206; Фантоли А. Галилей... С. 107–109.
5. Smith A.M. Galileo's Proof for the Earth's Motion from the Movement of Sunspots // Isis. 1985. Vol. 76. P. 534–551, Hutchison K. Sunspots, Galileo, and the Orbit of the Earth // Isis. 1990. Vol. 81. P. 68–74; Feldhay R. Producing Sunspots on an Iron Pan: Galileo's Scientific Discourse // Science, Reason, and Rhetoric / Ed. Henry Krips, J.E. McGuire, Trevor Melia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press; Konstanz: Universitätsverlag, 1995; Gorman M.J. A Matter of Faith? Christoph Scheiner, Jesuit Censorship, and the Trial of Galileo // Perspectives on Science. 1996. Vol. 4. № 3. P. 283–320; Biagioli M. Galileo Countier... P. 63–77; Topper D. Galileo, Sunspots, and the Motions of the Earth: Redux // Isis, 1999. Vol. 90. P. 757–767; Mueller P.R. An unblemished success: Galileo's sunspot argument in the Dialogue // Journal for the History of Astronomy, 2000. Vol. 31. P. 279–299.
6. По мнению Шайнера, солнечные пятна — это неизвестные ранее планеты, «блуждающие» вокруг Солнца.
7. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 241–242. Речь идет о флорентийском архиепископе Алессандро Марцимедичи (A. Marzi Medici), который лично не был настроен против Галилея.
8. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 354–355.
9. Ibid. Vol. XI. P. 376.
10. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 366.
11. Вопреки широко распространенному мнению, Галилей вовсе не порывал с теорией импетуса. Он исходил из того, что всякое движение является «вынужденным», и эта «вынужденность» обусловлена действием либо внешнего, либо внутреннего фактора. Подр. см. далее.
12. Традиционно ее заглавие переводят как «Письма о солнечных пятнах» (в англоязычной литературе — Letters on the Sunspots).
13. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 138–139; 74.
14. Ibid. P. 93.
15. Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... P. 50–51.
16. Rowland W. Galileo's Mistake... P. 137.
17. Лорини пользовался известностью в клерикальных кругах (его приглашали выступить с проповедью в Ватикане), а также большим уважением Великого герцога Тосканского Козимо II и особенно его матери, набожной Великой герцогини Кристины Лотарингской (Кристины ди Лорена) и его жены Марии Магдалины Австрийской.
18. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 427.
19. Ibid. P. 461.
20. Артуро д'Эльчи (A. Pannocchieschi conte d'Elci; 1564–1614) — попечитель Пизанского университета, убежденный перипатетик; в мае 1612 г. выступил с полемическим произведением против Галилея в защиту аристотелева учения о плавающих телах. Несмотря на псевдоним «неизвестного академика», под которым он выпустил свою книгу, авторство его не было ни для кого секретом. — И.А.
21. Galilei G. Le Opere. Vol. IX. P. 589.
22. На зиму двор отправлялся, по обыкновению, в Пизу.
23. Ibid. P. 604.
24. Козимо Боскалья (C. Boscaglia; 1550?–1621) — профессор логики и философии Пизанского университета, специалист по Платону и греческой литературе, поэт. — И.Д.
25. Антонио де Медичи (Antonio de'Medici; 1576–1621) — приемный сын Франческо I (1541–1587), дяди Козимо II. — И.Д.
26. Паоло Джордано Орсини (P.G. Orsini; 1591–1656) — двоюродный брат Козимо II, старший брат будущего кардинала Алессандро Орсини. — И.Д.
27. Вдовствующая герцогиня была известна своей набожностью и всегда слушалась папу (причем любого!), даже если интересы Его Святейшества расходились с интересами дома Медичи. — И.Д.
28. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 605–606.
29. Если, конечно, как подозревают некоторые историки, эти дебаты не были подстроены специально. Проф. Сантильяна назвал их «organized provocation» (Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 40). Возможно, так считал и Галилей.
30. Biagioli M. Galileo Countier... P. 167–168. Проф. Бьяджиоли даже предположил, — «as a thought experiment», — что если бы Кастелли не вынудили ввязаться в дискуссию о теории Коперника и Св. Писании, то «Галилею не пришлось бы писать свое "Письмо Великой герцогине", а следовательно, и увещания 1616 г. могло бы не быть» (Ibid., P. 168). Не думаю. «Легисты» в любом случае нашли бы способ заставить Галилея начать богословскую полемику.
31. См. характеристику ситуации в католической церкви, данную Д. Линдбергом (Lindberg D.C. Galileo, the Church, and the Cosmos // When Science & Christianity Meet / Ed. by D.C. Lindberg, R.L. Numbers. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2003. P. 33–60; P. 44–45).
32. Ибо то, что происходило за столом Великого герцога, в кратчайшие сроки становилось известным самому широкому кругу лиц как в Тоскане, так и далеко за ее пределами. Впрочем, Галилей и сам приложил руку к тому, чтобы научная полемика стала публичной, издав «Рассуждения о плавающих телах» и «Письма о солнечных пятнах» на итальянском языке, а не на латыни, как он это сделал в случае публикации «Sidereus Nuncius».
33. Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 40.
34. Или, что скорее всего, завершает начатое ранее письмо.
35. В копии, присланной Лорини, вместо глагола затените (adombrare), который используется в данном фрагменте в других сохранившихся версиях письма, употреблен теологически некорректный в данном контексте глагол извратите (pervertire). — И.Д.
36. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 281–288.
37. Как отметил Д.Е. Фурман, в рамках протестантизма сложилась абстрактная модель исследовательской деятельности, модель, генетически связанная с критическим изучением и толкованием реформаторами Библии. «Как ученый верит в свой разум, но знает, что конечные выводы должны проверяться эмпирически, <...> так и реформатор верит в свой разум, но знает, что его выводы должны проверяться Библией <...>. Как ученый верит в объективность изучаемого им объекта, но знает, что эта объективность не означает совпадения видимости и сущности, так и реформатор верит, что Библия истинна, но ее внешний, поверхностный смысл не соответствует ее глубинному, сущностному смыслу» (Фурман Д.Е. Идеология Реформации и ее роль в становлении буржуазного общественного сознания // Философия эпохи ранних буржуазных революций / Под ред. Т.И. Ойзермана. М.: Наука, 1983. С. 58–110. С. 83).
38. Jardine L., Stewart A. Hostage to Fortune: The Troubled Life of Francis Bacon. New York: Hill and Wang, 1999. P. 306–307.
39. Тот самый, который 24 мая 1611 г., т. е. вскоре после чествования Галилея в Collegio Romano, направил окружное послание всем профессорам-иезуитам, в котором настоятельно рекомендовал им придерживаться «единства в учении». О каком учении шла речь, было ясно без особых разъяснений. В «Constitutiones Societatis Jesu» (Ч. 4, гл. 14, № 3) сказано: «В логике, натуральной и моральной философии, метафизике и в свободных искусствах следует неукоснительно придерживаться учения Аристотеля» (Saint Ignatius of Loyola. The Constitutions of the Society of Jesus / Translation with an introduction and a commentary by George E. Ganss. St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1970. P. 220). В декрете № 41 V-ой Генеральной Конгрегации Общества Иисуса (1593–1594) также сказано, что «в важных философских вопросах профессора не должны отклоняться от взглядов Аристотеля, если только они не противоречат учению, принятому повсеместно в школах, или, в особенности, если они не противоречат истинной вере». Это положение вошло затем в «Ratio Studiorum Societatis Jesu» (1599).
40. Drake S. Galileo at Work: His Scientific Biography. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1978. P. 236.
41. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 34–35.
42. Галилей писал, что система Тихо сталкивается с теми же проблемами, что и птолемеева, а механические аргументы Тихо против теории Коперника (отсутствие отклонения падающих тел от вертикали, одинаковая дальность полета пушечного ядра в восточном и в западном направлении) не представляются ему (Галилею) обоснованными.
43. К примеру в Dialogo он ее не касается (о чем см.: Margolis H. Tycho's System and Galileo's Dialogue // Studies in History and Philosophy of Science. 1991. Vol. 22. P. 259–275).
44. Biagioli M. Galileo Courtier... P. 286.
45. Ibid.
46. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 123, 127, 130.
47. Даже Кеплера, искренне верящего в астрологию, раздражало то, что платили ему в первую очередь за гороскопы, а не за научные занятия.
Здесь уместно сделать небольшое отступление относительно астрологических занятий Галилея. Выше я уже упоминал, что в апреле 1604 г. он был обвинен падуанской инквизицией в том, что придерживался мнения, будто звезды, планеты и небесные влияния могут определять ход земных событий («ragionato che le stelle, i pianeti ad gl'influssi celesti necessitino»1). Галилей действительно составлял гороскопы (25 из них сохранились), и многие известные люди обращались к нему за советом и предсказаниями2. По-видимому, астрологическое искусство он освоил еще в свой первый пизанский период (осень 1581 — весна 1585), используя разнообразные руководства, в том числе трактат Порфирия «Introductio in Ptolemaei opus de effectibus astrorum», а также сам астрологический opus Птолемея — «Tetrabiblos». И в Пизе, и в Падуе Галилей был профессором математики. Это означало, что он должен был преподавать математику, астрономию и астрологию, тем более что большинство его студентов в Падуанском университете были медиками, а студентов-медиков традиционно обучали основам астрологии, чтобы они могли правильно оценить характер заболевания и сделать прогноз. Поэтому Галилей должен был учить своих студентов искусству составления гороскопов3. В уставе же Пизанского университета было прямо сказано: «Astronomi primo anno legant Auctorem Spherae, secundo Euclidem interpretent, tertio quaedam Ptolomaei»4, т. е. на первом году изучалась астрономия по «Сфере» Сакробоско, на втором — геометрия Евклида, а на третьем — Птолемей. Но какой именно трактат Птолемея надлежало изучать студентам, указано не было, поэтому одни профессора обращались к «Альмагесту», другие — к птолемеевой «Географии», а некоторые — к «Тетрабиблосу». Причем последний пользовался большой популярностью, особенно у медиков. Когда в 1589 г. Галилей начал вести занятия в Пизанском университете, он был единственным профессором математики (до него математические дисциплины там преподавал Филиппо Фантони (F. Fantoni), который составил рукописный комментарий к «Тетрабиблосу»). Однако документов, свидетельствующих о чтении Галилеем курса астрологии приватно или ex officio в Пизанском и в Падуанском университетах, в распоряжении историков нет. Но можно с уверенностью сказать, что в то время астрологию не относили к разряду pseudo-sciences, как сегодня, а скорее, если воспользоваться термином Т. Куна, к «нормальной науке». Во всяком случае, ее преподавание, будь то в стенах университета или при дворе, входило в обязанности математиков, хотя Церковь всегда осуждала веру в фатальность астрологических прогнозов (но не само по себе составление гороскопов).
Известно, впрочем, что в придворных кругах Великого герцога Тосканского Галилея как астролога ценили. Так, в начале 1609 г., когда Великий герцог Фердинанд I (Ferdinando de'Medici, правление: 1587–1609) серьезно заболел, его супруга Кристина Лотарингская обратилась к Галилею, который до этого в течение нескольких лет давал в летние месяцы частные уроки математики наследнику престола. Кристина просила Галилея уточнить дату рождения ее супруга, используя астрологический метод ректификации5. Это позволило бы составить точный гороскоп Фердинанда I и определить тяжесть его заболевания. Галилей согласился и спустя некоторое время сообщил, что, согласно его астрологическим расчетам (естественно, самым точным в Европе), жизни Великого герцога ничто не угрожает6. Ровно через 20 дней Фердинанд I скончался.
Однако неудача не сильно смутила Галилея. Свой знаменитый трактат «Sidereus Nuncius» — который, напомню, вышел в свет в марте 1610 г. — он посвятил новому правителю Тосканы, девятнадцатилетнему Козимо II, своему бывшему ученику. И в посвящении ясно звучит астрологическая тема:
«А что я предназначил эти новые планеты (т. е. спутники Юпитера, которые Галилей назвал Медицейскими звездами (Medici sidera) в честь семейства Медичи. — И.Д.) больше других славному имени твоего высочества, то в этом, оказывается, убедил меня очевидными доводами сам создатель звезд (Syderum Opifex). В самом деле, подобно тому, как эти звезды, как бы достойные порождения Юпитера, никогда не отходят от его боков, разве лишь на самые малые расстояния, так ведь — кто этого не знает? — твое милосердие, снисходительность духа, приятность общения, блеск царственной крови, величие действий, обширность авторитета и власти над другими — все это выбрало местопребывание и седалище в твоем высочестве, а кто, повторяю, не знает, что все это исходит из наиболее благоприятствующего светила Юпитера согласно велению Бога, источника великих благ (omnia ex benignissimo lovis Astro, secundum Deum omnium bonorum fontem, emanare)? Юпитер, говорю я, Юпитер, с первого появления твоего высочества, уже выйдя из волнующихся туманов горизонта, занимая среднюю ось неба, освещая восточный угол и свои чертоги (Orientalemque angulum sua Regia illustrans), наблюдает с высочайшего этого трона счастливейшее рождение и изливает в чистейшей воздух весь свой блеск и величие, чтобы всю эту силу и мощь почерпнуло с первым дыханием нежное тельце вместе с духом, уже украшенным от Бога благороднейшими отличиями»7.
Итак, все мыслимые добродетели были по воле Бога излиты (эманированы) в мир Юпитером и прямым путем попали не к кому-то там, а непосредственно в нежное тельце наследника тосканского престола. Выражение «Orientalemque angulum sua Regia illustrans» в буквальном переводе означает «освещая восточный угол, в котором он [Юпитер] является правителем». Речь идет о восходящем знаке Стрельца, который традиционно связывается с Юпитером, причем Юпитер в момент рождения Козимо II доминировал.
Отвечая на вопрос любознательного П. Дини (письмо Галилею от 21 мая 1611 г.), — а как Медицейские звезды влияют на дела человеческие? — Галилей в пространном письме со знанием дела отмечает, что было бы неправильно думать, будто Medici sidera «теряют свое влияние там, где в изобилии имеются иные звезды». И далее поясняет: «если звезды действительно своим светом влияют на нас, то можно с некоторой вероятностью предположить, что храбрость и смелость сердца происходят от очень больших и сильных звезд; проницательность же и острота ума — от звезд очень тонких и почти невидимых»8. Чтобы понять, насколько снайперски точным был расчет Галилея, необходимо принять во внимание ряд фактов и обстоятельств.
6 января 1537 г. был убит Алессандро Медичи, и титул наследного герцога (duca) перешел к Козимо I. В своих мемуарах Б. Челлини вспоминал, как к нему вскоре после убийства «герцога Лессандро» явился «некий Боччо Беттини» и сообщил, что Козимо избран герцогом «на некоих условиях, каковые будут его сдерживать так, чтобы он не мог порхать по-своему». Челлини в ответ только посмеялся: «Нельзя давать законы тому, кто их хозяин»9. И тем не менее, Козимо пришлось приложить немалые усилия, чтобы укрепить свою власть и заставить признать себя законным правителем Тосканы. Только в 1569 г. папа Пий V (в миру — Antonio Ghislieri; 1504–1572; понтификат: 1566–1572) даровал ему титул Великого герцога. Республиканское правление было тем самым окончательно упразднено, Palazzo della Signoria с 1549 г. стал резиденцией Медичи, а главы некогда могущественных флорентийских семейств из политических лидеров превратились в послушную придворную аристократию.
Новая политическая мифология должна была отныне представлять абсолютную власть Великого герцога как естественную, легитимную и спасительную для Флоренции. На распространение, поддержание и укрепление этого мифа и прославление правящей династии были брошены мощные силы историков, писателей, скульпторов, живописцев, астрологов10 и членов контролируемых семьей Медичи академий, — Accademia Fiorentina (основана в 1540 г.) и Accademia del Disegno11, ибо, как мудро заметил Галилей, «таково уж состояние человеческого ума — если не побуждать его упорно врывающимися в него извне изображениями вещей, то всякое воспоминание о них легко исчезает»12.
К астральной же и мифологической символике при дворе Медичи относились со всей серьезностью, что видно, к примеру, из фресок Дж. Вазари, украшающих «квартиры элементов» (Quartiere degli Elementi) и апартаменты Льва X13 в Palazzo della Signoria (ныне — Palazzo Vecchio). Quartiere degli Elementi, расположенные на верхнем этаже дворца, включают несколько помещений, каждое из которых посвящено определенному римскому богу или богине — Юпитеру, Сатурну, Юноне и т. д., а также зал четырех аристотелевых первоэлементов, которые составляют основу всего сущего. В совокупности эти помещения образуют своеобразный пантеон богов и элементов мира. Под этими quartiere этажом ниже располагаются апартаменты Льва X, включающие помещения, названные именами наиболее выдающихся представителей семейства Медичи: Лоренцо Великолепного (Lorenzo il Magnifico; 1449–1492), Козимо Старшего (Cosimo il Vecchio; 1389–1464), Козимо I (Cosimo il Grande; 1519–1574) и др. Это — своего рода пантеон Медичи. Залы обоих «пантеонов» строго соотнесены друг с другом по вертикали (a piombo): скажем, комната, названная в честь Козимо I, первого Великого герцога Тосканы, расположена непосредственно под комнатой Юпитера, верховного римского бога. Фрески каждой нижней комнаты представляют мифологизированную историю рода Медичи, эпизоды которой находят свое зеркальное отражение в мифологических сюжетах фресок комнат верхнего этажа14. Как заметил М. Бьяджиоли, «небесный порядок легитимировал и придавал естественность (naturalized) порядку земному»15. При этом, подчеркну еще раз, небесным патроном Козимо I был объявлен Юпитер, а его созвездием — Козерог, семь звезд которого символизировали семь добродетелей (теологических и моральных) основателя великогерцогской династии. В посвящении «Sidereus Nuncius» внуку Козимо I Галилей, как видно из приведенной выше цитаты, внушает своему будущему патрону, что именно от Юпитера тот получил — причем прямо в колыбели — все свои добродетели. В отличие от большинства своих современников-virtuosi, Галилей довольно тонко понимал все нюансы социокультурных кодов и контекстов медицейского двора и к тому же умел при необходимости представить себя как gentiluomo, а когда надо, ловко играть «под народ», используя падуанский диалект и раблезианские образы (впрочем, и тогда его адресатом был отнюдь не деревенский рынок, а люди типа Антонио Кверенго (A. Querengo; 1546–1633), гуманиста и покровителя искусств).
Еще в сентябре 1608 г., т. е. до своих телескопических открытий, Галилей предлагает Кристине Лотарингской проект памятной медали (рис. 1 1)16 по случаю бракосочетания наследного принца (будущего Козимо II) и Марии Магдалины Австрийской. К этому времени Галилей понял, что ни его занятия математическими науками с наследным принцем «в то время года, когда обычно вкушают покой после более суровых занятий»17 (т. е. в летние месяцы), ни приподнесение им в дар Фердинанду I военного циркуля или иных своих изобретений ни на йоту не приблизят его к желанной цели — занять не просто видное, но исключительное место при тосканском дворе18. Вместе с тем Галилей понимал, что Медичи остро нуждаются в новых, необычных символах своего величия. Возможно, когда он размышлял над проектом impresa, ему пришли на память слова искушенного в тонкостях этикета графа Бальтассара Кастильоне (B. da Castiglione; 1478–1529), друга Рафаэля и автора знаменитой книги Il Cortegiano19 (1528), который писал, что хороший придворный должен «притягивать к себе взоры подобно тому, как магнит притягивает железо»20. Но как бы то ни было, Галилей очень кстати вспомнил о подарке, который его венецианский друг и покровитель Джанфранческо Сагредо (G. Sagredo; 1571–1620) в свое время передал с ним для юного Козимо — кусочке магнитного камня. В письме Великой герцогине Галилей сравнивает будущего правителя Тосканы с магнитом, поэтому его impresa будет представлять собой магнитный шарик, к которому притянуты мелкие кусочки железа. В качестве же motto Галилей предложил следующую фразу: Vim Facit Amor (любовь дает силу). Смыслы, вложенные в такую эмблему, довольно разнообразны.
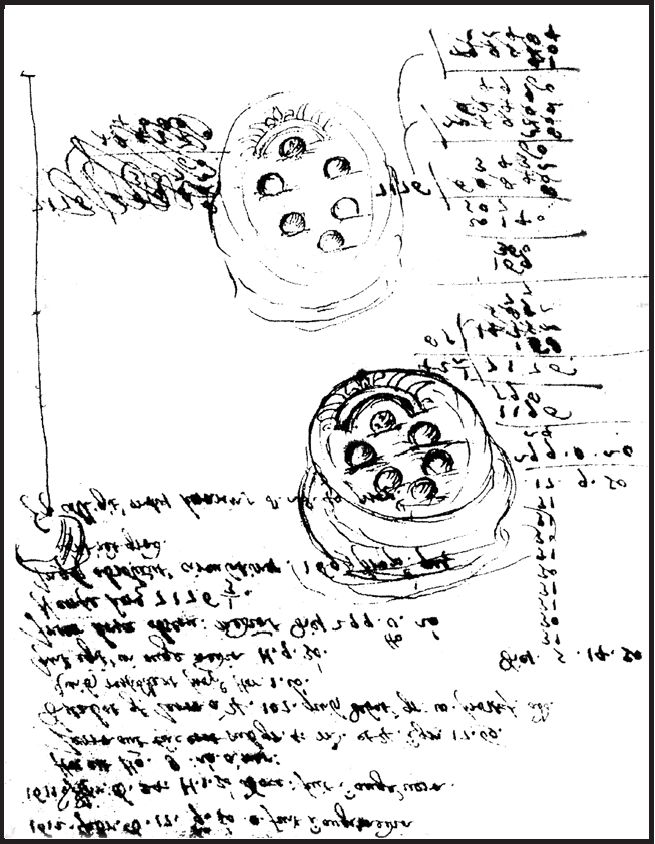
Рис. 11. Г. Галилей. Набросок импреса для Козимо II
Во-первых, кусочки железа, притягивающиеся к магниту, олицетворяют подданных Медичи, готовых верно служить своему сюзерену.
Во-вторых, impresa Галилея намекает на то, что подданные не могут уклониться от «притягательной силы» власти Великого герцога. Иными словами, люди тянутся к правящему семейству по любви или, по крайней мере, по своей естественной склонности, но сама власть проявляет себя именно как притягивающая к себе, т. е. понуждающая сила, такова ее природа. В целом же, по Галилею, получается, что любовь подданных к монарху определяет (можно сказать, порождает) силу его власти, как и сказано в motto.
В-третьих, то, что предложенный Галилеем памятный знак имеет сферическую форму, также не случайно, ибо на гербе Медичи изображены шесть шаров (рис. 12), а кроме того, шар служит символом Космоса (небесной сферы). В свою очередь, аллегория Козимо — Космос, — ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ, т. е. «Космос есть мир Козимо», — получила довольно широкое распространение начиная с 1550-х гг.21
В-четвертых, Галилей предложил сделать на impresa еще одну надпись: Magnus Magnes Cosmos (букв. «Мир (Космос) есть большой магнит). Здесь ясно просматриваются намеки как на известный трактат придворного врача Елизаветы I Уильяма Гильберта (W. Gilbert или Gylberde; 1544–1603) «De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure» (1600)22, так и на латинский вариант титула Козимо: Magnia Dux Cosmos (Великий герцог Козимо).
Таким образом, Галилей, всячески подчеркивая аналогию между притяжением магнита и властью абсолютного монарха, сделал магнит метафорическим образом последнего. Галилеева стратегия была нацелена не только на получение благ от Великого герцога в случае, если тот согласится стать патроном ученого, но и на легитимацию новой науки путем включения ее образов и констатаций в ткань придворного дискурса, в символы могущества потенциального патрона. Иными словами, Галилей понимал, что сколько бы умных книжек он ни написал, сколько бы доказательств своей правоты ни приводил, всего этого будет недостаточно, если у него, лично у него — Галилео Галилея, флорентийского патриция, не будет должного статуса и могущественного покровителя, натурфилософские символы величия которого окажутся естественным образом вплетенными в ту политическую мифологию и демагогию, которая в данный момент этому покровителю крайне необходима и выгодна.
Поначалу, создав телескоп и подарив его в августе 1501 г. венецианскому сенату — это был, как выразился М. Бьяджиоли, «дар для всех и ни для кого конкретно»23, — Галилей не думал его использовать во флорентийских патронатных играх. Из его письма Бенедетто Ландуччи (B. Landucci) от 29 августа 1609 г. ясно видно, что ученый в тот момент связывал свою дальнейшую жизнь и карьеру с Падуей и с ее университетом24, хотя ранее, скажем, в 1608 г., да и весной 1609 г., вопрос о его возможном возвращении во Флоренцию обсуждался, о чем свидетельствует, в частности, его переписка с Б. Винта25 и с Винченцо Веспуччи (V. Vespucchi), придворным тосканского герцога26.
Венецианский сенат постановил (98 голосов «за», 11 — «против» при 30 воздержавшихся) в награду за предложенное Галилеем invenzione сохранить за ним пожизненно кафедру в Падуанском университете, увеличить ему жалование с 520 до 1000 флоринов в год, причем с текущего месяца, а также выплатить ему 480 флоринов una tantum. Впрочем, вскоре выяснилось, что кто-то кого-то не понял и увеличенное жалование ему начнут платить лишь через год, когда закончится срок действия ранее заключенного контракта, и к тому же названная сумма (1000 флоринов) также назначается ему пожизненно, т. е. без возможности ее дальнейшего увеличения. Узнав все это, Галилей вновь начал думать о переезде во Флоренцию, но Козимо II, хоть и заинтересовался «трубой» своего бывшего учителя, однако приглашать его к себе на службу пока не торопился. Ситуация резко изменилась в начале следующего года.
В ночь на 7 января 1610 г. в Падуе Галилей направил усовершенствованный им perspicullum с 20-ти кратным увеличением27 на небо и среди прочего заметил три мерцающие звездочки около диска Юпитера, находившегося в юго-западной части неба в созвездии Тельца, одна — к западу (справа) и две к востоку (слева) от планеты. Пораженный Галилей тут же добавил запись об увиденном в начатое ранее письмо другу28. На следующую ночь (8 января) звездочки сместились по отношению к Юпитеру в западном направлении, т. е. оказались справа от планеты. Но, согласно расчетам Джованни Антонио Маджини (G.A. Magini; 1555–1617)29, Юпитер в это время совершал «попятное» движение (ретрогрессию), и потому двигался на запад (вправо), а не на восток. Будучи уверенным, что звездочки неподвижны, Галилей поначалу решил, что неверны расчеты движения Юпитера и он в действительности движется прямо, а не «попятно» на запад («era dunque diretto et non retrogrado pongono i calculator?»30). Ночь на 9 января выдалась облачной и наблюдений не производилось. Когда же в следующую ночь Галилей взглянул на небо, то обнаружил, что одна из звездочек исчезла, и слева, к востоку от Юпитера наблюдались только две светящиеся точки. Все это выглядело весьма загадочно. Галилей решил было, что Юпитер заслонил собой одну из звездочек, но уверенности в этом у него не было, о чем свидетельствует оговорка в его рабочих записях — «насколько можно верить (si puo credere)»31.
Наконец, 11 января, построив более точные диаграммы, учтя изменения яркости звездочек и их взаимных расстояний, тщательно продумав ситуацию и «сменив сомнения на восторг», Галилей понял: «видимые изменения имеют свою причину не в Юпитере, а в указанных звездах», которые движутся «вокруг Юпитера подобно тому как Венера и Меркурий вокруг Солнца»32, т. е. являются не неподвижными звездами, но планетами (stelle erranti). Через два дня, 13 января, Галилей обнаруживает существование четвертой «блуждающей звезды», движущейся около Юпитера.
30 января 1610 г. он сообщает Б. Винта о своих телескопических открытиях, в том числе, конечно, и о новых «звездах»: «Эти новые планеты движутся вокруг другой очень большой звезды таким же образом, как Венера и Меркурий, а возможно, и другие известные планеты движутся вокруг Солнца»33.
Кроме подчеркнуто прокоперниканской риторики обращает на себя внимание некая неопределенность сказанного — «вокруг другой очень большой звезды». О какой именно «звезде» идет речь, Галилей умолчал.
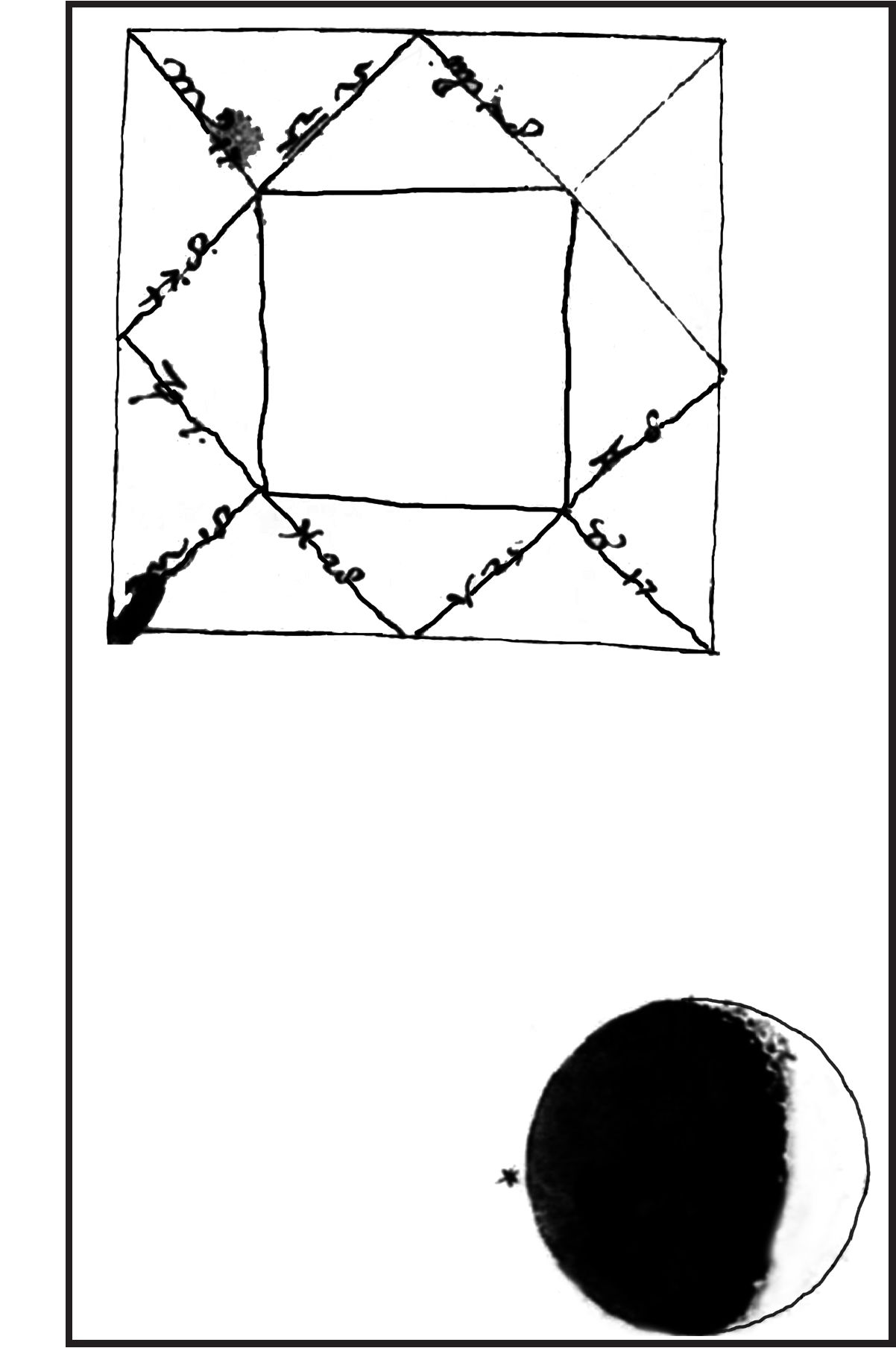
Рис. 13. Г. Галилей. Набросок гороскопа Козимо II (ниже акварельный рисунок Луны)
Винта ответил, что Великий герцог воспринял сообщение Галилея с большим энтузиазмом и желает как можно скорее увидеть новые небесные тела своими глазами. Однако Галилей не торопился посылать во Флоренцию свою «трубу». В письме к Винта от 14 февраля 1610 г. он спрашивает госсекретаря Великого герцога (читай — самого Козимо II), как лучше назвать открытые им «звезды» — Cosmici (Cosmica Sydera) или Medicea (Medici Sydera) — но при этом все еще не упоминает о Юпитере34. Ему нужно было во что бы то ни стало сохранить монополию на свои астрономические открытия. Идея же связать спутники Юпитера с правящей тосканской династией пришла к нему раньше, в середине января 1610 г.
19 января 1610 г., продолжая наблюдать Луну и спутники Юпитера и одновременно подготавливая для Бальони рисунки лунной поверхности (с которых потом должны были делаться гравюры), Галилей прямо на одном из этих рисунков набрасывает гороскоп юного Козимо II (рис. 13). Борьба за великогерцогский патронат вступала в новую стадию.
Здесь уместно вернуться к тексту посвящения «Sydereus Nuncius». Галилей не просто вульгарно льстит девятнадцатилетнему юнцу, только что занявшему трон Великого герцога («одна твоя слава, величайший герой, может придать этим светилам бессмертие имени»35 и т. п.), он внушает ему, что открытие Медицейских звезд — это не только замечательное астрономическое достижение, нет, это божественное подтверждение великого предназначения рода Медичи вообще и Козимо II в частности, это научное доказательство правильности их династического гороскопа: «едва лишь на земле начали блистать бессмертные красоты твоего духа, как на небе яркие светила предлагают себя, чтобы словно речью возвестить и прославить на все времена твои выдающиеся добродетели (praestantissimas virtutes tuas)»36.
Никак не может быть случайным совпадением, что четыре новые блуждающие «звезды» были открыты вскоре после восшествия на престол Козимо II37, что эти «звезды» блуждают не где-нибудь, а обращаются именно вокруг Юпитера, планеты великого Козимо I, что в момент рождения Козимо II именно Юпитер занял надлежащее высокое место над горизонтом, передавая тем самым свою и Козимо I силу и добродетели новорожденному наследному принцу, что этих новых «звезд» именно четыре, т. е. столько, сколько было сыновей у Фердинандо I38. И уж, конечно, не случайно, что Бог, «всеблагой и всевеликий», «создатель и правитель звезд», предопределил, чтобы именно он, Галилей, сделал это великое открытие. Более того, сам Господь пожелал, чтобы родители Козимо II «не сочли [Галилея] недостойным» «ревностно заняться» математическим образованием их отпрыска. И сам Бог убедил Галилея, используя кристально ясные доводы (perspicuis argumentis), посвятить эти «звезды», «неизвестные всем предшествующим астрономам, августейшему имени» правящей династии39. В итоге Галилей, если вдуматься в текст посвящения, представляет себя в качестве посредника между Всевышним и Светлейшим (т. е. между Богом и Козимо II). Да и каким посредником! Вот, скажем, «благочестивый Август»40 пытался было увековечить на небе Юлия Цезаря, да не удалось, поскольку выбранное императором небесное светило оказалось кометой и, «исчезнув через короткое время, обмануло надежды столь великого желания»41. Но с Великими герцогами Этрурии такой промашки не случится, их звезды хоть и блуждающие, но далеко от benignissimo Iovis Arstro не уйдут.
И заметьте — во всем посвящении ни полслова, ни малейшего намека на какое-либо материальное вознаграждение и «нужды низкой жизни». Да и что, собственно, такого он подарил этому замечательному тинейджеру? Звезды? Так они ему и так принадлежали (см. его гороскоп). А что касается патронатных благ, так ведь, если Галилео и семейство Медичи накрепко связаны друг с другом самим небом, то и патронат последних над первым предопределен там же. Патронатные связи, как и браки, совершаются на небесах, кто ж этого не знает? Когда-то Д. Вазари подписал свое письмо Козимо I «Servitor per fortuna e per i stella». Галилей мог бы выразиться так же, и с еще большим основанием.
Но на всякий случай, чтобы не омрачать свой дар даже тенью недопонимания, он в письме Винта от 19 марта 1610 г. разъясняет, что «имеется лишь одна вещь, которая сильно умаляет величие этой встречи (т. е. «встречи» Медичи с их небесным предопределением. — И.Д.)» — незнатность и низкий статус посредника. Действительно, нехорошо получается: тут, знаете ли, выявляются связи воистину небесные, а «выявитель», посредник-организатор — невесть кто, какой-то там lettor delle Mattematiche в Падуе. А ведь он был de facto (и ex Deo), как выразился М. Бьяджиоли, «the Medici oracle»42. Нет-нет, он ничего не просит, но ему бы очень хотелось, чтобы Козимо II обратил внимание на вышеуказанное обстоятельство и отметил бескорыстие своего звездного вестника. И тот в конце концов, после долгих колебаний — дело все-таки щекотливое, а вдруг все эти галилеевы звезды не более как оптический обман?43 — все правильно понял, оценил и отметил.
У этой истории есть еще один любопытный аспект. Когда Галилей в упомянутом выше письме Винта от 30 января 1610 г. сообщал о своих астрономических открытиях, его работа находилась еще только в самом начале. Галилей понимал, что для ее завершения потребуется по меньшей мере полтора-два месяца (действительно, «Sidereus Nuncius» включил в себя данные наблюдений, выполненных в период с 7 января по 2 марта 1610 г.). Таким образом, Великому герцогу предлагался, по сути, «полуфабрикат». Однако Козимо II, заинтересовавшемуся новыми астрономическими открытиями, не терпелось увидеть новые «звезды» своими глазами. Галилей же тянул время, ссылаясь на трудности наблюдения небесных объектов с помощью perspicullum и невозможность приезда во Флоренцию по крайней мере до Пасхи44 (т. е. до 11 апреля 1610 г.) по причине загруженности преподаванием в Падуанском университете. Кроме того, он очень торопился, надо было как можно скорее завершить наблюдения и опубликовать результаты, иначе кто-нибудь сделает это раньше него, в силу чего он никак не мог тратить время на поездку во Флоренцию. К тому же придворный мир, по словам М. Бьяджиоли, — это отнюдь не «оазис конфиденциальности»45, поэтому разумнее сначала опубликовать сообщение о своих открытиях, а уж потом заниматься их публичными демонстрациями. Он, конечно, обещал послать Великому герцогу свою трубу, но, судя по сохранившимся документам, скорее всего, до выхода в свет «Sidereus Nuncius» этого не сделал.
Осторожность Галилея понятна. Даже для работы с современными телескопами требуется навык, что уж говорить о «зрительных трубах» начала XVII в. Галилей прекрасно понимал, что вряд ли ему удастся за одну-две ночи научить нетерпеливого Козимо правильно пользоваться perspicullum и тем самым убедить того в существовании Медицейских звезд. Действительно, когда 24–25 апреля 1610 г. он потратил две ночи в Болонье, пытаясь показать присутствовавшим новые небесные объекты, его усилия не дали никакого результата. Понимая все трудности телескопических наблюдений, Галилей не торопился приставлять свою «трубу» к великогерцогскому глазу. Он пошел другим путем — сначала убедить Козимо в существовании новых небесных тел, а затем уже дать ему возможность на них взглянуть. Иными словами, Козимо должен был увидеть на небе то, в существовании чего он к тому времени уже был бы абсолютно уверен. И тот факт, что Галилей находился в это время в Падуе, а Великий герцог — во Флоренции, позволяло реализовать этот замысел.
19 марта 1610 г. Галилей посылает экземпляр «Sidereus Nuncius» Великому герцогу и в упомянутом выше сопроводительном письме — делая вид, что реальность Медицейских звезд не вызывает более никаких сомнений — замечает, что «необходимо послать многим государям не только эту книгу, но также и инструмент (т. е. телескоп. — И.Д.), чтобы те смогли убедиться в истинности [его открытий]»46. И далее перечисляются те правители, от герцога Урбинского до короля польского, коим, как он считает, следовало бы отправить (разумеется, с соизволения Великого герцога) его (Галилея) дары. А чтобы эти дары «были бы надлежащим образом оценены и хорошо приняты», желательно сопроводить их соответствующими посланиями за подписью Козимо II. Иными словами, Галилей просил Козимо II использовать для популяризации своих астрономических открытий дипломатические каналы, что позволяло, кроме всего прочего, транслировать авторитет Великого герцога Тосканы на галилеевы подношения («Sidereus Nuncius» + perspicullum), хотя формально никто из Медичи на тот момент еще не высказался в поддержку утверждений падуанского преподавателя математики. Великий герцог с предложением Галилея согласился (о чем свидетельствует письмо Б. Винта Галилею от 30 марта 1610 г.47) и уверил последнего, что подарки «будут доставлены и приняты с подобающим достоинством и великолепием». И только неделю спустя юный тосканский государь смог, наконец, воочию увидеть «свои» звезды.
Таким образом, Галилей сумел вовлечь правителя Тосканы в, как бы мы сегодня сказали, рекламную кампанию европейского масштаба, причем рекламировать Его Высочеству пришлось то, чего он и в глаза-то не видел.
Но это еще не все. Галилей посылает экземпляр «Sidereus Nuncius» И. Кеплеру в Прагу, причем не обычным путем, каким некогда, в августе 1597 г., послал ему свое письмо с благодарностью за присылку «Космографической тайны», но с дипломатической почтой, т. е. через посла Тосканы при габсбургском дворе Джулиано де Медичи. В сопроводительном письме Галилей просил Джулиано передать Кеплеру, что он (Галилей) хотел бы услышать от придворного математика императора Рудольфа II мнение о «Sidereus Nuncius». Имя Кеплера было хорошо известно в Европе (несравнимо более, чем имя Галилея), и его поддержка была для падуанского профессора очень важна. Джулиано решил действовать сугубо официально — как-никак речь шла не просто о звездах, но о Медицейских звездах, а это уже затрагивало столь тонкие материи, как честь страны и правящей династии. Посол, пересылая 8 апреля 1610 г. Кеплеру книгу Галилея, присовокупляет к ней от себя приглашение придворному математику посетить тосканское посольство 13 апреля, резонно рассудив, что столь крупному специалисту в вопросах оптики, математики и астрономии, каким был Кеплер, вполне хватит 4–5 дней, чтобы составить мнение об опусе Галилея и, если это мнение окажется благоприятным, тут же предложить гостю написать что-нибудь в поддержку его итальянского коллеги. Кеплер, который уже в середине марта получил кое-какую информацию об открытиях Галилея, явился в назначенное время к тосканскому послу и тот, после краткой беседы, прочитал ему тот фрагмент письма Галилея, где последний писал о своем желании получить отзыв на свой труд именно от Кеплера. При этом Джулиано заявил, что также присоединяется к просьбе своего соотечественника. Более того, посол пригласил Кеплера к себе на обед 16 апреля, видимо, не только чтобы покормить ученого, но и поинтересоваться, как идут дела с отзывом.
Кеплер встретил книгу Галилея с большим энтузиазмом. Конечно, изложенное в ней нельзя было рассматривать как доказательство гелиоцентризма, но это был труд, утверждавший новый, нетрадиционный взгляд на Вселенную. Если не по букве, то по своему духу «Sidereus Nuncius» был коперниканским трактатом, не говоря уже о важности галилеевых открытий для астрономии. К тому же Кеплер, опубликовавший в 1609 г. свою фундаментальную работу «Astronomia nova», в которой дал вывод двух из трех открытых им законов движения планет, понимал, что фактически заказанное ему сочинение, посвященное открытиям Галилея, вокруг которых поднялось так много шума в Европе, привлечет внимание и к его (Кеплера) собственным достижениям, а также к коперниканской теории в целом. Поэтому тянуть с отзывом не следовало, тем более что и Рудольф II весьма интересовался мнением Кеплера о книге Галилея.
19 апреля Кеплер посылает рукопись трактата-отзыва «Разговор с звездным вестником» («Dissertatio cum Nuntio Sidereo») Галилею в Падую (обычной почтой), а затем отправляет копию в типографию. Не проходит и трех недель, как «Dissertatio» выходит в свет с посвящением Джулиано де Медичи. И это не удивительно, ибо Кеплер полагал, что Галилей является либо клиентом Медичи, либо как-то, и, возможно, весьма прочно, связан с тосканской династией (иначе зачем было ему посылать «Sidereus Nuncius» через посольство Тосканы в Праге?) А если это так, то и его отзыв — это не просто ответ на личную просьбу Галилея, но элемент политической игры. И Кеплер решает использовать ситуацию для пропаганды коперниканства, а также для того, чтобы лишний раз напомнить о себе.
«Dissertatio» представляет собой своего рода двойную апологию — Галилея и самого Кеплера. В ней не только перечисляются все прокоперниканские труды императорского математика, но и подчеркивается, что именно его, Кеплера, книга по оптике «Ad Vitellionem paralipomena, quibus Astronomiae pars Optica traditur», т. е. «Дополнения к Вителлию, в которых излагается оптическая часть астрономии», вышедшая в 1604 г., дает ключ к пониманию принципа действия зрительной трубы Галилея. Из текста «Dissertatio» получается, что Галилей — это прежде всего великий наблюдатель и искуснейший изготовитель оптических приборов, тогда как он, Кеплер, — выдающийся натурфилософ, математик и космолог (как выразился М. Бьяджиоли, получалось, что «Галилео был обладателем умелых рук и изощренного зрения, в то время как Кеплер представлялся человеком, наделенным философским умом»48). Тем самым «Dissertatio» стал не только поддержкой Галилея, но и рекламой достижений самого Кеплера в Италии, т. е. в том регионе Европы, где до тех пор его труды не имели большой известности.
Но самое поразительное в истории создания «Dissertatio» состоит в том, что в распоряжении Кеплера не было достаточно мощного телескопа; те зрительные трубы, которые имелись в императорской коллекции, позволяли наблюдать поверхность Луны, но не спутники Юпитера. Таким образом, Кеплер поддержал утверждения Галилея, не имея возможности их проверить. Тут же нашлись критики, упрекнувшие его за чрезмерную доверчивость. Поэтому он вынужден был написать второе предисловие к «Dissertatio» с разъяснением своей позиции. «Может быть, я покажусь слишком смелым, — оправдывался Кеплер, — если так легко поверю твоим (трактат, напоминаю, написан в форме письма Галилею. — И.Д.) утверждениям, не подкрепляя свои оценки никаким собственным опытом. Но почему я не должен верить ученейшему математику, о правоте которого свидетельствует самый стиль его суждений, который далек от суетности и для стяжания общего признания не будет говорить, что видел то, чего на самом деле не видел»49. Т. е. Галилею стоит поверить потому, что человек он хороший, просто так врать не станет, да и стиль у него несуетный. Аргумент, конечно, убийственный, но Кеплеру было не до мелочей, нужно было отстаивать всеми возможными способами великую коперниканскую идею и бороться с теми, кому «все, что лежит по ту сторону аристотелевого пограничного столба, представляется вредным и кощунственным»50. К тому же отказать тосканскому послу было трудно.
Поддержка Кеплера сыграла важную роль в развитии отношений между Галилеем и семейством Медичи. Действительно, когда в начале апреля 1610 г. Галилей смог, наконец, приехать в Пизу, где тогда находился тосканский двор, и показать Козимо II и его окружению Медицейские звезды — по счастью, демонстрация прошла успешно — Великий герцог дал понять, что намерен обдумать вопрос о подыскании для ученого подобающей его заслугам придворной должности. Но затем дело застопорилось, поскольку до тосканского двора стали доходить слухи, будто некоторые известные астрономы, в частности Дж Маджини, не подтвердили открытий Галилея. Поэтому «Dissertatio» Кеплера подоспел как нельзя кстати. Галилей, получив рукопись, немедленно пересылает ее во Флоренцию. Он, конечно, понимал, что имя Кеплера вряд ли известно Медичи, но зато им хорошо известно имя его патрона императора Рудольфа II. Поэтому Галилей подчеркивает в сопроводительном послании, что он «получил письмо, а фактически трактат на восьми листах, от математика Императора, который одобрил все части моей книги»51. Галилей не забывает также отметить, что Кеплер — лицо незаинтересованное, в отличие от многих завистливых literati d'Italia.
Расчет Галилея прост и ясен: Медичи вряд ли знают, каким именно способом он переслал «Sidereus Nuncius» в Прагу и о последующей, как выразился М. Бьяджиоли, «Giuliano's choreography»52 с приглашением Кеплера в тосканское посольство и т. д. Поэтому они, скорее всего, решат, что Кеплер, получив экземпляр галилеевой работы, прочитал ее, возможно, посмотрел в телескоп, чтобы убедиться в правоте итальянского коллеги (о том, что Рудольф II покровительствует ученым и собирает научные приборы, в Европе было хорошо известно), после чего отписал восторженный отзыв. Ведь в рукописном варианте «Dissertatio», который Галилей получил и переправил затем во Флоренцию, не было никаких предисловий, в которых Кеплер излагал все детали этой истории и признавался, что фактически поверил Галилею на слово. И уж подавно там не было посвящения Джулиано де Медичи. Все эти добавления и признания появились только в печатном варианте, и ни Козимо II, ни Галилей о них заранее знать, разумеется, не могли.
22 мая 1610 г. Винта сообщает Галилею, что Их Высочествам были зачитаны все письма, которые последний им направил, и они получили от них «безграничное удовольствие, особенно от последнего письма (т. е. от отзыва Кеплера, печатный вариант «Dissertatio» с посвящением Джулиано, датированным 3 мая 1610 г., еще не был получен во Флоренции. — И.Д.)». Теперь все, даже весьма скептически настроенные по отношению к утверждениям Галилея literati, смогли, наконец, увериться в его правоте. И далее Винта упомянул, что Козимо II дал слово, что «будет думать о наиболее почетном [придворном] титуле» для Галилея53. Но только 10 июля 1610 г. Галилею было пожаловано звание «главного математика Пизанского университета и главного философа и математика Великого герцога Тосканского», после чего Галилей сложил с себя преподавательские обязанности в Падуанском университете (15 июля) и отбыл во Флоренцию.
Почему же Козимо, даже убедившись лично в начале апреля 1610 г. в существовании Медицейских звезд, тянул около трех месяцев с назначением Галилея на придворную должность? Он не верил собственным глазам? Или ему было недостаточно поддержки «математика императора», которая для Великого герцога имела больший вес, чем мнение болонского профессора Джованни Маджини (не в силу большей убедительности доводов первого, а по причине его более высокого статуса)? Видимо, августейшую душу терзали сомнения иного свойства — стоят ли Медицейские звезды той хорошо оплачиваемой придворной должности, на которую рассчитывал Галилей? Ведь новые «звезды» уже открыты, их существование уже доказано, им уже дано подобающее название. Все! Дело сделано. Так стоит ли теперь платить Галилею пожизненно весьма приличное жалованье, да еще и подарки время от времени дарить? Не ограничиться ли разовой выплатой? И все же после долгих раздумий и колебаний Козимо II и его окружение решили, что столь необычный дар, который Галилей преподнес семейству Медичи, достоин особой благодарности. Действительно, монархии как способу правления сопутствует сложная система символов, образов и мифов, и Галилей нашел остроумный способ естественной репрезентации власти. Он предложил не проект величественного сооружения (колонны, статуи, пирамиды и т. п.), но, так сказать, monumento della nature, природный памятник великой династии. Медицейские звезды, будучи естественными (природными) объектами, функционирующими в символическом пространстве власти, приносили пользу особого рода — они поддерживали политический миф о естественности правления клана Медичи, а это стоило много дороже галилеева жалованья.
Тем временем Кеплер, возможно, воодушевленный открытиями Галилея, возвращается к рассмотрению оптических вопросов. В августе — сентябре 1610 г. он пишет свой знаменитый трактат «Диоптрика, или Доказательство того, как становится видимым изображение с помощью недавно изобретенной зрительной трубы»54. Но Галилей отозвался об этой выдающейся работе весьма прохладно: «[Кеплер] написал об этом (т. е. об устройстве и расчете телескопа. — И.Д.) книгу, но настолько темную, что, пожалуй, и сам ее не понял»55.
9 августа 1610 г. Кеплер обращается к Галилею с просьбой прислать ему свою зрительную трубу, т. к. доступные ему инструменты не позволяют наблюдать спутники Юпитера и он не имеет ни средств, ни квалифицированных помощников, чтобы создать более совершенный прибор56. «Вы пробудили во мне страстное желание увидеть ваши инструменты, — писал он Галилею, — чтобы я, наконец, смог, как и вы, наслаждаться великим небесным зрелищем». Несколько ранее, 19 апреля 1610 г., Джулиано де Медичи сообщил Галилею, что император Рудольф II хотел бы получить зрительную трубу итальянского ученого и даже высказал недоумение по поводу того, что тот предпочел одаривать своим изобретением в первую очередь кардиналов, а не его императорское величество. Но ни Рудольфу II, ни Кеплеру Галилей так и не послал своей зрительной трубы57. В письме Кеплеру от 19 августа 1610 г. Галилей, к тому времени уже заключивший контракт с Великим герцогом и не нуждавшийся более в формальных подтверждениях своих открытий, но весьма заинтересованный в сохранении своей монополии в использовании хороших зрительных труб для исследования неба, сослался на то, что его машина для шлифования линз в настоящее время разобрана по причине его переезда из Падуи во Флоренцию, а лучший из его инструментов был отдан в галерею Великого герцога «на вечное хранение среди особых драгоценностей»58. Это было правдой, но правдой было и то, что, предлагая в марте 1610 г. Великому герцогу список особ, коим предполагалось выслать perspicullum, Галилей не включил в него Рудольфа II. И вряд ли это было случайностью. Дело, разумеется, не в самом Рудольфе II, а в том, что тот имел в качестве придворного математика И. Кеплера, который мог стать для Галилея опасным конкурентом59. В то же время Галилей нуждался в поддержке Кеплера. Вот и пришлось итальянскому virtuoso обращаться к услугам дипломатической почты и тосканского посла в Праге. Ведь не мог же он так прямо взять и написать Кеплеру: «Ты, дорогой коллега, мне помоги и подтверди существование того, чего ты в глаза не видел и в ближайшее время, скорее всего, не увидишь, уж я об этом позабочусь». Пришлось придумывать хитрый маневр, который Галилею блестяще удался. И когда Кеплер, человек куда более наивный, нежели Галилей, поинтересовался (в упомянутом выше письме от 9 августа 1610 г.), а кто, собственно, еще видел Медицейские звезды, новоиспеченный «первый математик и философ Великого герцога» ответил ему с подкупающей откровенностью: «Вы, дорогой Кеплер, спрашиваете о других свидетелях. Я упомяну Великого герцога Тосканы, который несколько месяцев тому назад наблюдал Медицейские звезды вместе со мной в Пизе и любезно предложил мне <...> вернуться в родные края, положив мне годовое жалованье в 1000 скуди, звание Философа и Математика Его Высочества, без [преподавательских] обязанностей, но с уймой свободного времени»60. Когда научный объект становится предметом политического торга, «другие свидетели» могут только все испортить.
Итак, старания Галилея не пропали даром. Переехав в августе (или в сентябре) 1610 г. во Флоренцию, он стал не только возлюбленным Filosofo e Matematico Primario del Granduca di Toscana без какой-либо реальной педагогической нагрузки, но и получателем фантастически высокого жалования — 1000 золотых флоринов в год. Достаточно сказать, что Галилей получал в полтора раза больше, нежели primo segretario Великого герцога и в три раза больше, чем любой художник или инженер, состоявший на герцогской службе61. Кроме того, ему была пожалована золотая цепь (как знак достоинства), было позволено поселиться в любой загородной вилле герцога, пока он не подыщет себе постоянного жилья и т. д. Но вернемся к гороскопам.
Галилей составлял их не только для знатных особ, но и для близких ему людей. Сохранились, в частности, выполненные им гороскопы его дочерей — Вирджинии (родилась 12 августа 1600 г.) и Ливии (родилась 18 августа 1601 г.) с их краткими характеристиками, основанными на астрологических данных. Вот что записал Галилей относительно старшей дочери:
«Прежде всего Сатурн, Меркурий и Луна разделены <...>, что указывает на некоторые расхождения между рациональными (Меркурий и Сатурн) и чувственными способностями (Луна), поскольку Меркурий сильнее всех и находится в знаке его господства (Меркурий управляет созвездием Девы. — И.Д.). Но поскольку Луна (управляющая эмоциями. — И.Д.) была очень истощена и находилась в знаке повиновения, то [у Вирджинии] разум управляет чувствами.
Сатурн, влияющий на характер, поскольку он в высшей точке, обещает, что [ее] нрав будет добрым и строгим, хотя и с примесью некоторой порчи, которая, впрочем, умеряется и обуздывается самым действенным аспектом (validissimo aspecto)62 благотворного Юпитера по отношению к могущественному Меркурию, что приводит к терпеливости в работе, беспокойству, одиночеству, молчаливости, бережливости, стремлению все обращать в свою пользу, ревнивости, а также к тому, что она может не выполнять своих обещаний.
Благоприятствие же Солнца придает [ей] некоторую заносчивость и надменность. Спика (самая яркая звезда в созвездии Девы. — И.Д.) добавляет обаяние и набожность. А [созвездие] Весов, человеческий знак, придает человечность и любезность.
Об уме (De ingenio) [Вирджинии]
Что касается ее ума, то Меркурий, наделенный многими достоинствами, обещает ей замечательный ум. Более того, поскольку Юпитер соединяется (с Меркурием. — И.Д.), он дополнительно придает мудрость, предусмотрительность и мягкость (humanitatem). Благоприятствующий же и мощный Сатурн особенно наделяет памятью. И Весы в соединении со многими планетами благоприятствуют уму».
В гороскопе Ливии Галилей обнаруживает указание на экстравертный характер, поскольку «Меркурий возвышается очень сильно над всеми, и Юпитер, который с ним в союзе, дает знания и щедрость, простоту, человечность, эрудицию и гордость»63. Однако, если верить Д. Собел64, эти характеристики мало соответствуют реальности.
В упомянутом выше собрании астрологических материалов из флорентийского архива (Biblioteca Nazionale di Firenze, Manuscripti Galeliani, N 81) находится также гороскоп Сагредо с многочисленными таблицами и расчетами, которые показывают, сколь детально Галилей был знаком с астрологической практикой.
В целом заключение Галилея относительно характера Сагредо звучит почти панегирически — щедр, благороден, приветлив, общителен, любит удовольствия. И все оттого, что «аксендант падает на знак Венеры в ее собственном доме, окруженном Плеядами и по отношению к Юпитеру точно в секстиле. Венера свободна от лучей, могущих ей навредить».
Таким образом, в гороскопе Сагредо не было «плохих аспектов» в аксенданте. Однако Галилей все же нашел некое несоответствие: «из-за комбинации теплых и сырых темпераментов, сангвиник действительно теряет часть своего баланса, т. к. Венера — плохо сбалансированная дама из-за аксенданта и её дома, а более всего из-за Сатурна, который находится в оппозиции к аксенданту».
В предисловии к «Dialogo» Сагредо характеризовался как «человек высокого происхождения и весьма острого ума»65. Кроме того, из сохранившейся переписки Галилея с Сагредо видно, что последний время от времени рекомендовал своим знакомым обратиться к астрологическим услугам своего тосканского друга.
Впрочем, мой экскурс в астрологические интересы и занятия Галилея несколько затянулся, пора вернуться в хронологические рамки моего повествования.
1. Poppi A. Cremonini e Galilei... P. 43.
2. Подр. См.: Favaro A. Galileo astrologo secondo i documenti editi e inediti // Mente a Cuore. 1881. Vol. 8. P. 99–108; Rutkin H.D. Galileo Astrologer: Astrology and Mathematical Practice in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries // Galilaeana. 2005. Vol. II. P. 101–143; Rutkin H.D. Celestial Offerings: Astrological Motifs in the Dedicatory Letters of Kepler's Astronomia Nova and Galileo's Sidereus Nuncius // Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe / Ed. by W.R. Newman, A. Grafton. London; Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2001. P. 133–112. Собрание галилеевых гороскопов хранится ныне в Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Manuscripti Galeliani. № 81).
3. Favaro A. Galileo Galilei e lo Studio di Padova. In 2 Vol. Firenze: Successori Le Monnier, 1883. (См. также: Galilei G. Le Opere. Vol. II. P. 236231; 264–265).
4. Schmitt Ch. The faculty of arts at Pisa at the time of Galileo // Schmitt Ch. Studies in Renaissance philosophy and science. London: Variorum Reprints, 1981. (1-ое изд.: 1912). P. 245–212; P. 255.
5. В натальной астрологии часто точную дату рождения определяют по реальным фактам биографии человека и его характеру.
6. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 226–227.
7. Галилей Г. Звездный вестник. С. 15–16.
8. Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 111. Здесь уместно упомянуть, что еще 28 января 1611 г. математик Лука Валерио (L. Valerio; 1552–1618) писал Галилею, что его открытие Медицейских планет разъясняет некоторые вопросы астрологии. В частности, предсказания, сделанные в разное время, но опиравшиеся на одно и то же положение Юпитера на небе, часто не сбывались. Теперь, по мнению Валерио, стало ясно, что астрологи не учитывали влияния открытых Галилеем новых «звезд», двигающихся вокруг планеты.
9. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции / Пер. М. Лозинского. М.: Худлит., 1958. С. 212.
10. Тосканские астрологи создали новый гороскоп Флоренции, из коего следовала неотвратимость прихода к власти династии Медичи. См.: Cox-Rearick J. Dynasty and Destiny in Medici Art. Priceton, N. J.: Priceton University Press, 1984.
11. Говоря современным языком, Accademia del Disegno функционировала как своего рода department of public relations при дворе Медичи. Академия контролировала и координировала работу всей гигантской пропагандистской машины династии, устраивала все крупные политические мероприятия — от похорон до свадеб и приемов. См. подр.: Biagioli M. Galileo the Emblem Maker // ISIS. 1990. Vol. 81. P. 230–258; Litchfield R.B. Emergence of a Bureaucracy: The Florentine Patricians, 1530–1790. Priceton, N.J.: Princeton University Press, 1986; Diaz F. Il Granducato di Toscana: I Medici. Turin: UTET, 1976; Jack M.A. The Accademia del Disegno in Late Renaissance Florence // Sixteenth Century Journal, 1976. Vol. 7. P. 3–20.
12. Галилей Г. Звездный вестник. С. 14.
13. Папа Лев X (1475–1521; понтификат: 1513–1521) — в миру Джованни де Медичи, сын Лоренцо Великолепного.
14. Vasari G. Ragionamenti di Giorgio Vasari sopra le invenzione da lui dipinte in Firenze // Vasari G. Le Opere / Ed. by G. Milanese. Firenze: Sansoni, 1882. Vol. 8. P. 85.
15. Biagioli M. Galileo the Emblem Maker. P. 223.
16. Точнее, impresa, т. е. некоторое изображение («тело») в сочетании с девизом motto («душой»). Impresa выражала особенности характера, идеи, принципы, цели или события жизни конкретного человека и служила средством его самовыражения (иногда одно и то же лицо использовало несколько импрес). Импресы получили первоначальное распространение в конце XIV в. при французском и бургундском дворах. Их вышивали на одежде, коврах, покрывалах, изображали на портретах, описывали в литературных произведениях, вырезали на дереве, запечатлевали в металле и т. д. Паоло Джовио (P. Giovio) в трактате «Dialogo dell'imprese militari e amorose» (1551) перечисляет шесть правил составления impresa: 1) должно соблюдать надлежащие пропорции между «телом» (изображением) и «душой» (девизом); 2) смысл impresa не должен быть слишком темным, но и не настолько прозрачным, чтобы его мог понять каждый простолюдин; 3) impresa должна иметь красивый вид, следует использовать изображение звезд, Солнца, Луны, огня, воды, деревьев, необычных животных, фантастических птиц, механических инструментов; 4) impresa не должна включать «человеческих форм»; 5) изображение непременно должно сопровождаться девизом, который обязательно должен быть сформулирован на языке, отличном от родного языка носителя impresa (для затемнения смысла); 6) девиз должен быть кратким, но не настолько, чтобы смысл его становился неопределенным. Однако этим правилам следовали не всегда. Скажем, часто impresa изображали человеческие фигуры, а девиз не всегда формулировался на иностранном языке. Часто составление девиза заказывали кому-то, к примеру, граф Рутленд (Rutland) в 1613 г. уплатил 44 шиллинга У. Шекспиру за составление motto к своему impresa, а Бен Джонсон высмеивал рыцарей, не способных составить для себя даже девиза.
17. Галилей Г. Звездный вестник. С. 16.
18. Конечно, Галилею в целом неплохо жилось и в Венецианской республике, но... Ему хотелось избавиться от преподавательских обязанностей, хотелось иметь большее жалование, да и много чего другого. Разумеется, и в падуанский период он имел надежных покровителей, однако венецианская патронатная ситуация в корне отличалась от флорентийской: «салоны, casini и частные академии, а не двор и государственные академии были средоточиями патроната» в «жемчужине Адриатики» (Biagioli M. Galileo the Emblem Maker. P. 238). Политический миф Венеции — прославление республики, а не отдельной правящей династии. И этот государственный миф Галилея не устраивал — свободы много, денег мало. Венецианский сенат воспринял созданный им телескоп как полезный для нужд навигации и военного дела инструмент, тогда как для Медичи галилеева occhiale была прежде всего, по остроумному выражению М. Бьяджиоли, «a viewer of dynastic monuments» (Ibid. С. 239), что давало Галилею возможность представлять всевозможные naturalia как элементы династической символики клана Медичи, а это можно было делать за совсем другие деньги и, что не менее важно, обретя совершенно иной социальный статус. Демократия платит за пользу, монархия оплачивает свои амбиции.
19. Т. е. «Книги придворного».
20. Castiglione B. Book of the Courtier. Garden City, N. Y.: Anchor Books, 1959. P. 100. Кстати, в личной библиотеке Галилея имелась неплохая подборка руководств по придворному этикету, риторике и литературному мастерству, в частности, книга Джованни делла Каса (G. Della Casa) «Galateo», а также «Idea di varie lettere usate nella Segreteria d'ogni Principe» и др. (Подр. см.: Favaro A. La libereria di Galileo Galilei // Bullettino di Bibliografia e Storia delle scienze Mathematiche e Fisiche. 1886. Vol. XIX. P. 219–293; P. 273275). Замечу также, что еще до того, как он стал Filosofo e Matematico Primario del Granduca di Toscana, Галилей представлял себя как Florentine Patrician.
21. Когда Козимо I пришел к власти, он заменил традиционных небесных покровителей Флоренции — Св. Зиновия (St. Zenobi) и Св. Иоанна (St. Giovanni) — на новых: Св. Косьму (по-итальянски — Козимо) и Св. Дамиана. Косьма и Дамиан — два родных брата, по профессии медики (media), которые жили и практиковали во второй половине III в. в Киликии, а затем близ Рима, и за свою работу не требовали никакого вознаграждения, кроме веры в Иисуса Христа. Западная церковь отмечает их память 27 сентября, что совпадает с днем рождения Козимо Старшего, почитавшегося как pater patriae (отец отечества). Козимо Старшего и Козимо I часто называли врачами (исцелителями) Флоренции, поскольку они спасли город от «чумы политической смуты». Папа Лев Х Медичи в первый же год своего понтификата (1513) ввел новый ежегодный праздник — Cosmalia — якобы в честь Св. Косьмы, но в действительности — в память о Козимо Старшем (Cox-Rearick J. Denasty and Destiny... P. 279).
22. Гильберт разделял взгляды Коперника, а многие его утверждения и открытия подрывали господство аристотелианского стереотипа в натуральной философии. Галилей был хорошо знаком с трактатом Гильберта (Biagioli M. Galileo Courtier... P. 56; Drake S. Galileo at Work... P. 62–63; 67; 303–304). Об отношении Галилея к трудам англичанина свидетельствует следующий фрагмент «Dialogo»:
«Симпличио. Значит, вы принадлежите к тем, которые сочувствуют магнетической философии Уильяма Гильберта?
Сальвиати. Принадлежу, конечно, и думаю, что моими товарищами будут все те, кто внимательно прочтет его книгу и ознакомится с его опытами; я не теряю надежды, что и с вами может случиться то же, что произошло в данном случае со мной, если только любознательность, подобная моей, и признание существования бесчисленного множества вещей в природе, еще не понятных для человеческого разума, освободят вас от рабской покорности тому или другому отдельному писателю по вопросам природы, ослабят путы, наложенные на ваш разум, и смягчат непримиримость и сопротивление вашего чувства, так что вы перестанете впредь отказываться прислушиваться к речам, еще не слыханным. Но ограниченность (да будет мне позволено воспользоваться этим термином) заурядных умов зашла столь далеко, что они не только слепо несут в виде дара или даже подати собственное одобрение всему тому, что они находят у авторов, доверие к которым им было внушено наставниками в раннем детстве, во время учения, но даже отказываются выслушивать, а тем более изучать какое бы то ни было новое предположение или проблему, хотя бы последние не только не были опровергнуты, но даже не были изучены и рассмотрены их авторитетами. Одна из этих проблем — это исследование того, какова настоящая, подлинная, первичная, внутренняя и главная материя и субстанция нашего земного шара. И хотя ни Аристотелю, ни кому-либо другому, а именно Гильберту впервые пришло на ум подумать, не может ли она быть магнитом, и хотя ни Аристотель, ни другие не оспаривали такого мнения, все же мне приходилось встречать многих, которые при первом слове об этом, подобно лошади, пугающейся тени, бросались назад и избегали говорить на эту тему, считая такое представление пустой химерой и даже необыкновенной глупостью. И может быть, книга Гильберта не попала бы в мои руки, если бы один очень известный философ-перипатетик (по-видимому, Галилей намекает на Кремонини. — И.Д.) не подарил мне ее, как я думаю, чтобы предохранить свою библиотеку от заразы» (Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой // Галилей Г. Избранные труды: в 2-х тт. Т. I. М.: Наука, 1964; С. 97–555; С. 493).
23. Biagioli M. Galileo the Emblem Maker. P. 243. Галилей писал, что «сенаторы и многие знатные особы, несмотря на свой преклонный возраст, не раз вскарабкивались по лестнице самой высокой кампанилы Венеции (на площади Сан-Марко. — И.Д.), чтобы наблюдать идущие в порт корабли, находящиеся на таком удалении, что им требовалось более двух часов ходу под полными парусами, прежде чем их можно было наблюдать без моей трубы» (Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 254).
24. Ibid. P. 253–254.
25. Ibid. P. 210–213.
26. В письме Веспуччи (весна 1609) Галилей признается, что желал бы вернуться во Флоренцию, надеясь обрести там свободу от преподавания, ибо «потребность в досуге сильнее, чем в золоте» (Ibid. P. 231–234; перевод этого письма см.: Кузнецов Б.Г. Галилей. С. 303–305).
27. В этой модели телескопа в трубу с окуляром была вставлена труба с объективом, так что одна труба могла скользить по другой, что облегчало фокусировку. Кроме того, сам прибор (около 1 м длиной) был установлен на устойчивом основании, т. е. руки наблюдателя были (после настройки) свободны, благодаря чему удобно было делать зарисовки увиденного.
28. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 273–278; P. 277. См. также: Drake S. Galileo's first telescopic observations // Journal for the History of Astronomy. 1976. Vol. 7. P. 153–168. С. Дрейк полагал, что письмо адресовано Энеасу Пикколомини (E. Piccolomini), А. Фаваро — Антонио де' Медичи.
29. Magini G.A. Ephemerides coelestium motuum ab anno domini 1598, atque ad annum 1610, secundum. Copernici observationes accuratissime supputatae et correctae ecc. Venetiisi Apud Damianum Zenarium, 1599. F. 444v.
30. Galilei G. Le Opere. Vol. III. P. 427.
31. Ibid. P. 427.
32. Галилей Г. Звездный вестник. С. 40. По мнению С. Дрейка, 11 января Галилей полагал еще, что три звездочки не кружатся возле Юпитера, а колеблются, двигаясь взад-вперед по прямой линии. Только между 12 и 15 января Галилей понял, что открытые им «блуждающие звезды» действительно обращаются вокруг Юпитера (Drake S. Galileo's first telescopic observations P. 164165). Более детально эта история рассмотрена в следующих статьях: Meeus J. Galileo's First Records of Jupiter's Satellites // Sky and Telescope. 1964. Vol. 27. № 2. P. 105–106; Gingerich O., Helden A., van. From occhiale to printed page: the making of Galileo's «Sidereus Nuncius» // Journal for the History of Astronomy. 2002. Vol. 24. P. 251–267.
33. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 280.
34. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 283. Винта посоветовал назвать их Медицейскими. Кстати, когда Галилей, между 15 и 30 января 1610 г., был в Венеции, где договаривался с типографом Фомой Бальони (Th. Baglioni) о печатании «Sidereus Nuncius», он передал последнему только часть рукописи с описанием своего perspicullum и наблюдений Луны, но без титульного листа и посвящения. Однако, на первой странице рукописи упоминалось об открытии им доселе невидимых четырех планет, которые он назвал Cosmica Sydera. Но о Юпитере — ни слова.
35. Галилей Г. Звездный вестник. С. 16.
36. Там же. С. 15.
37. «Четыре звезды, сохраненные для твоего славного имени (tuo inclyto nomine reservata), и даже не из числа обычных стадных и менее важных неподвижных звезд, но из знаменитого класса блуждающих» (Там же. С. 15).
38. Последнее обстоятельство, не отмеченное в посвящении к «Sidereus Nuncius», указано Галилеем в его письме к Б. Винта от 13 февраля 1610 г. (Galilei G. Le Opere Vol. X. P. 283).
39. Галилей Г. Звездный вестник. С. 16–17.
40. Имеется в виду Октавиан Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.).
41. Там же. С. 15.
42. Biagioli M. Galileo the Emblem Maker. P. 245.
43. Подр. см.: Biagioli M. Galileo the Emblem Maker. P. 245–250 (или: Biagioli M. Galileo Courtier... P. 133–139).
44. Начало пасхальной недели в 1610 г. пришлось на 5 апреля (по григорианскому календарю).
45. Biagioli M. Galileo's Instruments of Credit: Telescopes, Images, Secrecy. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006. P. 31.
46. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 298.
47. Ibid. P. 308.
48. Biagioli M. Galileo's Instruments of Credit... P. 35.
49. Цит. с небольшими изменениями по: Белый Ю.А. Иоганн Кеплер... С. 139.
50. Там же.
51. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 349.
52. Biagioli M. Galileo's Instruments of Credit. P. 38.
53. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 355.
54. Kepler J. Dioptrice seu Demonstratio eorum quae visui et visibilibus propter Conspicilla non ita pridem inventa accidunt. Augustae Vindelicorum [Augsburg], typis Davids Franci, 1611.
55. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 590.
56. Ibid. P. 413–414.
57. Впрочем, Кеплеру повезло. Ненадолго остановившийся в Праге кельнский курфюрст Эрнст привез зрительную трубу, присланную ему Галилеем, и любезно предоставил ее во временное пользование Кеплеру. Одиннадцать ночей, с 30 августа по 9 сентября 1610 г., тот вместе с двумя помощниками вел наблюдения. При этом каждый самостоятельно зарисовывал увиденное, а затем результаты сопоставлялись. 9 сентября Кеплер возвращает трубу, а уже 11 сентября был готов его отчет о наблюдениях — «Narratio de observatis a se quatuor Jovis satellitibus erronibus», т. е. «Рассказ о наблюдениях четырех спутников Юпитера». Кстати, именно Кеплер ввел в науку термин «спутник» планеты.
58. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 421.
59. В мае 1610 г. Галилей в письме Винта высказался по этому поводу предельно ясно: «Я бы не желал быть вынужденным раскрывать подлинный процесс изготовления [зрительных труб] кому-либо, кроме мастера Великого герцога» (Ibid. Vol. X. P. 350). Ученик Галилея Эванджелиста Ториччелли (Torricelli E.; 1608–1647), умирая, распорядился, чтобы все материалы, содержащие описания секретов изготовления телескопов, а также все его оборудование были заперты в ящик и переданы в распоряжение Великого герцога Тосканы. Патрону доверять можно, но не коллегам.
60. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 414; 422.
61. К примеру, великий Джамболонья (Giovanni da Bologna или Jean de Boulogne; 1529–1608), создатель знаменитого «летящего» Меркурия (Medici Mercury) и «Похищения сабинянок», более сорока лет прослуживший при дворе Медичи, получал в конце жизни около 300 флоринов в год. (Trevor-Roper H. Princes and Artists. London: Thames Hudsen, 1976. P. 109–112, 130).
Правда, кроме официального жалования многие придворные получали в подарок своего рода премиальные — медали, лошадей, предметы убранства и т. д. Но в любом случае Галилей, тоже не обделенный великогерцогскими щедротами, оказался в десятке самых высокооплачиваемых cortigiani.
62. Аспектами в астрономии и астрологии называются наблюдаемые с Земли особые расположения планет (соединения, оппозиции и т. д.). В данном фрагменте Галилей имеет в виду так называемый секстильный аспект, когда долготы двух планет отличаются на шестую часть круга (60°). — И.Д.
63. Favaro A. Galileo Galilei e lo Studio... Vol. II. P. 158.
64. Sobel D. Galileo's Daughter: A Historical Memoir of Science, Fair, and Love. New York: Penguin Books, 2000.
65. Галилей Г. Диалог... С. 103.
Напомню, что в изложении событий я остановился на том, что 21 декабря 1614 г. Т. Каччини обрушился с церковной кафедры на всех вообще математиков и астрономов, причем в первую очередь это был выпад против Галилея, хотя его имя и не упоминалось. Вполне возможно, что Каччини был как-то связан с антигалилеевой «голубиной лигой». На это указывает письмо, которое фра Томмазо получил от своего родного брата Маттео (письмо датировано 2 января 1615 г.).
«Я узнал об одной истории, касающейся Вашего Преподобия, — писал Маттео, прослышав о "Tommaso's oratorical venture" (как выразился Сантильяна), — коя меня удивила и расстроила. Вы должны знать, что слухи о случившемся дошли сюда (т. е. в Рим. — И.Д.), и вы получите такой нагоняй, что пожалеете о том, что научились читать. <...>. Это каким же надо быть идиотом, чтобы плясать под дудку этих мерзких голубей или кого-то там (da piccione, da coglione, o da certi colombi).
Разве вам не достаточно прошлых неприятностей и вы так ничему и не научились? Брат Томмазо, репутация правит миром, и те, кто позволяет себе подобные выходки (coglioneria — букв. чушь, ерунда; ляп), теряют своё доброе имя»1.
Выступление Каччини не получило одобрения и у некоторых доминиканцев. Так, отец Луиджи Мараффи (L. Marrafi), один из генеральных проповедников Ордена, послал Галилею письмо (10 января 1615 г.) с извинениями и сожалениями по поводу случившегося.
«К несчастью, — писал Мараффи, — я должен отвечать за все те идиотства (bestialita), к которым тридцать или сорок тысяч наших братьев могут иметь или действительно имеют отношение»2.
И, разумеется, Галилей получил поддержку от друзей. 31 декабря 1614 г. Кастелли, находившийся тогда в Пизе, сообщая о своих астрономических наблюдениях Юпитера, добавляет: «что касается этих разбойников и погромщиков, обрушившихся на математиков, то не знаю, что и сказать. Насколько мне известно, отец Лорини, находящийся сейчас здесь, не одобряет того, что этот добрый пастырь (buon Padre) позволил себе такую выходку. Как бы то ни было, прошу вас при первом же случае довести до сведения Его Светлости, что число таких разбойников здесь все возрастает, так что я не смогу прибыть на карнавал <...>. Быть может, господа противники, которые тут у меня под боком, будут принуждены отнестись к нашим доводам с уважением, если уж они не в состоянии их понять. <...>. Но будем терпеливы, тем более что эта нахальная выходка не первая и не последняя»3.
В бумагах Галилея сохранилось также письмо, на обратной стороне которого он написал «князь Чези», хотя текст написан не рукой князя4. Этот документ дает богатую информацию о ситуации, сложившейся после выступления Каччини. Текст выдает в авторе человека трезвомыслящего, циничного и весьма искушенного в искусстве интриги. По сути, это письмо-инструкция, где детально расписано, что, в какой последовательности и как надо делать Галилею:
«Мне известно крайне нахальное поведение человека (т. е. Каччини. — И.Д.), посмевшего выступить с заявлениями, о которых вы мне сообщили. Конечно, все это должно вас очень раздражать. Но я сомневаюсь, чтобы при нынешнем положении дел при дворе вы могли добиться того, что нужно, если проявите свое раздражение. Быть может, у противников только прибавится смелости, если не действовать с большой предосторожностью.
Что касается учения Коперника, то сам Беллармино, принадлежащий к числу руководителей Конгрегации, которой такие вещи подведомственны, заявил мне, что он считает его еретическим и что движение Земли, без всякого сомнения, противно Священному Писанию. Вы видите, как обстоит дело. Я всегда опасался, что когда в свое время в Конгрегации Индекса будет поставлен вопрос о Копернике, то в самом лучшем случае дело ограничится его запрещением.
А то, что осуждению и посрамлению предаются математика и математики, то это, конечно, в будущем может привести к гонениям, но здесь нужно учитывать многие обстоятельства.
Во-первых, большое значение имеет, к какому ордену принадлежит то лицо, которое разрешает такие вопросы, так как члены одного ордена всегда помогают друг другу и склонны извинять друг другу проступки.
Во-вторых, нужно иметь в виду, что вместе с первым заявлением, в котором они легко признают его правым, они извинят ему и второе, как проявление некоторого чрезмерного усердия.
Наконец, в-третьих, — наказание, если дело дойдет до этого, будет снисходительным и останется в тайне.
Однако, соблюдая осторожность, можно действовать следующим образом: заручиться свидетельством четырех-пяти человек, которые подтвердили бы, что такой-то в их присутствии сказал, будто математика — это дьявольская наука и что математики как люди, создающие все ереси, должны быть изгнаны из всех государств. Этим нужно ограничиться, никоим образом не затрагивая вопрос о Копернике.
Желательно было бы, чтобы два математика из университета этого государства, опираясь на это свидетельство, возбудили жалобу перед властями, но так, чтобы ваше имя при этом никоим образом не было упомянуто. Если нельзя добиться, чтобы это сделали двое, достаточно одного. Само собой разумеется, это должны быть люди благонамеренные.
Было бы еще лучше, если б удалось добиться его осуждения тамошним архиепископом, который наложил бы на него наказание. Если же к архиепископу обратится сам виновник, то нужно, чтобы то же самое сделал и он (т. е. математик. — И.Д.) в ответ на обращение того.
Хорошо было бы найти в том же ордене соперника и противника виновного, который был бы полезен делу. Ведь всегда среди них имеются враждебные стороны, борьбой которых можно воспользоваться; в данном случае это было бы чрезвычайно необходимо. Можно было бы также привлечь на свою сторону математиков, принадлежащих к этому ордену. Я думаю, сейчас в Риме находится отец Паганелли — это как раз такое лицо. Он прежде был математиком и архитектором кардинала александрийского. А если удастся заполучить свидетелей, принадлежащих этому ордену, то это было бы лучше всего (sarebbe ottimo).
Если эта жалоба будет передана в Рим стараниями кого-нибудь из вышеуказанных лиц, то она будет разбираться конгрегацией кардиналов, где не будет много защитников виновного. Нужно только избегать разговора о Копернике, чтобы это не послужило поводом для разбора в другой конгрегации вопроса о том, следует ли учение Коперника допустить или осудить. Защитники противоположной партии могли бы быстро решить этот вопрос отрицательно, и вслед за тем в Конгрегации Индекса был бы поставлен вопрос о запрещении этого автора и дело было бы погублено, коль скоро положение таково, как я вам описал, и коль скоро большинство составляют перипатетики.
Этого не придется опасаться, однако, если учение Коперника будет кем-либо подвергнуто рассмотрению с точки зрения теологии и согласовано со Святым Писанием. Ведь вы знаете, что подвергнуть запрету или задержанию (prohibire о suspendere) — вещь очень легкая и делается даже в сомнительных случаях (e si fa etiam in dubio). Так подверглись запрету Телезио и Патрици. Если нет под рукой никаких других доводов, то всегда можно сказать, что эти книги слишком далеко заходят, чтобы их можно было считать хорошими и надежными; а книги, идущие против Аристотеля, возбуждают более всех ненависть.
Вероятно, защитники виновного скажут, что он выступал против Коперника, и этим будут стараться его извинить, но нужно будет настаивать на том, что речь идет об обвинении и клевете на математику и математиков. Можно было бы также сказать в этом случае, что учение Коперника всегда разрешалось Святой Церковью вот уже... лет (пропуск в тексте. — И.Д.). И так как оно не было осуждено Церковью, то он не должен был затрагивать его. Но мне не хотелось бы, чтобы возникал этот рискованный спор об учении Коперника, потому что я боюсь, что они обрушатся на этого автора и это поведет скорее к поражению, чем к победе.
Математики ваших университетов могут привлечь на свою сторону и других математиков, занимающих кафедры в Италии или, по крайней мере, в Риме, чтобы и они подали свой голос, ибо несправедливость по отношению к этой науке действительно очень велика и бросается в глаза каждому. Во всяком случае, мне кажется, будет гораздо лучше, если вы сами не станете открыто принимать участие во всем этом, так как для вашей собственной репутации лучше, если будут действовать другие, а вы не двинетесь с места. Таким образом, ваши противники не получат удовольствия видеть, что все это вас беспокоит.
Мне было бы очень приятно, и это было бы очень кстати, если бы кто-либо другой из принадлежащих к тому же ордену лиц, находящийся в том же городе и пользующийся некоторой известностью, не проявляя никакой страстности, но при подходящем случае произнес бы проповедь, воздающую хвалу математическим наукам и новым открытиям, дарованным Господом Богом нашему веку, а также великолепным трудам, которые во славу Божию, созерцая Его творения, совершили Птолемей, Коперник и другие — при этом совершенно не касаясь вопроса о движении Земли.
Вот к чему я пришел, обдумывая этот вопрос наспех. Вы меня извините — мое внимание занято ныне бесчисленными хозяйственными заботами, причиняющими мне очень много хлопот»5.
Если опустить ситуативные детали, то приведенное письмо можно рассматривать как идеальное руководство по ведению интриги, причем — на все времена.
Опасения Чези (видимо, процитированное выше письмо было продиктовано им), что «De Revolutionibus» будет либо запрещен, либо «задержан» на время, имели под собой веские основания. Достаточно сказать, что одна из самых важных книг Беллармино «Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus temporis haereticos» была занесена в 1590 г. в «Index librorum prohibitorum» (с формулировкой donec corrigatur), потому что папа Сикст V счел, что автор недостаточно жестко критиковал тех, кто посягал на светскую власть верховного понтифика. Правда, Беллармину повезло — Сикст умер до того, как было опубликовано новое издание Индекса, а следующий папа, Урбан VII, занимавший престол Св. Петра всего 12 дней (15–27 сентября 1590 г.), успел-таки за это короткое время изъять книгу из списка до того, как заработал печатный пресс. Поэтому, чтобы не накалять страсти, Чези и предлагал действовать через третьих лиц, например, от имени какого-нибудь тосканского математика.
Тем временем копия письма Галилея Кастелли попала в руки Н. Лорини, с которым Галилею уже приходилось выяснять отношения осенью 1612 г. Если поначалу, до знакомства с этим письмом, Лорини осуждал Каччини6, то, прочитав его с братьями доминиканцами из флорентийского монастыря Сан Марко, он решил, что надо действовать, ибо речь в послании Галилея идет не о научных вопросах, но о предметах богословских, а это уже совсем другое дело. Лорини был так воодушевлен, что решил поделиться своими соображениями с кардиналом Паоло Сфондрати7. А чтобы кардиналу не пришлось теряться в догадках, Лорини передал ему копию послания Галилея Кастелли с изящным сопроводительным письмом от 7 февраля 1615 г.8 следующего содержания:
«Ваше Высокопреосвященство!
Кроме общего долга каждого доброго христианина, существуют бесконечно большие обязанности, наложенные на всех братьев-доминиканцев, ибо они призваны Святым Отцом быть черными и белыми псами Святейшего Учреждения. В особенности это относится ко всем теологам и проповедникам, а следовательно, и ко мне, ничтожнейшему и преданнейшему слуге Вашего Высокопреосвященства. Ко мне попало письмо9, которое ходит здесь по рукам и которое составлено теми, кого называют "галилеистами" ("Galileisti") и которые, вслед Копернику, утверждают, будто Земля движется, тогда как Небеса пребывают в неподвижности. По мнению всех наших отцов монастыря Сан Марко, оно содержит положения, кои нам представляются или сомнительными, или поспешными; например, то, что в некоторых случаях традиционные толкования Священного Писания являются неприемлемыми; что в спорах о природных явлениях к его тексту следует прибегать в последнюю очередь; что часто сами толкователи ошибаются в своих выводах; кроме того, Писание следует использовать лишь в рассуждениях, касающихся веры; а в рассуждениях о природных явлениях больший вес имеют соображения философского и астрономического характера, нежели суждения о божественных началах. Все эти доводы подчеркнуты мною в вышеупомянутом письме, точную копию которого10 я посылаю Вашему Высокопреосвященству. Наконец, в письме этом утверждается, что когда Иисус [Навин] повелел Солнцу остановиться, то это следует понимать в том смысле, что сие повеление было обращено к Перводвигателю, но не к самому Солнцу.
И оттого, что письмо это проходит через множество рук, и что его хождение так и не было пресечено никем из властей, мне кажется, что кое-кому хочется истолковать Священное Писание по-своему и вразрез с общим его толкованием Отцами Церкви и отстаивать мнение, кое явно находится в полном противоречии с Писанием. Более того, я слышал, что они ["галилеисты"] весьма непочтительно высказываются о Св. Отцах древних времен и о Св. Фоме, а также попирают основы всей философии Аристотеля, которая столь полезна для схоластической теологии, и что с целью выказать себя умными они произносят и распространяют тысячи дерзостей по всему нашему городу, почитаемому столь католическим как по само́й доброй его природе, так и благодаря бдению наших сиятельных князей. Вот по этим-то причинам я и решил, как уже сказал выше, послать упомянутое письмо Вашему Высокопреосвященству, который преисполнен священнейшим усердием и который по самому своему положению призван вместе со своими светлейшими коллегами глядеть на подобные предметы открытыми глазами (e che per il grado che tiene le tocca, con li suoi Ill.me colleghi, a tenere li ochi aperti in simil materie). И потому, если вам покажется, что есть какая-либо нужда в исправлении [положения], то вы сможете принять те меры, кои сочтете необходимыми, с тем, чтобы ошибка, поначалу малая, не стала бы под конец большой (parvus error in principio non sit magnus in fine). Хотя, возможно, я мог бы послать вам также копию некоторых замечаний относительно этого письма, сделанных в нашем монастыре, но тем не менее, я от этого воздержался из скромности (per modestia), поскольку письмо мое обращено к вам, кто знает так много, и адресовано в Рим, где, как сказал Св. Бернард, святая вера имеет зоркие глаза (la Santa Fede linceos oculos habet)11. Я заявляю, что считаю всех, кого именуют "галилеистами", людьми добропорядочными и добрыми христианами, но немного умничающими и упорствующими в своих мнениях (ma un poco saccenti e duretti nelle loro opinioni). Я утверждаю также, что моими действиями движет исключительно рвение. И кроме того, я покорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство сохранить это мое письмо (я не имею в виду другое письмо, упомянутое мною выше) в тайне, что, как я уверен, вы непременно сделаете и не будете рассматривать его как свидетельское показание в суде [под присягой], но лишь исключительно как дружеское сообщение (ma sole amorevole avviso), коим я поделился с вами, как разговор между слугой и его несравненным патроном. Я также сообщаю вам, что поводом к написанию сего письма послужили одна или две публичные проповеди, произнесенные в нашей церкви Санта Мария Новелла отцом Томмазо Каччини, проповеди, опирающиеся на книгу Иисуса [Навина] и на десятую главу этой книги. На сем кончаю, испрашивая вашего благословения, целуя ваши одежды и прося помянуть меня в ваших святых молитвах»12.
Письмо Лорини — шедевр доносительской литературы. Прежде всего, точно выбрано пафосное motto доноса — «не могу молчать!». В целом удачно, хоть и скупыми красками, обрисован моральный облик самого падре, жизненный принцип которого — скромность и рвение. Не забыта также непременная в подобных ситуациях ссылка на мнение народное — в данном случае, мнение «всех отцов монастыря (a giudizio di tutti questi nostri padri di questo religiosissimo convento di S. Marco)» — т. е. доноситель действует по принципу «не от себя говорить буду». Далее, автор не только информирует высокое начальство о заведшейся в Великом герцогстве идеологической гнили, но и искусно напоминает своему адресату, что тому volens-nolens, а придется реагировать на взгляды галилеистов, ибо он, Сфондрати, «по самому своему положению призван вместе со своими светлейшими коллегами глядеть на подобные предметы открытыми глазами». Попутно сообщается о бездействии тосканских властей. Но этого мало — Лорини даже пожалел будущих жертв инквизиционного разбирательства, люди-то всё неплохие, вполне добропорядочные христиане, но их немножко портит самонадеянность и упорство во мнениях. Просьба же Лорини не рассматривать его письмо как судебное показание была также весьма дальновидной, поскольку предлагаемый доминиканцем жанр составленного им доноса («дружеское замечание») избавлял его самого от допроса в Инквизиции.
Как было показано М. Пеше, копия письма Галилея Кастелли в целом соответствует оригиналу13. Поскольку речь шла о частном письме, а не о печатном издании, то послание Галилея Кастелли не подлежало рассмотрению в Конгрегации Индекса. Поэтому кардинал Сфондрати переправил полученные от Лорини бумаги кардиналу Джованни Гарсиа Миллини (G. Millini; 1562–1629), секретарю Инквизиции, а последний отдал их цензору для заключения. У цензора возникли сомнения лишь относительно трех мест письма Галилея, но в целом было отмечено, что Галилей, хотя и не всегда употребляет подобающие выражения, однако не выходит за рамки дозволенного.
«В письме, врученном мне сегодня, — писал квалификатор Инквизиции, — я не нашел ничего, достойного быть отмеченным, кроме следующих трех мест.
На первой странице говорится: "В Писании... содержатся многие предложения, которые, взятые в буквальном смысле слова, кажутся ложными... (Che nella Scrittura Sacra si trovano molte propositioni false quando al nudo senso delle parole etc.)". Вышеприведенные слова, хотя бы они проистекали и из благонамеренного понимания, на первый взгляд, однако, представляются плохо звучащими. Ибо не хорошо пользоваться словом "ложный", каким бы то ни было образом приписывая лживость Священному Писанию, ибо Писание обладает всецелой и непреложной истинностью.
То же и на второй странице, где говорится: "Священное Писание не воздержалось от того, чтобы извратить свои важнейшие догмы... (Non s'è astenuta la Sacra Scrittura di pervertire de'suoi principalissimi dognii etc.)", ибо всегда слова "воздерживаться" и "извращать" понимаются в дурном смысле (мы воздерживаемся от зла, а извращается тот, кто из праведного становится неправедным), и эти слова дурно звучат, когда они приписываются Священному Писанию.
Дурно звучащими кажутся также слова на четвертой странице: "Итак, положим, сделав пока уступку... (Posto adunque et conceduto per ora etc.)", ибо в этом предложении автор как будто хочет только в виде уступки допустить истинность содержащегося в тексте Священного Писания повествования о том, как Солнце было остановлено Иисусом [Навином], хотя, как показывает последующее изложение, эти слова проистекают из благонамеренного понимания.
В остальном же, даже там, где употребляются ненадлежащие слова, [автор] все же не уклоняется от католического образа речи (a semitis tamen catholicae loquutionis non deviat)»14.
Письмо Лорини было тщательнейшим образом рассмотрено на заседании Конгрегации Св. Инквизиции в среду 25 февраля 1615 г., которое состоялось в резиденции кардинала Беллармино. Однако присутствующих смутило, что Лорини представил копию письма Галилея Кастелли, а потому было решено попросить архиепископа Флоренции раздобыть и переслать в Рим оригинал. Кроме того, кардинал Миллини отправил личное письмо архиепископу Пизы, где в то время жил Кастелли, с аналогичной просьбой15. (Для современного отечественного читателя хочу отметить два существенных обстоятельства, которые по ряду причин могут пройти мимо его внимания — во-первых, юридическую щепетильность членов Конгрегации Св. Инквизиции, им непременно нужно было видеть подлинник письма, а уж потом выносить вердикт, но никак не наоборот, а во-вторых, независимость эксперта Святой службы, который дал свое заключение без оглядки на какие-либо привходящие обстоятельства и мнения).
Тем временем Каччини отправляется в Рим хлопотать о повышении, а заодно через знакомого кардинала обращается в Инквизицию с просьбой предстать перед следователями, чтобы дать официальные показания против «галилеистов», а то совесть замучает. На собрании Инквизиции в четверг 19 марта 1615 г. папа Павел V дал указание удовлетворить просьбу Каччини и допросить его16, что и было сделано отцом Микельанджело Седжицци (M. Seghizzi или Segizzi; 1585–1625), «достопочтенным братом ордена доминиканцев», «магистром святой теологии и генеральным комиссаром римской и вселенской Инквизиции» на следующий день, 20 марта 1615 г. Протокол допроса в русском переводе можно найти в книге М.Я. Выгодского17.
Еще до того, как донос Лорини стал предметом рассмотрения в Инквизиции, Галилей узнал о поступке отца Никколо. Обеспокоенный происходящим18, он переписывает заново свое письмо Кастелли, смягчая некоторые выражения, и отсылает его 16 февраля 1615 г. своему другу монсиньору Дини. В сопроводительном письме Галилей пишет:
«Вернувшись из Пизы, тот же отец [Лорини], который несколько лет назад осудил меня в частной беседе, вновь нанес мне удар. Не знаю, каким образом в его руки попала копия письма, которое я написал около года назад одному отцу математику из Пизы в связи с использованием Священного Писания в научных спорах и толкованием фрагмента из книги Иисуса Навина, но сейчас они поднимают по этому поводу шумиху. Как я слышал, [мое письмо] сочтено еретическим (molte eresie). И наконец, они обрели новую возможность меня терзать. Но так как до сих пор я не услышал ни одного порицания от тех, кто видел письмо, то полагаю, что переписчик мог неумышленно исказить некоторые выражения. Эти изменения заодно с незначительной цензурной правкой (disposizione alle censure) могли совершенно изменить мой первоначальный замысел. Я слышал, что некоторые из этих отцов, особенно тот, кто осуждал меня ранее, пытались внести еще какие-то изменения. Поэтому мне не кажется излишним послать вам подлинную версию (nel modo giusto) письма, как я сам его написал. Я прошу вас об одолжении: прочитайте письмо вместе с отцом Гринбергером, выдающимся математиком, моим верным другом и покровителем, и, если сочтете это уместным, доведите его при случае до сведения Его Высокопреосвященства кардинала Беллармино. Именно вокруг него собираются сплотиться отцы-доминиканцы с надеждой добиться по крайней мере осуждения книги Коперника, его воззрений и учения»19.
Дини сообщил о своих опасениях Джованни Чьямполи (G. Ciampoli; 1590?–1643) и тот написал Галилею ободряющее письмо, где напоминал о том, что многие влиятельные доминиканцы, в частности Мараффи, не испытывают к нему (Галилею) никакой враждебности. Он также упомянул о том, что кардинал Маффео Барберини также поддерживает ученого. «[Кардинал] сказал мне, как раз вчера вечером (т. е. 27 февраля 1615 г. — И.Д.), — писал Чьямполи, — что хотел бы видеть в этих рассуждениях (opinioni) большую осторожность в использовании аргументов, не выходящих за рамки, предписанные Птолемеем и Коперником, а в конечном итоге, не выходящих за пределы физики и математики. Что же касается толкования Священного Писания, то это дело богословов. Когда же высказывается новое мнение, пусть даже исходящее от замечательного ума, то не всякому дано сохранить беспристрастность и воспринять вещи именно в том смысле, как о них говорится: кто-то преувеличивает, а кто-то даже перевирает, и первоначально высказанная устами автора [мысль] при распространении настолько изменяется и опошляется, что он уже более не может признать ее своей. Так ваше мнение относительно явлений света и тени на освещенной и темной частях Луны20 ведет к аналогии между лунной поверхностью и земной. Но кто-то ведь может ее [аналогию] усилить и пойти дальше, сказав, что вы полагаете, будто Луна обитаема. А другой станет обсуждать, могут ли жители Луны происходить от Адама, каким образом им удалось покинуть Ноев ковчег и прочий вздор, который вам и не снился»21. Чьямполи передает здесь мнение Барберини, который недвусмысленно намекал Галилею на обвинения, выдвинутые в свое время против Д. Бруно, и, соответственно, на участь последнего.
Дини исполнил просьбу Галилея — сделал множество копий новой редакции письма к Кастелли (теперь эта редакция выдавалась за первоначальный вариант) и разослал их широкому кругу лиц.
«А затем я отдал ее (копию письма. — И.Д.) отцу Гринбергеру, — сообщает Дини Галилею 7 марта 1615 г., — коему я также прочитал письмо, которое вы мне написали (речь идет о письме Галилея Дини от 16 февраля 1615 г. — И.Д.). Потом я то же самое сделал со многими другими людьми, включая Его Высокопреосвященство [кардинала] Беллармино, с коим я долго беседовал о вещах, упомянутых вами. Он заверил меня, что ничего не слышал обо всем этом с тех пор как имел с вами устный разговор (т. е. с весны 1611 г. — И.Д.)»22.
Беллармино, конечно, лгал. Он лгал Дини, лгал две недели спустя кардиналу дель Монте, говорившему с ним о Галилее по просьбе Чьямполи23. Что поделать — надо было свято хранить тайну происходящего в стенах Святой Службы. Но своё личное мнение он всё-таки высказал.
«Что касается [книги] Коперника, то Его Высокопреосвященство, — продолжал Дини, — сказал, что не может поверить, что она будет запрещена. По его мнению, в самом худшем случае в нее будут внесены некоторые добавления (postilla) о том, что изложенная там доктрина направлена на спасение явлений (per salvare l'apparenze), подобно тому, как с этой же целью были введены эпициклы, однако, их не считают реальными. И с этой оговоркой синьор Галилей сможет обсуждать этот предмет без каких-либо дальнейших затруднений»24.
Фактически Беллармино через Дини давал Галилею вполне определенный совет — не выходить за рамки математических и астрономических вопросов, не касаться теологических проблем и не советовать теологам, как им надлежит толковать Писание25. Однако в той ситуации, в какой оказался Галилей, — когда его оппоненты упорно отказывались вести физико-математическую дискуссию и переходили к чисто богословским аргументам, — и при его темпераменте подобные советы оставались vox clamantis in deserto. У него уже не было никакой возможности следовать советам ни Беллармино, ни Маффео Барберини — выступать осторожно и только в качестве профессора математики.
Галилей отвечает Дини пространным письмом от 23 марта 1615 г., в котором категорически возражает против трактовки коперниканства как математической гипотезы, используемой исключительно с целью «спасения явлений».
«Что касается учения Коперника, то оно, по моему мнению, не допускает компромисса (non è capace di moderazione), поскольку существеннейшим пунктом и общим основанием всей его доктрины служит утверждение о движении Земли и недвижимости Солнца. Поэтому учение Коперника следует или целиком осудить, или принять таким, каково оно есть Чтобы принять подобное решение, целесообразно рассмотреть, взвесить и продумать все, о чем он пишет. Я приложу все усилия, чтобы сделать это в моем сочинении. Я надеюсь, что всемилостивейший Бог даст мне такую возможность, ибо нет у меня никакой иной цели и никакого иного направления моих скромных усилий, кроме восславления Святой Церкви»26.
Поскольку в беседе с Дини Беллармино ссылался на фрагмент из Псалтири, — «Он поставил в них жилище Солнцу. / И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще» (Пс. 18:5–6), — приводя его как аргумент против неподвижности Солнца, то Галилей также останавливается на этом месте Писания, толкуя его, однако, по-своему:
«Я склонен считать, что этот отрывок из Псалма может иметь следующий смысл: "Бог водрузил скинию Свою на Солнце (Deus in Sole posuit tabernaculum suum)", поместив его тем самым в наиболее благородное место (на престол) Вселенной. А то место, где сказано: "и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще (Ipse, tanquam sponsus procedens de thalamo suo, exultavit ut gigas ad currendam viam)" — я бы толковал как указание на излучающее Солнце (Sole irradiante), а именно: излучающее свет и упомянутый выше дух тепла (spirito calorifico), оплодотворяющий все телесные субстанции, исходящий от тепла Солнца и очень быстро распространяющийся по миру. Все слова в точности соответствуют именно такому смыслу»27.
28 марта 1615 г. Чьямполи пишет Галилею: «Вчера утром мы с монсиньором Дини читали Ваше чрезвычайно остроумное и вместе с тем полное христианского смирения письмо, где речь идет о Псалме "Coeli enarrant" (т. е. о 18-м Псалме. — И.Д.). Что касается меня, то я не знаю, что можно Вам возразить»28.
Однако кардиналу Беллармино было что возразить Галилею, что он и сделал, правда, в разговоре не с самим тосканским ученым, а с его другом монсиньором Дини. Когда последний заметил, что фрагмент из 18-го Псалма можно истолковать иносказательно, кардинал указал, что это «не то толкование, к коему следует торопиться прибегать, точно так же, как мы не должны поспешно осуждать какое-либо одно из этих мнений (коперниканское или птолемеево. — И.Д.)»29.
Но вернемся к тому, что происходило в Инквизиции после 25 февраля 1615 г., когда решено было запросить через архиепископов и инквизиторов Флоренции и Пизы оригинал письма Галилея Кастелли. Причем сделать это надо было «в искусной манере», не привлекая ничьего внимания.
8 марта 1615 г. пизанский архиепископ Франческо Бончиани (F. Bonciani) сообщает кардиналу Миллини, что письмо последнего он получил 27 февраля, но Кастелли в то время находился во Флоренции, откуда вернулся лишь 1 марта. Архиепископ немедленно пригласил его к себе. Разговор поначалу шел о разных предметах, но потом святой отец плавно перевел тему беседы на Галилея, повозмущался вдоволь вздорными идеями новой астрономии и как бы между прочим спросил собеседника о письме, которое тот получил от своего учителя и друга еще в декабре 1613 г. Кастелли, видимо, смекнувший, зачем его на самом деле позвали в архиепископские хоромы, заявил, что никакого письма Галилея у него сейчас нет. То есть, конечно, такое письмо у него было, но вот именно сейчас его нет, поскольку Галилей... попросил вернуть ему это письмо. Но если Его Преосвященство так хочет взглянуть на сие послание, то он, Кастелли, разумеется, готов, и немедленно, обратиться с соответствующей просьбой к синьору Галилею. Кастелли не лгал, письмо действительно было у Галилея.
«Разговор этот начался столь непринужденно, — сообщал архиепископ в Рим, — и Кастелли отвечал столь непосредственно, что я считаю совершенно несомненным, что дело обстоит именно так, как он мне сказал»30.
В итоге договорились, что Кастелли обратится-таки с просьбой к своему учителю вернуть злосчастное письмо и желательно без промедлений — в Риме, знаете ли, ждать не любят.
Не прошло и двенадцати дней, как Кастелли отправил (12 марта 1615 г.) Галилею сообщение о своей встрече и задушевной беседе с архиепископом:
«Вернувшись в Пизу, я пришел засвидетельствовать свое почтение монсиньору архиепископу, который меня принял чрезвычайно благосклонно. Он провел меня в свой кабинет, пригласил сесть и прежде всего спросил о состоянии вашего здоровья. Едва только я успел ответить, как Его Преосвященство начал в очень мягкой форме убеждать меня, чтобы я оставил некоторые сумасбродные мнения, в частности, мнение о движении Земли, добавив, что это пойдет мне на благо и убережет меня от гибели, потому что эти мнения являются не только вздорными, но опасными, предосудительными и неприличными, так как они направлены против Священного Писания. Побежденный такой благосклонностью, я не мог поступить иначе, как ответить, что очень бы хотел последовать указаниям Его Преосвященства и что мне остается лишь согласовать это понимание с доводами разума (т. е., к неудовольствию архиепископа, дело явно затягивалось, потому как консультации с разумом могут длится долго. — И.Д.), что я надеюсь сделать, пользуясь глубокими знаниями и добротой Его Преосвященства. Если коснуться только одного довода, который он мне привел, оставив в стороне многие другие, то смысл его в общем был таков — так как всякое создание Бога сотворено Им на пользу человека, то ясно, что Земля не может двигаться как звезда, и что если бы я хорошенько уразумел это, то, наверное, изменил бы свое мнение. Затем монсиньор заявил, что эти мнения ошибочны и просто безумны, и что они могут послужить причиной гибели вашей, что он по этому поводу уже делал вам спасительные предупреждения и убеждал вас. Более того, он сказал (разгорячившись от страсти), что готов сообщить и вам, и Его Светлости (Великому герцогу. — И.Д.), да и всем на свете, что все эти мнения вздорны и заслуживают осуждения. Затем он просил меня, чтобы я оказал любезность и показал ему письмо, которое вы мне написали. Когда же я ответил, что копии у меня нет, он просил меня обратиться к вам, что я и делаю.
Кроме того, прошу окончательно отредактировать ваше сочинение (письмо к герцогине Кристине Лотарингской. — И.Д.), которое мы скопируем здесь тотчас же, как вы нам его пришлете. Может быть, тогда этот преосвященный отец успокоится. Говорю "может быть", так как я в этом не уверен (выделено Кастелли. — И.Д.)»31.
Галилей, который еще 16 февраля 1615 г. послал Дини для распространения отредактированный вариант своего письма Кастелли, разумеется, не хотел, чтобы в руки Инквизиции попала первоначальная версия документа (поэтому он и потребовал от Кастелли вернуть ему письмо). Инквизиционный трибунал, по замыслу Галилея, должен был получить только вторую версию этого письма. Однако пизанский архиепископ нажимал на Кастелли, и тот вынужден был снова и снова обращаться к Галилею, который упорно отмалчивался.
Дело дошло до того, что желание познакомиться с письмом выказал попечитель Пизанского университета монсиньор Сомайя (Sommala). Это, как выразился М.Я. Выгодский, был уже «нажим по служебной линии»32, поскольку от попечителя зависела аккуратная выдача жалованья Галилею33.
В конце концов Галилей пошел на уступки. Он выслал Кастелли требуемый документ, строго-настрого запретив тому передавать его в чьи бы то ни было руки, а только зачитывать вслух. Кастелли условие выполнил, о чём с гордостью сообщил Галилею в письме от 9 апреля 1615 г.34 При этом он добавил, что архиепископ отозвался о письме в кратких, но одобрительных словах, заявив, что «Коперник действительно был выдающимся человеком и обладал великим умом». Возможно, что со стороны прелата это был не более чем отвлекающий маневр — войти в доверие к Кастелли и всё-таки заполучить письмо. Но вскоре всем стало ясно, что Инквизиция более не настаивает на получении оригинала первой версии письма.
Однако Галилей понимал — всего этого совершенно недостаточно, чтобы воспрепятствовать антикоперниканским выступлениям и поддержать свою репутацию. Поэтому весной 1615 г. он принимает решение отправиться в Рим, как только ему позволит здоровье, о чем он известил своего друга Дини. Галилей писал, что собирается отправиться в Orbs aeterna «с надеждой <...> проявить любовь к Святой Церкви и пыл, с которым я настаиваю на том, чтобы по наущению многочисленных и злобных невежд не было принято ошибочное решение, т. е. утверждение, будто Коперник не допускал в действительности вращения Земли in rei natura, но воспринимал эту гипотезу только как астроном, ищущий оправдания своим наблюдениям <...>. Допустить такое предположение <...> — означает признать, что книга [Коперника] попросту не была прочитана должным образом. Об этом я более подробно пишу в другом моем сочинении»35.
Правда, намерение Галилея не вызвало у Дини большого энтузиазма. «Сейчас не время разубеждать тех, от кого зависит решение вопроса, — писал он Галилею 16 мая 1615 г., — сейчас нужно сохранять молчание и готовить веские и обоснованные доводы как теологического, так и математического характера, а когда настанет время, их можно будет использовать наиболее удовлетворительным образом (si per la Scrittura come per le mathematiche, et suo tempo, darle fuora con maggior sod[d]isfatione)»36.
Но переубедить Галилея было невозможно. 28 ноября 1615 г. Козимо II пишет Гвиччардини: «Математик Галилей испросил у меня разрешения отправиться в Рим, так как ему представляется необходимым лично присутствовать там, чтобы защитить себя от нападок некоторых его противников <...> и он надеется полностью восстановить свое доброе имя. Мы охотно согласились на его просьбу и распорядились, чтобы ему были предоставлены две комнаты во дворце Тринита-де-Монти (Trinita de'Monti, т. е. на вилле Медичи в Риме. — И.Д.), так как ему необходимо вести спокойную и уединенную жизнь по слабости его здоровья. Хотя мы снабжаем его письмом нашим синьору кардиналу Франческо Мария дель Монте, однако мы желаем, чтобы и вы также помогали ему во всем, что может ему понадобиться»37.
В тот же день госсекретарь Великого герцога Курцио Пиккена (C. Picchena) отписал Аннибале Прими (A. Primi), управляющему виллы Медичи в Риме, чтобы тот обеспечил Галилея полным пансионом и предоставил ему «секретаря, слугу и маленького мула (uno scrittore, un servitore et una muletta)»38. Помимо рекомендательного письма к кардиналу дель Монте, Козимо II снабдил Галилея письмами к кардиналу Сципиону Боргезе (племяннику и секретарю папы), а также к своим племянникам — владетельному князю Паоло Джордано Орсини и его брату Александру Орсини, который в свои двадцать два года стал (в декабре 1616 г., т. е. спустя несколько дней после прибытия Галилея в Рим) кардиналом. Умный и цинично-трезво оценивающий ситуацию Гвиччардини считал всю эту затею с визитом Галилея в Рим бессмысленной и даже вредной. Но приказ Великого герцога есть приказ.
«Я окажу ему [Галилею] всю ту помощь и содействие, какие возможны и необходимы как подданному Вашей Светлости и как человеку с большими знаниями и заслугами, в согласии с указаниями Вашей Светлости», — писал Гвиччардини во Флоренцию. Но далее посол не удержался и добавил with tonque in cheek: «Мне неизвестно, изменил ли он [Галилей] свои теории и свой нрав, но одно я знаю наверняка: некоторые братья доминиканцы, которые играют важную роль в Инквизиции, как и многие другие, настроены против него. А здесь не то место, куда приезжают спорить о Луне и отстаивать новые учения, особенно в наши времена (et questo non è paese da venire a disputare della Luna, nè da volere, nel secolo che corre, sostenere nè portarci dottrine nuove)»39.
Действительно, несмотря на бурную деятельность, которую Галилей развил в Вечном городе, его, как правило, принимали весьма холодно40.
Теперь о том, чем закончился допрос Каччини в инквизиционном трибунале 20 марта 1615 г. Сказанное доминиканцем не показалось членам Святого Судилища убедительным. Но Каччини указывал на свидетелей того, что некоторые «галилеисты» позволяли себе «богохульные высказывания». Свидетели (отец Чименес и некий Аттаванти) были допрошены инквизитором Флоренции соответственно 13 и 14 ноября 1615 г.
Чименес полностью подтвердил показания Каччини, тогда как Аттаванти заявил, что он никогда не слышал от Галилея ничего противного Св. Писанию и католической вере и считает его истинным католиком, ведь иначе он не мог бы состоять при дворе Великого герцога.
В итоге Инквизиция пришла к заключению, что всё дело сводится к отношению к коперниканскому учению, и на заседании 25 ноября 1615 г. было решено просмотреть сочинение Галилея «Письма о солнечных пятнах» (поскольку оно упоминалось в ходе допросов Каччини, Чименеса и Аттаванти) на предмет наличия в нем каких-либо несоответствий с католической верой и мнениями Св. Отцов. Заключение цензоров не сохранилось, но судя по тому, что книга Галилея не была внесена в Индекс, оно было благоприятным для ученого. И еще об одном событийном узле весны 1615 г. следует упомянуть.
1. Ricci-Riccardi A. Galilei G. e Fra Tommaso Caccini. Florence: Le Monnier, 1902. P. 69–70.
2. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 127.
3. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 123.
4. В собственноручно написанном письме Галилео от 12 января 1615 г. Чези писал: «Эти враги знания, которые стремятся отвлечь вас от ваших героических и столь полезных открытий и занятий, принадлежат к числу тех озлобленных и взбешенных людей, которые никогда не успокоятся; и наилучшее средство решительно их сразить — это, не обращая на них никакого внимания, продолжить вашу работу, как только ваше самочувствие улучшится. Пусть они выступят публично и покажут сведущим лицам, в чем состоят их доводы. Они этого не посмеют сделать или сделают себе самим в посрамление. Вскоре я сообщу вам более полное свое мнение о том, как дать отпор их непомерным претензиям» (Ibid. P. 128–129).
5. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 129–131.
6. Во всяком случае, так он заявил Кастелли, когда встретил его в конце 1614 г. в Пизе на улице.
7. Паоло Камилло (Эмилио) Сфондрато (Sfondrato или Sfondrati; 1560 или 1561–1618) — кардинал Святой Цецилии, член (возможно, префект) Конгрегации римской Инквизиции и Конгрегации Индекса запрещенных книг.
8. Письмо Лорини им самим не датировано. Пометка рукою чиновника Инквизиции указывает, что оно было получено в феврале 1615 г. Приведенная дата была обоснована в 1870 г. Сильвестром Герарди (Gherardi S. Il processo Galilei riveduto sopra documenti di nuova fonte // Rivista Europea. 1870. Vol. 3 (1). P. 3–37; Vol. 3 (3). P. 398–410).
9. Речь идет об упомянутом выше письме Галилея Кастелли от 21 декабря 1613 г.
10. Копия Лорини, однако, несколько отличается от оригинала. — И.Д.
11. Здесь просматривается, возможно, непредумышленная, аллюзия с названием той академии — Accademia dei Lincei, — членом которой был Галилей. Одни «рысьеглазые» вглядывались в Книгу Природы, другие — внимательно надзирали за читателями.
12. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 140; сам текст письма Лорини опубликован в: Vol. XIX. P. 297–298.
13. Pesce M. Le redazioni originali della Lettera Copernicana di G. Galilei a B. Castelli // Filologia e Critica. 1992. Vol. XVII. P. 294–317.
14. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 305.
15. В протоколе этого заседания сказано: «Зачитано письмо Никколо Лорини, брата доминиканского ордена, данное во Флоренции 7-го сего месяца, при коем он препроводил копию письма Галилея, данного во Флоренции 21 декабря 1613 г., к Бенедикту Кастелли, бенедиктинскому монаху, профессору математики Пизанского университета, содержащее ложные положения о смысле Святого Писания и о его толкованиях; постановлено — написать архиепископу и инквизитору названного города, чтобы они озаботились получением оригинала письма упомянутого Галилея и чтобы доставили его в сию Святую Конгрегацию» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 276).
16. Как сказано в постановлении собрания: «Против Галилео Галилея, профессора математики, проживающего во Флоренции, Святейший приказал допросить брата Фому Каччини, который, по сообщению преосвященнейшего господина кардинала Аракелли (речь идет о кардинале Агостино Галламини (A. Gallamini; 1552?–1639), который в 1611 г. стал кардиналом Санта Мария Аракели (Aracoeli). — И.Д.), осведомлен о заблуждениях названного Галилея и желает показать о них для очищения совести» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 276).
17. Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 144–149. (См. также: Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 307–311; Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 47–52).
18. К сказанному выше можно добавить, что в начале февраля 1615 г. епископ Фьезоле монсиньор Герардини (Gherardini) выступил с проповедью, в которой, осудив учение Коперника, заявил, что пришло время поставить перед Великим герцогом Тосканским вопрос о мерах пресечения деятельности «галилеистов».
19. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 291–294; P. 292.
20. Используя законы линейной перспективы и закономерности игры светотени, Галилей доказывал наличие на Луне гор, долин и кратеров. — И.Д.
21. Ibid. Vol. XII. P. 145–147; P. 146. Такое восприятие астрономических открытий Галилея — не выдумка его друзей. Так, например, в январе 1611 г. Томмазо Кампанелла, за два часа осиливший «Sidereus Nuncius» и понявший это сочинение, мягко говоря, очень по-своему (см. сноску 143), писал Галилею, что многое следовало бы сказать не только «о форме звезд и планет», но и «о характере правления, кое имеет место у обитателей небесных тел», ведь «если Луна презренней Земли, <...> то и ее жители менее счастливы, чем мы» (Galilei G. Le Opere. Vol. XI. P. 22). Подобный вздор получил довольно широкое распространение, и в феврале 1616 г. Галилей вынужден был написать кардиналу Т. Мути (T. Muti; 1574–1636), что он никогда ничего не говорил о существовании на Луне каких-либо разумных существ (Ibid. Vol. XII. P. 240–241).
22. Ibid. P. 151.
23. Ibid. P. 160–161.
24. Ibid. P. 151.
25. Аналогичные советы через того же Дини давал Галилею в марте 1615 г. и кардинал Маффео Барберини (Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 155).
26. Ibid. Vol. V. P. 299–300.
27. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 303.
28. Ibid. Vol. XII. P. 163.
29. Ibid. Vol. XII. P. 151.
30. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 306.
31. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 153–154.
32. Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 141.
33. Кстати, когда в мае 1615 г. Кастелли обратился к Сомайя с просьбой ускорить выплату Галилею семестрового жалованья, попечитель ответил, что ему не известно о Галилее ничего, он не знает даже, жив ли тот (Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 177).
34. Ibid. P. 165.
35. Ibid. P. 184.
36. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 181.
37. Ibid. P. 203.
38. Ibid. P. 205.
39. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 207 (подчеркнутые слова Гвиччардини написал шифром).
40. Подр. см.: Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 110–120; Фантоли А. Галилей... С. 158–160; Shea W.R., Argitas M. Galileo in Rome... P. 74–80.
7 марта 1615 г., в тот день, когда монсиньор Дини послал Галилею письмо, в котором описывал свою беседу с Беллармино, князь Чези отправил тому же адресату две новых книги: стансы сьенского поэта, математика и философа-иезуита Винченцо Филиуччи (V. Figliucci; 1584–1622), писавшего под псевдонимом Лоренцо Сальви (L. Salvi)1 и, как было сказано в сопроводительном письме, «только что вышедшую книгу, точнее, письмо одного отца кармелита, защищающего мнение Коперника и в то же время спасающего все фрагменты Священного Писания (которые противоречили коперниканскому учению. — И.Д.)».
«Эта книга, — продолжал Чези, — появилась как нельзя кстати, если только она не нанесет некоторого вреда тем, что усилит ярость противников (коперниканства. — И.Д.), в чем, однако, я сомневаюсь.
Автор считает всех наших компаньонов (т. е. всех lincei. — И.Д.) коперниканцами, хотя это не так. Всё, к чему мы стремимся как группа — это свобода в натурфилософии. Ныне он (автор книги. — И.Д.) проповедует здесь в Риме»2.
Речь в письме Чези шла о книге, точнее, о брошюре, написанной в форме письма генералу своего ордена Себастьяно Фантони монахом-кармелитом Паоло Антонио Фоскарини (P.A. Foscarini; 1580?–1616) и озаглавленной «Lettera... sopra l'opinione de' Pitagorici e del Copernico della mobilità della terra e stabilità del sole e del nuovo Pittagorico sistema del mondo» (далее, сокр.: Lettera). Брошюра была написана в Калабрии, издана в Неаполе в феврале 1615 г. и посвящена «alli dottissimi Signor Galileo Galilei e Signor G. Keplero... e a tutta la illustre e virtuosissima Accademia de' Signori Lincei».
Фоскарини, с высот провинциальной эрудиции, доказывал, что, если не понимать священный текст только буквально (его буквальное толкование рассчитано на людей неграмотных или малограмотных — «modo comune del ragionar popolare e de' semplici»), то не составит труда согласовать учение Коперника со словами Священного Писания. Таким образом, Галилей получил неожиданную поддержку со стороны незнакомого ему лично богослова3.
Возможно, это обстоятельство способствовало принятию Галилеем решения не идти на компромисс, предложенный Беллармино, и подтолкнуло ученого к написанию известных писем Дини (от 23 марта 1615 г.) и вдовствующей герцогине Кристине Лотарингской, в которых он отстаивал истинность учения Коперника. Но вместе с тем знакомство с Lettera Фоскарини внушало Галилею беспокойство относительно судьбы этого сочинения и его автора. Поэтому Галилей просит Чьямполи известить его о том, что происходит в Риме, где Фоскарини выступал с проповедями.
21 марта 1615 г. Чьямполи, отвечая на вопрос Галилея, сообщает:
«Грандиозные слухи, кои, как полагают, циркулируют здесь, достигли, я уверен, не более четырех или пяти человек, это самое большее. Мы с монсиньором Дини пытались осторожно выяснить, не затевается ли что-то важное, но мы вообще ничего не обнаружили. Поэтому сообщение, будто весь Рим занят обсуждением её (работы Фоскарини. — И.Д.), исходит от тех, кто распустил эти слухи»4.
И далее Чьямполи сообщает, что «этим утром мы с монсиньором Дини встретились с кардиналом дель Монте, который особо чтит вас и питает к вам необыкновенную любовь. Его Высокопреосвященство рассказал нам о своей продолжительной беседе с кардиналом Беллармино. Заключение его сводилось к следующему: если ваше отношение к системе Коперника и к ее доказательствам не касается области Священного Писания, толкование которого по их (церковных властей) желанию должно оставаться прерогативой компетентных профессоров богословия, то не возникает никаких возражений; в противном же случае маловероятно, чтобы было принято толкование Писания, пусть даже весьма тонкое, но сильно расходящееся с общим мнением Отцов Церкви»5.

Рис. 14. Неизвестный мастер. Портрет кардинала Р. Беллармино (Рим, Церковь Св. Игнатия)
Вместе с тем Чьямполи пишет о том, что, хотя трактат и проповеди Фоскарини не наделали много шуму в Риме, однако, поскольку сочинение кармелита «касается вопросов Писания, есть риск, что оно будет запрещено Конгрегацией Святейшего Учреждения (т. е. Инквизицией. — И.Д.), собрание которой состоится через месяц»6. Так всё и случилось, но только не через месяц, а через год.
Спустя два дня, 23 марта 1615 г., Галилей пишет упомянутое мною выше письмо Дини в защиту коперниканства. Как заметили по поводу действий Галилея авторы книги «Galileo in Rome», «Чьямполи тоже (как и Дини. — И.Д.) полагал, что было бы неумно испытывать вражеские укрепления на прочность, когда война не объявлена. Беллармино и Барберини призывали к сдержанности, но Галилей вместо того, чтобы изображать голубя, повел себя как ястреб»7.
Между тем Фоскарини послал свой опус кардиналу Беллармино (рис. 14). Последний, несмотря на свою чрезвычайную занятость, нашел-таки время внимательно изучить присланный ему труд и собственноручно отписать автору письмо (от 12 апреля 1615 г.) с впечатлениями о прочитанном:
«Ваше Преподобие,
Я с удовольствием прочитал письмо по-итальянски и очерк по-латыни, которые вы мне послали. Благодарю вас за то и за другое и признаюсь, что они преисполнены умом и ученостью. Но так как вы спрашиваете мое мнение, я его сообщу, хотя и очень кратко: ведь у вас сейчас не много времени для чтения, а у меня — для письма.
[10.] Прежде всего я скажу, что, как мне кажется, вы, Ваше Преподобие, и синьор Галилей поступаете предусмотрительно, довольствуясь тем, что говорите ex suppositione (предположительно), а не абсолютно, как, во что я всегда верил, говорил и Коперник. Потому что сказать, что предположение о движении Земли и неподвижности Солнца позволяет спасти все явления лучше, нежели с помощью эксцентров и эпициклов8, значит выразиться прекрасно, и такое утверждение не повлечет за собой никакой опасности, а для математика этого будет вполне достаточно. Но утверждать (volere affermare), будто Солнце действительно находится в центре мира и вращается только вокруг себя, не перемещаясь с востока на запад, а Земля располагается на третьем небе и с огромной скоростью вращается вокруг Солнца — очень опасно, и не только потому, что это раздражает всех философов и теологов-схоластов, но и потому, что это наносит вред Святой Вере, представляя Св. Писание ложным. Вы, ваше Преподобие, прекрасно показали многие способы толкования Св. Писания, но вы не применили их к частным вопросам, а вы, без сомнения, встретились бы с величайшими затруднениями, если б пожелали истолковать все те места [Св. Писания], которые вы процитировали.
20. Скажу также, что, как вам известно, [Тридентский] Собор запретил толковать Писание вразрез с единодушным согласием (contra il commune consenso) Отцов Церкви. А если Вашему Преподобию угодно будет прочитать не только [творения] Св. Отцов, но и современные комментарии на книгу Бытия, Псалмы, Экклезиаста и книгу Иисуса Навина, то вы найдете, что все они (т. е. и комментаторы, и Отцы Церкви. — И.Д.) принимают толкование ad litteram (буквальное. — И.Д.) — что Солнце находится на небе и вращается с огромной скоростью вокруг Земли, а Земля наиболее удалена от неба и стоит неподвижно в центре мира. Так посудите теперь сами, с присущим вам благоразумием, может ли Церковь допустить, чтобы Писанию придавали смысл, противоположный тому, который ему придавали Св. Отцы и все греческие и латинские комментаторы. И здесь нельзя ответить, что, мол, это не вопрос веры (materia di fede), ибо, если это и не вопрос веры ex parte obiecti (в смысле объекта), то это вопрос веры ex parte dicentis (в смысле говорящего9), подобно тому, как еретиком был бы каждый, кто стал бы утверждать, будто у Авраама не было двух сыновей, а у Иакова — двенадцати, а Христос родился не от Пречистой Девы. Ведь и то, и другое устами Пророков и Апостолов говорит Святой Дух.
30. Скажу еще, что даже если и было бы [представлено] истинное доказательство того, что Солнце находится в центре мироздания, а Земля на третьем небе и что не Солнце вращается вокруг Земли, но Земля вокруг Солнца, то и тогда необходимо с большой осторожностью подходить к объяснению тех мест Писания, которые кажутся противоречащими [этому] и [лучше] сказать, что мы скорее не понимаем смысла Писания, чем утверждать, что ложно то, что в нем выражено. Но я не поверю, что такое доказательство может существовать, пока оно не будет мне представлено. Ведь одно дело показать, что предположение, будто Солнце находится в центре [мира], а Земля — на небе, спасает явления, и совсем другое — доказать (dimostrare), что Солнце действительно (in verita) находится в центре [мира], а Земля — на небе, поскольку первое доказательство, я полагаю, дать можно, а вот насчет второго у меня большие сомнения. В случае же сомнения не следует отходить от толкования Св. Писания Св. Отцами. Добавлю к этому, что тот, кто написал: Ortirur sol et occidit et ad locum suum revertitur ("Солнце также восходит, и Солнце садится и торопится к месту, откуда восходит"), был не кто иной, как царь Соломон, который не только говорил по божественному вдохновению, но и был человеком, превосходящим всех мудростью и ученостью в человеческих знаниях и в знакомстве со всеми сотворенными вещами, и всю эту мудрость он получил от Бога; значит, совершенно невероятно, чтобы он утверждал вещь, противную истине доказанной (verità dimostrata) или могущей быть доказанной. Если же вы мне скажете, что Соломон говорит о явлении так, как мы его видим (secondo l'apparenza) и говорит, что нам только кажется, будто Солнце обращается [вокруг Земли], тогда как [в действительности] Земля обращается [вокруг Солнца], подобно тому, как удаляющемуся от берега на корабле кажется, будто берег удаляется от корабля, то на это я отвечу, что находящийся на корабле, хотя ему и кажется, что берег удаляется от него, все же знает, что это ошибка (errore) и исправляет ее, ясно понимая, что движется корабль, а не берег; что же касается Солнца и Земли, то нет никакой уверенности в том, что нужно исправлять [какую-то] ошибку, ибо ясный опыт показывает, что Земля неподвижна и что глаз не обманывается, когда говорит нам, что Солнце движется, так же как не обманывается он, когда свидетельствует, что Луна и звезды движутся. Этого пока достаточно.
За сим сердечно приветствую вас, Ваше Преподобие, и молю Бога о вашем благоденствии.
В резиденции,
12 апреля 1615 г.
Вашего Преподобия брат кардинал Беллармино»10.
Историки по-разному оценивали это письмо. К примеру, П. Дюгем считал, что «логика была на стороне Оссиандера и Беллармина, а не Коперника и Галилея; первые поняли суть экспериментального метода, тогда как вторые ошибались»11. Иначе отозвался о письме кардинала М.Я. Выгодский: «Можно ли представить себе более убогую, даже для богословского трактата, аргументацию, чем та, которую развивает в этом письме высокопреосвященный кардинал? Можно ли удержаться от улыбки, читая эти неподражаемые строки о премудрости Соломона? Можно ли отрицать, что даже в пределах богословского диспута, проходящего перед нашими взорами, позиции Фоскарини и Галилея более обоснованы, более защищены, чем жалкий лепет Беллармина?»12.
Более взвешенную оценку позиции Беллармино дал А. Фантоли13: «Беллармин не был ни позитивистом ante litteram, ни мракобесом. <...>. Большая часть его жизни была посвящена полемике с протестантами и защите католического учения <...>. Вследствие этого у него выработалась инстинктивная настороженность ко всем новым идеям»14.
На мой взгляд, письмо Беллармино Фоскарини представляло собой своего рода манифест, излагающий позицию иезуитов не только и даже не столько по отношению к коперниканству (хотя формально в письме речь шла только о нем), сколько вообще к науке. В нем достаточно ясно очерчены — путем жесткой демаркации теологии, натурфилософии и астрономии — институциальные рамки научного дискурса как они виделись интеллектуальной элитой Общества Иисуса.
Фактически приведенное выше письмо Беллармино зафиксировало наличие двух подходов к экзегезе Св. Писания. Сторонники первого подхода (в частности, сам Беллармино) исходили из того, что поскольку источником каждого слова Библии является Святой Дух, то весь священный текст воплощает в себе непререкаемую истину. Сторонники второго подхода (например, Фоскарини) рассуждали иначе: хотя мы и принимаем все, чему учит Св. Писание, как абсолютную истину, однако, необходимо уяснить, чему именно оно учит, что в действительности утверждает священный текст.
Устанавливая границы допустимого в экзегезе Священного Писания, Беллармино ссылался (см. п. 2 его письма) на соответствующие тридентские решения и, в частности, на декреты Собора от 8 апреля 1546 г., о которых шла речь в первой главе.
Обострение интереса и внимания католической Церкви к экзегетическим проблемам было обусловлено не просто необходимостью дать ответ и отпор идейным вызовам протестантизма. За этим стояло также и другое — боязнь отчуждения католиков от священного текста, отчуждения, наметившегося задолго до начала Реформации. Чрезмерный акцент на «добрых делах», которые становились едва ли не универсальным средством, почти автоматически гарантирующим спасение души, отодвигал на второй план Св. Писание как источник религиозной морали. Тридентский собор изменил ситуацию — его доктринальные решения повышали статус священного текста, а его дисциплинарные постановления (об организации семинарий для подготовки духовенства, школ по изучению Св. Писания и т. д.) давали Церкви институциональные инструменты для реализации принятых доктрин. Так, например, Ratio studiorum предписывало проведение ежедневных занятий по библейскому тексту в течение первых двух лет учебы на теологических факультетах университетов. Аналогичные изменения после 1564 г. произошли и в доминиканском curriculum15.
Иными словами, в посттридентском католическом мире наметился явный поворот к священному тексту, обусловленный потребностью нести слово Божье, охраняя при этом монопольное право Церкви на толкование Писания, что, в свою очередь, должно было способствовать ее доктринальному единству. В этой ситуации католическая элита выказала особую чувствительность к любым вопросам, прямо или косвенно затрагивавшим проблему экзегезы Писания16.
Что же должно было определять границы возможных толкований? Декреты Тридентского собора не дают ясного ответа на этот вопрос. Беллармино же отвечает на него с полной определенностью: теологически допустимые границы библейской экзегезы задает сам библейский текст, точнее, его буквальный смысл.
Фактически, кардинал при этом следует предписанию Ratio studiorum: «Знайте, что его (преподавателя-иезуита. — И.Д.) самая главная обязанность — объяснять Священное Писание в религиозном духе, прилежно и со знанием дела, в согласии с достоверным и буквальным его толкованием (l'interpretazione autentica e letterale)»17.
Однако, настаивая на том, что истина, явленная Святым Духом в тех фрагментах Писания, которые имеют космологические коннотации, находит свое выражение именно в буквальном смысле этих фрагментов, Беллармино опирался на почтенную экзегетическую традицию, берущую начало от Св. Августина и освященную также именем Св. Фомы18. Но в понятие sensus literalis Св. Августин включал также аллегорический смысл библейского текста, тогда как для Св. Фомы буквальным был тот смысл, который в данный текст хотел вложить автор. Беллармино же придерживался куда более простой концепции, для него буквальный смысл — это смысл «грамматический», т. е. «то, что слова выражают непосредственно (literalis est, quem verba immediata praeferunt)»19.
Однако и Августин, и Фома, и Беллармино исходили из того, что космологические фрагменты Св. Писания описывают историческую и физическую реальность. При этом Августин, хотя и подчеркивал, что «мы не прочтем в Завете, что Господь сказал: я пошлю вам Параклета20, чтоб он научил вас тому, как движутся Солнце и Луна, ибо Бог хотел сделать людей христианами, а не математиками»21, полагал, однако, что Библия должна толковаться буквально до тех пор, пока не появится веская причина для перехода к ее иной, метафорической трактовке. Такой причиной могло служить лишь доказательство некоего утверждения, противоречащего буквальному смыслу Св. Писания. И бремя доказательства лежит на натурфилософии, а не на теологии. Да, Святой Дух «не намеревался учить [людей] тому, что не имеет значения для спасения», но если, к примеру, в Св. Писании сказано, что небо подобно шатру, а философы утверждают, что оно сферично, то именно последние должны доказывать неоспоримость своего мнения. И если они «смогут доказать свое утверждение с такою очевидностью (documenta), что исчезнут всякие сомнения», то тогда (и только тогда) позволительно будет обратиться к метафорической трактовке священного текста22. Именно этого подхода к библейской экзегетике придерживался Беллармино. И надо признать, что до 1678 г.23, т. е. в «докритический» период развития библеистики, такой подход к интерпретации текста Св. Писания представлялся наиболее естественным и приемлемым.
Вместе с тем, экзегетическая позиция Беллармино, хотя и коррелировала с отдельными высказываниями Св. Августина и Св. Фомы, однако являла собой более жёсткий подход (по выражению Р. Фельдхей, «an even narrower approach»24) к библейскому тексту, нежели тот, который был зафиксирован в тридентских постановлениях. Последние ограничивали монополию Церкви на толкование Св. Писания лишь областью веры и морали. Интерпретация же иных библейских утверждений, не относящихся непосредственно к этим областям, — скажем, фрагментов, касающихся космологических вопросов, — не является исключительной прерогативой Церкви. И если строго следовать предписаниям Св. Августина и Св. Фомы, то необходимо признать, что «поскольку Св. Писание может быть объяснено во множестве смыслов, мы должны придерживаться некоего частного объяснения лишь в той мере, чтобы быть готовыми оставить его, если будет достоверно доказана его ложность»25. Это означало, в частности, что утверждение о том, будто Св. Писание подтверждает именно геоцентрическую систему мира, следует понимать как наиболее вероятное, оставляя тем самым место для иного, допустимого, хотя и менее вероятного утверждения, а именно: сказанное в священном тексте вообще не имеет никакого отношения к научным констатациям и тогда толкование Св. Писания вообще не должно изменяться с каждым новым научным открытием. Тем самым признавалась относительная автономия разума и его способность и право судить о предметах природных, тогда как за Церковью оставалось исключительное право толковать Книгу Божественного Откровения в предметах, касавшихся сверхприродного мира. Поэтому, относя космологические вопросы к предметам веры, Беллармино выходил за рамки и тридентских решений, и мнений Св. Августина и Св. Фомы.
Более того, безоговорочное предпочтение буквального понимания библейского текста также не было зафиксировано в официальной церковной позиции. Достаточно сослаться на мнения двух крупнейших теологов тридентской ориентации — Мельхиор Кано (M. Cano; 1509–1560) и Бенито Перера (B. Pererius (Perera); 1535–1610). Трактат Кано «De locis theologicis» (1563) стал богословской классикой, в том числе и в вопросах библейской экзегетики. Кано выделил десять оснований (loci) теологической аргументации:
1) Св. Писание;
2) апостольская традиция;
3) католическая Церковь;
4) соборные решения;
5) учение папы (т. е. Римско-католической Церкви);
6) Отцы Церкви;
7) мнения теологов;
8) естественный разум;
9) философия и юриспруденция;
10) история, исторические документы и устные традиции.
Основания 3–5 задают абсолютно достоверные принципы аргументации, тогда как loci 6–7 предлагают лишь вероятностные заключения, которые только в случае полного единодушия мнений Св. Отцов и теологов могут считаться достоверными.
При этом Кано полагал, что в вопросах, касавшихся мира Природы, авторитет и полномочия теологов не должны превышать авторитета и полномочий философов и «если авторитет святых <...> берет своё начало в способностях, обусловленных естественным светом разума, то приводимые ими аргументы не достоверны, но обладают лишь той силой, какую несет в себе разум, когда он находится в согласии с Природой»26.
Перера, который, заметим, был последовательным сторонником буквального понимания Библии, замечал, однако, что «в том, что касается учения Моисея, не следует думать и говорить что-либо утвердительно и настойчиво о том, что противоречит ясным свидетельствам и аргументам философии и прочих дисциплин», ибо «Священное Писание очень широко по самой своей природе и открыто для различных толкований и трактовок»27. Да и сам термин sensus literalis в XVI-м в., как правило, исключал лишь аллегорические, но отнюдь не метафорические интерпретации.
Однако в письме Беллармино Фоскарини — и в тех пунктах, где его позиция согласуется с тридентскими решениями, и там, где он, по словам Р. Фельдхей, «отклонялся от соборного постановления и расширял сферу его применимости»28 — больше прагматизма, нежели догматизма. Цель кардинала — воспрепятствовать реинтерпретации фрагментов Св. Писания в согласии с теорией Коперника до того, как эта теория будет доказана. Беллармино — вместе с Кано и Перера — признает свойственную библейскому тексту смысловую «непрозрачность (opacitas)», а отсюда — и потребность в экзегезе. Но в период, когда Церковь продолжала острую полемику с протестантами и демонстрировала «крайнюю восприимчивость (great sensitivity) к авторитету традиции»29, простые соображения «практического разума» требовали соблюдения сугубой осторожности во всем, что касается защиты научно недоказанной теории и даже толкали к расширительной трактовке тридентских решений. Кардинал предлагал Фоскарини и Галилею занять ту же теологически безопасную позицию — рассматривать учение Коперника ex suppositione, ибо «для математика этого вполне достаточно»30. И это была не догматически-обскурантистская, но прагматически-конструктивная позиция в конкретной исторической ситуации, позиция, которая, как справедливо заметила Р. Фельдхей, «вовсе не означала стремления похоронить всякую дискуссию по поводу коперниканства <...>, но скорее открывала возможность для ее продолжения»31.
Беллармино, как и Перера, исходил из того, что между Св. Писанием и научными теориями не может быть никаких противоречий. В сочетании с принципом абсолютного приоритета буквального понимания Библии такая установка вела к весьма неожиданному следствию: позиция Беллармино фактически санкционировала отклонения от аристотеле-томистских представлений о структуре Вселенной32. (Беллармино мог бы сослаться на известный прецедент: Тихо Браге, определив параллакс кометы 1577 г., доказал тем самым, что она двигалась в надлунной области и должна была пересечь планетные сферы. Следовательно, космос нельзя считать неизменным, каким его полагали Аристотель и Птолемей, а теория твердых планетных сфер не отвечает действительности. Это и был, в глазах Беллармино, тот случай, когда доказанная научная истина потребовала изменений если и не в экзегезе Св. Писания, то по крайней мере в наших представлениях о структуре Вселенной).
Как это ни парадоксально на первый взгляд, но и Беллармино, и Галилей допускали и даже считали неизбежным разрушение аристотелевского Космоса. Впрочем, процесс этот начался до и продолжался, набирая силу, независимо от их усилий. В ситуации, когда, по выражению Джона Донна (J. Donne, 1572–1631), «new Philosophy calls all in doubt»33, важно было найти точку опоры, ибо в противном случае мир превратился бы в хаос. Необходимо было сохранить веру религиозную и веру в способность человеческого интеллекта понимать мир, т. е. сохранить рационалистическую традицию в католической мысли. Сделать это, закрывая глаза на произвольные, без веских причин предлагаемые толкования священного текста (а Фоскарини и Галилей в глазах Беллармино как раз и являли собой опасные примеры таких вольных толкователей Библии), было невозможно. Но и игнорировать развитие научной мысли и обогащение корпуса науки новыми фактами и наблюдениями также было бы опасно. Поэтому усилия Беллармино были направлены на формирование новых правил диалога между теологией и наукой. К тому же стремился и Галилей. Однако они подходили к границе «наука — теология» с разных сторон и по-разному отвечали на вопросы: что значит знать? что значит доказать то или иное утверждение о Природе? каковы должны быть междисциплинарные границы? и т. д.
В отличие от астрономов-иезуитов типа Клавиуса и Бланкануса, иезуит Беллармино твердо стоял на том, что астрономия должна занимать относительно низкое место в иерархии наук, поскольку аргументация астрономов основана на demonstratio ex suppositione, а не на доказательствах, дающих cognitio certa per causa, и потому она (астрономия) не дотягивает до статуса истинной науки в аристотелево-томистском понимании такого статуса. Отстаивая традиционную иерархию дисциплин и перипатетический идеал познания, Беллармино оказался в оппозиции не только взглядам Клавиуса и Бланкануса, но и идейной ориентации значительной части интеллектуальной элиты Общества Иисуса, с характерными для неё тенденциями к стиранию различий между абсолютным и вероятным знанием и к модификации традиционных стандартов доказательства. Характерный пример — убежденность молинистов в том, что божественное scientia media даёт достоверное знание будущих поступков человека, еще непредопределенных Богом. Таким образом, и полемика De auxiliis, и споры вокруг статуса учения Коперника имели своим проблемным эпицентром вопрос о природе доказательства.
Здесь мы неизбежно входим в иной, логический, контекст первого «дела Галилея». Точнее, речь пойдет о взаимной соотнесенности логического и физического контекстов в галилеевых рассуждениях. Поэтому мне придется вновь прервать хронологическую последовательность изложения и обратиться к обсуждению некоторых особенностей мышления тосканского ученого, которые наиболее отчетливо проявились не только и даже не столько в его космологических воззрениях, но в первую очередь в понимании им природы механического (особенно ускоренного) движения.
Проблеме движения уделено много места в текстах «Dialogo» и «Discorsi», а также в других сочинениях и рукописях Галилея. Далее основное внимание будет сосредоточено на анализе его трактовки свободного падения тел. Полезными источниками для реализации этой задачи могут служить ранние работы, а также черновые наброски и записи Галилея, ставшие в последние десятилетия предметом пристального внимания историков науки34.
1. В поэме Сальви затрагивались среди прочих и астрономические вопросы.
2. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 150–151. Именно отстаивая принцип свободы суждения, Чези упрекнул как-то Галилея в том, что тот взял слишком жесткий, бескомпромиссный тон («in ex professo voice», как выразился М. Бьяджиоли (Biagioli M. Galileo Courtier... P. 80)) в сочинении о плавающих телах. Догматизм, подчеркивал Чези, — это угроза диалогу в республике ученых.
3. Фоскарини в течение шести лет был регентом в кармелитском монастыре во Флоренции, а затем четыре года служил провинциалом своего ордена в Калабрии. Он глубоко интересовался астрономией и был автором нескольких космологических и математических трактатов.
4. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 160.
5. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 160.
6. Ibid. P. 160.
7. Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome P. 68.
8. Здесь Беллармино либо ошибся, либо сознательно исказил факты, поскольку ни с эксцентрами, ни с эпициклами теория Коперника не покончила, более того, в ней, вопреки широко распространенному мнению, остался даже эквант (о чем см.: Neugebauer O. On the Planetary Theory of Copernicus // Vistas in Astronomy. 1968. Vol. 10. P. 89–103).
9. Т. е. важно не только что, но и кем сказано. В данном случае все, что в Писании говорится о строении мира, было сказано Св. Духом, а потому является абсолютной истиной. — И.Д.
10. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 171–172.
11. Цит. по: Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 107–108.
12. Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 132.
13. О монографии А. Фантоли см.: Баюк Д.А. Галилей и инквизиция: новые исторические контексты и интерпретации // Вопросы истории естествознания и техники. 2000. № 4. С. 146–154; Штекли А.Э. Галилей и публикация «Диалога» // Человек в культуре Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М.: Наука, 2001. С. 109–122.
14. Фантоли А. Галилей... С. 140–141.
15. Кроме того, в 1615 г. Генеральный капитул ордена доминиканцев постановил создать в Италии центральную семинарию, в программе которой главное место отводилось изучению Писания.
16. Вспомним, к примеру, аргументацию Н. Лорини в его письме-доносе.
17. Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu: l'ordinamento scolastico dei collegi dei gesuiti / A cura di Mario Salomone. Milano: Feltrinelli economica, 1919. P. 53.
18. Torrence T.F. Scientific hermeneutics according to St. Thomas Aquinas // Journal of Theological Studies. 1962. Vol. 13. P. 259–289; P. 282–285; Childs B.S. The sensus literalis of Scripture: An ancient and modern problem // Beiträge zur Altestestamentlichen Theologie: Festschrift ft.r Walter Zimmerli zum 10. Gebunstag / Hrsg. H. Donner et al. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1911. S. 80–93.
19. Bellarmine R. Disputationes Roberti Bellarmini Politani, S.R.E. Cardinalis de controversis christianae fidei adversus huius temporis haereticos. In 4 tt. Ingolstadii: ex typographia Davidis Sartorii, 1601. T. 1. P. 3 (первое, трехтомное, издание: 1586–1593).
20. Т. е. утешителя, от греч. Παράκλητος — наименование Св. Духа, заимствованное из последней прощальной беседы Иисуса Христа с учениками: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его, и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан. 14: 16–17).
21. St. Augustine. De actis cum Felice Manichaeo. I, 10 (PL XLII, 525).
22. St. Augustine. De genesi ad litteram. II, 9, 20 (PL XXXIV, 270).
23. Т. е. до выхода книги Ришара Симона (R. Simon; 1638–1712) Histoire Critique du Vieux Testament. Paris: Billaine, 1678.
24. Feldhay R. Recent Narratives on Galileo and the Church: or The Three Dogmas of the Counter-Reformation // Science in Context. 2000. Vol. 13. № 34. P. 489–507; P. 499.
25. St. Thomas Aquinas. Summa Theologia. I, q. 68, a. 1 ad resp. В другом переводе: «коль скоро Священное Писание может быть истолковано в различных смыслах, то не должно излишне твердо прилепляться к какому-нибудь одному из них; по крайней мере, нужно быть готовым к тому, чтобы отказаться от него в том случае, если более тщательное исследование истины его ниспровергнет, иначе Писание может быть осмеяно неверующими, что [в свою очередь] может закрыть перед ними путь веры (Gen. ad Lit. I, 18)» (Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть I. Вопросы 44–74. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2003. С. 271).
26. Cano M. De locis theologicis // Melchioris Cani Episcopi Canariensis ex Ordina Praedicatorum Opera Romae: Ex Typographia Forzani. 1890. Vol. 1–3. Vol. I. Pt. VII, 3.
27. Pererius B.V. Commentariorum et disputationum in Genesim, tomi quatuor: continentes historiam Mosis ad exordio mundi, usque ad obitum SS. patriarchum Iacobi & Iosephi; id est, explicationem totius primi & praecipui sacr. scriptur. libri, qui, Genesis, vulgo inscribitur. Romae, 1591–1595 (цит. по: Blackwell R.J. Galileo, Bellarmine, and the Bible. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991. P. 20).
28. Feldhay R. Recent Narratives... P. 502.
29. Ibid. P. 502.
30. Как отметил Н. Джардайн, «отрицание строгого разграничения между небесной физикой, которая рассматривала природу космоса, и математической астрономией, занятой исключительно спасением явлений и не касавшейся вопроса об истинности используемых гипотез, стало преобладающим (becomes increasingly prevalent) в шестнадцатом столетии» (Jardine N. The Birth of History and Philosophy of science: Kepler's «A defence of Tycho against Ursus», with essays on its provenance and significance. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 237–238). Кроме того, необходимо учесть, что Беллармино, скорее всего, не подозревал, что предисловие к «De Revolutionibus», выдержанное в том же духе, что и совет, данный им Фоскарини и Галилею, написано не Коперником. Поэтому кардинал был убежден, что его рекомендация полностью отвечает взглядам польского астронома.
31. Feldhay R. Recent Narratives... P. 505.
32. Напомню, что в своих Лувенских лекциях 1580-х гг. Беллармино поддерживал идею liquiditas coelorum, допускавшую некруговые движения небесных тел, развивал тезис о качественном единообразии над- и подлунных миров и т. д. И хотя он не предлагал какой-либо последовательной теории, однако его рассуждения явно расходились с космологическими представлениями Стагирита и Св. Фомы. При этом Беллармино обосновывал свой отход от томистских космологических утверждений ссылками на Книгу Бытия (см.: Baldini U. L'astronomia del cardinale Bellarmino // Novità celesti e crisi del sapere / Ed. by P. Galluzzi. Florence, 1984. P. 293–305; Baldini U., Coyne S.J. The Louvain Lectures of Bellarmine and the Autograph Copy of His 1616 Declaration to Galileo // Studi Galileiani. Vol. I. № 2. Città del Vaticano, 1984).
33. «Все в новой философии — сомненье». Это строка из поэмы Д. Донна «Анатомия мира» («Anatomy of the World»), опубликованной в 1611 г. Вот более полный фрагмент поэмы в оригинале:
And new Philosophy calls all in doubt,
The Element of fire is quite put out;
The Sun is lost, and th'earth, and no mans wit
Can well direct him, where to looke for it.
And freely men confesse, that this world's spent.
When in the Planets, and the Firmament
They seeke so many new; they see that this
Is crumbled out againe to his Atomis.
34. Damerow P., Freudenthal G., McLaughlin P., Renn J. Exploring the Limits of Preclassical Mechanics: A Study of Conceptual Development in Early Modern Science: Free Fall and Compounded Motion in the Works of Descartes, Galileo, and Beeckman. New York, Berlin etc.: Springer-Verlag, 1992; Drake S. Galileo at Work; Naylor R.H. Galileo's theory of motion: process of conceptual change in the period 1604–1610 // Annals of Science. 1977. Vol. 34. № 4. P. 365–392; Naylor R.H. Galileo, Copernicanism and the Origin of the New Science of Motion // British Journal for the History of Science. 2003. Vol. 36. № 2. P. 151–181; Galluzzi P. Momento; Wallace W.A. Galileo and His Sources: The Heritage of the College Romano in Galileo's Science. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984; Wisan W.L. On argument ex suppositione falsa // Studies in History and Philosophy of Science. 1984. Vol. 15. P. 227–236; Wisan W.L. The New Science of Motion: a Study of Galileo's De motu locali // Archive for History of Exact Sciences, 1974. Vol. 13. P. 103–306; Wisan W.L. Galileo and God's creation // Isis. 1986. Vol. 77. № 288. P. 473–486; Wisan W.L. Galileo and the Process of Scientific Creation // Isis. 1984. Vol. 75. № 277. P. 269–286; Palmieri P. Galileo's Construction of Idealized Fall in the Void // History of Science. 2005. Vol. 43. № 4. P. 343–389.
| От той точности, с которой нам удается проследить явления в бесконечно малом, существенно зависит наше знание причинных связей. Успехи познания механизма внешнего мира, достигнутые на протяжении последующих столетий, обусловлены почти исключительно благодаря точности того построения, которое стало возможным в результате открытия анализа бесконечно малых и применения основных простых понятий, которые были введены Архимедом, Галилеем и Ньютоном.
Б. Риман1 |
| Я не хочу, чтобы наша поэма была настолько связана требованием единства, что у нас не оставалось бы свободного поля для эпизодов.
Г. Галилей2 |
XVI столетие засвидетельствовало активные попытки математиков и математически образованных инженеров, таких как, например, Никколо Тарталья (N. Tartaglia; 1500–1557) распространить методы статики и гидростатики в область натурфилософии3. Зачастую, как, например, у Джованни Батиста Бенедетти (G.B. Benedetti; 1530–1590) и Галилея, эти попытки сопровождались довольно жесткой критикой теории движения Аристотеля и использованием идей и методов Архимеда4.
Напомню, что, согласно Аристотелю, движение следует понимать как средний термин, т. е. как переход от потенции к энергии5, к реализации потенции, а потому движение всегда идет «от» — «к». Иными, аристотелевыми, словами, «движение есть энтелехия существующего в потенции, поскольку оно таково; например, энтелехия способного перемещаться — [есть] перемещение»6. Причем движение у Аристотеля — всегда предикат движущегося, поскольку «не существует движения помимо вещей»7. Из четырех аристотелевых видов движения — в отношении сущности (возникновение и уничтожение), в отношении количества (рост и уменьшение), в отношении качества (качественное изменение) и в отношении места (перемещение, φοδά) — я далее коснусь только последнего, которое Стагирит считал первым из движений как по бытию, так и по понятию8, единым по роду и сущности и, что особенно важно, непрерывным, в результате чего перемещающееся остается неизменным во всех отношениях.
Всем требованиям первого движения может, по Аристотелю, удовлетворять только равномерное движение по окружности, «ибо круговое движение идет из одной точки в ту же самую»9 и потому у такого движения «нет ни начала, ни конца в нем самом, он находится извне»10.
Кроме того, свойства движения как перемещения определяются в мире Аристотеля структурой Вселенной, а именно: по отношению к абсолютным точкам отсчета — абсолютному «верху» и абсолютному «низу», т. е. структурой «естественных мест»11, что, в свою очередь, предопределяло деление движений на естественные и вынужденные. Так как естественные места элементов огня и земли точно определены («верх» и «низ», соответственно)12, движение тяжелого тела к центру Земли (например, в случае свободного падения) является естественным, как и движение легких тел вверх, к сфере огня. При этом скорость падения тяжелого тела, по Аристотелю, прямо пропорциональна его весу13 и обратно пропорциональна плотности среды, в которой происходит движение14. Тем самым устанавливалась связь фундаментальных законов движения с пространственно-временной структурой Универсума, что, в свою очередь, позволяло «изучать движение по его "активным возможностям", т. е. рассматривать структуру абсолютно законченного движения (структуру естественных мест) как потенциально достижимую»15. Последнее обстоятельство в контексте аристотелевого тезиса о приоритете действительности (актуализованности) над потенциальностью16 и его анализа соотношения потенциального и актуального в целом выявляет некоторые грани, важные для темы данного раздела.
1. Риман Б. О гипотезах, лежащих в основаниях геометрии / Пер. Ф.А. Гончарова // Об основаниях геометрии. М.: Гостехиздат, 1956. С. 309325; С. 323.
2. Галилей Г. Диалог... С. 261.
3. О роли инженерной традиции в формировании early modern science см.: Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. В 3-х тт. Т. 3.: Галилей и его время. М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1933. С. 49–57 et passim; Mechanics in Sixteenth-Century Italy: Selections from Tartaglia, Benedetti, Guido Ubaldo, & Galileo / Eds. and transl. S. Drake, I.E. Drabkin. Madison: University of Wisconsin Press, 1969; Drake S. Galileo's Pre-Paduan Writings: Years, Sources, Motivations // Studies in History and Philosophy of Science. 1986. Vol. 17. № 4. P. 429–448 (особ. с. 438–439); Settle Th.B. The Tartaglia — Ricci Problem: towards a Study of the Technical Professional in the XVIth Century // Cultura, Scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento (Atti del convegno internazionale di studio Instituto Veneto di Scienze, Littere ed Arti). Venice, 1987. P. 217–226.
4. Benedetti G.B. Diversarum speculationum mathematicarum, et physicarum liber. Taurini, 1585 (или Veneto, 1589 и 1599).
5. Термин ενέργεια использовался Аристотелем для обозначения как деятельности по осуществлению способности, так и результата этой деятельности.
6. Аристотель. Физика. III, 1, 201a.
7. Там же. 200b.
8. Там же. VII, 7, 261a.
9. Аристотель. Физика. VIII, 8, 264b.
10. Там же. 9, 265b.
11. «Место, — писал Аристотель, — не пропадает, когда находящиеся в нем вещи гибнут» (Там же. IV, 1, 209a). Поэтому для Стагирита не только место определялось через вещи, но и сами вещи — через место, а потому «место есть не только нечто, но оно имеет и какую-то силу», ведь каждое физическое тело, «если ему не препятствовать, несется в своё собственное место, одно вверх, другое вниз» (Там же. 1, 208b).
12. Тогда как вода и воздух «склоняются в обе стороны — верх и вниз» (Там же. II, 5, 205a).
13. «...Тела, имеющие большую силу тяжести или легкости, если в остальном имеют одинаковую фигуру, скорее проходят равное пространство в том [числовом] отношении, в каком указанные величины находятся друг к другу» (Там же. IV, 8, 216a).
14. По крайней мере, именно так истолковывалась теория движения Аристотеля в период позднего перипатетизма. См. подр.: Young J. A Note on Falling Bodies // The New Scolasticism. 1967. Vol. 41. P. 465–481; Casper B.M. Galileo and the Fall of Aristotle: A Case of Historical Injustice? // American Journal of Physics. 1977. Vol. 45. № 4. P. 325–330; Sorabji R. Matter, Space and Motion Theories in Antiquity and Their Sequel. Ithaca; New York: Cornell University Press, 1988.
15. Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента: от Античности до XVII в. М.: Наука, 1976. С. 71.
16. Подр. см.: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ. М.: Наука, 1980. С. 287–289.
Прежде всего обратимся к ранним работам Галилея. Начнем с «De Motu», трактата, не опубликованного при жизни ученого1 и относящегося ко времени его преподавания в Пизанском университете (1589–1592).
В этой работе, охватывающей широкий круг вопросов механики, Галилей, в частности, показал, что аристотелева трактовка свободного падения (V ~ P/ρср, где P — вес тела, а ρср — плотность — иногда сопротивление — среды) ведет к парадоксам и противоречиям2. Однако Галилей пока ограничивается следующей констатацией: «тела, сделанные из одного и того же материала, но имеющие разные объемы, движутся с одной и той же скоростью»3. Получалось, что тела, составленные из разных материалов, т. е. тела разной плотности, будут падать с одной и той же высоты из состояния покоя с разными скоростями (точнее — с разными ускорениями), даже если их массы одинаковы. Почему Галилей так считал?
Дело в том, что, согласно одной из предложенных им в «De Motu» теорий свободного падения, опиравшейся на гидростатические аналогии и, в частности, на закон Архимеда4, скорость падения тела в данной среде зависит от разности его плотности и плотности среды, а именно: отношение скоростей падения тел равно отношению разностей между «тяжестями» (т. е. плотностями) движущихся тел и «тяжестями» (плотностями) сред, в которых эти тела падают5, т. е. в модернизированной формульной записи:
|
V1 V2 |
= |
ρT,1 – ρср ρT,2 – ρср |
— для случая падения двух тел одинакового объема, но разной плотности в одной и той же среде (здесь ρT и ρср — плотности тела и среды соответственно) и
|
Vср,1 Vср,2 |
= |
ρT – ρср,1 ρT – ρср,2 |
— для случая падения тела плотностью ρT в двух разных средах (Vср,i — скорость падения тела в i-ой среде).
За этим утверждением Галилея скрыто многое и, в частности, его глубокое расхождение с Аристотелем по ряду принципиальных физических вопросов.
Начну с того, что для греческого мыслителя ничто (ούδέν) (нуль во времена Аристотеля еще не был известен греческим математикам, но средневековые перипатетики им уже пользовались) — не есть число, потому что оно не «однокачественно» с прочими числами. Согласно Эвдоксу Книдскому (409–356 гг. до н. э.), если для двух величин a и b, где a > b, можно подобрать такое число n, чтобы меньшая величина, взятая n раз, превзошла бы большую, т. е. nb > a, то можно сказать, что величины a и b находятся между собой в некотором отношении. Но не может быть отношения числа к ничто (к нулю), т. е. если есть a > 0, то n0 не превысит a ни при каком n.
Отрицая возможность движения в пустоте, Аристотель опирался, главным образом, на две предпосылки: 1) невозможность установить отношение какого-либо числа к нулю (к ничто) и 2) пропорциональность скорости свободного падения степени разреженности среды, в которой это падение происходит (V ~ 1/ρср). Поэтому свободное падение в пустоте невозможно, ибо не существует отношения скорости свободного падения в среде к его скорости в пустоте6. «И всегда, — разъяснял Аристотель, — чем среда, через которую [перемещается тело], бестелеснее, чем меньше оказывает препятствий и чем легче разделима, тем быстрее будет происходить перемещение. У пустоты же нет никакого отношения, в каком её превосходило бы тело, так же как и ничто не находится ни в каком отношении к числу. Ибо если четыре превышает три на единицу, два — на большее число, и единицу — еще больше, чем на два, то нет отношения, в каком оно превышает ничто; необходимо ведь, чтобы превышающее число распадалось на излишек и на превышаемое число, так что в данном случае будет превышающий излишек четыре, и больше ничего. Поэтому и линия не может превышать точку, если только она не слагается из точек. Подобным же образом и пустота не стоит ни в каком отношении к наполненной среде, а следовательно, и [движение в пустоте] к движению [в среде]. Но если через тончайшую среду [тело] проходит во столько-то времени такую-то длину, то [при движении] через пустоту [его скорость по отношению к скорости в среде] превзойдет всякое отношение»7. Короче, «всякое движение находится в некотором числовом отношении со всяким другим движением (так как оно существует во времени, а всякое время находится в отношении со временем, поскольку обе величины конечны), а пустота с наполненным ни в каком числовом отношении не находится»8. Замечу, Аристотель говорит об отношении, в котором одно число превышает другое («если четыре превышает три на единицу, два на большее число, и единицу — еще больше, чем два...» и т. д.), а не об отношении числа к числу.
Галилей в «De Motu» начинает излагать свои соображения о свободном падении (и вообще о естественных движениях) вполне в аристотелевом духе. Соответствующий раздел в «De Motu» так и называется — «О том, что тяжелые субстанции по [самой своей] природе располагаются внизу, а легкие — вверху, и почему»9. В этом разделе Галилей объясняет, что «поскольку движение происходит от тяжести и легкости, быстрота или медленность по необходимости должны происходить из одного источника. Т. е. из наибольшей тяжести движущегося тела происходит и большая скорость его движения, а именно — движения вниз, кое обусловлено тяжестью этого тела; а из меньшей тяжести [тела] происходит медленность того же движения»10. Короче, «естественное движение обусловлено тяжестью или легкостью [тела]»11.
Но когда Галилей обращается к гидростатической аналогии и, опираясь на неё, рассматривает движение тела в среде, он приходит к выводу о том, что «если твердые тела, кои легче воды, погружены в воду, то они устремляются вверх с силой, измеряемой разностью между весом объема воды, вытесненной телом, и весом самого тела. <...>. Ясно тогда, что во всех случаях скорости восходящих движений относятся друг к другу как превышение веса одной среды над весом движущегося [в ней] тела к превышению веса другой среды над весом этого тела»12.
В итоге, вместо аристотелевого закона свободного падения тела в среде
V ~ |
P ρср |
Галилей предлагает иную зависимость, выражающую суть его теории свободного падения, сложившейся в 1590-х гг.:
V ~ ρT – ρср,
откуда
|
(1) |
(где Vвак и Vср — скорости свободного падения в пустоте и в среде соответственно).
Таким образом, движение в пустоте с конечной скоростью оказалось возможным или, по крайней мере, не противоречащим закону (1): «тело будет двигаться в пустоте точно так же, как и в наполненном пространстве. Ибо в среде скорость движения тела зависит от разности между его весом и весом среды, через которую тело движется (из контекста ясно, что речь здесь идет о весах равных объемов, т. е. о плотностях. — И.Д.). И аналогичным образом в пустоте [скорость] движения тела будет зависеть от разности между его собственным весом и весом среды. Но если вес среды равен нулю, то разность [эта] <...> будет равна весу тела»13. Только в пустоте соотношение «тяжестей» (т. е. плотностей), а следовательно, и скоростей, будет «истинным и естественным (vera et naturalia)». В чем состояла важность полученных Галилеем результатов?
Во-первых, он предложил математически вполне осмысленное выражение, поскольку в случае падения тела в пустоте теперь не приходится делить плотность тела на нуль и делать отсюда вывод, что в вакууме тело падает мгновенно, с бесконечно большой скоростью. Во-вторых, он как бы «реабилитирует» нуль («ничто»), делая его пусть особым, но числом (по Галилею, 4 настолько же превышает 3, насколько 1 превышает 0). В-третьих, автор «De Motu» не только меняет статус нуля, не только по-новому связывает скорость свободного падения тела с его плотностью и с плотностью среды, но и фактически вводит понятие актуальной бесконечности в ткань физического рассуждения, ибо если пустота рассматривается как своего рода «среда», то это среда с бесконечной степенью разреженности14. Более того, «истинной и естественной» оказывается в теории Галилея именно предельная ситуация — ситуация движения тела в пустоте, т. е. в бесконечно разреженном пространстве. Движение в пустоте, т. е. в бесконечно разреженном пространстве, стало своего рода первичным объектом теории, из которого затем выпочковываются её дальнейшие выводы, заключения и проблемы. Этот статус предельного объекта (предельной ситуации) как «истинного и естественного» обрел фундаментальное значение для последующего развития науки Нового времени. Действительно, если, в соответствии с законом (1), среда изменяет движение падающего тела по сравнению с его движением в пустоте, то это означает, что в реальном мире тела никогда не движутся со своей «естественной» (т. е. не измененной воздействием среды) скоростью. Тогда оказывается, что естественные движения (и Природа в целом) в своей сущности есть нечто потенциальное, а явления видимого мира — это конечный феноменологический результат игры разнообразных сил (силы сопротивления среды, импетуса и т. д.). И хотя естественная сила15 проявляется в полной мере лишь в вакууме, её существование, как и её каузальность, имеет место всегда. Вакуум не создает ничего нового, он даже не играет роль условия актуализации потенциальных возможностей тела.
Сорок лет спустя эта мысль прозвучит в «Dialogo», в словах Сальвиати: «то, что происходит конкретно, имеет место и в абстракции»16. И потому «философ-геометр, желая проверить конкретно результаты, полученные путем абстрактных доказательств, должен сбросить помеху материи, и если он сумеет это сделать, то, уверяю вас, всё сойдется не менее точно, чем при арифметических подсчетах. Итак, ошибки заключаются не в абстрактном, не в конкретном, не в геометрии, не в физике, но в вычислителе, который не умеет правильно вычислять»17. Сказанное означает, что «помехи» не мешают чему-либо стать в соответствие с математической теорией. «Помеха материи» может быть удалена «отслаиванием» ее от явления (как грязь на сапоге), но суть явления при этом не меняется. Если же отклонение физического тела от математического обусловлено только ошибкой вычисления, то это означает, что в действительности никакого отклонения не существует, просто ученый (если угодно, вычислитель — calcolatore) «non sa fare i conti guisti», не умеет правильно вычислять, ошибочно принимая, скажем, несовершенную физическую сферу (т. е. — не сферу) за совершенную. Далее я еще вернусь к этой теме, но в несколько ином контексте.
Несколько слов следует сказать о самой концепции скорости как она изложена в «De Motu». Понимание Галилеем этой концепции вполне традиционно — из двух тел быстрее движется то, которое преодолевает данное расстояние за меньшее время18, что позволяет связать отношение скоростей двух тел с отношением времен, необходимых для прохождения одного и того же пути: если S1 = S2, то V1/V2 = t2/t1.
Завершая рассмотрение свободного падения, Галилей, как бы между прочим, делает довольно неожиданное заявление: «эти отношения (речь идет о законе (1) и следствиях из него. — И.Д.) не будут наблюдаться тем, кто проведет эксперимент. Ибо если мы возьмем два разных тела, кои имеют такие свойства, что первое из них должно падать вдвое быстрее второго, и если мы сбросим их с башни, то первое не достигнет земли заметно раньше — скажем, в два раза, — [чем второе]»19.
Не свидетельствуют ли эти слова о том, что у Галилея зародились некоторые сомнения в справедливости не только аристотелевого, но и им самим предложенного закона свободного падения?20
Сам Галилей объясняет «ненаблюдаемость» предложенного им закона падения следующим образом. Закон этот относится к свободному падению в целом, т. е. к, так сказать, экстенсивному аспекту этого случая движения, когда скорость определялась по времени падения. Однако тела разной плотности (т. е. состоящие из разных веществ) имеют и разную «структуру» ускорения. Галилей разъясняет это обстоятельство в завершающей части «De Motu». Прежде всего он отмечает хорошо известный факт, что рассматриваемое им движение является ускоренным: «скорость естественного движение увеличивается к концу [движения]»21. Чем же вызвано ускорение? Если предположить, как это сделал Аристотель, что V ~ P, то тогда изменение скорости должно быть вызвано изменением веса, причем в начале движения вес тела должен быть меньше, чем в конце. Однако хорошо известно, что «естественный» вес тела (т. е. масса) при его движении, в том числе и ускоренном, не меняется, поскольку не меняются «ни объем, ни плотность тела»22. Следовательно, рассуждает Галилей, причина изменения веса может быть только внешней и не «естественной» («imminutionem illam gravitatis esse praeternaturalem et accidentariam»)23. Замечу, что Галилей обсуждает ускорение свободного падения в терминах уменьшения веса тела в начальной точке движения по сравнению с конечной, т. е. его интересует, по какой причине вес тела, удаленного от поверхности (и, соответственно, от центра) Земли и едва начавшего свободно падать, оказывается меньшим, чем его вес по окончанию падения, т. е. на земной поверхности. Размышляя о возможных причинах такого изменения веса тела, он опирается на аналогию с метательным движением и с явлением теплопередачи, как это делали до него многие авторы: «тело движется вверх метателем до тех пор, пока оно находится в его руке и тем лишается своего веса; точно так же, как в случае другого [вида] движения, когда железо движется к теплу (т. е. нагревается. — И.Д.) до тех пор, пока оно находится в огне и лишается огнем своего холода. Движущая сила, т. е. легкость, сохраняется в камне и тогда, когда он уже не находится в контакте с движущим, также как тепло сохраняется в железе и после того, как оно вынуто из огня. Запечатленная в брошенном камне сила постепенно уменьшается, когда он уже не пребывает в контакте с метателем, так же как тепло в железе уменьшается в отсутствие огня. В итоге камень оказывается в покое и аналогичным образом железо возвращается к своему естественному холодному состоянию»24.
Отсюда Галилей делает вывод — «движение, при котором камень переходит из [состояния] акцидентальной легкости (в начале движения. — И.Д.) в [состояние] тяжести (в конце движения. — И.Д.) является единым и непрерывным, как в случае перехода железа от теплого состояния к холодному»25.
Таким образом, свободно падающее тело постепенно теряет запечатленную в нем извне (рукой метателя или в процессе подъема тела на ту высоту, с которой оно затем падало) легкость (levitas)26, поэтому скорость падения постепенно нарастает: «[тело] <...> будет падать очень медленно в начале, затем оно будет двигаться вниз всё быстрее по мере ослабевания силы, противостоящей этому движению»27.
Однако, когда Галилею потребовалось объяснить тот факт, что тела разного веса падают одинаково, он вынужден был пойти по пути выдвижения ad hoc-гипотез. Так, он предположил, что легкое тело в начале своего движения движется быстрее тяжелого, потому как в последнем «движение запечатлено сильнее в том месте, которое более сопротивляется [движению]»28, т. е. в камне сила, препятствующая его падению, «запечатлена» сильнее, чем в куске пемзы. В итоге, «поскольку в начале своего движения тела, будучи замедляемы противодействующей силой, не движутся в согласии с их весами, то неудивительно, что их скорости не будут удовлетворять отношению их весов»29.
Как видим, ни одна из двух рассмотренных в «De Motu» альтернативных моделей свободного падения — первая, предполагавшая прямо пропорциональную зависимость скорости от веса тела, а вторая — от его плотности (или от разности между плотностью тела и плотностью среды) — не позволяла непротиворечивым образом объяснить сам факт ускоренности такого движения. Ускорение оказывалось не сущностной, но «акцидентальной» характеристикой движения, а «для таких акцидентальных факторов не может быть дано правил, поскольку они могут проявляться бессчетным множеством способов»30.
На первый взгляд, обе описанные в «De Motu» модели свободного падения давали простые математические соотношения, легко проверяемые на опыте, но для объяснения ускоренного характера движения обе модели требовали учета сложной игры сил (gravitas и levitas), и в результате сопоставлять с экспериментом было просто нечего31.
Кроме того, обе модели роднило то, что Галилей понимал тяжесть как причину скорости, а скорость, как правило, трактовал как расстояние, пройденное за данное время (т. е. V1/V2 = S1/S2, при t1 = t2), распространяя это понимание скорости на любое движение. В результате ускорение оставалось либо «случайным фактором», либо нерешенной загадкой.
1. Хотя Галилей решил воздержаться от его публикации, поскольку к моменту завершения рукописи пришел к новым представлениям о движении, он, тем не менее, бережно ее хранил вместе с переработанными вариантами в папке с надписью De motu antiquiora scripta mea. По мнению Р. Фредетте (Fredette R. Galileo's De Motu antiquiora // Physis. 1972. Vol. 14. P. 321–348; P. 321), Галилей сначала написал диалоговую версию «De Motu» (De Motu Dialogus), а затем еще две «обычные» (сплошным текстом). Впервые полный текст всех версий De Motu был опубликован в 1890 г. Антонио Фаваро в первом томе Le Opere di Galileo Galilei. См. также: Galilei G. On Motion and On Mechanics / Ed. and transl. by S. Drake, I.E. Drabkin. Madison: The Wisconsin University press, 1960; Drake S. Galileo's Pre-Paduan Writings...; Wallace W.A. The Dating and Significance of Galileo's Pisan Manuscripts // Nature, Experiment, and the Science: Essays on Galileo and the History of Science in Honour of Stillman Drake (Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 120) / Ed. by T.H. Levere, W.R. Shea. Dordrecht: Kluwer Acad. Press, 1990. P. 3–50. Вообще странность идеи Аристотеля о прямо пропорциональной зависимости скорости (и времени) свободного падения от веса (точнее было бы сказать — от массы, но я буду пользоваться доньютоновой терминологией) падающего тела бросается в глаза (по крайней мере, современному читателю). Действительно, пусть некое тело весом 0,1 кг свободно падает с некоторой высоты в течение 2 секунд (вполне реальная ситуация). Тогда, если принять теорию Аристотеля, падение тела весом 1 кг с той же высоты должно продолжаться 20 секунд, а 30-ти килограммового тела — 600 секунд, т. е. 10 минут, и т. д., что явно противоречит простому житейскому опыту. Конечно, у Аристотеля были свои резоны утверждать, что «любая величина огня, если ей не встретится на пути инородное препятствие, движется вверх, а [любая величина] земли — вниз, и чем больше, тем быстрее, но в том же направлении» (О небе. IV, 4, 311a, 20–23), ибо в спорах с атомистами и платониками он доказывал абсурдность двух идей: а) существования невесомых тел (О небе. IV) и б) существования пустоты (Физика. IV, 8). Но в целом аристотелевы представления о свободном падении стоят несколько обособлено в его натурфилософии и ни в Античности, ни в Средние века не были предметом пристального внимания и анализа (см.: Grant E. Motion in the void and the principle of intertia in the Middle Ages // Isis. 1964. Vol. 55. № 181. P. 265–292).
2. Галилей тогда еще не сформулировал вывод о том, что в пустоте все тела, независимо от их веса, будут падать одинаково, хотя его рассуждения, казалось бы, подталкивали к такому заключению. Подр. см.: Damerow P., Freudenthal G. McLaughlin P., Renn J. Exploring the Limits... P. 132–134. Глава 3 («Proofs and Paradoxes: Free Fall and Projective Motion in Galileo's Physics»; p. 126–268) написана Ю. Ренном.
3. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 269.
4. Согласно архимедовой гидростатике, поведение тела в жидкости (будет ли оно, к примеру, плавать или погружаться в жидкость) определяется соотношением средней плотности тела и плотности жидкости. На законе Архимеда основан, как известно, экспериментальный метод определения плотности различных тел с помощью гидростатических весов. Выводы Галилея в «De Motu», касающиеся закона свободного падения, прямо основаны на гидростатике Архимеда.
5. «...Celeritas ad celeritatem <...> se habet <...> sicut excessus gravitatis mobilis super hums medii gravitatem vel excessus gravitatis eiusdem mobilis super alterius medii gravitatem» (Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 269).
6. Напомню, что, согласно Аристотелю, «не существует пустоты ни в отдельности (ни вообще, ни в редком), ни в возможности» (Физика. IV, 8, 217b, 20–21), ибо «ни один [предмет] не может двигаться, если имеется пустота» (Там же. 214b, 30–35). (См. подр.: Физика. IV, 6–9).
7. Аристотель. Физика. IV, 8, 215b, 10–23.
8. Там же. 8, 216a, 8–11.
9. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 252.
10. Ibid. P. 261.
11. Ibid. P. 253.
12. Ibid. P. 269–270.
13. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 281.
14. Напомню, что одним из кардинальных тезисов научной программы Аристотеля был следующий: бесконечное существует потенциально, но не актуально (см. подр.: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки... С. 309–325).
15. Для Галилея в De Motu — это inclinatio тела к его естественному месту, но в данном контексте природа силы, обусловливающей свободное падение, не так важна.
16. Галилей Г. Диалог... С. 307.
17. Там же.
18. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 277. В «Le Meccaniche», небольшом трактате, написанном Галилеем, по-видимому, во время его работы в Падуанском университете (1592–1610), — его часто датируют 1600 г. или несколько ранее, — утверждается, что «время [перемещения] сводится к тому же, что и скорость, быстрота (velocita) движения, ибо из двух движений за более быстрое принимается то, при котором то же расстояние проходится за меньшее время» (Галилей Г. Механика // Галилей Г. Избр. труды: В 2-х т. М.: Наука, 1964. Т. II. С. 5–38; С. 8; Galilei G. Le Opere. Vol. II. P. 156).
19. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 273. См. также: Settle Th.B. Galileo and Early Experimentation // Springs of Scientific Creativity / Ed. by R. Aris, H.T. Davis. Wisconsin: The University of Minnesota Press, 1983. P. 3–20.
20. Я здесь оставляю в стороне вопрос о том, была ли упомянутая в приведенной выше цитате башня Пизанской. По свидетельству В. Вивиани (V. Viviani; 1622–1703), ученика и помощника Галилея в последние годы жизни ученого (1639–1642), написавшего по просьбе Леопольда Тосканского «Исторический очерк жизни синьора Галилео Галилея» (1654), «в это время (т. е. в пизанский период. — И.Д.), прейдя к убеждению, что для исследований Природы необходимо познание истинной природы движения, в соответствии с общераспространенной философской аксиомой — ignoratur motu, ignoratur natura (имеется в виду начало третьей книги «Физики» Аристотеля: "Так как природа есть начало движения и изменения, а предмет нашего исследования — природа, то нельзя оставлять невыясненным, что такое движение: ведь незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы" (Физика. III, 1, 200в, 12–16. — И.Д.), Галилей целиком отдался размышлениям, и, к великому смущению всех философов, им была показана, посредством опытов, солидных доказательств и рассуждений, ложность множества заключений Аристотеля, касающихся движения, считавшихся до этого совершенно очевидными и несомненными. Сюда относится положение, согласно которому движущиеся тела, состоящие из одного и того же вещества, но имеющие разный вес, находясь в одной и той же среде, не обладают скоростями, пропорциональными их весу, как полагал Аристотель, но все движутся с одинаковой скоростью. Это он доказывал неоднократными экспериментами (esperienze), производившимися с высоты Пизанской башни, в присутствии лекторов, философов и всей ученой братии (di tutta la scolaresca). Он показал также, что скорость одного и того же тела, движущегося в различных средах, обратно пропорциональна сопротивлениям или плотностям этих сред, исходя из совершенно явных несуразностей, которые вытекают из противоположного предположения» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 606). В литературе не прекращается давний спор о том, легенда или правда то, что Галилей бросал различные предметы с Пизанской башни (см.: Drake S. Galileo at Work... P. 19–21; Segre M. Galileo, Viviani and the Tower of Pisa // Studies in History and Philosophy of Science. 1989. Vol. 20. № 4. P. 435–451). Но в любом случае ясно, что точность таких experienze невысока, т. к. тело, брошенное с высоты Пизанской башни, падает около 3 секунд, а время падения фиксировалось по биению пульса, т. е. очень неточно.
21. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 315.
22. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 318.
23. Ibid.
24. Ibid. P. 310.
25. Ibid. P. 327.
26. Ибо скорость падения прямо пропорциональна тяжести, а замедление — легкости тела («velocitatem et tarditatem, gravitatem et levitatem sequi» (Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 318)).
27. Ibid. P. 322.
28. Ibid. P. 310.
29. Ibid. P. 333.
30. Ibid. P. 302.
31. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 273.
Прорыв в понимании Галилеем равноускоренного движения произошел, по-видимому, около 1604 г. В письме П. Сарпи от 16 октября этого года Галилей формулирует некоторые важные выводы: «Вновь размышляя о вопросах движения, — где мне недоставало для демонстрации наблюдавшихся мною явлений твердого принципа, который мог бы быть положен в качестве аксиомы, — я обратился к предположению, вполне естественному и очевидному и, приняв его, доказывал затем всё остальное, а именно: что отношение между пройденными в естественном движении путями такое же, как квадрат отношения между временами, и следовательно, пути, проходимые в равные времена, относятся друг к другу как нечетные числа, начиная с единицы, и прочие вещи. Принцип этот таков: скорость естественно движущегося [тела] возрастает пропорционально возрастанию расстояния тела от начала его движения. Я допускаю, что степень (иногда переводят — градус. — И.Д.) скорости, которую тяжелое тело, падающее, к примеру, из точки a вдоль линии abcd (рис. 15), имеет в [точке] c, так относится к степени его скорости в [точке] b, как расстояния ca к ba, и следовательно, в [точке] d тело имеет степень скорости настолько большую, чем в [точке] c, насколько da больше, чем ca.
Я бы хотел, чтобы Ваше Преподобие поразмышляли немного об этом и сообщили мне свое мнение. И если мы этот принцип принимаем, то мы тогда не только сможем доказать и все прочие утверждения, как я уже сказал, но и, как я полагаю, у нас в руках будет всё, чтобы показать, что и естественно падающее, и совершающее вынужденное движение подброшенное вверх тело проходят одни и те же отношения скорости»1.
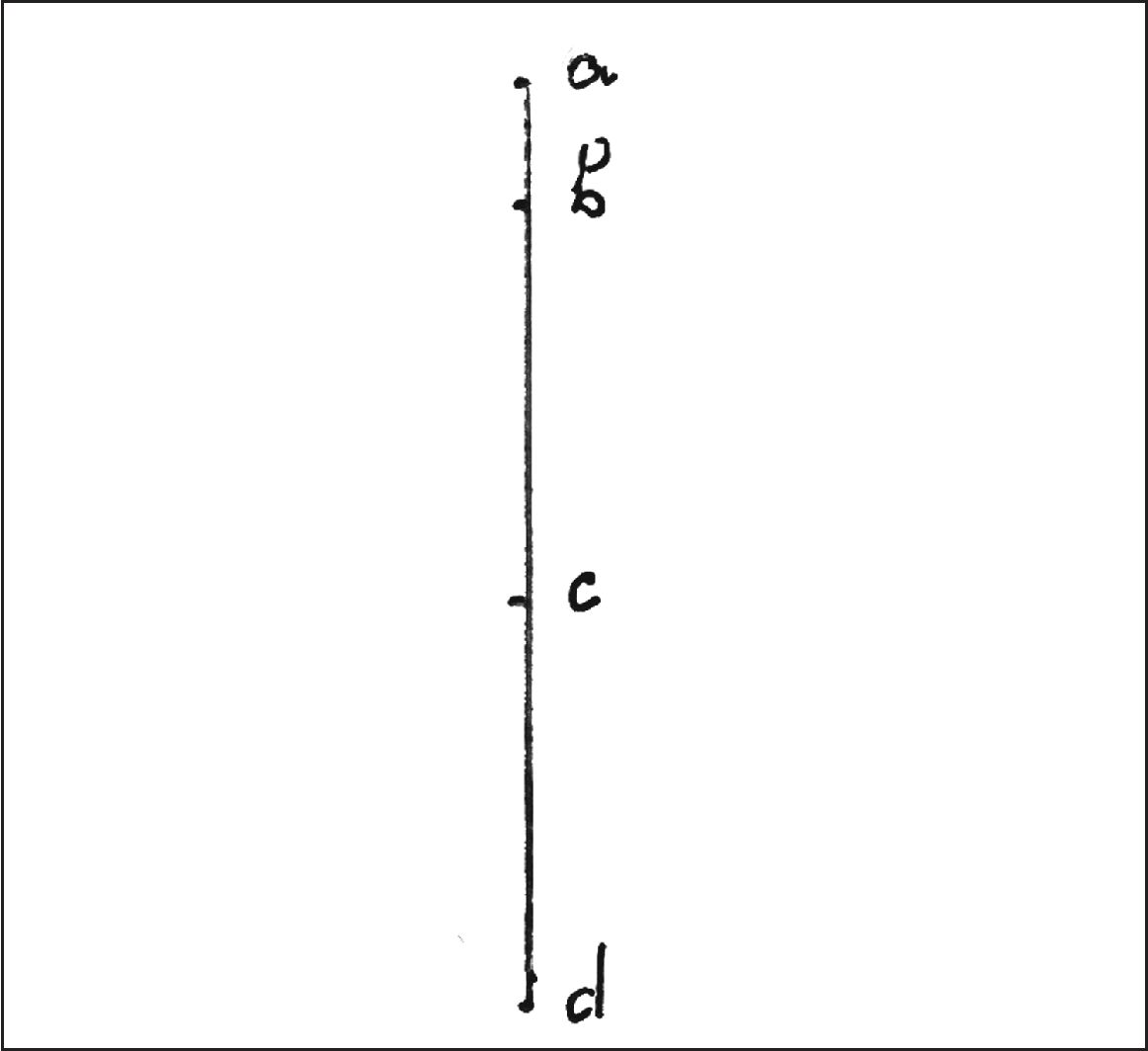
Рис. 15. Диаграмма из письма Галилея П. Сарпи от 16 октября 1604 г.
Как следует из сохранившихся рукописных заметок Галилея, датируемых 1601–1602 гг., он в это время проделал ряд экспериментов с целью разрешить некоторые вопросы, поставленные в «De Motu». Так, в письме Гвидобальдо дель Монте от 29 ноября 1602 г.2 Галилей описывает свои опыты с маятниками и с движением тел по искривленным поверхностям, связывая их напрямую с рассмотренной в «De Motu» теоремой об «изохронности хорд» (см. далее)3. Кроме того, изучение ряда других архивных документов4 показало, что зафиксированные в них экспериментальные данные заставили Галилея отказаться от его прежнего понимания ускорения как некой «акциденции» естественного движения и начать рассматривать его как сущностную характеристику этого движения, а замедление — как сущностную характеристику движения вынужденного. По мнению Ю. Ренна, «если Галилей, основываясь на опыте, принял параболическую форму траектории (тела, брошенного под углом к горизонту. — И.Д.), он мог придти по крайней мере к интуитивной идее квадратичной зависимости расстояния от времени при свободном падении»5. В историко-научной литературе были предложены различные реконструкции хода исследований Галилеем ускоренного движения6. Однако, бесспорно, что два события (два инсайта) — признание, что траектория тела, брошенного под углом к горизонту, является параболической и принятие, пока в качестве гипотезы, (s ~ t2)-зависимости для свободного падения (где s — пройденный за время t путь) — оказались в галилеевых размышлениях о природе ускорения тесно связанными, хотя установить с полной уверенностью последовательность этих событий, видимо, невозможно, несмотря на обилие архивных документов.
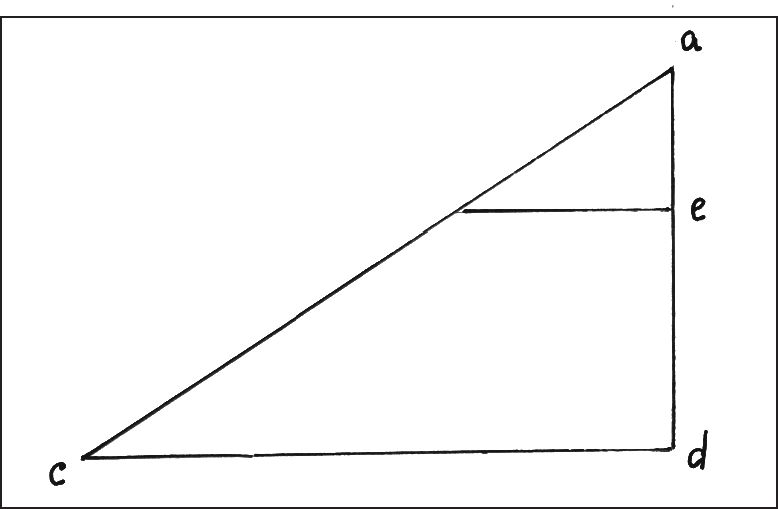
Рис. 16. Диаграмма из рукописи Галилея MS, fol. 147r
Но в любом случае (s ~ t2)-гипотеза требовала доказательства и экспериментальной проверки. С этой целью Галилей обращается к анализу своих экспериментов с качением шаров по наклонной плоскости. Его рассуждения и выводы зафиксированы в документе MS, fol. 147r7.
Галилей опирался на два утверждения. Согласно первому, времена свободного движения тела по хордам, проведенным из одной и той же точки окружности, равны (упомянутая выше теорема «изохронности хорд»), согласно второму — время свободного движения по вертикали ad (рис. 16) так относится к времени движения по ac, как длина ad относится к длине ac (далее, сокр. — lt-зависимость или lt-отношение). И кроме того, из теоремы об «изохронности хорд» Галилей сделал вывод о том, что «время [прохождения] по ad относится к времени [прохождения] по ac как ad относится к средней пропорциональной между ad и ae»8. Средняя пропорциональная величина между ad и ае в данном случае есть отрезок ax (на рис. 16 не обозначен) такой, что:
|
ad ax |
= |
ax ae |
, т. е. ax = √ad · ae. |
Таким образом, процитированное утверждение Галилея эквивалентно (s ~ t2)-теореме. Действительно, если
|
(2) |
то
|
tad2 tae2 |
= |
ad ae |
Сам Галилей, не очень склонный к использованию алгебраических методов и предпочитавший опираться на теорию пропорций, изложенную в «Началах» Эвклида, и геометрические доказательства, вывел (s ~ t2)-отношение из более сложных рассуждений. Но как бы то ни было, (s ~ t2)-зависимость была Галилеем почти доказана. Почти — потому что требовалось еще доказать справедливость lt-отношения, которое не могло быть выведено из теории движения, изложенной в «De Motu».
Поэтому Галилей обратился к поискам другого доказательства закона свободного падения, т. е. (s ~ t2)-закона, которое не использовало бы lt-отношение. Из текста цитированного выше его письма П. Сарпи видно, что к октябрю 1604 г. он уже имел в своем распоряжении этот закон и следовавшее из него «правило нечетных чисел» (ПНЧ)9. Однако при этом он держался того мнения, что увеличение «степеней (градусов) скорости» происходит в зависимости не от времени (V = V(t) в современных обозначениях), а от пройденного пути (V = V(s)).
Подобное толкование ускоренного движения сложилось задолго до Галилея10. Вот несколько примеров. «Чем дальше естественное движение от покоя, с которого оно начинается, — писал Эгидий Римский (Egidius Romanus; ум. в 1316 г.), — тем больше тело приближается к центру [мира], а потому его движение усиливается благодаря удалению от покоя...»11. Дж. Б. Бенедетти, убежденный коперниканец, оказавший заметное влияние на Галилея, утверждал, что «чем оно [тело] дальше от начальной точки, тем оно быстрее [движется]»12.
Кроме того, Галилей активно использовал учение об «интенсификации и ремиссии13 качеств» и концепцию «конфигурации качеств», с которыми, судя по его ранним рукописным заметкам14, а также по некоторым архивным документам (например, MS, fol. 107v), он был также хорошо знаком.
1. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 115.
2. Ibid. Vol. X. P. 97–100.
3. Ibid. Vol. VIII. P. 378. См. также: Wisan W.L. The New Science of Motion... P. 162–171; Galuzzi P. Momento... P. 266–267.
4. В частности, MS, fol. 107r-v, где Галилей анализирует движение тел по наклонным плоскостям, и рукописной заметки Г. дель Монте, касавшейся его наблюдений метательного движения, т. е. движения тела, брошенного под углом к горизонту, с которыми Галилей, по-видимому, был знаком и которые противоречили описанию этого движения, приведенному в «De Motu». См.: Naylor R.H. The Evolution of an Experiment: Guidobaldo del Monte and Galileo's Discorsi Demonstration of the parabolic trajectory // Physis. 1974. Vol. 16. P. 323–346; P. 327; Idem. Galileo's Theory of Projectile Motion // Isis. 1980. Vol. 71. № 259. P. 550–570; Drake S. Galileo's at Work... P. 86–90.
5. Damerow P., Freudenahl G., Mc Laughlin P., Renn J., Exploring the Limits... P. 152.
6. Кроме цитированной выше монографии (Damerow P., Freudentahl G., Mc Laughlin P., Renn J. Exploring the Limits...), см. также: Naylor R.H. The Evolution of an Experiment... P. 333; Hill D.K. Dissecting Trajectories: Galileo's Early Experiments on Projectile Motion and the Law of Fall // Isis. 1988. Vol. 79. № 299. P. 646–668; Drake S. History of Free Fall: Aristotle to Galileo. Toronto: Wall & Thomson, 1989. P. 35–49.
7. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 380.
8. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 380 (MS, fol. 147r). Я опускаю здесь приведенное Галилеем доказательство этого утверждения (см.: Damerow P., Freudentahl G., Mc Laughlin P., Renn J. Exploring the Limits... P. 157–158).
9. Действительно, если тело при равноускоренном движении проходит расстояние S1 за время t1, расстояние S2 — за время 2t1, а расстояние Sn — за время nt1 и т. д., то, учитывая, что Sn ~ (ntt)2 и Sn+1 ~ [(n+1)t1]2, получаем Sn+1 - Sn = (2n+1) t12.
10. На неправильность этого утверждения в литературе указывалось неоднократно (см., например: Max Э. Механика: историко-критический очерк ее развития / Пер. с нем. Г.А. Котляра, под ред. Н.А. Гезехуса. СПб: Общественная польза, 1909. С. 214; Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки развития основных понятий механики. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 152153). Если бы скорость возрастала прямо пропорционально проходимому пути, т. е. V = kS, то путь зависел бы от времени следующим образом: S = S0ekt и тогда, как заметил Л. Эйлер, «никакие тела не могли бы прийти в движение» (Euler L. Mechanica. Petropoli, 1736. Cap. 2, prop. 15, § 135. T. 1. P. 54).
11. Egidius Romanus, in octo libros Physicorum Aristotelis, I. VII, lectio 26. Venetia, 1502, fol. 217v. (Цит. по: Григорвян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 108 (перевод В.П. Зубова).
12. Цит. по: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 108 (перевод В.П. Зубова).
13. Иногда переводят — «интенсии и ремиссии».
14. Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 119. См. подр.: Wallace W.A. Galileo's early notebooks: the physical questions / Transl. from the Latin, with historical and paleographical commentary. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1977. P. 172; Sylla E. Galileo and the Oxford Calculatores: Analytkal Languages and the Mean-Speed Theorem for Accelerated Motion // Reinterpreting Galileo / Ed. by W.A. Wallace. Washington: Catholic University of America Press, 1986. P. 53–108.
Учение об «интенсификации и ремиссии качеств» или, как его еще называли, «de latitudinibus formarum» (о «широте форм») было развито в XIV—XVI вв. схоластами Мертон-колледжа в Оксфорде1 (в арифметико-алгебраической форме par excellence), Парижского университета2 (преимущественно в геометрической форме), а также в Италии3. Область применения этого учения, цель которого состояла в математизации представлений об интенсивности качеств и её изменении, была чрезвычайно широка — от математического описания интенсивностей теплоты, света и скорости до обсуждения интенсивности благодати, греха, милосердия и добродетельности. Далее я сосредоточусь на приложении подходов указанных авторов к проблемам кинематики.
Понимание «локального движения» как перемещения тела, при котором оно «было в одном месте и будет в другом, причем так, что ни в один момент оно не покоится ни в одной точке» можно встретить уже в сочинениях Уильяма Оккама (W. Ockham, ок. 1285 — ок. 1350)4, хотя последний полагал, что в абсолютном смысле, т. е. логически, никакого движения нет вообще. Брадвардина, не разделявшего оккамистского взгляда на движение, интересовало прежде всего соотношение скоростей движущихся тел, а также соотношение между скоростью, движущей силой и сопротивлением среды. Исследовать движение, по его мнению, значит изучать изменение отношений скоростей в зависимости от изменения отношения между силой и сопротивлением. Свой закон движения Брадвардин формулирует следующим образом: «отношения движущих сил к силам сопротивления пропорциональны скоростям движения, и наоборот»5.
У Брадвардина, по словам В.П. Зубова, «сложилось понятие о скорости как о некой отвлеченной величине (т. е. отношении), в определение которой не входит ни понятие времени, ни понятие пути»6. «Количество движения (quantitas motus)», по Брадвардину, определяется его продолжительностью. Понятие скорости, отвлеченное от непосредственно пространственных определений, позволяло преодолеть аристотелевское разделение движений по их траекториям (прямолинейное (вниз-вверх) и равномерное круговое), поскольку «понятие траектории как результата независимых движений позволяло сопоставлять и сравнивать движения различной формы»7. Скорость понималась Брадвардином как «качество движения (qualitas motus)», а потому ей, как и каждому качеству, присуща некоторая интенсивность, причем можно говорить об интенсивности скорости в каждый данный момент времени, т. е. о velocitas instantenea (мгновенной скорости). По Хейтесбери, мгновенная скорость при неравномерном движении определяется «не по пройденному отрезку, а по линии, которую прочертит подобная точка, если бы она стала двигаться униформно в течение такого-то или иного времени, или проходить такой-то путь с тем градусом скорости, с которым она движется в данное мгновение»8.
Понимание мгновенной скорости как своеобразного «внутреннего качества <...>, определенного в каждый момент движения»9 создало предпосылки полного преобразования в будущем всей теории движения, поскольку способствовало формированию инфинитезимальной трактовки движения.
В связи со сказанным следует особо остановиться на концепции «конфигурации качеств и движений», развитой Н. Оремом и его последователями, поскольку именно эта концепция оказала наиболее глубокое влияние на Галилея, когда он обращался к изучению свободного падения, хотя вопрос о «влияниях» и «предтечах» весьма непрост и дискутируется в литературе уже не один десяток лет.
Доктрина конфигурации качеств была сформирована для описания и геометрического представления интенсивности качеств. «Всякая вещь, поддающаяся измерению, — писал Орем, — за исключением чисел, воображается в виде непрерывной величины. Следовательно, для ее измерения нужно воображать точки, линии и поверхности, или их свойства <...>. И даже если неделимые точки или линии — ничто, тем не менее, нужно их математически вымыслить для познания мер вещей и их отношений»10.
Интенсивность качества выражалась его степенями (или градусами). Орем предложил представлять отношение интенсивностей отношением отрезков прямых, поскольку именно в линии он находит «всё, что существенно связано с понятием интенсивности, — соизмеримость (или несоизмеримость), континуальность, возможность бесконечного роста и убывания»11.
Каждый предмет (subjectum) Орем представляет горизонтальной линией или плоскостью (longitudo или extenso)12, тогда как степень интенсивности качества изображается перпендикулярными отрезками (перпендикулярность отрезков здесь не принципиальна, это вопрос удобства) — latitudo, intensio, gradus, — исходящими из точек линии (или поверхности), характеризующей объект. Тогда отношение между двумя «точечными» интенсивностями мыслится как отношение между двумя перпендикулярными отрезками прямой. По словам Якопо де Санто Мартино, комментатора Орема и автора популярного учебника «De latitudinibus formatorum» (1-е изд. — Падуя, 1486), «столько же, сколько точек имеется в линии, столько же линий будет и в плоскости, — линий, восстановленных перпендикулярно из каждой её точки. Пропорционально величине этих линий мы должны представлять себе большую или меньшую интенсивность формы в этой точке, — в соответствии с тем, насколько длиннее или короче по сравнению с другими перпендикулярная линия, измеряющая высоту плоскости в этой точке»13.
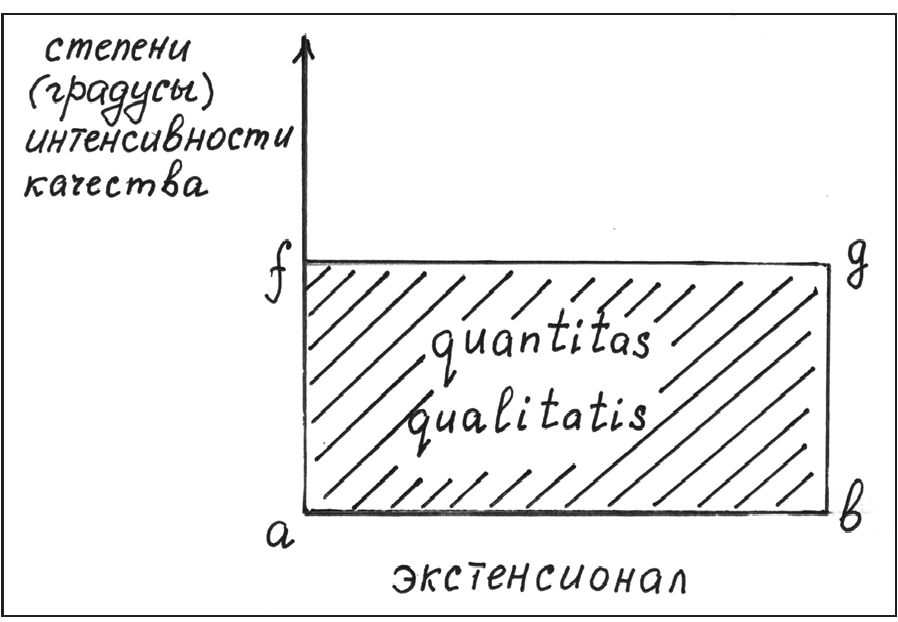
Рис. 17. Диаграмма Н. Орема для случая «униформного» распределения качества по «долготе»
Отношение линий (отрезков) интенсивности, таким образом, выражало отношение между самими интенсивностями качества в разных точках объекта (или в разных «точках» его экстенсивной характеристики), а вся поверхность, образуемая «широтными» линиями, составляла «конфигурацию качества».
Если рассматривалось движение тела, то в качестве longitudo выступал пройденный путь или время, а в качестве latitudo — «градусы скорости», т. е. мгновенные скорости, в разных точках пути или в разные моменты времени. В случае, когда объект представлен линией, во всех точках которой интенсивность его некоего качества одинакова (т. е. имеет место «униформное» распределение качества по «долготе», примером может служить равномерное прямолинейное движение), получаемая поверхность представляет полное quantitas qualitatis (полное количество качества) и имеет прямоугольную форму (рис. 17). Если же разным «долготным» точкам отвечают различные интенсивности, то получаемая поверхность (точнее, ограничивающая ее сверху linea summitatis, соединяющая вершины всех «широтных» отрезков) может иметь самую разнообразную форму, и в этом случае качество называлось дифформным (например — дифформное (неравномерное) движение).
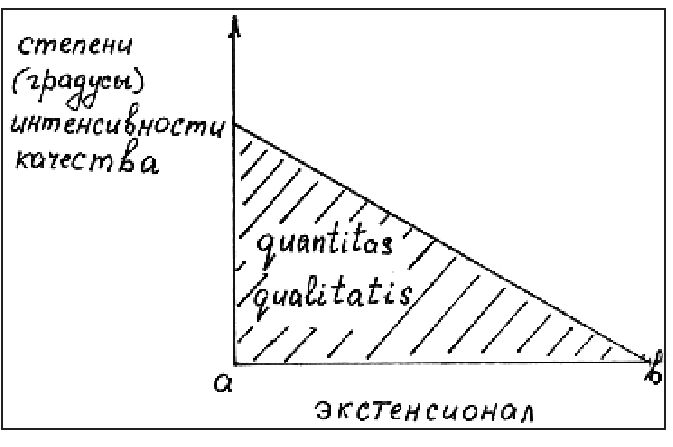
Рис. 18. Диаграмма Н. Орема для случая «униформного-дифформного» распределения качества по «долготе»
Важным частным случаем был случай так называемого униформно-дифформного распределения качества по экстенсионалу (долготе), когда интенсивность его менялась прямо пропорционально (линейно) долготе. Тогда quantitas qualitatis изображалось прямоугольным треугольником (рис. 18) или трапецией.
Заметим, что площадь получаемой геометрической фигуры (прямоугольника, треугольника и т. д.) характеризует, в случае рассмотрения движения тел, общее количество скорости, так называемую velocitas totalis (суммарную скорость), и если экстенсионалом выбрано время движения, то площадь соответствующей фигуры будет характеризовать пройденный за время движения путь. По замечанию В.П. Зубова, «Орем нигде прямо не говорит [об этом], но подразумевает» такой вывод14.
В нашем контексте важно упомянуть так называемое правило Орема или, другое название, Merton Rule (Merton Theorem)15: «Всякое качество, если оно униформно-дифформно, по своей величине таково, каким было бы униформное качество того же или равного ему предмета, соответствующее градусу средней точки того же предмета. При этом имеется в виду случай, когда качество линейное»16.
В применении к случаю униформно-дифформного, т. е. равноускоренного, движения это означает, что за время t тело, движущееся прямолинейно и равноускоренно, так, что его скорость в конце пути будет равна Vmax, пройдет то же расстояние, какое за это же время преодолеет тело, движущееся равномерно и прямолинейно с постоянной скоростью V = Vmax/217. На языке диаграмм Орема этот вывод интерпретируется как равенство площадей abc и прямоугольника afgb (рис. 19) при условии, что af = fc и ad = db18.
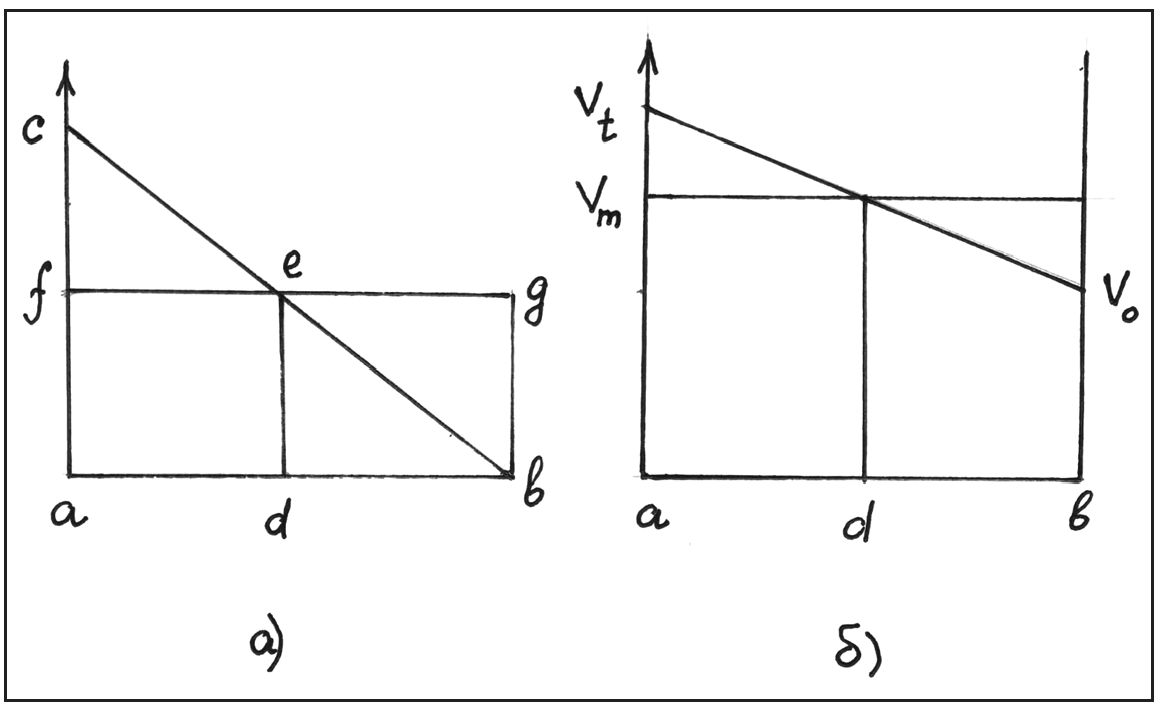
Рис. 19. Графическое представление Merton Rule в его общей формулировке (а) и применительно к случаю соотношения прямолинейного равноускоренного и прямолинейного равномерного движений (б)
В трактате Questiones super geometriam Euclidis Орем выводит из указанного правила важный для кинематики равноускоренного движения результат: в случае такого движения «отношение общего качества (qualitatis totius) к качеству части, оканчивающейся нулевой степенью, есть двойное отношение всего предмета к этой части предмета <...>. И мы должны говорить в этом случае о качестве поверхности по отношению к его предмету и о скоростях движения по отношению ко времени»19. Если переформулировать сказанное применительно к скоростям движения, то суммарная скорость (quantitas velocitatis totalis)20, выраженная горизонтальным («долготным») отрезком на диаграмме Орема, будет пропорциональна квадрату времени (s ~ t2).
Другая важная особенность теории конфигурации качеств и движений упоминается в замечании Орема о том, что «неделимая точка не есть что-либо реальное, ни линия, ни поверхность, хотя воображение их пригодно для лучшего постижения меры вещей»21. По мнению А.В. Ахутина, «именно такое понимание математического будет характерно впоследствии для физиков XVII в. и, в частности, для Галилея»22. Я бы выразился осторожней. Да, конечно, в трудах мертонских калькуляторов и парижских номиналистов XIV столетия действительно заложено многое, что затем стало мыслительным материалом для науки и философии Нового времени. Однако, как будет показано далее, галилеево понимание инфинитезимальной структуры континуума много сложней и противоречивей, чем у его предшественников-схоластов.
Мгновенная скорость в трудах Галилея — это некая промежуточная конструкция, одновременно и физическая, и математическая. Если Орем настаивал на необходимости «вымыслить» неделимые точки и линии, которое сами по себе есть ничто23, то Галилей, вводя понятие актуальной бесконечности, обосновывает математичность физической природы существованием подобных двойственных, пограничных объектов типа геометро-физических атомов и мгновения, которое есть одновременно время и не-время. Одно дело допускать, что геометрические формы могут служить универсальным репрезентантом «конфигурации качеств» и тем самым быть полезными для истолкования реальных характеристик предметов, и совсем другое — настаивать на том, что Книга Природы написана на языке математики, понимая это утверждение не в смысле Платона (для которого математические конструкции — это объекты мира идей), но буквально: Природа состоит из математических форм и потому явления полностью определены математически. Оремова «конфигурация», и здесь я полностью согласен с А.В. Ахутиным, воспринимается как свидетельство о реальной сущности, а не осмысливается в качестве этой сущности, «эссенции» предметов. «Символическое отношение исключает возможность той взаимопреобразующей связи между реальным и идеальным, которая характерна для экспериментально-теоретической ситуации физики Нового времени. Истолковывающий же эксперимент Средневековья всегда связан с тем или иным символическим отношением. Результаты идеализаций, схематические изображения, формулы истолковываются либо как "реалистические" свидетельства, либо как определение "языка"»24.
Однако глубинное различие в подходах Орема25 и Галилея к принципам теоретического осмысления природы движения не стало препятствием для перенимания и трансформации приема геометрического или арифметико-алгебраического описания движения, приема, который у Галилея оказался включенным в иной, неперипатетический натурфилософский контекст, а кроме того, стал не просто абстрактно-символическим репрезентантом движения, но расчетным инструментом.
1. Так называемыми «мертонскими калькуляторами»: У. Хейтсбери (W. Heytesbury или Hentisberus, ум. в 1380), Р. Суайнсхедом или Суиссетом (R. Swineshead или Suisheth; ум. после 1355), Д. Дамблтоном (John of Dumbleton; умерок. 1349) и другими учениками и последователями Т. Брадвардина (Th. Bradwardine; ок. 1290–1349).
2. Николаем Оремом (N. Oresme.; ум. в 1382), Альбертом Саксонским (Albertus de Saxonia; ум. в 1390 г.), Марсилием Ингенским (Marsilius von Inghen; ум. в 1396) и другими представителями так называемой «школы Жана Буридана».
3. Дж. Казале из Монферрато (Joannes de Casali; XIV в.), Бьяджо Пелакани или Пеликани (лат. Blasius de Parma, B. Pelacani или Pelicani da Parma; ок. 13451416), Гаэтано Тиенским (Gaetano da Thiene; 1387–1465) и др. Подр. см.: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 122–143.
4. Ockham W. Philosophical Writing / A selections edited and translated by Philotheus Boehner. Edinburgh: Nelson, 1957 (Series: Nelson Philosophical Texts). P. 140.
5. Цит. по: Ахутин А.В. История принципов... С. 132.
6. Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 66.
7. Ахутин А.В. История принципов... С. 133–134.
8. Цит. по: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 69.
9. Ахутин А.В. История принципов... С. 133.
10. Орем Н. О конфигурации качеств / Предисл., пер. и примеч. В.П. Зубова. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 40–123; С. 41.
11. Ахутин А.В. История принципов... С. 137. «И так как величина или отношение линий более понятны и легче постигаются нами, — разъяснял свой подход Орем, — а кроме того, линия занимает первое место среди видов континуума, то подобная интенсификация (intensio) должна быть воображаема в виде таких линий, которые примыкают к предмету и поставлены отвесно к нему» (Орем Н. О конфигурации... С. 42).
12. При этом экстенсивность объекта могла иметь как пространственное определение, так и временное, т. е. характеризовать время, в течение которого наличествует данное качество, скажем, продолжительность движения.
13. Цит. по: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 129.
14. Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 133.
15. Damerow P., Freudentahl G., Mc Laughlin P., Renn J. Exploring the Limits... P. 17.
16. Орем Н. О конфигурации... С. 110.
17. Для современного читателя этот результат тривиален: Vравном = s/t = at2/2t = at/2 = Vmax/2, где a — ускорение.
18. Действительно, 1/2(V0+Vt)t = Vmt, где Vm — средняя скорость.
19. Nicole Oresme and the medieval geometry of qualities and motions; a treatise on the uniformity and difformity of intensities known as Tractatus de configurationibus qualitatum et motuum / Edited with an introduction, English translation, and commentary by Marshall Clagett. Madison: University of Wisconsin Press, 1968. P. 557–559.
20. Т. е. путь, пройденный за время t.
21. Орем Н. О конфигурации... С. 107.
22. Ахутин А.В. История принципов... С. 143.
23. Свой подход Орем описывает лишь как «способ представления (imaginatio)», предупреждая, что «все это говорится не в физическом смысле» (Орем Н. О конфигурации... С. 107).
24. Ахутин А.В. История принципов... С. 142.
25. Здесь Орем — это скорее имя-символ всей калькуляторской традиции.
Как уже было сказано, Галилей использовал понятие конфигурации качеств и диаграммы Орема при рассмотрении ускоренных и замедленных движений. В некоторых документах, датируемых приблизительно 1604 г.1, он детально анализирует то «твердое начало», о котором упоминается в цитированном выше фрагменте его письма П. Сарпи.
Обратимся в качестве примера к документу MS, fol. 128, в котором ход рассуждений Галилея представлен наиболее полно.
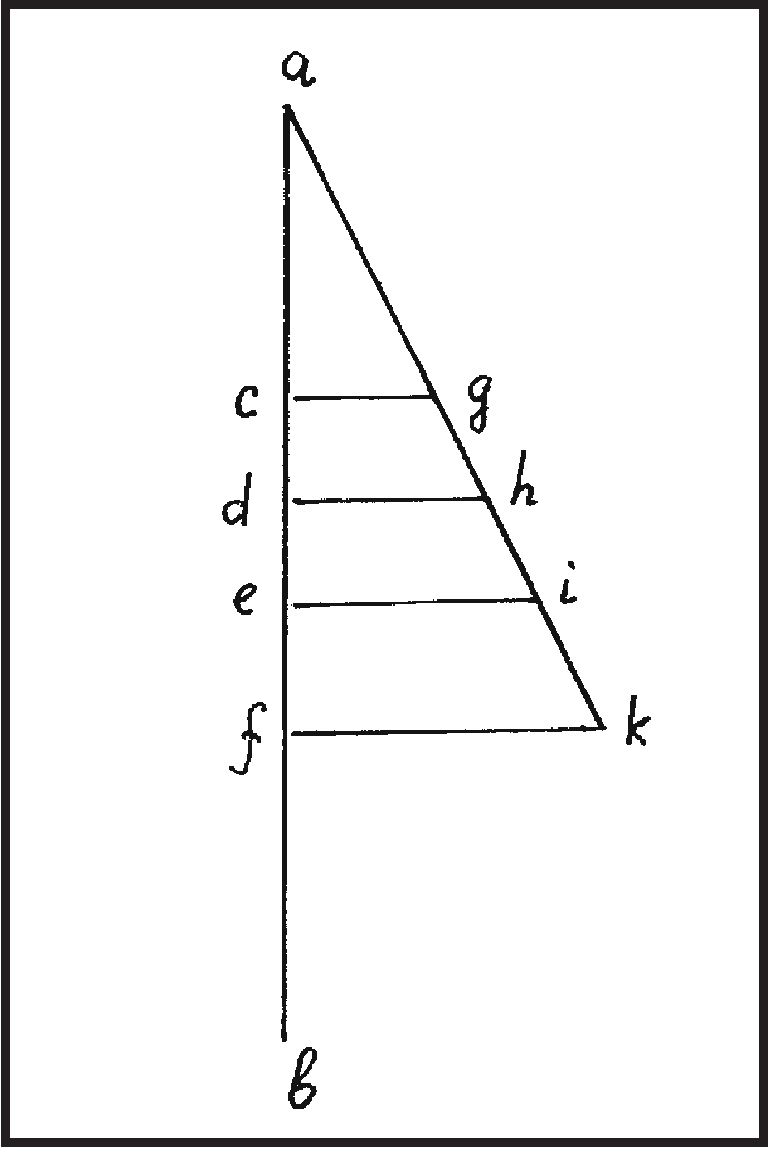
Рис. 20. Диаграмма из рукописи Галилея MS, fol. 128
«Я предполагаю, — пишет Галилей, — и возможно, смогу доказать, что естественно падающее тяжелое тело непрерывно увеличивает свою скорость по мере увеличения расстояния от точки начала движения, как, например, тяжелое тело, начавшее двигаться из точки a (рис. 20) и падающее вдоль линии ab. Я предполагаю, что степень скорости в точке d настолько превышает степень скорости в точке c, насколько расстояние da больше, чем ca, а степень скорости в [точке] e относится к степени скорости в [точке] d как ea [относится] к da. Таким образом, в каждой точке линии ab тело должно иметь степень скорости, пропорциональную расстоянию этой точки от начальной точки [движения] a. Этот принцип представляется мне весьма естественным и соответствующим всем нашим наблюдениям над инструментами и машинами, работающими посредством удара, где ударяющий предмет производит тем больший эффект, чем с большей высоты он падает; и этот принцип я докажу далее».
Итак, основной принцип, положенный Галилеем в основание его теории естественного ускоренного движения, фактически сводится к тому, что скорость такого движения есть непрерывная линейная функция пройденного пути, т. е. V = kS. Теперь продолжим цитирование и посмотрим, к каким выводам приходит Галилей и как он доказывает сформулированный принцип.
«Начертим линию ak под произвольным углом к линии af (см. рис. 20. — И.Д.) и через точки c, d, e и f проведем параллельно линии cg, dh, ei и fk. Так как отрезки fk, ei, dh и cg относятся друг к другу как fa, ea, da и ca, то скорости в точках f, e, d и с относятся друг к другу как отрезки fk, ei, dh и cg. Таким образом, степени скорости нарастают непрерывно в точках линии af по мере увеличения длины параллельных отрезков, проведенных из всех этих точек. Более того, поскольку скорость, с которой движущееся тело перемещается из точки a в точку d, слагается из всех степеней скорости, кои тело проходит во всех точках отрезка ad, а скорость, с которой тело проходит отрезок ac, слагается из всех степеней скорости, которые оно имело во всех точках отрезка ac, то скорость прохождения телом отрезка ad также находится в том же отношении к скорости, с коей тело проходит отрезок ac, какое все параллельные линии, проведенные из всех точек отрезка ad ко всем точкам отрезка ah, имеют ко всем параллельным линиям, проведенным из всех точек ac ко всем точкам ag, и это отношение есть отношение [площади] треугольника adh к треугольнику acg (т. е. к площади этого треугольника. — И.Д.), т. е. отношение квадрата [стороны] ad к квадрату [стороны] ac. Таким образом, скорость, с которой оно проходит отрезок ad, так относится к скорости, с которой оно проходит отрезок ac, как квадрат da к квадрату ca.
А поскольку одна скорость относится к другой скорости обратно тому, как время одного движения ко времени другого (ибо увеличить скорость — это всё равно что уменьшить время), то время движения по ad относится ко времени движения по ac как квадратные корни расстояний ad и ac. Таким образом, расстояния, проходимые из начальной точки движения, относятся друг к другу как квадраты времен и dividendo2 пути, проходимые в равные времена, соответствуют последовательности нечетных чисел, начиная с единицы. Это соответствует как тому, что я уже сказал, так и наблюдениям; и, таким образом, все истины находятся в согласии»3.
Приведенное рассуждение, во-первых, совершенно ошибочно (кроме окончательного вывода), причем ошибочно вдвойне: скорость равноускоренного движения не является линейной функцией пройденного пути и, кроме того, отношение (средних) скоростей не равно отношению квадратов пройденных путей, т. е., если уж допускать, что V = ks и, следовательно, V1/V2 = s1/s2, то отсюда вытекает, что отношение площадей соответствующих треугольников S1 = 1/2(V1s1) и S2 = 1/2(V2s2), и равно S1/S2 = V1s1/V2s2 = s12/s22 = V12/V22, а вовсе не S1/S2 = s12/s22 = V1/V2. Галилей сначала предполагает, что V ~ S, а потом, на основании этого предположения, «доказывает», что V ~ s2. И из всего сказанного им уж никак не получается, что времена относятся как квадратные корни из величин пройденных путей.
Во-вторых, всё это многословное рассуждение по большей части обладает признаками не доказательства, но геометрической иллюстрации исходного тезиса.
Таким образом, Галилей формулирует верный вывод — правило нечетных чисел — исходя из совершенно неверной посылки и ошибочных рассуждений4.
Следующий шаг в галилеевых исследованиях равноускоренных движений зафиксирован в документе MS, fol. 163v5, примыкающем по своему характеру к перечисленным выше записям (MS, fol. 179v, 85v и 128). В этом документе Галилей формулирует правило, которое в историконаучной литературе иногда называют Double Distance Rule (правило двойного пути; далее сокр. ПДП)6:
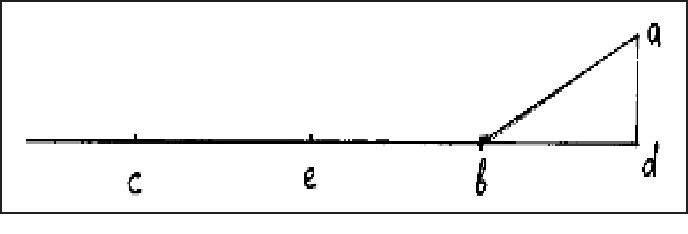
Рис. 21. Графическая иллюстрация Галилея к выводу правила двойного пути
«Пусть движение [происходит] из точки a в точку b с естественным ускорением (речь идет о свободном падении тела. — И.Д.). Я утверждаю, что, если скорость во всех точках отрезка ab была бы такой же, как в точке b, то [тело] прошло бы этот путь ab в два раза быстрее».
Из этого совершенно правильного утверждения (доказательство которого, приведенное Галилеем, я опускаю), следует, что, если тело движется равноускоренно по наклонной плоскости ab (рис. 21), а затем равномерно по горизонтальному отрезку пути bc вдвое большему ab (bc = 2ab), то расстояния bc и ab оно должно преодолеть за равные промежутки времени. Сказанное составляет суть ПДП, тогда как первое утверждение в приведенной выше цитате является, по существу, упомянутым выше мертонским правилом (Merton Rule). Как и в предыдущем случае (документ MS, fol. 128), Галилей получает правильные результаты, исходя из ошибочного предположения (V = ks). Полезность ПДП определялась тем, что с его помощью можно было заменять в рассуждениях и доказательствах ускоренное движение равномерным.
Итак, к октябрю 1604 г., т. е. к моменту написания письма Сарпи, Галилей пришел если не к законченной теории, то, по крайней мере, к совокупности идей и предположений, касающихся равноускоренного движения (свободного падения и движения по наклонной плоскости):
— V = ks
— s ~ и имеет место ПНЧ;
— lt-отношение
— ПДП.
Кроме того, он использовал диаграммы Орема, которые в его рассуждениях стали расчетным инструментом, протоинфинитезимальные представления (понятие мгновенной скорости, velocitas totalis и т. п.)7 и также некоторые результаты, полученные еще в XIV столетии.
В письме Б. Винта от 7 мая 1610 г., накануне своего переезда из Падуи во Флоренцию, Галлей сообщал: «среди работ, которые мне предстоит завершить, две книги «De Systemate seu constitutione», в которых затрагиваются всеобщие проблемы философии, астрономии и геометрии; три книги о движении тел — это совсем новая концепция, не имеющая ничего общего ни с прежними, ни с современными теориями»8.
Действительно, хотя к этому времени Галилея больше интересовали астрономические проблемы, однако и до 1610 г., и после он время от времени возвращался к вопросам механики, особенно когда «было благоразумнее заняться предметами, не имеющими явных идеологических импликаций»9. Среди документов падуанского периода в контексте рассматриваемой темы особого внимания заслуживают рукописные заметки MS, fol. 91v10 и MS, fol. 152r11. Далее я сосредоточусь на первом из этих документов, в котором изменение взглядов Галилея на природу равноускоренного движения отражено с наибольшей полнотой12. В этих заметках Галилей приводит доказательство следующего утверждения: «При движении из состояния покоя момент скорости и время движения растут в одном и том же отношении». Это важная констатация, поскольку она свидетельствует о том, что Галилей, наконец, оставил прежнюю гипотезу (V = ks) и обратился к новой: V = V(t). «Пусть, — читаем далее, — движение происходит по ab из состояния покоя в точке a и пусть c — произвольная точка на ab, и пусть эта точка располагается так, что ac есть время падения по ac и пусть b — произвольная точка (рис. 22): я утверждаю, что время падения вдоль ab так относится ко времени [падения] вдоль ac, как момент скорости в [точке] b к моменту [скорости] в [точке] c»13.
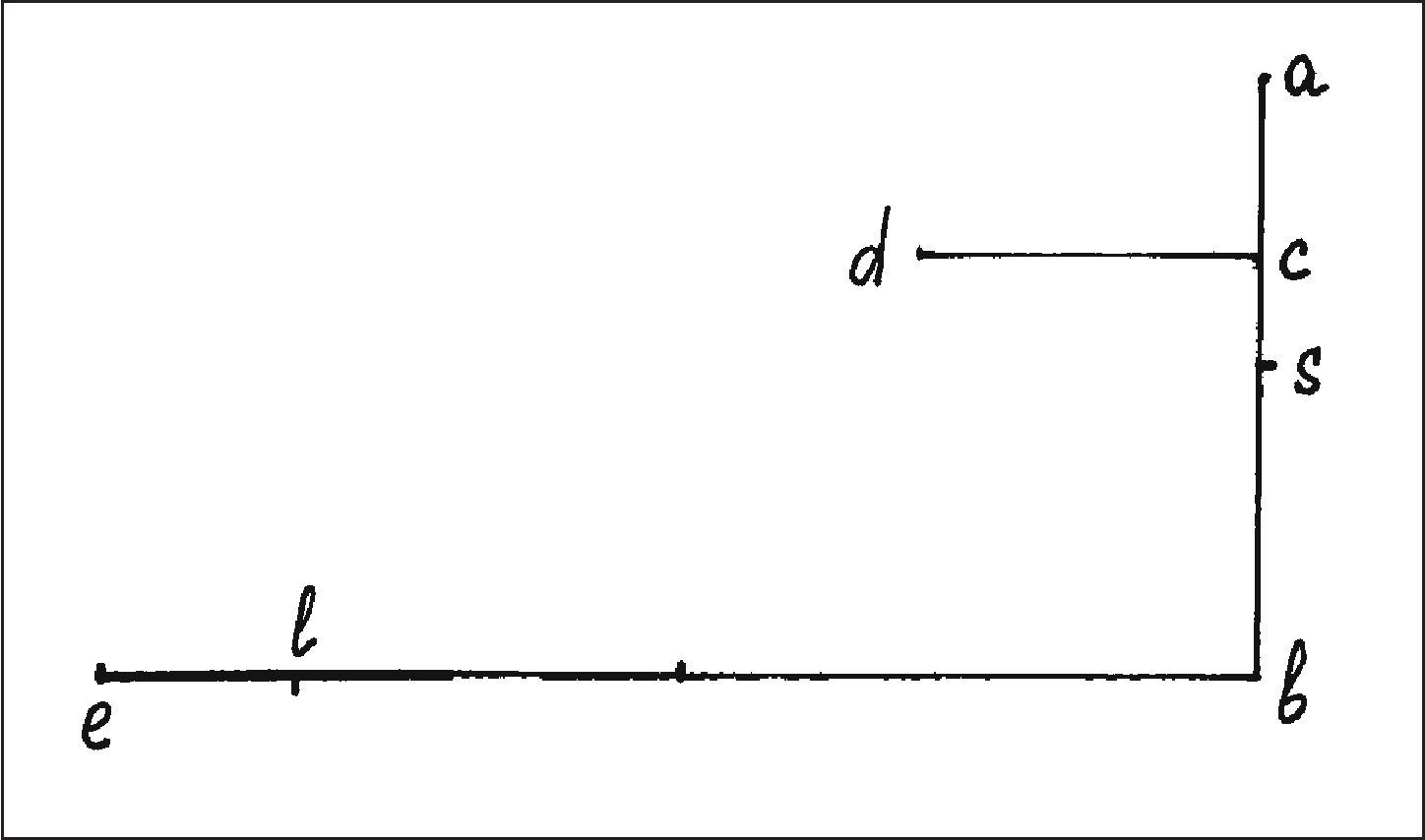
Рис. 22. Диаграмма Галилея к доказательству закона равноускоренного движения (V ~ t).
Суть предложенного Галилеем доказательства того, что V ~ t такова. Рассмотрим падение тела вдоль линии ab. Отложим из точки c на ab отрезок cd = 2ac и перпендикулярный ab. Из точки b отложим отрезок be = 2ab, также перпендикулярный ab. Тогда:
|
cd be |
= |
ac ab |
. |
В соответствии с ПДП имеем: cd = tacVc, где Vc — скорость тела, достигнутая им за время падения tac в точке c; be = tabVb, где Vb — скорость тела, достигнутая им за время tab в точке b. Пусть bl — отрезок, который тело прошло бы, двигаясь равномерно по горизонтали со скоростью Vb, но за меньшее время tac, т. е. bl = tacVb.
Кроме того, согласно (2), можем записать:
|
(3) |
и
|
ab as |
= |
as ac |
. |
или as = √ab · ac.
Тогда поскольку
|
cd bl |
= |
Vc Vb |
и учитывая, что
|
be bl |
= |
tab · Vb tac · Vb |
= |
tab tac |
= |
ab √ab · ac |
= |
ab as |
= |
as ac |
, |
получаем:
|
Vc Vb |
= |
cd be |
· |
be bl |
= |
ac ab |
· |
ab as |
= |
ac as |
= |
tac tab |
и
|
Vc Vb |
= |
tac tab |
или V ~ t, что и требовалось доказать.
Таким образом, приведенное доказательство опиралось на ПДП и закон свободного падения (s ~ t2) (он здесь учтен в формуле (3)), который Галилей, в свою очередь, вывел из доказанной в «De Motu» теоремы об «изохронности хорд» и постулированного, но не доказанного lt-отношения (плюс ошибочный вывод этого закона в MS, fol. 128). Однако и ПАП, и закон свободного падения опирались в конечном счете на неверное допущение: V = ks.
В итоге сложилась следующая ситуация: исходя из ошибочного принципа (V = ks) и недоказанного lt-отношения, Галилеем было получено несколько правильных результатов (s ~ t2, ПНЧ, ПАП), из которых, в свою очередь, следовало, что исходный принцип неверен и его следует, по-видимому, заменить другим: V = kt. А поскольку Галилей не сразу осознал ошибочность (V ~ s)-допущения, то для него парадоксальность ситуации состояла в том, что из двух несовместимых утверждений следовали одни и те же (как ему казалось) выводы, совместимые, однако, с опытом.
Возможно и другое понимание событий: как свидетельствуют записи MS, fol. 152r, Галилей мог убедиться, что (V ~ s) — допущение несовместимо с ПАП. Но в любом случае необходимо было еще доказать, что из (V ~ t) следует (s ~ t2), и наоборот, причем сделать это надо было, опираясь на теорию пропорций и избегая обращения к диаграммам Орема, Merton Rule, соотнесения velocitas totalis с площадями геометрических фигур и прочего арсенала XIV столетия. Впрочем, уже в приведенном доказательстве диаграмма, изображенная на рис. 21, представляет не символическую репрезентацию отношений экстенсионала и интенсионала, но комбинацию вполне реальных движений, поскольку и вертикальные, и горизонтальные отрезки характеризуют конкретные траектории, проходимые телом.
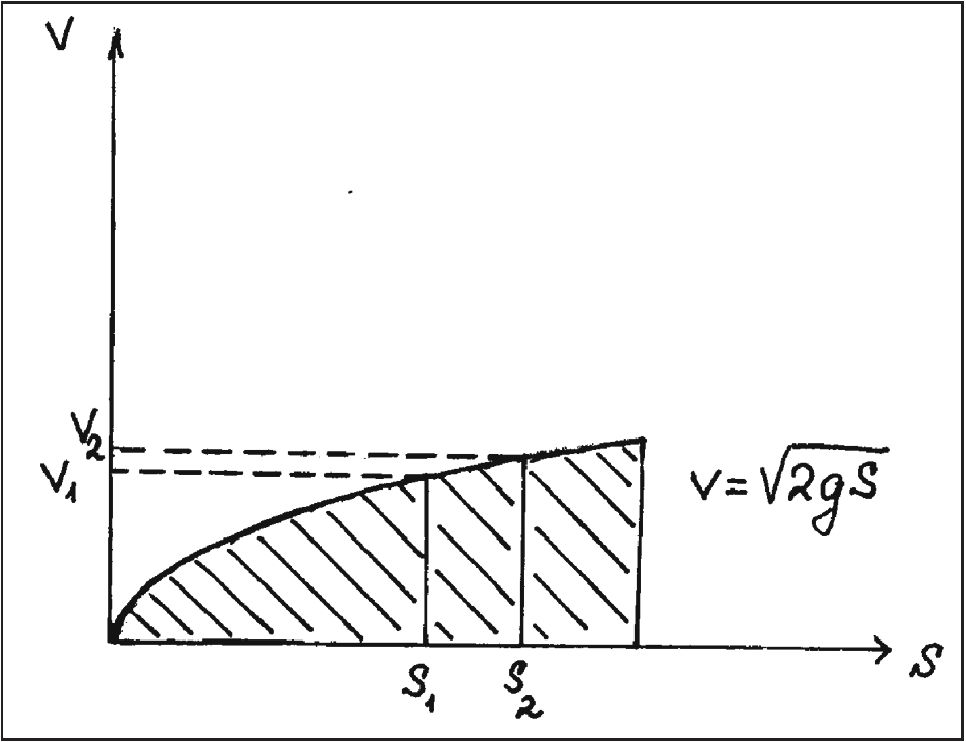
Рис. 23. Графическое представление свободного падения в «координатах» V — s при допущении, что V = V(t)
А почему вдруг Галилей решил отказаться от оккамова наследия?
Ответ на этот вопрос дает анализ документа MS, fol. 152r. Галилей фактически рассматривал два способа графического представления равноускоренного движения. Несколько модернизируя его рассуждения (для удобства понимания их современным читателем), можно сказать, что первый способ графического представления свободного падения предполагал его рассмотрение в «координатах» V — s при допущении, что V = V(t). Тогда получаемая им геометрическая фигура была ограничена сверху параболой (рис. 23). Вертикальные отрезки, проведенные к точкам s1 и s2, характеризуют моменты (градусы) скорости в соответствующих точках пути.
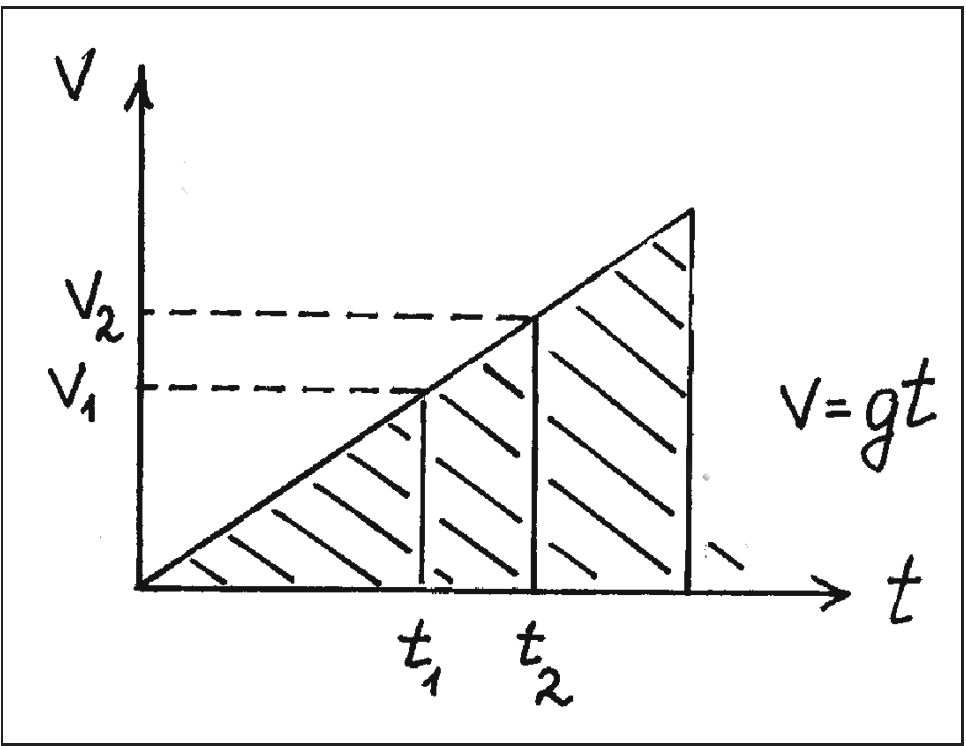
Рис. 24. Графическое представление свободного падения в «координатах» V — t при допущении V = V(t)
Второй способ графического представления свободного падения — это представление его в «координатах» V — t (если полагать, что V = V(t)). Тогда «конфигурация качеств» будет представлена треугольником (рис. 24). Вертикальные отрезки, проведенные к точкам t1 и t2, характеризуют в этом случае моменты (градусы) скорости в моменты времени t1 и t2, отвечающие прохождению телом соответственно точек s1 и s2.
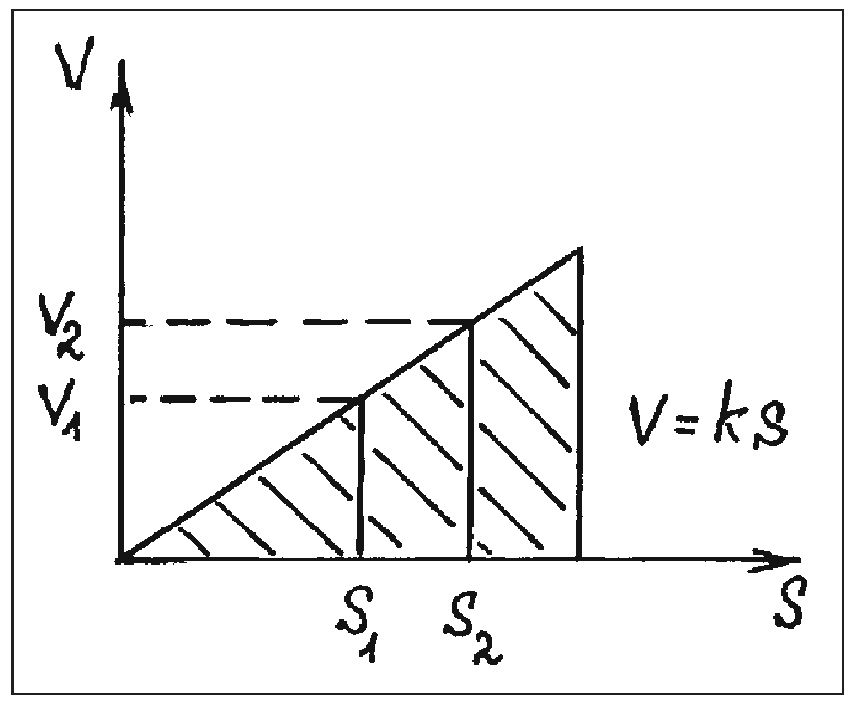
Рис. 25. Графическое представление свободного падения в «координатах» V — s при допущении V = ks
Галилей полагал, что и в том, и в другом случае суммирование всех градусов скорости должно дать одно и то же значение velocitas totalis, характеризуемое величиной заштрихованной площади на рис. 23 и 24. Более того, поскольку, по его ошибочному мнению, оба закона скорости — V = V(s) и V = V(t) — давали один и тот же закон свободного падения (s ~ t2), то и velocitas totalis, полученная суммированием отрезков на диаграмме, построенной в «координатах» V — s в предположении, что V = ks (рис. 25), также должна быть равна тому же значению суммарной скорости.
Или, иначе, во всех трех случаях (V = √2gs, V = gt и V = ks) отношение площадей S1 и S2, отвечающих соответствующим точкам на оси экстенсионала, — s1 и s2 или t1 и t2 — должно быть одинаковым. Современному читателю ясно, что такого быть не может. Действительно, в первом случае получаем S1/S2 = s13/2/s23/2, т.к. S = ∫V ds = ∫√2gs ds = √8g/9 s3/2,
во втором — отношение площадей равно
|
S1 S2 |
= |
t12 t22 |
= |
s1 s2 |
, |
и в третьем:
|
S1 S2 |
= |
s12 s22 |
, |
т. к. S = |
∫ |
V ds = k |
∫ |
s ds = k |
s2 2 |
. |
И если, к примеру, s1 = 9 и s2 = 4 (я беру цифры Галилея), то отношения площадей оказываются следующими: в первом случае — 27/8, во втором — 9/4 и в третьем — 81/16. У Галилея так все и получилось14, но он-то считал, что отношение площадей во всех случаях должно быть одинаковым и, скорее всего, равным 81/16, поскольку во всех трех случаях речь шла, как он ошибочно полагал, об одном и том же отношении одних и тех же величин velocitas totalis. Поэтому-то Галилею и потребовался «независимый» от оремовых диаграмм способ вывода закона свободного падения (или, более общо, закона равноускоренного (естественного) движения: s ~ t2) при том, что Галилей уже начал переосмысливать старый, оремово-калькуляторский символический метод представления конфигурации качеств, приближая диаграммы XIV в. либо к схемам реальных движений, либо к тому, что позже стало называться графиком функции.
Итак, первая задача, вставшая перед Галилеем, состояла в том, чтобы вывести закон s ~ t2 из (V ~ t) допущения, не используя графические методы. Такая попытка действительно засвидетельствована в документах MS, fol. 61r–64r15 и MS, fol. 164v16.
Схема вывода закона свободного падения, использованная Галилеем, такова: пусть тело, движущееся равноускоренно из состояния покоя, к моменту времени t1 прошло путь s1 и достигло скорости V1, а к моменту t2 оно прошло путь s2 и достигло скорости V2, причем V ~ t, откуда
|
(4) |
Введем еще одно движение, на этот раз равномерное и прямолинейное со скоростью V2. Пусть, далее, тело, равномерно двигаясь с этой скоростью, за время t1 прошло путь s3. Тогда, поскольку время первого движения (т. е. равномерно ускоренного до точки s1) равно времени равномерного, то, по Галилею,
|
(5) |
При этом Галилей исходил из так называемого «аристотелева отношения»: при t = t2(s1/s2) = V1/V2. Однако это отношение справедливо, если мы соотносим либо два равномерных, либо два равноускоренных (или равнозамедленных) движения. В случае же, рассмотренном Галилеем, когда сравнивается равноускоренное и равномерное движение, совершающееся в течение одинаковых промежутков времени, имеет место иное отношение:
|
s3 s1 |
= |
V2 t1 (V1 t1)/2 |
= 2 |
V2 V1 |
Но, как будет ясно из дальнейшего, эта ошибка — в физическом плане весьма существенная — не повлияла на окончательный результат.
Далее, из равенства скоростей второго (равномерно ускоренного и продолжающегося до точки s2) и третьего (равномерного) движений Галилей получает следующее отношение:
|
(6) |
опираясь при этом на так называемое «отношение Архимеда»: при равенстве скоростей двух движений (V1 = V2) имеет место соотношение
|
s1 s2 |
= |
t1 t2 |
Опять-таки, повторяя mutatis mutandis сказанное выше о пропорции (5), истинное соотношение s2 к s3 должно иметь вид:
|
s2 s3 |
= |
t2 2t1 |
но и эта ошибка на окончательный результат не влияет.
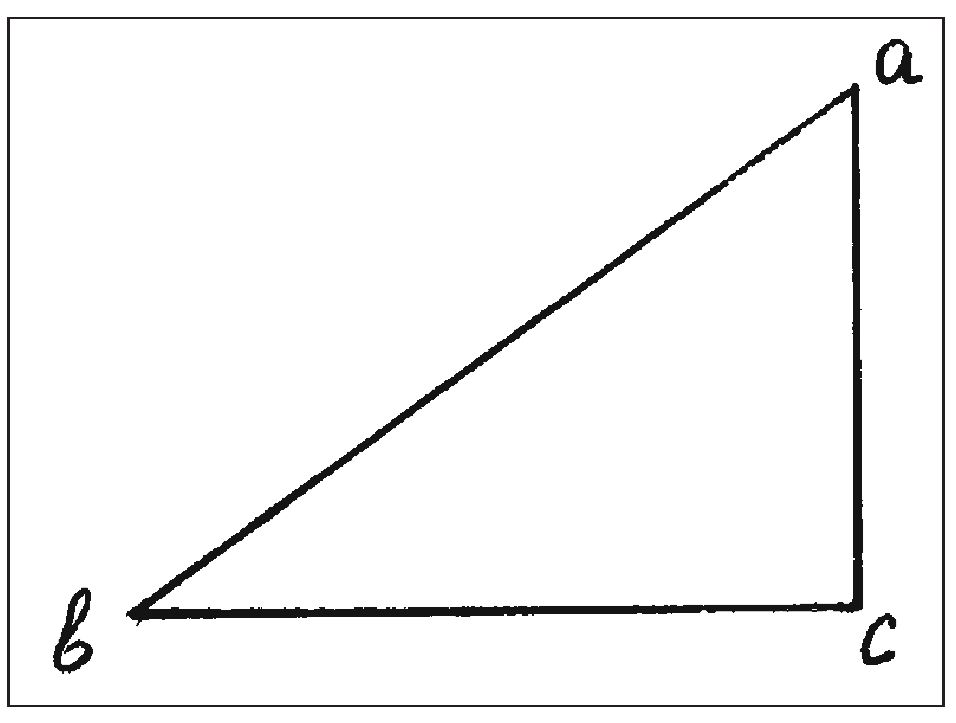
Рис. 26. Пояснительный чертеж Галилея к его рассуждениям о движении по наклонной плоскости
Далее, умножая (5) на (6) и учитывая (4), получаем:
|
s3 s1 |
· |
s2 s3 |
= |
s2 s1 |
= |
V2 V1 |
· |
t2 t1 |
= |
t22 t12 |
или s ~ t2. |
В итоге Галилей, используя опять-таки неверные посылки, получает правильный результат. Однако допущенные ошибки незамедлительно дали о себе знать. Как свидетельствует документ MS, fol. 154v17, Галилей столкнулся с парадоксом, получившим в литературе название Mirandum Paradox18. Суть его состоит в следующем. Согласно центральной теореме галилеевой теории движения по наклонной плоскости, изложенной в «De Motu», движение по ab (рис. 26) требует большего времени, чем движение по ac или, иначе, скорость тела, движущегося по наклонной плоскости ab, в точке b (Vbнакл) так относится к скорости тела, падающего по вертикали ac, в точке c (Vcверт), как ac к ab, т. е. как высота наклонной плоскости к её длине:
|
Vbнакл Vcверт |
= |
ac ab |
< 1, откуда Vbнакл < Vcверт. |
С другой же стороны, поскольку из lt-отношения следует, что
|
ac ab |
= |
tac tab |
, |
то, принимая во внимание упомянутое выше «отношение Архимеда» (если V1 = V2, то s1/s2 = t1/t2, и наоборот), получаем, что Vbнакл = Vcверт.
Этот парадокс заставил Галилея усомниться в применимости «отношения Архимеда» к случаю равноускоренного движения19. Но тогда сомнительным оказывался и приведенный выше «независимый» вывод закона s ~ t2 и следствий из него.
Таким образом, в 1600-х гг. Галилей, хотя и получил ряд правильных результатов, касавшихся свободного падения (например, (V ~ t)- и (s ~ t2)-зависимости), однако не смог доказать полученные выводы, более того, его теория оказалась весьма неопределенной и противоречивой. Mutatis mutandis сказанное относится и к проблеме движения тела, брошенного под углом к горизонту20. Удалось ли Галилею решить проблему свободного падения в двух его поздних и зрелых работах — в «Dialogo» и в «Discorsi»?
1. MS, fol. 179v (Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 380); MS, fol. 85v. (Ibid. P. 383) и MS, fol. 128. (Ibid. P. 373–374).
2. Этим термином в теории пропорций обозначалась замена отношения a/b = c/d эквивалентным отношением (a – b)/b = (c – d)/d. — И.Д.
3. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 373–374.
4. Замечу также, что и мертонские калькуляторы, и Н. Орем уже знали о том, что при «униформно-дифформном» (т. е. равноускоренном) движении s ~ t2 и имеет место ПНЧ (см.: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 149–151).
5. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 383–384.
6. Wisan W.L. The New Science of Motion... P. 204–207; Damerow P., Freudenthahl G., Mc Laughlin P., Renn J., The Exploring Limits... P. 172–174.
7. Мгновенные скорости у Галилея, как и у представителей калькуляторской традиции, соответствовали непрерывно возрастающим отрезкам прямых, в сумме дающих площадь фигуры (скажем, треугольника).
8. Galilei G. Le Opere. Vol. X. P. 351–352.
9. Damerow P., Freudenthahl G., Mc Laughlin P., Renn J., Exploring the Limits... P. 175.
10. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 280–282, 427.
11. Ibid. P. 426–427.
12. См. также: Damerow P., Freudenthahl G., Mc Laughlin P., Renn J., Exploring the Limits... P. 177–196; Wisan W.L. The New Science... P. 227–229; Naylor R.H. Galileo's Theory of Projectile Motion. P. 550–570; P. 562–566; Wisan W.L. Galileo and the Process of Scientific Creation. P. 269–286; Hill D.K. Galileo's Work on 116v A New Analysis // Isis. 1986. Vol. 77. № 287. P. 283–291; P. 284–288.
13. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 281–282. Курсивом выделен текст, подчеркнутый Галилеем.
14. Площадь под параболой он вычислял, аппроксимируя её треугольниками (см. подр. Damerow P., Freudenthahl G., Mc Laughlin P., Renn J. Exploring the Limits... P. 183–195; P. 189).
15. Mss. Gal., part. VI, Vol. III, fol. 61r-64r, копия рукой Вивиани с оригинала Галилея (Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 614).
16. Ibid. P. 375. См.: Wisan W.L. The New Science... P. 201–204.
17. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 375.
18. С. Дрейк перевел термин mirandum как remarkable (Drake S. Galileo at Work... P. 125), а в другой работе как marvelous (Drake S. History of Free Fall... P. 55).
19. Действительно, если при одном и том же ускорении скорости тела в точках b и c оказываются равными, то это означает, что пройденные пути и времена движения равны, что ясно (нам, но не Галилею) из соотношений V = at и V = √2as.
20. Подр. см.: Damerow P., Freudenthahl G., Mc Laughlin P., Renn J., Exploring the Limits... P. 144–147; 149–153; 200–226.
Начну с «Discorsi», где изложение вопроса дано в наиболее детальном и систематическом виде. «День третий» этого трактата-диалога начинается с чтения собравшимися сочинения «Академика», т. е. самого Галилея, члена Академии деи Линчеи, «De Motu locali», написанного по-латыни, тогда как сами собеседники говорят между собой по-итальянски. Труд Академика начинается с рассмотрения равномерного движения, которое определяется им как «такое, при котором расстояния, проходимые движущимся телом в любые равные промежутки времени, равны»1. И далее, после рассмотрения особенностей равномерного движения, автор обращается к движению естественно-ускоренному, формулируя следующую теорему: «Время, в течение которого тело, вышедшее из состояния покоя и движущееся с униформным ускорением (т. е. равномерно ускоренно. — И.Д.), проходит некоторое расстояние, равно времени, в течение которого это же самое расстояние было бы пройдено тем же телом при равномерном движении (motu aequabili), градус скорости которого вдвое меньше высшего и последнего градуса скорости, достигаемого при первом униформно ускоряющемся движении»2.
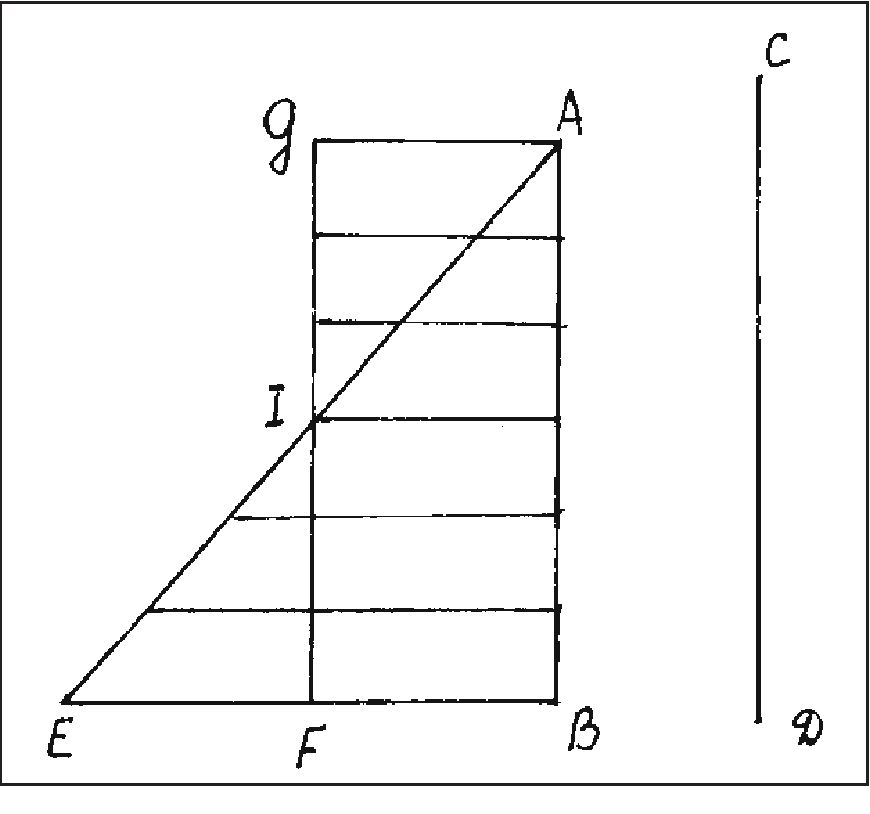
Рис. 27. Пояснительный чертеж Галилея к его рассуждениям о равноускоренном движении (из рукописного трактата De Motu locali)
Фактически это утверждение эквивалентно Merton Rule, изложенному, правда, не в терминах средней скорости, а в терминах «высшего и последнего градуса скорости» равноускоренного движения, т. е. фактически повторяющее галилеево ПДП. Теперь обратимся к доказательству этой теоремы, предложенному в «De Motu locali»:
«Пусть линия AB представляет время, в течение которого тело, выйдя из состояния покоя в точке C и двигаясь с униформным ускорением, проходит расстояние CD (рис. 27). Пусть, далее, из градусов скорости, возрастающей в каждое мгновение времени AB, наибольший и последний будет обозначен линией EB, перпендикулярной к AB. Если соединить точки A и Е, то все линии, проведенные из отдельных точек линии AB параллельно EB, будут обозначать возрастающие градусы скорости после мгновения A. Если далее разделить линию EB пополам в точке F и провести линии FG и AG, соответственно параллельные AB и BF, то получится параллелограмм AGFB, равный (прямоугольному. — И.Д.) треугольнику AEB; сторона его GF делит AE пополам в точке I; поэтому если параллельные линии треугольника AEB продолжить до линии IG, то совокупность (aggregatum) всех параллельных линий, заключенных в четырехугольнике, будет равна совокупности линий, заключенных в треугольнике AEB; ведь те, которые заключены в треугольнике IEF, равны тем, которые заключены в треугольнике GIA; а те части, которые заключены в трапеции AIFB, являются общими. Коль скоро каждому в отдельности и всем вместе (singulis et omnibus) мгновениям времени AB соответствуют по отдельности и все вместе (singula et omnia) точки линии AB, а проведенные через эти точки параллели, заключенные в треугольнике AEB, представляют градусы возрастающей скорости, тогда как параллели, заключенные внутри параллелограмма, представляют столько же (totidem) градусов скорости не возрастающей и равномерной, ясно, что израсходовано столько же моментов скорости при ускоренном движении соответственно возрастающим параллельным линиям треугольника AEB, сколько при равномерном движении соответственно линиям параллелограмма GB; ибо то, что недостает моментам в первой половине ускоренного движения (ведь моменты, представленные параллельными линиями, заключенными в треугольнике AGI, отсутствуют), возмещается моментами, представленными параллельными линиями треугольника IEF. Отсюда очевидно, что два тела пройдут равные расстояния за одно и то же время, если одно тело, выйдя из состояния покоя, станет двигаться с униформным ускорением, а другое будет двигаться равномерно, соответственно моменту (т. е. градусу. — И.Д.) вдвое меньшему, чем момент максимальной скорости ускоренного движения. Это и требовалось доказать»3.
В этом доказательстве обращают на себя внимание следующие особенности галилеевых рассуждений:
— он опирается на (V ~ t)-отношение, т. е. на утверждение о том, что скорость равноускоренного движения растет прямо пропорционально времени или, говоря современным языком, является линейной функцией времени4;
— галилеевы диаграммы движении, представленные треугольником AEB и четырехугольником AGFB, функционируют в его рассуждениях фактически как графики функции V = V(t), иначе все его построения и утверждения потеряли бы смысл (поэтому-то он и проводит два отрезка прямых, из которых один (AB) представляет время, а другой (CD) символизирует пройденный телом путь);
— Галилей использует понятие мгновенной скорости (градус или момент скорости в его терминологии) и устанавливает, как бы мы сейчас сказали, равномощность следующих множеств:
i) бесконечного множества моментов времени временного промежутка AB (MTAB) и бесконечного множества градусов (моментов) скорости тела, движущегося равноускоренно в течение времени AB (MVAB):
MTAB ↔ MVab;
ii) бесконечного множества моментов времени временного промежутка AB (MTAB) и бесконечного множества точек «временно́го» отрезка прямой AB(MAB):
MTAB ↔ Mab;
iii) бесконечного множества градусов скорости MVAE и бесконечного множества точек на отрезке скорости AE (MAE):
MVАE ↔ MAE;
iv) бесконечного множества отрезков прямых («линий» скорости), параллельных EB (MEB^) и бесконечных множеств точек MVAE и MAB.
MEB^ ↔ MVAE и MEB^ MAB
v) бесконечного множества параллельных отрезков прямой («линий» скорости), заключенных в треугольнике AEB (и образующих этот треугольник) MAEB^ и бесконечного множества отрезков прямой, заключенных в четырехугольнике AGFB (и образующих этот четырехугольник) MAGFB^:
MAEB^ ↔ MAGFB^,
причем «равенство треугольника AEB и четырехугольника AGEB», — а это, по смыслу сказанного Галилеем, могло быть только равенство площадей этих фигур, хотя он избегал слово «площадь», — обосновывается им именно равномощностью этих двух бесконечных множеств;
vi) бесконечного множества возрастающих градусов скорости равноускоренного движения (MVAB) и бесконечного множества параллельных отрезков прямых («линий» скорости), заключенных в треугольнике AEB MAEB^:
MVAB ↔ MAEB^
vii) бесконечного множества одинаковых градусов скорости равномерного движения, совершающегося в течение времени AB (MVABp) и бесконечного множества одинаковых параллельных отрезков прямых («линии скорости» равномерного движения), заключенных в четырехугольнике AGFB (MAGFB^):
MVABp ↔ MAGFB^;
viii) бесконечного множества моментов времени временного отрезка AB (MTAB), бесконечного множества градусов скорости (MVAE) и бесконечного множества точек пройденного пути CD (MSCD):
MTAB ↔ MVAE ↔ MSCD,
а следовательно, и
MAB ↔ MAE ↔ MCD,
где MCD — бесконечное множество точек на отрезке CD, характеризующее пройденный телом путь за время AB.
Из декларированной равномощности («равенства» совокупностей (aggregata) элементов) указанных бесконечных множеств, Галилей делает вывод о равенстве расстояний, проходимых за одно и то же время двумя телами (s1 = s2), одно из которых движется равноускоренно из состояния покоя, достигая в конце движения скорость Vmax, а другое — равномерно со скоростью Vmax/2. Действительно, по Галилею, поскольку
MVABp ↔ MAGFB^ ↔ MAEB^ ↔ MVAB,
то s1 = s2. Но чтобы сделать такой вывод, надо было предположить, что aggregatum отрезков («линий») скоростей, заключенных в треугольнике AEB (MAEB^) представляет собой расстояние, пройденное равноускоренно движущимся телом за время AB, а aggregatum отрезков («линий») скорости, заключенных в четырехугольнике AGFB (MAGFB^) — расстояние, пройденное за это же время равномерно движущимся телом. Иначе вывод Галилея оказывается совершенно необоснованным5. Поэтому утверждение проф. Ю. Ренна, согласно которому Галилей «не отождествлял эти площади (т. е. площади треугольника AEB и четырехугольника AGFB. — И.Д.) с расстояниями» и «не определял их как представляющие полные скорости (т. е. как velocitas totalis. — И.Д.) соответствующих движений»6, представляется мне сомнительным, хотя, действительно, Галилей предпочел оставить вопрос о физическом смысле соответствующих aggregatum за текстом.
Как видим, и в рукописных набросках начала 1600-х гг., и в «Discorsi» (1638) Галилей активно использует протоинфинитезимальные представления7. Поэтому далее следует рассмотреть его суждения о структуре континуума более детально. При этом, хотя указанные представления просматриваются в рассмотренных выше и иных рукописных заметках и записях Галилея, для систематического анализа его «инфинитезимальной атомистики» (З. Бехлер) лучше обратиться к текстам «Dialogo» и, особенно, «Discorsi».
1. Галилей Г. Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению с приложением о центрах тяжести различных тел // Галилей Г. Избр. труды. Т. II. С. 108–410; С. 234. Т. е. Галилей исходит из «отношения Аристотеля»: если t1 = t2, то s1/s2 = V1/V2.
2. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 208. Перевод В.П. Зубова (Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 145).
3. Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 208–209. Перевод В.П. Зубова (Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 145–146).
4. В Discorsi Галилей признает, что «одно время разделял <...> ложное положение», будто возрастание скорости прямо пропорционально пройденному пути, но затем он его оставил и вот почему: «если скорости стоят друг к другу в том же отношении, что и пройденные или имеющие быть пройденными расстояния, то такие расстояния проходятся в равные промежутки времени: в самом деле, если скорости, с которыми падающее тело проходит расстояние в четыре локтя, вдвое больше скоростей, с которыми оно прошло первые два локтя (Галилей имеет в виду мгновенные скорости, поэтому употребляет множественное число. — И.Д.), ибо одно расстояние вдвое больше другого, то, стало быть, промежутки времени, затраченные для прохождения того и другого расстояния, одинаковы (здесь ГалилеИ исходит из «отношения Аристотеля» (если t1 = t2, то s1/s2 = V1/V2, и наоборот), распространяя его на равномерно ускоренное движение; см. также теорему 2 из первой книги «De Motu locali» (Галилей Г. Беседы... // Галилей Г. Избр. труды. Т. II. С. 236). — И.Д.). Но прохождение одним и тем же телом четырех локтей и двух локтей за один и тот же промежуток времени может иметь место лишь в том случае, если движение происходит мгновенно» (Galilei G. Le Opere. Vol. VIII. P. 203; перевод В.П. Зубова, см.: Григорьян А Т., Зубов В.П. Очерки... С. 236).
5. Впрочем, некоторые историки так и считают. К примеру, М. Клавелен полагает, что процитированное выше и прочие подобные рассуждения Галилея в Discorsi — это не доказательства, а «просто некие упорядоченные перечисления (ordered recapitulations) главных доводов в пользу их (т. е. формулируемых Галилеем утверждений. — И.Д.) принятия» (Clavelin M. Conceptual and Technical Aspects of the Galilean Geometrization of the Motion of Heavy Bodies // Nature Mathematized: papers deriving from the Third International Conference on the History and Philosophy of Science (Montreal, Canada, 1980) / Ed. W.R. Shea. Dordrecht: Reidel, 1983 (Western Ontario Series in the Philosophy of Science, 20). P. 23–50; P. 47).
6. Damerow P., Freudenthahl G, Mc Laughlin P., Renn J., Exploring the Limits... P. 229.
7. Так, например, галилеево представление о площади как о бесконечной «сумме линий» перекликается с геометрической трактовкой определенного интеграла у Лейбница.
Как правило, анализируя полемику Первого дня «Dialogo», историки науки трактуют ее содержание как свидетельство рождения новой науки, науки Нового времени, акцентируя внимание на глубоких отличиях галилеевых взглядов от традиционных перипатетических. Впрочем, некоторые авторы справедливо указывают на сложность и неоднозначность соотнесенности позиций Галилея и Аристотеля1, тогда как другие, начиная с П. Дюгема, подчеркивали глубокую преемственность («continuity») между механикой Галилея и концепциями «калькуляторов» XIV столетия2 и научными достижениями математиков и астрономов ордена Иисуса, а также укорененность общеметодологических воззрении итальянского ученого в платонизме3. Такое многообразие выявляемых историко-научной мыслью идейных предтеч Галилея вполне закономерно, поскольку интеллектуальная революция XVI—XVII вв. возникла в результате «резонанса» различных традиций и «социальных эстафет» (М.А. Розов).
Первый день «Диалога» начинается с обсуждения одного высказывания Аристотеля, приведенного «в его общем рассуждении, связанном со всеобщим и первыми началами»4. Речь идет об утверждении Стагирита о том, что отсутствие тяжести и легкости, нетленность, извечность, неподверженность «никаким изменениям, кроме перемены места, и т.д. — все эти состояния присущи телу простому и движущемуся круговыми движениями, а противоположные свойства: тяжесть, легкость, тленность и т. д., он [Аристотель] приписывает телам, естественно движущимся прямолинейным движением»5. Иными словами, вопрос касался фундаментального различия между двумя типами естественных движений — прямолинейного и движения по окружности, а также между двумя видами прямолинейных движений: 1) восходящим и нисходящим (sursum et deorsum) и 2) вынужденным.
Сальвиати, выступающий от лица Галилея, упрекает греческого мыслителя в том, что тот «начал свое рассуждение превосходно и методически, но, имея в виду скорее достигнуть некоторой конечной цели, заранее установившейся у него в уме, чем прийти туда, куда прямо вел весь ход рассуждения, прервал нить его...»6. И вообще — на этот раз упрек исходит от Сагредо — «можно подумать, что он [Аристотель] намеренно подтасовывает карты в игре и хочет приладить план к мирозданию, а не построить это здание по указаниям плана»7. Сальвиати подхватывает его мысль — «всякий раз, как в основном положении обнаруживается какая-нибудь ошибка, можно с полным основанием сомневаться и во всем остальном, как воздвигнутом на этом фундаменте»8, а потому Сальвиати надеется в ходе дальнейшего диалога, «направляясь иным путем, выбраться на более прямую и надежную дорогу и заложить основной фундамент, более считаясь с правилами строительства»9. После этой декларации о намерениях собеседники переходят к конкретным вопросам механики, и тут же все оказывается много сложней и драматичней, чем ожидалось.
Сальвиати начинает с того, что прямолинейное движение вообще не может существовать в хорошо упорядоченном мире и невозможно по природе, а в том, что наш мир «необходимо должен быть <...> в высшей степени упорядоченным, т. е. в отношениях его частей должен господствовать наивысший и наисовершеннейший порядок»10, никто из участников диалога не сомневался. После этого он формирует главный тезис (критика Аристотеля пока оставлена в стороне), слышанный им «от нашего общего друга из Академии dei Lincei»11 (т. е. от самого Галилея): «Всякое тело, которое, по какой-либо причине, находится в состоянии покоя, но по природе своей подвижно, оказавшись свободным, придет в движение при условии, что оно от природы, обладает влечением к какому-нибудь определенному месту; ибо если бы оно было безразлично по отношению ко всякому месту, то пребывало бы в покое, не имея большего основания (я бы перевел — большей причины. — И.Д.) двигаться к одному месту, чем к другому. При наличии же такого влечения тело необходимо (точнее было бы перевести — естественно. — И.Д.) движется с непрерывным ускорением»12.
На минуту прервем цитирование. Итак, Сальвиати утверждает, что причина движения тела состоит в его естественном стремлении («влечении», inclinatio) к некоторому месту и вызванное этим «влечением» движение является ускоренным. Сразу обращает на себя внимание то обстоятельство, что приведенная формулировка как-то не вяжется с образом Галилея как (перво)открывателя закона инерции. Далее я рассмотрю этот вопрос более детально, а пока ограничусь простой констатацией: из сказанного до сих пор Сальвиати вытекает задача исследователя — дать причинное объяснение как ускоренного, так и равномерного движения. С этой целью Сальвиати — продолжу цитирование — предлагает несколько для его собеседников неожиданное (чтобы не сказать сильнее) рассуждение: тело движется («естественным влечением») «с непрерывным ускорением, начиная с самого медленного движения, оно достигнет некоторой степени скорости не раньше, чем пройдя все степени меньших скоростей или, скажем, больших медленностей, ибо при отправлении от состояния покоя (который есть степень бесконечной медленности движения) у тела нет никакого основания достигнуть той или иной определенной степени скорости, прежде чем оно не пройдет меньшую степень, а также степень ещё меньшую, прежде чем достигнет этой последней; напротив, есть вполне достаточные основания к тому, чтобы тело прошло сперва степени, соседние по отношению к той, от которой оно идет, а потом более отдаленные; но степень, с которой движущееся тело начинает двигаться, есть степень наивысшей медленности, т. е. покой»13.
На недоумение Сагредо — каким образом телу за конечное, притом кратчайшее время удастся пройти «все предварительные степени медленности (т. е. скорости. — И.Д.) <...>, каковых степеней бесконечное множество»?14 — Сальвиати отвечает: «движущееся тело проходит через все названные степени, но при этом переходе не задерживается ни на одной из них; таким образом, если этот переход требует не больше одного момента времени, а сколь угодно малое время содержит бесконечное количество моментов, мы всегда можем связать каждый момент с соответствующей из бесконечных степеней медленности, как бы кратко ни было это время»15.
Это рассуждение первого дня «Dialogo», касающееся природы континуума16, получило затем развитие в аналитике первого дня «Discorsi». Поскольку эта проблематика уже неоднократно была предметом историко-научного и философского анализа17, я остановлюсь здесь только на узловых моментах галилеевой концепции природы континуума18. Речь идет о бесконечности самих конечных предметов, например, о представлении окружности как правильного n-угольника «с бесконечно большим числом сторон»19, т. е. когда n → ∞ и каждая сторона обращается в точку.
Рассуждения Сальвиати вызывают недоумение у перипатетика Симпличио: «это составление линии из точек, делимого из неделимого, конечного из неконечного кажется мне нелегко преодолимым препятствием»20. В ответ Сальвиати конструирует новые парадоксы и изобретает новые головоломки, усиливая тем самым парадоксальность ситуации, желая продемонстрировать «как иной раз удивительные вещи бледнеют перед лицом чудесных»21. К примеру, он предлагает мысленный «геометрический эксперимент», в котором две одинаковые поверхности и два одинаковых (равновеликих) тела, поставленные на эти поверхности, как на основания, постепенно уменьшаются. При этом по мере уменьшения тел их равновеликость сохраняется. В итоге — «в последний момент», «в конце концов» — одно тело вместе со своей поверхностью трансформируется в линию, т. е. в бесконечное множество точек, а другое — в одну-единственную точку22.
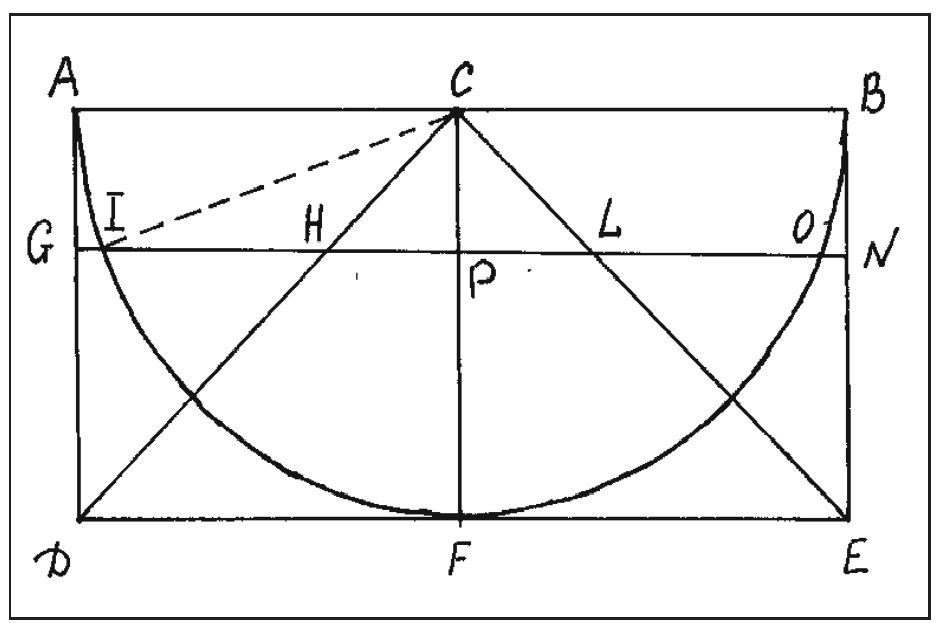
Рис. 28. Из книги Галилея «Беседы и математические доказательства...»
Все сказанное Сальвиати-Галилеем — и в «Dialogo», и в «Discorsi» — нацелено на то, чтобы через осмысление процедур построения конечного (отрезка линии или ограниченной поверхности) из бесконечного числа единиц и через соединение — по необходимости — в одном решении двух по отдельности неразрешимых задач («изучить одновременно и бесконечное, и неделимое»23), показать невозможность освоения «бесконечности мира в конечном человеческом разумении»24. Иными словами, Сальвиати показывает, что при переходе от конечного и делимого к бесконечному и неделимому происходит — «в конце концов», «в последний момент» — некая скрытая трансформация рассматриваемых объектов, которая делает нашу обычную, стандартную аристотелеву логику неприменимой, и что игнорирование ограниченности этой логики ведет к парадоксальным следствиям.
Поэтому когда ошарашенный Симпличио заявляет, что «признание одной бесконечности большей, нежели другая бесконечность представляется непостижимым», Сальвиати ему разъясняет: все затруднения происходят «вследствие того, что, рассуждая нашим ограниченным разумом о бесконечном, мы приписываем последнему свойства, известные нам по вещам конечным и ограниченным»25, тогда как «свойства равенства, а также большей и меньшей величины, не имеют места там, где дело идет о бесконечности»; более того26, Сальвиати ставит под вопрос сами понятия «составить» и «построить из», когда речь идет о бесконечном. «Да, составите конечное из бесконечных частей, образовать делимое из неделимых невозможно. Этот процесс бесконечен, в нем мы все больше приближаемся к целому, но никогда его не достигнем. Но по способу бытия (а не формирования) конечное и делимое состоит из неделимых и бесконечных, точнее, оно есть целостное, неделимое, бесконечное. И в этом смысле к конечному, понятому как бесконечное, к делимому, понятому как неделимое, неприменимы те обычные понятия, которые мы употребляем по отношению к конечным и делимым вещам, линиям, плоскостям»27.
Используемая Сальвиати-Галилеем процедура «объяснения» удивительного через чудесное ведет к тому, что удивительное становится заурядным, поскольку для своей области, т. е. для открытого в приведенных рассуждениях нового мира — оно есть правило. С помощью традиционной логики Сальвиати-Галилей показывает, что эта логика не универсальна, она ограничена миром конечных величин. «Заблуждается тот, — предостерегает он Симпличио и читателей, — кто желает наделить бесконечное теми же атрибутами, которые присущи вещам конечным, в то время как эти две области по природе своей не имеют между собой ничего общего»28.
По ходу полемики её участники выявляют очень важный аспект темы. Отвечая на замечания Симпличио — мол, рассуждения Сальвиати чисто математические и к физической реальности отношения не имеют и «не так легко будет разделить линию (отрезок. — И.Д.) на бесконечное множество точек» (это разделение так и «останется одной из тех возможностей, которые никогда не осуществляются»29), — последний (Сальвиати) соглашается с тем, что, действительно, никакая последовательная — т. е. шаг за шагом осуществляемая операция, когда отрезок прямой сначала делится пополам, затем на четыре части, затем на восемь и т. д., и т. д. не приведет к получению бесконечного множества точек (актуальной бесконечности), поскольку «такой процесс постепенного деления конечных величин необходимо было бы продолжать вечно»30, однако это можно сделать иначе, трансформируя n-угольник в круг. «Если, — продолжает Сальвиати, обращаясь к Симпличио, — сгибание линии под углами так, чтобы образовался квадрат, или восьмиугольник, или многоугольник с сорока, ста или тысячью сторонами, представляется вам достаточным для действительного выявления тех четырех, восьми, сорока, ста или тысячи частей, которые, как вы говорите, содержались потенциально в первоначальной прямой линии, то, когда я образую из прямой линии многоугольник с бесконечным числом сторон, т. е. когда я сгибаю её в окружность, не могу ли я с таким же правом утверждать, что я вызываю к действительности то бесконечное множество частей, которое первоначально, пока линия была прямой, содержалось в ней в потенции?»31
Иными словами, Сальвиати убеждает собеседников в том, что хотя процедура получения инфинитезимальных сущностей путем последовательных делений целого на части не реализуема, однако актуальный бесконечно малый компонент целого (континуума) в итоге всё-таки достижим путем, как выразился З. Бехлер, «infinitesimal atomisation of the continuum»32, если «раздроблять и разделять бесконечность (tutta la infinita) одним разом»33, когда физический континуум в пределе переходит в определения континуума математического, т. е. когда точки определяются двояко — как абсолютно непротяженные и как материальные, существующие исключительно в действии «на другое» (как точки соприкосновения тел, «удара» и т. д.). Таким образом оказывается, что отрезки прямой, окружности и т. п. объекты обретают двоякий статус — они суть объекты и геометрические, и физические, существующие и действующие в рамках «an unified, mathematico-physical ontology»34, а потому не являющиеся в полном смысле ни физическими, ни геометрическими, но и теми, и другими одновременно. К этим новым, пограничным, limbo-сущностям (если воспользоваться терминологией З. Бехлера) применимо понятие «равенство в пределе».
«То, что происходит с телами, — подытоживает Сальвиати рассмотрение описанного в сноске 557 парадокса последовательного уменьшения равновеликих тел (конуса и полусферы), — имеет место и в отношении площадей их оснований, сохраняя при постоянном уменьшении равенство между собою, они переходят в последний момент (т. е. в пределе. — И.Д.) — одна в окружность, другая в точку. Так почему же мы не можем назвать их равными, когда они являются последними остатками и следами неизменно равных величин?»35 Но это означает, что термин равенство величин, как и термины «больше чем», «меньше чем» и «отношение», получают новый, нетрадиционный смысл.
В итоге ограниченность традиционной, аристотелевой логики оказывается обусловленной существованием нетрадиционных limbo-сущностей. На вопрос Сальвиати — конечно или бесконечно «число конечных частей [ограниченного] континуума (parti quante)»36, Симпличио отвечает, что «их число и бесконечно, и конечно: бесконечно — потенциально, конечно — актуально», поскольку «нельзя себе представить частей самих по себе, пока они не отделены или, по крайней мере, не обозначены; в противном случае они будут, так сказать, лишь потенциальными»37. Именно так и должен был ответить последовательный аристотелианец, для которого конечный континуум может содержать только конечное число конечных частей, а ссылка не бесконечность частей предполагает актуальность бесконечного деления. Для Галилея же число частей ограниченного континуума не конечно и не бесконечно численно, но соответствует любому наперед заданному числу38. Но тогда аристотелево различение между «актуальным» и «потенциальным» разделением этого континуума на части лишается смысла, поскольку в конечной величине, согласно Галилею, не может содержаться бесчисленного множества частей ни актуально, ни потенциально, и, следовательно, нет различия между актуальностью и потенциальностью деления ограниченного континуума и бесконечное оказывается актуальным, оно есть число неделимых точек, которые составляют конечный континуум.
«Я готов согласиться с философами — заявляет Сальвиати, — что непрерывное целое содержит столько частей, сколько им будет угодно, и содержит эти части по их желанию актуально или потенциально. Но к этому я добавляю: совершенно так же, как линия в десять сажен содержит в себе одновременно десять линий по одной сажени каждая, сорок линий по локтю каждая, восемьдесят — по полулоктю и т. д., она содержит и бесконечное множество точек, и вы можете сказать — актуально и потенциально, как вам будет угодно»39.
Существование актуальной бесконечности неделимых в конечном континууме выводится Сальвиати-Галилеем из факта бесконечной делимости этого континуума. Галилею, конечно, известно, что аристотелианцы из этого же факта делали прямо противоположный вывод — неделимых не существует, ибо в противном случае деление имело бы конец. Но у Галилея свои резоны: «так как линия, как и всякий континуум, может быть разделена на части, также далее делимые, то нельзя избежать заключения, что линия состоит из бесконечного множества неделимых, потому что, предполагая возможность бесконечно продолжать деление, мы получаем и бесконечное множество частей; иначе деление могло бы прийти к концу, а если частей бесконечно много, то нельзя не прийти к заключению, что они не конечны, так как бесконечно много конечных величин дает величину бесконечно большую; таким образом, мы имеем континуум, составленный из бесконечного множества неделимых»40, т. е. из бесконечного множества элементов, лишенных величины41, можно составить сколь угодно большое тело.
Этот вывод послужил необходимой предпосылкой для следующего утверждения: любая конечная величина состоит из актуальных частей до того, как эти части разделены (вспомним, что Симпличио декларировал прямо противоположное: «нельзя представить частей самих по себе, пока они не отделены или, по крайней мере, не обозначены»). Это столкновение двух предпосылок — аристотелевой и платоновой — ясно обозначено Галилеем в кратких репликах, которыми обменялись Симпличио и Сальвиати:
«Симпличио: Но если мы можем постоянно производить деление на части конечные, то какая надобность нам вводить здесь не конечные?
Сальвиати: Самая возможность постоянного разделения на конечные части приводит к необходимости признать, что целое состоит из бесконечно многих не конечных частей (di infiniti non quanti)»42.
Если потенциальная бесконечность всегда предполагала бесконечное множество, составленное из чего-то конечного — будь то числа, промежутки времени, области пространства и т. д., (т. е. предполагалось, что конечный континуум содержит конечное число конечных частей, а ссылка на бесконечность частей означает лишь актуальность бесконечного деления), то бесконечность актуальная предполагала предельный переход в иное качество, к иной сущности.
«Части, — писал Галилей, — имеющиеся в отрезке линии, не могут быть конечны, так как деление не может прекратиться ранее бесконечности; не могут быть бесконечны, так как в таком случае заданная линия была бы бесконечно длинной. Я утверждаю, что они не бесконечны и не конечны, а лишь таковы, что отвечают всякому числу; но, отвечая всякому числу, они не бесконечны, потому что никакое число не бесконечно; но в еще большей мере они и не конечны, т. е. не определены каким-либо числом, так как для любого определенного числа всегда существуют другие, большие, чем оно. Обман состоит в словесном противопоставлении: либо они конечны, либо бесконечны; так как "конечный" и "бесконечный" — понятия неоднородные, то самое деление неправильно. Нельзя утверждать, что слоновая кость либо желтая, либо сладкая, так как она может быть ни желтой, ни сладкой. 1000 не ближе к бесконечности, чем 100, или чем 20, или чем 4; и путь от 4 к 20 и от 20 к 100 и к 1000 и т. д. не ведет к бесконечности. Поэтому такое исследование не может выяснить вопрос, существует ли бесконечность или нет <...>. То, что отвечает всем числам, не должно быть вовсе бесконечным, а то, что определено каким-нибудь числом, не отвечает всем числам, так как никакое число не заключает в себе все числа. <...>. Итак, мы имеем три различные вещи: то, что определено каким-либо числом, то, что отвечает всем числам, и бесконечность. Тот, кто скажет, что части непрерывного таковы, что отвечают всем числам, скажет правильно.
Бесконечность же должна быть вовсе исключена из математических рассуждений, так как при переходе к бесконечности количественное изменение переходит в качественное, подобно тому, как если мы будем самой тонкой пилой (sotilissima lima) размельчать тело, то, как бы мелки ни были опилки (minutissima polvere), каждая частица имеет известную величину, но при бесконечном размельчении получится уже не порошок, а жидкость, нечто качественно новое, причем отдельные частицы вовсе исчезнут»43. Таким образом, в анализе «головоломок», предложенных Сальвиати, осмысливался парадокс «такого доведения до предела физического континуума, в котором он переходит в определения континуума математического и обратно»44.
Если теперь вернуться к проблеме движения, взглянув на неё через призму очерченного выше галилеева анализа проблемы бесконечного и неделимого, то оказывается, что тело падает с бесконечной степенью ускорения, только если представить, будто оно движется толчками, задерживаясь в каждой точке, а не проходя непротяженные точки «без остановки». «Благодаря возможности делить время без конца» можно придти «к любой малой степени скорости» путем непрерывного ее (скорости) уменьшения45, и тогда можно сказать, что ускоряющееся тело «только проходит через эти степени, не задерживаясь больше, чем на мгновение; а так как в каждом, даже в самом малом промежутке времени содержится бесконечное множество мгновений, то их число является достаточным для соответствия бесконечному множеству уменьшающихся степеней скорости»46. Иными словами, речь идет о том, что сумме бесконечно большого числа бесконечно малых отрезков времени соответствует сумма бесконечно большого числа «мгновенных скоростей». И понятие «мгновенной скорости», равно как и понимание всякой скорости как бесконечной суммы мгновенных скоростей — отнюдь не «как бы магическое заклинание», с помощью которого совершается прыжок от вневременных мгновений к времени, от внепространственных неделимых к пространству, от «неподвижных составляющих» движения к самому движению47, но актуальное состояние тела.
Хотя мгновенная скорость не характеризует актуальное конечное расстояние, пройденное телом за конечный промежуток времени, она всё же характеризует «точечную» интенсивность движения, интенсивность движения в данный момент времени, которая с течением времени изменяется, ибо в каждый момент падающее тело находится в ином состоянии движения, чем в предыдущий.
1. См., например: Damerow P., Freudentahl G., MacLaughlin P., Renn J., Exploring the Limits... Как заметила Р. Фельдхей, «Проект Галилея можно рассматривать как синтез идей Аристотеля и Архимеда, синтез, который нарушал основные правила обоих дискурсов» (Feldhay R. The use and abuse of mathematical entities: Galileo and the Jesuits revisited // Cambridge Companion to Galileo / Ed. by P. Machamer. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 80–146; P. 104).
2. Wallace W.A. Galileo and His Sources...; Wallace W.A. Prelude to Galileo: Essays on Medieval and Sixteenth-Century Sources of Galilleo's Thought. Boston etc.: Kluwer Academic Publishers, 1981; Sylla E. Galileo and the Oxford Calculatores...; Wolff M. Impetus Mechanics as a Physical Argument for Copernicanism: Copernicus, Benedetti, Galileo // Science in Context. 1987. Vol. 1. № 2. P. 215–256; Carugo A., Crombie A.C. The Jesuits and Galileo's Ideas of Science and Nature // Annali del Museo di Storia della Scienza di Firenze. 1983. T. VIII. P. 1–68.
3. Koyré A. Galileo and Plato // Roots of Scientific Thought / Ed. by P. Wiener and A. Noland. New York: Basic Books, 1957. P. 147–175; Galluzzi P. Il Platonismo del Tardo Cinquecento e la filosofia di Galileo // Ricerche sulla Cultura dell'Italia Moderna / Ed. by P. Zambelli. Bari: Laterza, 1973. P. 39–79; De Caro M. Galileo's Mathematical Platonism // Philosophie der Mathematik / Hrsg. J. Czermak. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1993; Bechler Z. Newton's Physics and the Conceptual Structure of the Scientific Revolution. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1991. Chapter VI.
4. Галилей Г. Диалог... С. 115.
5. Там же.
6. Там же. С. 114.
7. Галилей Г. Диалог... С. 112.
8. Там же. С. 115.
9. Там же.
10. Там же.
11. Там же. С. 117.
12. Там же. Курсив мой. — И.Д.
13. Галилей Г. Диалог... С. 117.
14. Там же. С. 118.
15. Галилей Г. Диалог... С. 118.
16. И примыкающее к содержанию известных апорий Зенона Элейского («Стрела», «Ахиллес и черепаха» и «Дихотомия»), рассмотренных затем Аристотелем.
17. Smith A.M. Galileo's theory of indivisibles: Revolution or Compromise? // Journal of the History of Astronomy. 1976. Vol. 37. № 4. P. 571–588; Bechler Z. Newton's Physics... Chapter VI; Библер В.С. Галилей и логика мышления Нового времени // Механика и цивилизация XVII—XIX вв. / Под ред. А.Т. Григорьяна и Б.Г. Кузнецова. М.: Наука, 1979. С. 448–518; Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.): формирование научных программ Нового времени. М.: Наука, 1987. С. 69–138.
18. При этом в целях экономии места я не буду детально описывать знаменитые головоломки и парадоксы, изложенные в первом дне Discorsi (качение концентрических многоугольников и окружностей и др.). При желании читатель может обратиться к тексту этого сочинения Галилея, а также к перечисленной в предыдущей сноске литературе.
19. Галилей Г. Беседы... // Галилей Г. Избр. труды. Т. II. С. 135.
20. Там же. С. 136.
21. Там же. С. 137.
22. Галилей Г. Диалог... С. 137–138. Рассмотрим рис. 28. Полукруг AFB с центром C и описанный около него прямоугольный параллелограмм ADEB. От центра к точкам D и E проведены прямые линии CD и CE. Вся фигура вращается вокруг неподвижной линии CF. Прямоугольник опишет цилиндр, полукруг AFB — полушар, а треугольник CDE — конус. Полушар вынимается, а остается конус и «чаша» — часть цилиндра, выходящая за пределы полушара. Далее доказывается равновеликость чаши и конуса. Затем обе фигуры рассекаются плоскостью, параллельной основанию. Плоскость эта, где бы её ни провести, всегда отсекает два равных между собой тела — верхушку конуса и верхнюю часть чаши. Также остаются равными основания этих тел — упомянутая полоса и круг HL. Проводя секущую плоскость все выше и выше, мы все время получаем равные тела и основания. И, наконец, в последний момент (в вершине) большая окружность оказывается равной одной точке. В этот момент оба тела (всегда равные) и обе площади (всегда равные) перейдут — одно в окружность, другое — в точку. (См. также: Библер В.С. Галилей и логика мышления Нового времени... С. 499).
23. Галилей Г. Беседы... С. 139.
24. Библер В.С. Галилей и логика мышления Нового времени... С. 500.
25. Галилей Г. Беседы... С. 140.
26. Там же. С. 141.
27. Библер В.С. Галилей и логика мышления Нового времени... С. 500.
28. Галилей Г. Беседы... С. 145.
29. Галилей Г. Беседы... С. 144, 157.
30. Там же. С. 145.
31. Там же. С. 153.
32. Bechler Z. Newton's Physics... P. 532.
33. Bechler Z. Newton's Physics... P. 153.
34. Ibid. P. 133.
35. Галилей Г. Беседы... С. 138.
36. Там же. С. 142.
37. Галилей Г. Беседы... С. 142.
38. Там же. С. 143.
39. Там же. С. 144.
40. Галилей Г. Беседы... С. 142.
41. А потому — бестелесных, ибо тело всегда имеет какую-то величину (Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.)... С. 79.
42. Галилей Г. Беседы... С. 142.
43. Эта цитата из Pensieri varii (§ 18) Галилея взята мною из содержательной вступительной статьи С.Я. Лурье к русскому переводу трактата Б. Кавальери (Лурье С.Я. Математический эпос Кавальери // Кавальери Б. Геометрия, изложенная новым способом при помощи неделимых непрерывного, с приложением «Опыта IV» о применении неделимых к алгебраическим степеням (Т. 1: Основы учения о неделимых) / Пер., вступ. статья и коммент. С.Я. Лурье. М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1940. С. 5–80; С. 36–37.
44. Библер В.С. Галилей и логика мышления Нового времени... С. 506.
45. Галилей Г. Беседы... С. 240.
46. Там же. С. 242.
47. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.)... С. 137.
Почему, рассматривая полемику вокруг коперниканства, по крайней мере, те ее эпизоды и перипетии, которые оказались связанными со взглядами и поступками Галилея, я столько времени уделяю вещам, к космологической проблематике и к «делу Галилея» прямого отношения, казалось бы, не имеющим? На мой взгляд, в логическом аспекте — в аспекте логики доказательства — анализ «естественноускоренного движения» (свободного падения) и отстаивание коперниканских идей (особенно идеи подвижности Земли) имеют много общего. Приведу в подтверждение этой общности два фрагмента. Начну с одного эпизода третьего дня «Dialogo».
После того, как Сальвиати потратил уйму времени, расписывая «с какой легкостью и простотой годичное движение, если оно может быть приписано Земле, объясняет видимые несообразности, наблюдаемые в движении пяти планет <...>, вовсе устраняя их и сводя их к движениям равномерным и правильным», и растолковывая, почему движение солнечных пятен «побуждает человеческий разум признать это годовое обращение и отнести его к земному шару»1, Симпличио, перед этим почти не выступавший с содержательными репликами, неожиданно бросает критическое замечание, на которое у Сальвиати не находится веских контраргументов. «Если по существу я не вполне усвоил рассуждения синьора Сальвиати, — признается Симпличио, — то, рассматривая их со стороны формы, я не нахожу, чтобы логика заставляла меня признать, будто из такого умозаключения с какой-либо необходимостью вытекают выводы в пользу гипотезы Коперника <...>. Ибо если верно, что при предположении такого вращения Солнца и такой орбиты Земли необходимо должны наблюдаться такие-то и такие-то особенности солнечных пятен, то отсюда еще не следует обратного, т. е. что из наблюдения таких особенностей пятен неизбежно надо сделать вывод о движении Земли <...> и о расположении Солнца в центре зодиака; ведь кто уверит меня, что подобные особенности не могут быть также видимы на Солнце, движущемся по эклиптике, жителями Земли, стоящей неподвижно в её центре?»2
И совершенно зеркальная (в логическом плане) ситуация складывается в «Discorsi». После того как Сальвиати привел доказательство закона свободного падения и вывел из него следствие (ПНЧ), Симпличио, до этого опять-таки больше молчавший, заявляет: «Теперь я в достаточной мере убежден, что явление (свободное падение. — И.Д.) должно происходить именно так (т. е. по (s ~ t2) закону. — И.Д.), если только принять указанное определение равномерно-ускоренного движения (т. е. V = at. — И.Д.). Но действительно ли таково ускорение, которым природа пользуется при движении тяжелых падающих тел, остается для меня сомнительным»3.
Суть замечаний Симпличио в обоих случаях фактически сводится к тому, что — процитирую Аристотеля — «хотя ложное всегда необходимо выводится через ложное, но истинное иногда может быть выведено через ложное» (Топ. VIII, 11, 162a)4, т. е. из истинности следствий не вытекает истинность посылок, и чтобы силлогизм стал обратимым, необходимо доказать истинность посылок или, по крайней мере, их единственность (безальтернативность), а поскольку аргументация Коперника и Галилея к этому последнему типу силлогизма не относится, все рассуждения Сальвиати не являются научными объяснениями, но только остроумными гипотезами. Какова же реакция Сальвиати-Галилея на эти возражения?
В первом случае (в «Dialogo») ответная реплика коперниканца свелась к тому, что объяснение движения солнечных пятен в рамках геоцентризма и «геостатизма» потребовало бы чрезвычайного усложнения теории — «Солнцу пришлось бы приписать четыре движения»5, из которых «два движения вокруг собственного центра, но около двух разных осей, одна из которых заканчивает свое обращение в один год, а другая меньше, чем в один месяц». «Такое допущение, — признается Сальвиати, — представляется моему разуму очень натянутым и даже невозможным»6. После чего разговор переводится на другую тему.
Во втором случае — в «Discorsi» — Галилей дает два ответа. Первый, с опережением сформулированный еще до того, как Симпличио высказал свои возражения, сводится к тому, что Природа «стремится применять во всяких своих приспособлениях самые простые и легкие средства», а потому не должны ли мы думать, что приращение скорости падающего камня «происходит в самой простой и ясной для всякого форме», ведь «нет превращения более простого, чем происходящего всегда равномерно»7. Т. е. Галилей, как и в предыдущей реплике, апеллирует к ясности, простоте и «экономичности» объяснений, т. е. скорее к критериям эстетическим, а не физическим или логическим. Вспомним в связи с этим восклицание Сагредо в адрес Сальвиати (т. е. фактически в адрес самого Галилея): «Слишком много ясности и слишком много простоты вносите вы в разъяснение темных вещей»8.
Второй ответ Сальвиати-Галилея на упрек Симпличио в недоказанности (V ~ t)-отношения сводится к описанию опытов с качением шаров по наклонной плоскости. Однако, как это признает и сам Сальвиати, опыты эти, повторенные «сотни раз», неизменно подтверждали правильность следствия, т. е. (s ~ t2)-зависимости, а не посылки, т. е. (V ~ t). После чего разговор опять-таки переводится на другую тему.
Да Симпличио особенно и не настаивал на прямом экспериментальном подтверждении именно (V ~ t)-отношения. Ему достаточно было нескольких опытов, «которые показали бы, что различные случаи падения тел совпадают со сделанными заключениями»9, т. е. подтвердили бы (s ~ t2)-зависимость и ПНЧ. Позиция перипатетика Симпличио понятна — в его глазах теория, изложенная в «De Motu locali» (как, кстати, и в «De Revolutionibus» Коперника) — не более, чем ex suppositione (или, как бы мы сегодня сказали, гипотетико-дедуктивная) конструкция, весьма характерная, по представлениям того времени, именно для так называемых смешанных (скажем, физико-математических) наук. Есть некая предпосылка ex-hypothesis, в данном случае — (V ~ t)-отношение, из неё получают следствия, которые затем проверяются опытным путем. И Сальвиати, замечу, против такого взгляда на теорию Академика не возражает: «Вы, — обращается он к Симпличио, — как подлинный ученый, предъявляете совершенно основательное требование; оно особенно уместно в отношении таких наук, в которых для объяснения законов природы применяются математические доказательства; таковы, например, перспектива, астрономия, механика, музыка и другие аналогичные науки; в них опыт, воспринимаемый чувствами, подтверждает принципы, являющиеся основою для всех дальнейших построений»10. При этом он полагал, что «если окажется, что свойства, которые будут доказаны ниже, справедливы и для движения естественно и ускоренно падающих тел, то мы сможем сказать, что данное нами определение (равномерно ускоренного движения: V ~ t. — И.Д.) охватывает и указанное движение тяжелых тел и что наше положение о нарастании ускорения в соответствии с нарастанием времени, т. е. продолжительностью движения, вполне справедливо»11. Но если не единственными, то основными такими свойствами, подлежащими анализу на предмет их отношения к «естественно и ускоренно падающим телам», являются (s ~ t2)-отношение и ПНЧ.
Любопытные высказывания об этой гипотетико-дедуктивной процедуре можно встретить в переписке Галилея, например, в его письме Джованни Баттиста Балиани (G.B. Baliani) от 7 января 1639 г.: «Я ничего не предполагаю, кроме определения движения, о котором хочу толковать и чьи особенности (accidenti) хочу показать, подражая в этом Архимеду в его сочинении О спиральных линиях. В указанном сочинении Архимед, разъяснив, что он понимает под движением по спирали, слагающимся из двух равномерных, одного — прямолинейного, а другого — кругового, непосредственно переходит к демонстрации его свойств (passioni). Я заявляю, что хочу исследовать, каковы признаки (sintomi), присущие движению тела, начинающемуся с состояния покоя и продолжающемуся со все возрастающей одинаковым образом скоростью, а именно так, что приращения этой скорости происходят не скачками, но плавно (equabilmente), в соответствии с возрастанием времени. <...>. И не делая никаких других предположений, я перехожу к первой теореме, в которой доказываю, что отношение между путями, пройденными таким телом, является квадратом отношения между временами, и затем продолжаю доказывать большое число других особенностей. <...>.
Возвращаясь, однако, к моему трактату о движении, [скажу, что] я привожу доводы ex suppositione относительно движения, определенного указанным выше образом, так что даже если некоторые выводимые таким путем следствия не будут соответствовать всем особенностям естественного движения падающих тяжелых тел, то для меня это не будет иметь большого значения, ведь никто не упрекает доказательства Архимеда за то, что в Природе нет тел, движущихся по спирали. Но при этом <...> мне повезло (avventurati), поскольку движение тяжелых тел и их свойства в точности соответствуют свойствам, продемонстрированным мною, исходя из движения, мною определенного»12.
И еще резче о том же — в письме Р. Каркави (P. Carcavy) от 5 июня 1637 г.: «если опыт покажет, что такие свойства [ускоренного движения] действительно обнаружатся в движении тяжелых тел, свободно падающих, то мы можем, не боясь ошибки, утверждать, что это и есть то самое движение, которое я определил и предположил; но даже если этого не произойдет, мои доказательства, основанные на моем допущении, ничего не потеряют в своей силе и убедительности»13.
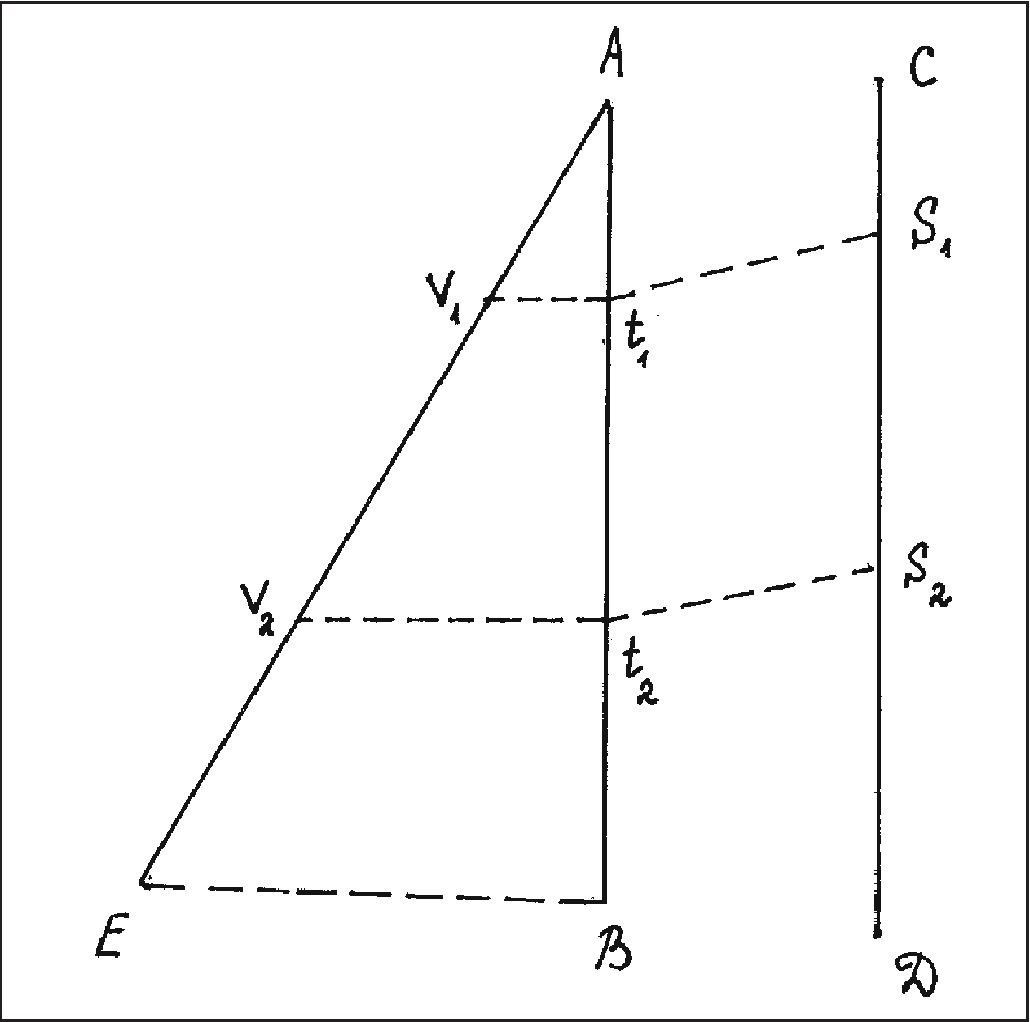
Рис. 29. Диаграмма, представляющая соотношение величин V и t в случае монотонного возрастания V
Так можно ли сказать, что выводы Галилея страдают fallacia consequentis? На первый взгляд — да, можно. Однако, если вдуматься, то ситуация не столь проста и однозначна.
Действительно, что давало Галилею основание утверждать, будто подтверждение следствия (s ~ t2) ведет к выводу о справедливости посылки (V ~ t), из которой это следствие было получено? Прежде всего, на мой взгляд, идея актуальной бесконечности деления конечного континуума (т. е. актуальности ненаблюдаемого), поскольку, опираясь именно на эту идею, он мог говорить о взаимно-однозначном соответствии между элементами следующих бесконечных множеств (рис. 29):
MTAB ↔ MVAB и MTAB ↔ MAB
(причем эти соотношения эквивалентности справедливы независимо от того, является ли функция V(t) линейной или нет, важно только то, что «приращение <...> скорости происходит не скачками, но плавно (equabilmente) в соответствии с возрастанием времени», т. е. важно, что функция V(t) — непрерывная и монотонно возрастающая; поэтому то, что диаграмма на рис. 29, представляющая соотнесенность V и t, имеет вид прямоугольного треугольника, в данном контексте неважно, важна лишь, повторяю, монотонность возрастания V и наличие указанных выше и ниже взаимнооднозначных соответствий);
MVAE ↔ MAE
MTAB ↔ MVAE ↔ MSCD
и, следовательно,
MAE ↔ MAB ↔ MACD
Тогда из Merton Rule (в трактовке Галилея) следует, что
|
s2 s1 |
= |
V2 V1 |
· |
t2 t1 |
, |
а т. к.
|
s2 s1 |
= |
t22 t12 |
, |
то
|
V2 V1 |
· |
t2 t1 |
= |
t22 t12 |
и
|
V2 V1 |
= |
t2 t1 |
, |
т. e. V ~ t.
Всё это замечательно14, но... Оба вышеприведенных отношения путей s2 и s1 были получены исходя из допущения линейности функции V(t). И если по поводу второго отношения (s2/s1 = t22/t12) можно сказать, что его истинность была установлена экспериментально и потому не зависит от (V ~ t)-допущения, то первое (Merton Rule) — неразрывно связано с этим допущением15. Т. е. вывод V ~ t из s ~ t2 упирается в проблему преодоления circulus vitiosus. Галилей, как будет ясно из дальнейшего, осознавал эту трудность и, возможно, поэтому уклонился от обсуждения доказательств (V ~ t)-допущения, исходя из закона свободного падения, а вовсе не потому, что такое доказательство было для него, как выразился З. Бехлер, «mathematically trivial»16. Галилей ограничился лишь констатацией следующих положений: скорость при свободном падении возрастает непрерывно и монотонно17; она зависит от времени, а не от пройденного пути.
Возможно, правы П. Дамеров и Г. Фрейденталь, отметившие, что в данном случае обоснование прямой пропорциональности между V и t, понимаемое «как некое отдельное, особое доказательство (a particular proof) типа доказательства закона свободного падения, по-видимому, не нужно и даже невозможно»18.
1. Галилей Г. Диалог... С. 439.
2. Галилей Г. Диалог... С. 446–447.
3. Галилей Г. Беседы... С. 252.
4. См. также: Аристотель. Первая аналитика. II, 2, 53в; 4, 57а.
5. Галилей Г. Диалог... С. 447 (маргиналия).
6. Галилей Г. Диалог... С. 449.
7. Галилей Г. Беседы... С. 239.
8. Там же. С. 245. Не следует забывать, что и «Dialogo», и «Discorsi» несут на себе среди прочего также явные отпечатки того, что сейчас называют саморекламой, и причина тому не только личные качества их автора.
9. Там же. С. 253.
10. Галилей Г. Беседы... С. 253.
11. Там же. С. 241.
12. Galilei G. Le Opere. Vol. XVIII. P. 11–12. Перевод В.П. Зубова (Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 114).
13. Galilei G. Le Opere. XVII. P. 90.
14. З. Бехлер предложил более простой, я бы даже сказал, наивный аргумент: т. к. «площадь под кривой V(t) пропорциональна s(t)», то, «поскольку s ~ t2, A (площадь четырехугольника. — И.Д.) ~ t2, а т. к. абсцисса есть t, то ордината V должна быть V(t) ~ t» (Bechler Z. Newton's Physics... P. 121). Фактически аргумент Бехлера совпадает с приведенным мною в основном тексте. Действительно, т. к. A ~ s(t) ~ t2 и s(t) ~Vt, то V ~ t.
15. Кстати, по аналогичной причине «не проходит» и приведенный в прим. 596 аргумент З. Бехлера.
16. Ibid. P. 121.
17. Если скорость изменялась бы скачками, т. е. график V = V(t) имел бы вид ступенчатой функции, то тогда, как это было известно, по-видимому, еще до Галилея, отношение пройденных путей определялось бы не ПНЧ, но отношением чисел натурального ряда (1: 2: 3: 4: ... и т. д.).
18. Damerow P., Freudenthal G., McLaughlin P., Renn J. Exploring the Limits... P. 50. Я полагаю, читатель помнит о том, что Галилей не мог воспользоваться в своих рассуждениях методами дифференциального и интегрального исчислений, разработанными позднее.
Проблема circulus vitiosus, как она понималась Галилеем, заслуживает отдельного рассмотрения, но прежде чем переходить к нему, следует отметить важную особенность галилеевых рассуждений.
Конечно, правы те историки науки, которые отмечали, что Галилей предпочитал геометрические доказательства силлогистическим1, но это, разумеется, не означает, что тексты Галилея не могут рассматриваться с логических позиций. А с этих позиций прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что, вводя limbo-сущности, которые есть одновременно и А, и не-А, Галилей меняет характер аристотелевого силлогизма, поскольку в качестве среднего члена в нем выступают эти limbo-сущности. Например:
Малая посылка (математическое суждение):
Все эллипсы, имеют два фокуса;
Большая посылка (физическое утверждение):
Все планеты движутся по эллипсам.
Средним членом здесь оказывается понятие эллипс. С позиций аристотелевой логики ситуация, к которой относится малая посылка (общее утверждение) физически ненаблюдаема (в природе нет математических эллипсов, окружностей и т. п.). Поэтому и физическая ситуация, к которой относится большая посылка, также ненаблюдаема. Это связано с тем, что средний член обозначает некую сущность, которая является и физической, и математической, т. е. силлогизм при переходе от малой посылки к большой меняет свой характер, и связь между этими разнохарактерными посылками возможна лишь в силу особого — физико-математического — характера среднего члена.
Когда Галилей в Il Saggiatore утверждал, что Книга Природы «написана на языке математики, и знаки ее — треугольники, круги и другие геометрические фигуры»2, он понимал это почти буквально: Природа действительно состоит из математических форм, поскольку математические утверждения и понятия имеют физические референты, а не вообще описывают какой-то идеальный мир (платоновский мир идей). Поэтому явления, по Галилею, полностью определены математически. В споре с Симпличио Сальвиати утверждает: «то, что происходит конкретно, имеет место и в абстракции» и «философ-геометр, желая проверить конкретно результаты, полученные путем абстрактных доказательств, должен сбросить помеху материи», подобно тому как «для подсчетов сахара, шелка и полотна необходимо скинуть вес ящиков, обертки и иной тары»3.
В рамках традиционной перипатетической натурфилософии изучение реальности путем отбрасывания «помехи материи» представляется немыслимым. Галилей коренным образом трансформирует сам исследовательский подход. Причина и законы движения — одни и те же и в пустоте, и в реальной среде; и там, и там они существуют и действуют одинаково, но проявляются в разной степени (скажем, из-за сопротивления среды падение тела не реализуется в его, так сказать, чистом виде, но «сущность» свободного падения (V ~ t) и его основной закон (s ~ t2) остаются неизменными4). И если среда изменяет движение тела по сравнению с его движением в пустоте, то это означает, что в реальном мире тела никогда не движутся своим простейшим движением, которое можно называть истинным, естественным и т. д., о чем я уже упоминал выше. Реальность — это, по Галилею, всегда результат игры множества сил и факторов, и если исследователь не в состоянии должным образом учесть их совместное действие и их характер, то это вопрос его неумения, незнания и неведения.
Поэтому на замечание Симпличио, будто «несовершенство материи является причиной того, что вещи, взятые конкретно, не соответствуют вещам, рассматриваемым в абстракции», Сальвиати удивленно восклицает — «как это не соответствуют?», ведь «из-за несовершенства материи то тело, которое должно бы быть совершенно сферичным, и та плоскость, которая должна бы быть совершенно плоской, конкретно не оказываются такими, какими вы их представляете себе в абстракции», и они не оказываются таковыми «всякий раз, как вы конкретно прикладываете несовершенную сферу к несовершенной плоскости и говорите, что они соприкасаются не в одной-единственной точке. А я вам говорю, что и в абстракции нематериальная сфера, которая является несовершенной сферой (т. е., строго говоря, уже и не сферой вовсе. — И.Д.), может касаться нематериальной, также несовершенной плоскости (т. е., строго говоря, не-плоскости. — И.Д.) не одной точкой, а частью поверхности»5.
Но тогда выходит, что никаких «помех материи», собственно, и не существует, дело в другом — в неумении учесть все реальные компоненты действующей на тело результирующей силы в ситуации, когда одни компоненты (характеристики и законы движения) имеют, так сказать, базовый или первичный характер, а другие — «наслаивающийся» и модифицирующий (например, движение в пустоте + сопротивление среды). Нелогично жаловаться на то, что результаты вычислений не соответствуют данным наблюдений, если, приступая к расчетам, вы подменили один объект другим.
Иное дело, что при наличии некоего результирующего фактора F («результирующей силы»), определяющего реальное явление и слагающегося из совокупности fi (F = ∑ifi), далеко не всегда возможно прямое описание и математическое представление каждого фактора-компонента, т. е. не каждый такой фактор можно выделить и изучить в чистом виде, и тогда исследователь вынужден прибегать к «ухищрениям» (скажем, умозаключать, каким будет движение в предельном случае, когда сопротивление среды стремится к нулю и т. д.) или же довольствоваться приближенными методами.
Таким образом, описание реальной ситуации требует наличия идеального вычислителя (способного все правильно учесть и рассчитать), тогда как описание «идеальной» (предельной) ситуации, когда часть факторов-компонентов либо изъята из рассмотрения, либо каким-то образом модифицирована, предполагает вполне реального квалифицированного calcolatore («filosofo geometra», по выражению Галилея, который «умеет правильно вычислять»)6. «Помеха», таким образом, состоит, в конечном счете, в неидеальности вычислителя. Математичность же физической природы Галилей видит, в частности, — и, возможно, в первую очередь, — в существовании упомянутых выше парадоксальных limbo-сущностей (физических точек, мгновенных скоростей, эллипсов, кругов и т. д. и т. п.).
Для того, чтобы из (s ~ t2)-закона строго вывести (V ~ t2)-отношение, Галилею не хватало двух вещей: понимания скорости как s/t (или Δs/Δt) и аппарата дифференциального исчисления (в рамках которого мгновенная скорость понимается как limΔt→0(Δs/Δt)). Однако Галилей в своих рассуждениях о природе континуума, из которых сформировалась его концепция мгновенной скорости, сделал очень важный шаг к новому математическому описанию Природы. Но на той стадии развития естествознания, которая зафиксирована в его работах, самое большее, что он мог сказать, сводилось к следующему: поскольку (s ~ t2) — есть абсолютная истина и она справедлива для любого временного интервала Δt, сколь бы малым он ни был, то в силу непрерывного и монотонного изменения скорости со временем при малых Δt всегда можно сказать, что V ~ t. В этом случае возникает видимость устранения отмеченных выше логических трудностей (fallacia consequentis), но только видимость, подобно тому, как то обстоятельство, что при малых x sin x ≈ x (и чем меньше х, тем точнее эта аппроксимация), маскирует, но не элиминирует качественные различия между двумя функциями (тригонометрической и линейной).
Теперь — несколько слов о circulus vitiosus в рассуждениях Галилея и его оппонентов. Один из доводов противников коперниканской теории состоял, как известно, в том, что «тяжелые тела, падающие с большой высоты, следуют по прямой, перпендикулярной к земной поверхности»7 и такое может иметь место только на неподвижной Земле, потому как на Земле движущейся тело падало бы с отклонением. На прямой вопрос Сальвиати: «если бы кто-нибудь отрицал перед Птолемеем и Аристотелем то, что тяжелые тела при свободном падении сверху движутся по прямой и отвесной линии, т. е. направляются к центру, то каким бы образом они (т. е. Птолемей с Аристотелем. — И.Д.) это доказали?», Симпличио не задумываясь отвечает: «Чувственным восприятием, оно убеждает нас, что данная башня — прямая и отвесная, и показывает, что камень при падении скользит вдоль нее, ни на волос не отклоняясь в ту или другую сторону, и ударяется у подножья как раз под тем местом, откуда он был выпущен»8. Получив такой ответ, Сальвиати затем несложными и убедительными рассуждениями показывает, что «на основании одного только наблюдения, что падающий камень скользит вдоль башни, вы не можете с достоверностью утверждать, будто он описывает прямую и отвесную линию, если не предположить заранее, что Земля стоит неподвижно», а потому в приведенном доводе против коперниканской теории «предполагается известным то, что еще требуется доказать»9, т. е. имеет место логический круг (curculus vitiosus).
Рассмотрим критику Галилея чуть детальней. Итак, Сальвиати обращает внимание своих собеседников на то, что, согласно Симпличио, отвесное падение камня имеет место в случае неподвижной Земли, но при этом не доказывается, что такое падение происходит только на неподвижной Земле. Иными словами, оппоненты Коперника не доказывают, что неподвижность Земли является единственной причиной отсутствия отклонения камня от вертикали при его свободном падении с башни10.
Более того, Сальвиати настаивает на том, что ссылка Симпличио на данные чувственного восприятия совершенно неосновательна, поскольку и на движущейся Земле видимость явлений может оказаться той же, что и на неподвижной. Надо еще доказать, что видимость отвечает реальному обстоянию дел. «Вы, — обращается Сальвиати к Симпличио, — не принимая во внимание того, что пока камень находится на башне, он в смысле движения или неподвижности делает то же, что и земной шар, и забрав себе в голову, что Земля стоит неподвижно, всегда рассуждаете о падении камня так, как если бы он выходил из состояния покоя, тогда как необходимо сказать, что если Земля неподвижна, то камень выходит из состояния покоя и падает отвесно, если же Земля движется, то и камень также движется с равной скоростью и выходит не из состояния покоя, а из движения, равного движению Земли, с которым сочетается его движение вниз, так что получается движение наклонное».
«Но, боже мой! — восклицает, услышав такое, Симпличио и продолжает, почти дословно повторяя слова Аристотеля (Физика, 253b29). — Если бы он двигался наклонно, каким бы образом увидел бы я его движущимся прямо и отвесно? Это равносильно отрицанию очевидности; а если не верить свидетельству чувств, то через какие другие врата можно проникнуть в философию?»11 В ответ Сальвиати разъясняет, что «по отношению к Земле, башне и нам, которые все совокупно движутся суточным движением вместе с камнем, суточного движения как бы не существует, оно оказывается невоспринимаемым, неощутимым, ничем себя не проявляющим, и единственно поддающимся наблюдению оказывается то движение, которого мы лишены, а именно, движение вниз, скользящее вдоль башни»12. Однако в этом красивом рассуждении есть одна немаловажная деталь: «пока камень находится на башне» он действительно движется вместе с ней, но вот он начал свободно падать, и что? Сальвиати утверждает, что его прежнее движение никуда не исчезло, камень продолжает двигаться суточным движением Земли вместе с башней и наблюдателями на Земле. Для нас сегодня это совершенно естественный вывод, основанный на законе инерции, открытие которого приписывают Галилею. В соответствии с этим законом внешняя сила необходима для того, чтобы изменить движение, движение же тела без внешних воздействий (или когда все действующие на тело силы полностью уравновешены) называют инерциальным. Но сам Галилей придерживался взглядов, несколько отличных от тех, которые ему приписывают современные учебники физики. Здесь уместно сделать пространное отступление с тем, чтобы выяснить, что понимал Галилей под инерциальным движением и как это его понимание связано с перипатетической теорией импетуса. Начну с последней.
1. См., например: Jardine N. Galileo's road to truth and the demonstrative regress // Studies in History and Philosophy of Science. 1976. Vol. 7. № 2. P. 277–318.
2. Галилей Г. Пробирных дел мастер / Пер. Ю.А. Данилова. М.: Наука, 1987. С. 41.
3. Галилей Г. Диалог... С. 307.
4. Т. е. свободное падение подчинено закону равномерно ускоренного движения.
5. Галилей Г. Диалог... С. 306–307.
6. Галилей Г. Диалог... С. 307.
7. Галилей Г. Диалог... С. 237.
8. Там же. С. 237.
9. Там же. С. 238.
10. «Но не было ли недавно сделано заключение, — риторически вопрошает Сальвиати, — что мы не можем знать, действительно ли это падение прямое и отвесное, не зная заранее, неподвижна ли Земля?» (Галилей Г. Диалог... С. 239).
11. Там же. С. 270.
12. Галилей Г. Диалог... С. 270. Как заметил Т. Карлайл, «если бы рыбы обладали исследовательским разумом, то последнее, что они бы поняли — это то, что они двигаются в воде».
Теория импетуса была в законченном и последовательном виде развита в 1328–1340 гг. Жаном Буриданом, хотя некоторые контуры этой теории можно найти в трудах ал-Битруджи1, Св. Фомы и ряда других авторов2. Согласно Буридану, «движущее, приводя в движение движимое, запечатлевает в нем некий impetus или некую силу (imprimit sibi quendam impetum vel quandam vim), движущую это движимое в ту сторону, в которую движущее его двигало, — либо вверх, либо вниз, либо в сторону, либо по кругу»3.
Галилей воспринял идею импетуса еще в юности и, вопреки широко распространенному мнению, придерживался ее до конца жизни. При этом он исходил из того, что всякое движение является вынужденным и источник, вынуждающий тело двигаться, может находиться как в самом теле, так и вне его. В случае свободного падения на тело одновременно действуют две независимые друг от друга силы (не считая сопротивления среды): impetus (внутренняя сила) и inclinatio (сила, вынуждающая тело двигаться к его естественному месту — к центру Земли, — т. е. тоже внутренняя сила).
Уже в «De Motu» Галилей сформулировал идею нейтрального движения, т. е. такого, которое нельзя отнести ни к естественным, ни к вынужденным. Например, движение тяжелого тела вниз является, по Аристотелю, естественным, а его движение вверх — вынужденным. Горизонтальное же движение нейтрально, поскольку совершающее такое движение тело, будь оно тяжелым или легким, не выказывает склонности тела двигаться ни к своему естественному месту, ни от него. Действительно, поскольку горизонтальное движение перпендикулярно и к движению вниз, и к движению вверх и поскольку ни тяжелое, ни легкое тело не имеет, согласно Аристотелю, тенденции двигаться в горизонтальном направлении, то соответствующий горизонтальному движению импетус не будет действовать ни против тенденции тяжелого тела двигаться вниз, ни против тенденции легкого тела устремляться вверх. Следовательно, если в горизонтальном направлении на тело не действуют никакие силы (стремления, тенденции и т. п.), то оно может начать движение в этом направлении при любом сколь угодно малом горизонтальном импетусе. Однако если «посмотреть» на Землю из космоса, то ясно, что «горизонтальное» направление фактически представляет собой большую окружность, охватывающую земной шар. Поэтому движение, которое земному наблюдателю представляется горизонтальным, в действительности — круговое, и оно будет сохраняться до тех пор, пока на тело не подействуют какие-либо другие силы (в историко-научной литературе последнее утверждение иногда называют принципом круговой инерций).
Перейдя на гелиоцентрические позиции, Галилей распространил принцип круговой инерции на круговые движения планет4, к числу которых теория Коперника отнесла и Землю. Эти движения интерпретировались как нейтральные, вызванные некогда вложенным в них импетусом. Таким образом, камень, сорвавшийся с башни, падает вниз под действием своего веса, но одновременно он движется по окружности около Земли, сохраняя вращательное движение, сообщенное ему башней. Соответственно, и планеты, обращающиеся вокруг Солнца, движутся подчиняясь тому же закону, закону круговой инерции или, что для Галилея по сути то же самое, закону сохранения кругового импетуса.
Для меня здесь важно даже не то, что под инерциальным Галилей понимал круговое движение, а то, что он понимал инерциальное движение как движение вынужденное, причем вынужденное «изнутри», т. е. длящееся до тех пор, пока действует сила импетуса, и никакая внешняя сила, противодействующая импетусу, к телу не приложена. Таким образом, инерциальное движение, как оно понималось Галилеем, не является «естественным» в аристотелевом смысле, т. е. в смысле его соответствия природе тела. В итоге получалось, что тело, вопреки утверждениям Аристотеля, может иметь два естественных движения.
Естественное движение, понимаемое Аристотелем как предикат тела, не имеет действующую причину, но только материальную, формальную и целевую, тогда как Галилей объяснял естественное движение именно в терминах действующей причины, поскольку, по его мнению, всякое движение обусловлено чем-то иным, нежели материя, а именно — силой5, т. е. является вынужденным. Невынужденное движение — это движение без силовой причины, чего, по мысли Галилея, не может быть в принципе, ибо если движение совершается не под действием движущей силы — внешней или внутренней (т. е. беспричинно), то любое объяснение такого движения будет тавтологичным — тело естественным образом движется потому, что оно движется естественно.
Но в какой ситуации тело может двигаться силой горизонтального (или кругового, если наблюдатель смотрит на Землю извне) импетуса? Во всяком случае, не в условиях Земли или околоземного пространства, где падению вниз «надлежит быть препятствием для другого, поступательного движения»6. Вес (телеологическая inclinatio к центру Земли) — это, по Галилею, внутренняя сила. Следовательно, если полагать, что вес «истощает» горизонтальный импетус, то движение под действием одного лишь импетуса возможно только, если тело бесконечно удалено от Земли, поскольку в этом случае его склонность двигаться к ее центру будет бесконечно малой. Но можно ли считать, что бесконечно удаленное от Земли тело движется по окружности с центром, совпадающим с центром Земли? Скорее уж оно будет двигаться по прямой, понимаемой как окружность с бесконечно большим радиусом. Галилей старательно избегал этого и других вопросов, касавшихся движения изолированного тела в абсолютно пустом пространстве. Возможно, на то были, кроме прочих, и теологические основания, поскольку идея движения тела по окружности бесконечно большого радиуса наводила на мысль о бесконечности Вселенной, а вслед за тем — и на неприятные воспоминания о судьбе Дж. Бруно. Истины, конечно, не горят, но вот их носители...
Таким образом, горизонтальное (точнее, круговое) движение является вынужденным, но вынуждено оно (с того момента как камень оторвался от башни), исключительно внутренним фактором — вложенным в тело горизонтальным импетусом. И пока этот фактор в теле действует, оно будет двигаться круговым инерциальным движением. Иными словами, инерциальное движение, по Галилею, возможно, пока действует импетус, двигающий тело в отсутствии внешних сил, отклоняющих движение тела от горизонтального/кругового движения.
Обратимся к тексту «Dialogo». Аристотелианец Симпличио доказывает, что пока камень находится на вершине корабельной мачты, он двигается поступательно «благодаря движению, в него вложенному» этой мачтой, но после того, как камень начнет падать вниз, он уже не будет сохранять свое первоначальное движение из-за «внешних препятствий <...>, а таких препятствий два: одно — это неспособность тела рассекать воздух одним своим импетусом <...>; второе — новое движение, т. е. падение вниз, которому надлежит быть препятствием для другого поступательного движения»7.
Сальвиати, отвечая Симпличио, ограничивается случаем, когда сопротивление воздуха не играет существенной роли («для тяжелого камня оно ничтожно»). В этой ситуации оба движения — «а именно, круговое вокруг центра и прямолинейное к центру» — не противоположны друг другу, друг друга не разрушают и вполне одно с другим совместимы, ибо у движущегося тела нет никакого противодействия подобному движению, поскольку сопротивление направлено против движения, удаляющегося от центра, склонность же относится к движению, приближающему к центру. Отсюда с необходимостью вытекает, что к движению, не удаляющему от центра и не приближающему к нему, тело не имеет ни склонности, ни сопротивления, а следовательно, нет и причины для уменьшения вложенной в него силы»8. Иными словами, импетус во время движения тела не истощается.
Традиционная трактовка предложенной Галилеем теории движения исходит из того, что его концепция инерционного движения характеризует последнее как самодвижение, «естественное» и не имеющее причины, откуда делается вывод о несовместимости галилеевского понимания инерциального движения с теорией импетуса.
Однако, как мы видим, это не так. Галилей взял от позднесхоластической физики много больше, чем того хотелось бы любителям выковыривать «рациональные зерна» из историко-научного теста. Он не просто использует «старую» теорию импетуса, но и привносит в нее нечто новое: импетус «запечатлен» не только в движущемся, но и в покоящемся теле, т. е. покой — это определенное состояние импетуса тела, и этот импетус покоя, запечатленный в теле опорой и направленный вверх, против силы inclinatio (веса), в отличие от кругового импетуса, непрерывно и монотонно истощается во время свободного падения, тем самым непрерывно и монотонно увеличивая результирующую силу, «тянущую» тело вниз, а вместе с ней и скорость падения. Еще раз обращаю внимание читателя на важную особенность галилеевой концепции импетуса: если бы в случае свободного падения импетус покоя, запечатленный в теле опорой, не истощался, а оставался неизменным, свободное падение было бы равномерным, а не ускоренным, т. е. вес сам по себе ускорения вызвать не может. Более того, импетус покоя при свободном падении слабеет под действием веса. Когда же вес не оказывает на импетус никакого воздействия (в случае «горизонтального», т. е. в действительности кругового движения), последний не изменяется.
И еще несколько важных замечаний. Когда при описании свободного падения вместо ссылки на inclinatio падающих тел к центру Земли стали ссылаться на gravitas, т. е. на воздействие массивного тела (Земли), то это свидетельствовало не только о чисто терминологических изменениях. Стремление (inclinatio) тела к его «естественному месту» предполагает существование некой vis motrix (движущей силы), имманентной падающему телу, тогда как gravitas (сила тяжести) действует на падающее тело извне, со стороны Земли. Но если бы Галилей предположил, как это впоследствии сделал Ньютон, что тело движется к центру Земли не по, так сказать, «внутренней склонности», а по принуждению извне, то что тогда остается у тела, кроме его импетуса, который тоже представляет собой внутренний ресурс тела, «запечатленный» в нем извне? Действительно, в ходе процедуры идеализации тело, падающее в пустоте, «лишается» формы, цвета, размеров, физико-химической индивидуальности, да теперь еще и веса как имманентного ему свойства. Что же (какое свойство) осталось у такого тела, доведенного до состояния материальной точки?
Сейчас мы бодро отвечаем — масса. Но этот ответ восходит к И. Ньютону9, а не к Галилею. Последний должен был бы ответить иначе — «ничего». Во всяком случае, ничего такого, что могло бы реагировать на действующую со стороны Земли эту самую gravitas. Отсюда ясно, что Галилей (историческое лицо, а не Галилей современных учебников физики) не мог открыть так называемый первый закон Ньютона (он же — закон инерции Галилея) в его посленьютоновском понимании, поскольку в его распоряжении не было второго закона классической механики, в котором, как известно, фигурирует понятие массы тела, не говоря уже о том, что в его распоряжении не было закона всемирного тяготения, понятий инертной и гравитационной массы и т. д., а законы Кеплера Галилей просто проигнорировал. Кстати, о последних.
Как уже было отмечено во второй главе, отнесись Галилей повнимательней к «Astronomia Nova» И. Кеплера (1609), где были сформулированы первые два закона движения планет, он сам смог бы открыть то, что сейчас называется третьим законом Кеплера и предсказывать положения спутников Юпитера. Но Галилей отнесся к кеплеровым достижениям с тем же безразличием и непониманием, с каким к его (Галилея) достижениям отнеслись преподаватели Падуанской гимназии (на что он жаловался Кеплеру в письме от 19 августа 1610 г.). Галилей не понимал, что признание коперниканского учения блокировалось не только теологическими возражениями и житейским опытом («наивным эмпиризмом» его оппонентов), но и тем, что аристотелева физика не была заменена новой. Галилею казалось, что он поддерживает гелиоцентризм своими открытиями, сделанными с помощью телескопа, и своей теории приливов.
Ему важно было дать такое физическое обоснование коперниканства, которое бы удостоверяло, что на движущейся Земле все явления (скажем, свободное падение) будут происходить точно так же, как и на неподвижной. Поэтому он так настойчиво повторял, что земные тела участвуют в движении Земли как небесного тела, т. е. каждый земной объект может рассматриваться как малый спутник Земли. И потому понятие «круговой инерции» представлялось ему как нельзя более подходящим для обоснования коперниканства.
Кроме того, Кеплер определял тяжесть (gravitas) как взаимное воздействие тел, приводящее к их сближению и — если вернуться к проблеме свободного падения — в силу колоссального различия масс Земли и падающего тела можно сказать, что «скорее Земля притягивает камень, чем камень стремится к Земле (ut multo magis terra trahat lapidem, quam lapis petit terram)»10. Галилею же идея действия на расстоянии казалась чудовищной, поскольку он видел в ней возврат к схоластическим qualitas occulta11.
1. Нур ад-Дин ал-Битруджи ал-Ишбили (ум. в 1185), известный в Европе как Альпетрагий, автор «Книги об астрономии (Китаб фи-л-хай'а)». В рукописи стамбульской библиотеки этот труд носит название «Бросающая в дрожь книга об астрономии (Китаб ал-мурта'иш фи-л-хай'а)». Книга ал-Битруджи также посвящена теории движения планет и критике теории Птолемея с позиций «Физики» Аристотеля.
2. Подр. см.: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 70–93 (особ. с. 70–78).
3. Цит. по: Там же. С. 81.
4. По Аристотелю, отличие небесных тел от подлунных состояло лишь в том, что первые не способны достичь своего естественного места, т. е. своей цели — соединиться с неподвижным перводвигателем.
5. Следовательно, определение действующих причин движения не может быть осуществлено путем изучения самой материи, ибо силы представляют собой иные, нематериальные сущности.
6. Галилей Г. Диалог... С. 247.
7. Галилей Г. Диалог... С. 247.
8. Там же. С. 248.
9. Аристотель мог сказать, что круговое движение планеты есть актуализация планетной формы. Галилей же сослаться аналогичным образом на массу тела не мог, поскольку массе, по смыслу его теории, нечего актуализировать, она абсолютно нейтральна и лишена «в самой себе» каких-либо «тенденций».
10. Цит. по: Blumenberg H. The Genesis of the Copernican World / Trans. R.M. Wallace. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1987. P. 400.
11. «И среди великих людей, рассуждавших об этом удивительном явлении природы (т. е. о приливах и отливах. — И.Д.), — писал Галилей, — более всех других меня удивляет Кеплер, который, будучи наделен умом свободным и острым и хорошо знакомый с движениями, приписываемыми Земле, допускал особую власть Луны над водой, сокровенные свойства и тому подобные ребячества» (Галилей Г. Диалог... С. 307; С. 552).
Симпличио — возвращаюсь к прерванному анализу полемики второго дня «Dialogo» по поводу причин отвесного падения камня с башни — в отличие от Сальвиати-Галилея, полагал, как последовательный схоласт-аристотелианец, что ни башня, ни иное тело не «вкладывают» в падающий камень никакой «запечатленной силы». И исходил он при этом из тех же соображений, что и Аристотель, т. е., целиком доверяясь очевидному и отказываясь вводить в физику представления о каких-либо таинственных «качествах» и «силах», передающихся от одного тела к другому. Такая позиция существенно облегчала бремя доказательства. Действительно, теории могут и должны спасать явления, т. е. то, что, по крайней мере, принципиально доступно нашему восприятию, но в принципиально ненаблюдаемом мире occult forces, к которому принадлежала и сила импетуса, теория ничего спасать не должна, да и не может.
Галилей, как мы видели, занимал иную позицию — позицию критики наблюдаемого явления, и данные наблюдений и экспериментов служили для него отправной точкой для осмысления и интерпретации наблюдений. Однако такая позиция, разграничивающая видимое и реальное положение дел, делала аргументацию самого Галилея куда более уязвимой по отношению к появлению в ней circulus vitiosus, нежели позиция Симпличио.
Сопоставим обе стратегии доказательств — перипатетическую и галилееву. Пусть справедливость некоторого вывода p → q (например, неподвижность Земли → отвесное падение камня) имеет место при условии справедливости некоторого, чаще всего принимаемого неявно, допущения X, такого, что из p и ~X не следует q. В рассмотренном выше примере таким допущением стало утверждение (подразумеваемое Симпличио) о том, что отвесное падение камня возможно только на неподвижной Земле. Поэтому обратный вывод q → p (а именно он использовался оппонентами Коперника), т. е. «отвесное падение камня → неподвижность Земли», при допущении X ведет, как легко видеть и как показал Галилей, к circulus vitiosus. Но Галилей показал наличие логического круга в рассуждениях Симпличио путем (лучше сказать — ценой) принятия двух положений:
— видимость не всегда отвечает реальности;
— падающий камень совершает два движения: одно — инерциальное, обусловленное действием импетуса, другое — естественноускоренное, обусловленное действием тяжести (интенцией тяжелого тела занять свое естественное место).
Тем самым Галилей фактически допустил наличие некой ненаблюдаемой реальности, которая, однако, определяет феноменологию, т. е. чувственно воспринимаемую картину. (Его оппоненты-теологи, особенно папа Урбан VIII, тоже исходили из существования некой ненаблюдаемой реальности, — правда, несколько иного характера, — которая определяет феноменологию).
Теперь — о доказательствах Галилея. Ссылка на отвесное падение камня в полемике вокруг движения Земли, как выяснилось, ничего не доказывает и не опровергает. Поэтому Галилею пришлось искать иные аргументы в пользу идеи движения Земли. Как известно, он приводил два довода в защиту этой идеи: движение солнечных пятен и «движение морских водоемов», т. е. приливы и отливы. Не вдаваясь в детали галилеевой аргументации, отмечу лишь, что в качестве X-допущения им было принято утверждение о единственности выдвинутой причины (суточное движение Земли) наблюдаемых явлений, т. е. и солнечные пятна, и массы воды могут двигаться именно так, как это наблюдается нами, только в случае движения Земли. И подобно тому, как ранее Сальвиати упрекал Симпличио «в постоянном предположении истинности того, что заключается в вопросе»1, т. е. circulus vitiosus, так затем последний указывал первому на тот же дефект его (Сальвиати) доводов.
«Поскольку эти явления, — утверждает Сальвиати, имея в виду приливы и отливы, — должны происходить в результате движений, естественно присущих Земле, необходимо, чтобы они не только не встречали препятствий или помех, но чтобы они протекали с легкостью, и не только с легкостью, но и с необходимостью, так, чтобы невозможно было им протекать иначе, ибо таково характерное свойство естественного и истинного»2. Иными словами, если приливы и отливы представляют собой «естественные и истинные» следствия движения Земли, то они не могут «протекать иначе», т. е. не могут быть обусловлены действием иных причин. Однако все попытки Сальвиати доказать, что, поскольку на неподвижной Земле никаких приливов и отливов быть не может, а потому остается допустить, что они вызваны двояким движением Земли, Симпличио не убедили (да ладно бы Симпличио, подобные доводы не убедили И. Кеплера, который связывал приливы и отливы с действием Луны и который в итоге оказался прав). «Мне кажется, — упорствовал Симпличио, — нельзя отрицать, что ваше рассуждение представляется весьма правдоподобным, если вести его доказательство, как говорится, ex suppositione, т. е. исходя из предположения, что Земля обладает обоими движениями, приписываемыми ей Коперником; но если такие движения исключить, все останется необоснованным <...>. Исходя из предположения двоякого рода движения Земли, вы объясняете происхождение прилива и отлива; и обратно, впадая в порочный круг, рассматриваете прилив и отлив как признак и подтверждение этих самых движений»3.
И далее Симпличио приводит свои доводы (естественно, против идеи движения Земли). Интересно, что Сальвиати, опровергая эти доводы, первой части реплики своего оппонента (процитированной выше) не касается. А ведь Симпличио не вполне «вольный схоласт», который говорит все, что ему вздумается, он, по удачному выражению З. Бехлера, «Galileo's custom tailored Aristotelian»4 и, в известном смысле, не только персонаж «Dialogo» и «Discorsi», но еще и участник внутреннего диалога самого Галилея.
Видимо, последний ясно понимал, что его рассуждения, выдаваемые им за доказательства, в действительности включают в себя circulus vitiosus, и потому упреки Симпличио совершенно справедливы. Более того, Галилей осознавал и то, что единственный способ преодолеть логический круг — это отказаться от претензий на негипотетическое, достоверное знание, к чему, собственно, и толкал его Беллармино. Поэтому спор между кардиналом и Галилеем вовсе не был столкновением «передового ученого» со «столпом фанатизма и нетерпимости», который «считал естественным, что при его влиянии в инквизиции ученые Италии, а может быть и всего католического мира, воспринимали его слова как повеление»5. Все эти излюбленные «советскоязычными» авторами пошлости мало что объясняют в поступках и высказываниях участников этой драмы идей. Дело, на мой взгляд, глубже. Беллармино — не Коломбе, его полемика с Галилеем — это спор двух сознаний, затрагивавший глубинные проблемы и противоречия процесса познания.
Все характерные черты галилеева дискурса — ex suppositione, circulus vitiosus, fallacia consequentis — так или иначе связаны с введением нестандартных (для традиционной логики) limbo-сущностей, с пониманием конечной скорости падающего тела как бесконечного континуума мгновенных скоростей, с утверждением неделимости (точечности) бесконечного континуума, его «составленности» из геометро-физических точечных атомов и т. д. и с убежденностью в том, что Книга Природы написана на языке математики.
Если силлогизм меняет свой смысл и характер при переходе от большой посылки к малой ввиду двойственного, «челночного» (по уточняющему слову В.С. Библера) характера среднего члена — одновременно и абстрактно-математического, и материально-физического — то никакой вывод, согласно аристотелевой логике, невозможен, ибо физическая ситуация, зафиксированная в большой посылке, оказывается принципиально ненаблюдаемой, а математическая, зафиксированная в малой посылке, оказывается актуализованной в Природе, т. е. онтологический статус обеих предпосылок становится неопределенным. В этом смысле в limbo-сущностях Галилея действительно оживают (в глазах современного читателя) — «казалось бы прочно похороненные (в кинематике, в геометрии, в анализе) — исходные определения Природы как неопределимой в теоретических понятиях, абсолютно внеположной познанию "силы сил"»6
Неопределенность логического статуса галилеевых limbo-сущностей — из которых следует, что подобные сущности, предположенные (измышленные) чисто теоретически, не могут быть предметами «теоретического разума», а потому к ним возможно относиться только практически, не познавая их, но действуя на них — это та цена, которую пришлось заплатить за претензию на содержательность (нетавтологичность) и информативность ее объяснений, которые обусловливались гетерогенностью эксплананса и экспланандума нововременных научных теорий (в частности, коперниканской астрономии, галилеевой механики и бойлевой химии).
Только указанная гетерогенность открывает дорогу искусственно-изолирующему эксперименту — ибо если, скажем, желтый цвет серы объясняется наличием в ней «начала желтизны», то нет никакой необходимости искать нечто, стоящее за видимостью, за внешней оболочкой вещей, «очи разума» и «глаза во лбу» будут видеть одно и то же7.
Когда же познание Природы обращается ко второму, «закадровому», «тайному», скрытому от непосредственного чувственного восприятия плану бытия, проблематизируя тем самым феноменальный мир, то в силу обусловленности каждого наблюдаемого явления множеством непосредственно ненаблюдаемых и сложно соотнесенных друг с другом причин («сил») оно (явление) должно быть идентифицировано, т. е. увидено «очами разума» и определено изнутри разума таким, каково оно есть, а не каким кажется, и это новое видение, новый образ Природы (разумом выведенный) должен быть включен в непосредственные показания чувств. Однако подобная точная идентификация явления может быть реализована, только опираясь на реальные «причины» этого явления, или, что, возможно, точнее — на его реальную сущность (essentia). Например, видимое отвесное движение камня, падающего с башни, должно быть понято как результат его двойного движения — прямолинейного сверху вниз и кругового.
Поэтому явление Φ может служить предпосылкой вывода, но лишь постольку, поскольку оно само есть следствие некой причины p. Тогда, если в ходе доказательства причина p выводится из явления Φ, circulus vitiosus неизбежен (при данном Φ, которое обусловлено p, следует, что Φ есть причина p). Иными словами, предпосылка «Φ, которое обусловлено p» (p → Φ) оказывается необходимым X-допущением для любого онтологического условия, которое представляет реальные явления обусловленными сложной игрой «скрытых» причин («сил»)8. Таким образом, гетерогенность структуры объяснения при наличии жесткой причинной связи между разнородными элементами эксплананса и экспланандума (что иногда называют информативностью теории) предполагает обращение ко «второму плану» бытия и тем самым проблематизирует наблюдаемые явления со всеми вытекающими отсюда логическими последствиями, отчасти описанными выше.
Теперь можно вернуться к событийной стороне моего анализа.
1. Галилей Г. Диалог... С. 273.
2. Там же. С. 517.
3. Галилей Г. Диалог... С. 528–529.
4. Bechler Z. Newton's Physics... P. 530.
5. Штекли А.Э. Галилей. С. 214.
6. Библер В.С. Галилей и логика мышления Нового времени... С. 510.
7. Вспомним сцену из «Мнимого больного» Ж.-Б. Мольера (1673):
«Первый доктор:
Если домине президентус
И тотус кворум извинентус
Бакалавра эго поссум
Затруднить одним вопросом.
Кауза и резонус — кваре
Опиум фецит засыпаре?
Бакалавр:
Почтенный доктор инквит: кваре
Опиум фецит засыпаре?
Респондэс на кое.
Хабет свойствие такое».
Мольер Ж.Б. Мнимый больной // Мольер Ж.Б. Полное собр. соч.: В 3-х т. М.: Искусство, 1987. Т. 3. С. 619).
8. Следует отметить, что эта особенность формирующейся науки Нового времени в XVII в. осознавалась многими. Так, например, Р. Коутс в предисловии ко второму изданию Principia И. Ньютона писал, защищая сэра Исаака от обвинений в возврате к концепции «скрытых (occult) качеств»: «Галилей показал, что отклонение брошенного и движущегося по параболе камня от прямолинейного пути происходит благодаря тяготению (gravitas) камня к Земле, т. е. благодаря "скрытому качеству". Впрочем, может случиться, что какой-нибудь другой, более востроносый философ выдумает другую причину. Он вообразит, что некая тонкая материя, не воспринимаемая ни зрением, ни осязанием, ни вообще никаким чувством, обретается в местах, смежных с поверхностью Земли, допустив, что эта материя описывает параболические линии. <...> Кто же после этого не будет удивляться острейшему уму этого философа, объясняющего механическими причинами <...> явления природы в такой форме, которая совершенно понятна даже для толпы? И кто не пожалеет этого простака Галилея, который, после великих математических усилий, задумал вновь обратится к скрытым качествам, от которых философия столь счастливо избавилась? Однако стыдно задерживаться дальше на подобном вздоре!» (Цит. по: Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки... С. 76). Коутс поднимает здесь также тонкий и сложный вопрос о разграничении различных типов «скрытых качеств» — одно дело инерциальное движение и тяготение, а совсем другое — фантазии «востроносого философа», оперирующего с флюидами, свойства которых отвечают видимости, устраняя тем самым гетерогенность эксплананса и экспланандума.
| Барберини. А не кажется ли вам, друг мой Галилей, что вы, астрономы, просто хотите сделать свою науку более удобной? Вы мыслите кругами или эллипсами, мыслите в понятиях равномерных скоростей и простых движений, которые под силу вашим мозгам. А что, если бы Господь повелел своим небесным телам двигаться так? (Описывает пальцем в воздухе сложную кривую с переменной скоростью.) Что было бы тогда со всеми вашими вычислениями? Галилей. Ваше преосвященство, если бы Господь так сконструировал мир (повторяет движение Барберини), то он сконструировал бы и наши мозги тоже так (повторяет то же движение), чтобы именно эти пути познавались как простейшие.
Б. Брехт. Жизнь Галилея1 |
В мае 1615 г. Галилей пишет монсиньору Дини: «Любая дискуссия о Священном Писании может тлеть вечно (sariano dormite sempre). Ни один астроном и ни один натурфилософ, который оставался в границах своего предмета, никогда не касался подобных вещей. Однако, хотя я следую учению, изложенному в книге, принятой Церковью (речь идет о «De Revolutionibus». — И.Д.), против меня выступают совершенно невежественные (nudissimi) в таких вопросах философы, которые заявляют, что это учение содержит положения, противоречащие вере. Я бы хотел, насколько это возможно, показать им, что они ошибаются, но мне приказано не вдаваться в вопросы, касающиеся Писания, и я вынужден молчать. Дело доходит до утверждений, будто книга Коперника, признанная Святой Церковью, содержит ересь и против неё может выступать с кафедры всякий желающий, при том, что не дозволяется никому оспаривать эти высказывания и доказывать, что учение Коперника не противоречит Писанию»2.
К этим словам Галилея следует добавить несколько замечаний о его, как бы мы сегодня сказали, рейтинге и репутации. Ни в Риме, ни во Флоренции, ни вообще где-либо его никто не воспринимал — по крайней мере, в описываемый период — как выдающегося ученого. Его главные работы по механике еще не были опубликованы. Задуманная некогда «Система мира» так и не была написана. Он, конечно, получил известность благодаря своим астрономическим открытиям с помощью телескопа. Но, во-первых, сама идея телескопа принадлежала не ему, а во-вторых, считалось, что ему удалось построить хороший телескоп лишь потому, что в Венецианской республике умели делать хорошие линзы3. Конечно, он был замечательным собеседником, разносторонним и остроумным, но большинство видело в нем не профессионала (математика, астронома или натурфилософа), но смышленого, изобретательного и удачливого любителя. А ведь ему уже было под пятьдесят. Кроме того, он никогда не читал лекций в Пизанском университете, где числился, и его коллеги жаловались, что ему явно переплачивают.
Его просили доказать движение Земли, он же в ответ приводил доводы, которые не казались убедительными, и его всё более раздражало упрямство коллег и нападки противников. Он чувствовал, что надо нанести ответный, а может быть, упреждающий удар.

Рис. 30. Неизвестный мастер (школа Ф. Клуэ (F. Clouet)). Портрет Кристины Лотарингской. Флоренция. Галерея Уффици
В цитированном выше письме Дини Галилей сообщает, что намеревается отправиться в Рим. Как выразились биографы Галилея, «защищать коперниканство на таких основаниях было жалкой уловкой (a paltry evasion)»4.
Но перед тем как «защищать себя языком», Галилей пробует еще раз «защитить себя пером». В июне 1615 г. он заканчивает работу над письмом (по сути — небольшим трактатом), номинально адресованном вдовствующей Беликой герцогине Кристине Лотарингской (рис. 30), а на деле — совсем иным лицам и прежде всего кардиналу Беллармино. Фактически это письмо развивает основные идеи письма Галилея Кастелли от 21 декабря 1613 г., но одновременно оно стало ответом ученого на письмо Беллармино Фоскарини, который переслал послание кардинала Галилею через Дини. Письмо Великой герцогине ходило по рукам и было впервые опубликовано Маттиасом Бернеггером (M. Bemegger, 1582–1640) в 1636 г. в Страсбурге5. Однако трудно судить о том, сколь большую известность оно приобрело в начале XVII столетия и сколь заметным было его влияние. Поэтому я ограничусь далее лишь наиболее важными фрагментами. Галилей начинает с жалоб на своих противников, над которыми он «всегда потешался», но те, вместо благодарности за галилеевы издевки, не только старались «показать себя более учеными», нежели он, но «пошли дальше», выдвинув против него «обвинения в таких преступлениях, кои <...> отвратительны» ему «более самой смерти»6.
«Я не могу, — продолжает Галилей, — удовольствоваться тем, что несправедливость подобных наветов признают лишь те, кто знает и меня, и их, в то время как все остальные не ведают о лживости этих обвинений. <...>.
Мои противники обеспокоены несомненной правильностью <...> моих предположений (тут Галилей, мягко говоря, несколько преувеличил, что особенно ясно, если учесть сказанное в предыдущем разделе. — И.Д.), <...> отличающихся от общепринятых, а также сомневаются в возможности защитить себя настолько, что стараются отступить в область философии. Упорно стремясь нанести удар по мне и по моим открытиям, они решили соорудить из лицемерной религиозности (di simulata religioni) и авторитета Священного Писания щит, прикрывающий их собственные заблуждения. <...>.
Сперва они решились распустить среди простых людей слух, будто подобные мысли (о справедливости учения Коперника. — И.Д.) вообще противоречат Писанию, и, следовательно, подлежат осуждению как еретические. Им известно, что человеку по самой его природе более свойственно поддерживать те предприятия, где открывается способ осудить ближнего своего, — неважно, насколько справедливо, — чем те, по завершении которых тот получает заслуженное одобрение. Потому им не доставило труда найти людей, объявивших о предосудительности и ереси нового учения не иначе как с церковной кафедры, с редкой самоуверенностью, тем самым совершив нечестивый и необдуманный суд не только над самой доктриной и ее последователями, но и над всей математикой и математиками разом. Затем, еще более осмелев, и надеясь (пусть тщетно), что семя, укоренившееся в умах ханжей, даст побеги, поднимающиеся к самым небесам, они принялись распускать сплетни, будто бы в скором времени это учение будет осуждено высшим судом»7.
После этого Галилей переходит к главному вопросу — о соотнесенности коперниканства и библейского текста. Он вновь, как ранее в письме к Кастелли, подчеркивает, что истинность гипотезы Коперника полностью доказана, тем самым рисуя сложившуюся познавательную ситуацию в идиллических тонах и оставляя в стороне все реальные трудности, связанные с таким доказательством и с доказательством научных утверждений вообще (о чем см. предыдущую главу). Кроме того, он снова, как и в письме к Кастелли, настаивает — на этот раз вооружившись полученными, по-видимому, от того же Кастелли, цитатами из Св. Августина (с которыми Галилей обращался, впрочем, весьма вольно) — на недостаточности буквального понимания священного текста и необходимости в ряде случаев обращаться к его аллегорическому толкованию с целью выявления подлинного смысла Св. Писания.
«Во-первых, — писал Галилей, — я считаю благочестивым говорить и благоразумным принимать, что Священное Писание нигде не содержит лжи (non poter mai la Sacra Scrittura mentire) — независимо от того, понимаем ли мы его истинный смысл. Однако я не думаю, что кто-то станет отрицать, что его текст нередко труден для понимания, и во многих местах его содержание существенно отличается от буквального значения слов. Значит, если некто, толкуя Библию, всегда будет придерживаться буквального грамматического значения написанного, он может впасть в заблуждение. В Писании, таким образом, некто мог бы обнаружить не только противоречия или утверждения, далекие от истины, но даже тяжкую ересь и безумие (non solo contradizioni e proposizioni remote dal vero, ma gravi eresie e bestemmie ancora). В таком случае следовало бы наделить Бога ногами, руками и глазами, равно как телесными ощущениями и человеческими аффектами — гневом, раскаянием, ненавистью, и иногда даже забывчивостью в отношении давно минувших событий и незнанием будущего. Сказанное Духом Святым было запечатлено в священном Писании так, чтобы Его слово было доступно восприятию простого народа, грубого и необразованного (assai roz[z]o e indisciplinato). Но ради блага тех, кто заслуживает быть выделенным из толпы, необходимо, дабы мудрые толкователи объяснили истинный смысл таких мест, равно как и особые причины, по которым использовались именно эти слова. Названная доктрина является столь общепринятой и разработанной теологами, что было бы излишне приводить доказательства в ее пользу.
Следовательно, я полагаю разумным заключить, что в случаях, когда Священное Писание говорит о физических явлениях (особенно о загадочных и трудных для понимания), соблюдается правило, позволяющее не внести в умы простецов смущения, которое заставило бы их отвратиться от высших тайн веры. Как я уже сказал и как можно ясно видеть, Писание, единственно с целью приспособления к пониманию простого народа, не воздержалось от утаивания некоторых важнейших истин, и даже самому Господу приписывает качества, совершенно Ему чуждые и весьма далекие от Его сущности. Так кто же тогда осмелится категорически утверждать, что, говоря среди прочего о Земле, воде, Солнце и об иных сотворенных вещах, Священное Писание отвергает такое [аллегорическое] истолкование и ограничивается сугубо буквальным и однозначным толкованием слов? Это представляется особенно неправдоподобным, когда речь заходит о таких особенностях сотворенных вещей, которые очень далеки от понимания простого люда и никоим образом не связаны с главной целью Священного Писания — почитанием Всевышнего и спасением душ.
Исходя из этого, я думаю, что в рассуждениях о явлениях Природы надлежит начинать не со ссылок на авторитет духовных книг, а с обсуждения данных чувственного опыта и рассмотрения необходимых демонстраций, ибо Священное Писание и Природа равно порождены Богом: первое как продиктованное Духом Святым, вторая — как послушная исполнительница Господних повелений. Более того, Писание, дабы соответствовать пониманию простого люда, вынуждено описывать многие вещи так, что, если следовать буквальному значению слов, то сказанное окажется далеким от абсолютной истины. С другой стороны, Природа неколебима и неизменна (essendo la natura inesorabile ed immutabile), она никогда не преступает предписанные ей законы и не заботится о том, чтобы действующие в мире непостижимые причины и способы ее действия были бы открыты человеческому пониманию. И никакие природные явления, как те, что наш чувственный опыт представляет перед нашими очами, так те, что необходимым образом доказаны, не нужно подвергать сомнению на основании библейских текстов, смысл коих может оказаться гораздо глубже буквального. Слова Писания не ограничиваются такими же жесткими условиями, каковые накладываются на все природные явления; равно как и Бог открыл нам Себя в явлениях Природы не менее совершенным образом, чем в священных словах Писания. <...> Природные явления, которые представляются нашим глазам чувственным опытом или обосновываются необходимыми рассуждениями, по-видимому, не должны подвергаться сомнению, а тем более осуждаться на основании цитат из Священного Писания, чьи слова, как может показаться, имеют иной смысл.
...Достигнув определенных результатов в натурфилософии, нам следует применять их как наиболее подходящие средства для правильного истолкования Писания и для разыскания истин, которые с необходимостью содержатся в его тексте, поскольку текст этот несет в себе высшую истину и согласуется с доказанными истинами. Следует заключить, что авторитет Писания был определен, главным образом, к тому, чтобы убедить людей в правильности тех постулатов и положений, которые превосходят человеческое понимание и не могут быть открыты наукой или кроме как речениями Духа Святого. И однако даже в постулатах, которые не касаются предметов веры, авторитет Писания должно ставить выше любых человеческих писаний, содержащих лишь чистое описание или правдоподобные рассуждения, но не изложенными в доказательной манере. Этот принцип я полагаю необходимым и обязательным, и уверен в нем так же, как в превосходстве божественной мудрости над всяким человеческим суждением или умозрением.
Однако я не думаю, что обязан верить, будто Бог, наделивший нас чувствами, языком и разумом, определил нас отказаться от использования этих средств, и решил донести знания, которые мы способны приобрести с их помощью, каким-то иным способом с тем, чтобы мы отказались от доводов наших чувств и разума даже при изучении тех природных явлений, кои представлены нашим очам и разуму чувственным опытом или же необходимыми доказательствами. <...>
...Мы видели, что Святой Дух не возжелал сообщить нам, движутся небеса или покоятся, выглядят они как сфера или как диск или протяженная плоскость, расположена Земля в центре [мира] или ближе к краю. Отсюда с необходимостью следует, что Он не намеревался сообщить нам что-либо и о других подобных вещах, связанных с вышеупомянутыми так, что без знания истины относительно первых невозможно знать и остального, скажем, решить вопрос о том, движется ли Земля или Солнце или же она покоится. Но если Святой Дух умышленно не сообщил нам о подобных вещах, как не относящихся к Его намерению (т. е. к нашему спасению), то как же тогда можно утверждать, что поддерживать именно одно, а не какое-то иное утверждение столь важно, поскольку первое есть принцип веры, а второе — ошибочно? Может ли некое мнение быть и ересью, и не затрагивать при этом вопрос о спасении души? Можно ли полагать, будто Дух Святой умолчал о чем-то, необходимом для нашего спасения? Я бы повторил здесь выражение, слышанное от одного духовного лица весьма высокого достоинства8: «Дух Святой научает не тому, как перемещаются небеса, а тому, как нам туда переместиться». <...> ...Несомненно, подлинный смысл священного текста согласуется с натурфилософскими выводами, в достоверности которых мы уверены благодаря ясным наблюдениям и необходимым доказательствам. Действительно, к тому, что Писание, как уже говорилось, во многих местах допускает толкования, далекие от буквального значения слов, следует добавить, что мы не может с уверенностью утверждать, будто все толкователи Писания вдохновлялись Духом Святым, поскольку в таком случае меж ними не возникло бы расхождений касательно смысла одного и того же фрагмента. Потому, я полагаю, было бы весьма благоразумно не позволять никому использовать каким-либо образом священный текст для доказательства истинности любых натурфилософских утверждений, ложность коих всегда может быть продемонстрирована с помощью чувств и доказательных и необходимых доводов.
Сам Дух Святой возвестил, что Deus tradidit mundum disputationi eorum, ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus ab initio ad finem9. По моему мнению, никто не должен воспрещать свободное философствование о тварных и физических вещах (libero filosofare circa le cose del mondo e della natura), как если бы все уже было изучено и открыто с полной достоверностью. И не нужно думать, будто не удовлетворяться общепринятыми мнениями — дерзость. Никто на физических диспутах не должен осмеиваться за то, что не придерживается учений, кажущихся остальным наилучшими, особенно если эти учения касаются вопросов, оспариваемых величайшими философами на протяжении тысячелетий. Один из подобных вопросов — неподвижность Солнца и движение Земли, мнение, коего придерживались Пифагор и все его последователи, Гераклит Понтийский (один из них), Филолай, учитель Платона, и, если верить Аристотелю, сам Платон. Плутарх в жизнеописании Нумы говорит, будто Платон, постарев, считал абсурдными иные мнения. Названное учение одобряли Аристарх Самосский, как сообщает Архимед; математик Селевк, философ Никет (по свидетельству Цицерона) и многие другие. Наконец, эту доктрину дополняют и подтверждают многочисленные опыты и наблюдения Николая Коперника. Сенека, знаменитейший философ, в своей книге «De cometis» (О кометах) советует упорнее искать доказательств тому, земле или небесам присуще суточное вращение.
Поэтому, вероятно, полезным и мудрым будет такой совет: к утверждениям, касающимся дела спасения, а также постулатам нашей веры, постоянству которой я не вижу опасности ни в одном основательном и разумном учении, мы не должны более ничего добавлять без необходимости. И, определенно, было бы нелепо изобретать такие добавления по просьбе тех, кто, как известно, не только не является провозвестником божественной благодати, но и, очевидно, испытывает недостаток знаний, необходимый для понимания, не говоря уже о способности рассуждать об опытах, с помощью которых доказываются положения самых тонких наук. <...>.
Если бы для полного уничтожения обсуждаемой доктрины было бы достаточно заткнуть рот одному человеку — как, возможно, думают те, кто мерит чужой ум по своему собственному и не верит, что коперниканское учение сможет приобрести новых последователей — его и впрямь можно было бы легко уничтожить. Но дела обстоят иначе. Чтобы запретить эту доктрину, нужно было бы не только запретить книгу Коперника и сочинения других авторов, придерживающихся сходного мнения, но также и саму науку астрономию. Далее, пришлось бы воспретить людям смотреть в небо, чтобы они не увидели, как иногда Марс и Венера приближаются к Земле, а иногда удаляются, и разница такова, что вблизи Венера кажется в сорок, а Марс — в шестьдесят раз больше. Нужно было бы запретить им видеть, что Венера иногда выглядит круглой, а иногда — серповидной, с очень тонкими рогами; так же как и получать другие чувственные ощущения, никоим образом не согласующиеся с птолемеевой системой, но подтверждающие систему Коперника. И запретить Коперника сегодня, когда его учение подкреплено множеством новых открытий, а также учеными, прочитавшими его книгу, по прошествии многих лет, когда эта теория считалась разрешенной и допустимой, но имела меньше последователей и подтверждающих наблюдений, означало бы, по моему убеждению, исказить правду и попытаться скрыть ее, тогда как истина заявляет о себе все более ясно и открыто. <...>
Глаза простеца могут угадать лишь малое по внешнему облику человека по сравнению с чудесными особенностями, обнаруженными внимательным и опытным физиономистом или философом в том же теле, когда последний стремится понять назначение всех этих мышц, сухожилий, нервов и костей; или же, изучая функции сердца и других важных органов, он ищет местоположение жизненной силы, находит и отмечает восхитительное строение органов чувств и (не уставая удивляться и радоваться) размышляет о вместилище воображения, памяти и разума. Точно так же видимое простому глазу — ничто по сравнению с возвышенными чудесами, которые ум ученого обнаруживает на небесах после длительного и пристального наблюдения»10.
В письме Кристине Лотарингской Галилей, отстаивая правомерность своих выступлений в защиту коперниканства, опирается на два ортодоксальных положения: тезис Баронио («Дух Святой научает не тому, как перемещаются небеса, а тому, как нам туда переместиться») и тезис Св. Августина («истина заключена в сказанном божественным авторитетом, а не в том, что полагается слабым человеческим разумением. Но если кто-либо невзначай сможет поддержать это утверждение11 таким доказательством, в коем невозможно усомнится, то тогда мы должны будем доказать, что сказанное в наших книгах о шатре небесном не противоречит этим истинным утверждениям»12). При этом первый тезис используется Галилеем для обоснования (в контексте представления о данных Всевышним двух книгах — Книге божественного откровения, т. е. Библии, и Книге божественного творения, т. е. Книге Природы) второго.
Однако все эти замечательные рассуждения имели мало ценности в глазах теологов, о чем я уже упоминал, комментируя письмо Галилея Кастелли. Фактически Галилей, при всей его совершенно искренней правоверности, когда речь заходила о демаркации между наукой и религией отводил последней весьма скромную роль — религиозные воззрения должны были временно заполнять пробелы в нашем познании мира. «Рысьеглазые» защитники веры быстро разглядели, куда могут завести выступления «рысьеглазого» флорентийского патриция. Церковь видела в науке ту сформировавшуюся в контексте христианской культуры универсализирующую силу, которой была она сама, силу, посягающую на изучение и объяснение всего, что есть в мире. Идея разделения сфер компетенции науки и религии, которую отстаивал Галилей — мол, Дух Святой научает не тому, как перемещаются небеса, а тому, как нам туда переместиться, а следовательно, «весьма благоразумно не позволять никому использовать каким-либо образом священный текст для доказательства истинности любых натурфилософских утверждений» — теологически была совершенно неприемлема. Вопросы о «перемещении неба» и о перемещении души на небо разделить, конечно, можно, но остается реальная угроза, что рано или поздно найдется какой-нибудь кандидат физико-математических наук, который заявит, что и по поводу второго вопроса у него есть кое-какие соображения, и начнет писать формулы. Или, что еще хуже, объявится какая-нибудь особа, приближенная к императору, и на вопрос последнего — «А где же тут в Вашем сочинении Бог?» — с несокрушимой ровностью безбожия ответит: «Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothuse». А почему бы и нет, если Галилей в «Dialogo» убеждал читателя, что «хотя божественный разум знает в них [в математических науках] бесконечно больше истин, ибо он объемлет их все, но в тех немногих, которые постиг человеческий разум <...>, его познание по объективной достоверности равно божественному»13. Но вернемся к нашей хронологии.
1. Брехт Б. Жизнь Галилея. С. 735.
2. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 183–184.
3. Это не совсем так. Узнав о «волшебной трубке», изобретенной голландцем Хансом Липперсхеймом (H. Lippershey, или Jan (Hans) Lippersheim; ок. 1570 — ок. 1619) в 1608 г., Галилей построил свой собственный телескоп, представлявший собой трубу длиной 1245 мм, где в качестве объектива использовалась выпуклая очковая линза диаметром 53 мм, которая давала увеличение в тридцать раз. Такой телескоп был на порядок мощнее всех существовавших тогда зрительных труб, хотя его использование, как уже отмечалось выше, было сопряжено с рядом технических и психологических трудностей.
4. Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... P. 72.
5. Бернеггер называл это письмо Apologeticus.
6. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 307–348; P. 310.
7. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 310–311.
8. Речь идет о bon mot кардинала Чезаре Баронио (C. Baronius; 15381607). — И.Д.
9. Т. е. Бог попустил существование в мире различных мнений, так что человек не способен воспринять Его творение целиком. Это цитата из Экклезиаста (III: 11). В синодальном переводе: «хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца». — И.Д.
10. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 315–330.
11. Августин имеет в виду утверждение о сферичности небес, которое он противопоставляет библейским фрагментам, где говорится, что небо имеет форму не сферы, но шатра («Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» (Ис. 40:22); «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер» (Пс. 103:2)). — И.Д.
12. St. Augustine. De genesi ad litteram, II, 9. (Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 331).
13. Галилей Г. Диалог... С. 201.
В пятницу, 19 февраля 1616 г. одиннадцати экспертам (консультантам и квалификаторам) Инквизиции были представлены для формального заключения два положения, вобравшие в себя суть гелиоцентрической теории Коперника:
Первое: Солнце находится в центре мира и совершенно неподвижно в отношении перемещений;
Второе: Земля — не центр мира и не неподвижна, но движется как целое, а также совершает суточное обращение»1.
Неясно, по чьей инициативе было сделано это представление. Известно только, что накануне, в четверг 18 февраля, соответствующее решение было принято на общем собрании Конгрегации Инквизиции, однако, никаких документов об этом собрании не сохранилось. Впрочем, известно, что по четвергам подобные собрания происходили в присутствии и под председательством папы (о чем см. далее), поэтому можно предположить, что инициатива исходила от самого Святейшего и, возможно, была реакцией на активные выступления Галилея, находившегося в то время в Риме, в защиту коперниканства. В глазах Инквизиции это означало, что он продолжает упорствовать в отстаивании весьма спорных с теологической точки зрения утверждений2.
По мнению М.Я. Выгодского, текст запроса в Инквизицию «прямо заимствован из <...> доноса Каччини»3. На это же обстоятельство указывает и А. Фантоли: «Интересно отметить, что формулировка этих двух утверждений выведена почти дословно из выражений, которыми Каччини обобщил идеи Галилея в защиту теории Коперника в своем донесении, сделанном годом ранее»4. Однако, на мой взгляд, такая оценка несколько преувеличена.
Во-первых, латинское наречие omnino, которым эксперты заменили итальянское per consequenza, имеет значение «полностью, вполне, целиком, совершенно», а также — «в целом, в общем, вообще» и реже, в уступительных предложениях, — «конечно, бесспорно». В данном случае его следует переводить как «совершенно, полностью». Кроме того, если какой-либо объект оказывается в центре чего-либо, то он не совершает локальных перемещений как целое именно вследствие своей центральности.
Во-вторых, своеобразие формулировки основных тезисов гелиоцентризма связано, скорее всего, не столько с влиянием Каччини, сколько с привычным для схоластов желанием перевести обсуждаемые высказывания на формальный философско-теологический язык. И итальянское «si move secondo se tutta», равно как и латинское «secundum se totam movetur», означает — «движется как целое».
Здесь уместно также — для лучшего понимания дальнейшего — сделать несколько замечаний относительно порядка работы экспертов Конгрегации Инквизиции и Конгрегации Индекса запрещенных книг.
Конгрегация Инквизиции состояла из нескольких кардиналов и клириков, обладавших необходимой компетентностью в вопросах теологии и канонического права5. Последние назывались консультантами (consultores)6.
Консультанты вместе с чиновниками Конгрегации готовили необходимую документацию для кардиналов, давая им также советы. В случае необходимости консультанты, имевшие, как правило, степени магистра или доктора теологии (patres theologi) собирались отдельно, образуя так называемую congregatio qualificatorum, чтобы дать заключение по материалам расследования или, если речь шла о книгах, подлежащих рассмотрению Инквизиции, проанализировать содержание опубликованных сочинений на предмет наличия в них еретических утверждений. В этом последнем случае консультантов называли также цензорами (censores)7. Цензорские функции могли исполнять и теологи, не участвовавшие в работе инквизиционного трибунала «на постоянной основе». В Риме консультанты выбирались папой8, а потому, чтобы попасть в их число, надо было заслужить милость верховного понтифика, что удавалось далеко не всегда.
Консультанты Инквизиции, а они были членами различных орденов, чаще всего — доминиканцами, выражали свои мнения и ставили свои подписи в порядке старшинства9. В целом эта иерархия имела следующий вид: архиепископы, епископы, декан Sacra Romana Rota (одного из судебных органов Инквизиции), магистр ордена доминиканцев, управляющий папским дворцом, папские референдарии, комиссар Инквизиции, консультант-францисканец и другие теологи, помощник комиссара. В 1556 г. папа Павел IV декретом от 18 апреля распорядился, чтобы заседания Конгрегации Святой Инквизиции в присутствии верховного понтифика происходили еженедельно по четвергам10.
Затем, в 1564 г. — т. е. по окончании Тридентского собора, — Пий IV предложил кардиналам-членам Инквизиции, чтобы ускорить прохождение дел, собираться дополнительно раз в неделю, но без папы11. В итоге Конгрегация собиралась дважды в неделю — по четвергам (feria quinta) и по средам (feria quarta)12. В первом случае в присутствии и под председательством папы, во втором — под председательством cardinalis antiquior, т. е. кардинала, раньше других получившего это звание. Эти собрания задавали ритм работы всей Конгрегации. А поскольку количество дел постоянно росло, то решено было по понедельникам, иногда по вторникам, устраивать собрания должностных лиц Инквизиции (feria secunda). Это были чисто чиновничьи рабочие встречи, без кардиналов. Встречи проводились не только в разном составе, но и в разных местах: по четвергам «in palatio apostolico apud S. Petrum» (т. е. в папском дворце)13 или «in palatio apostolico montis Quirinalis» (т. е. в летней резиденции папы)14; по средам до 1628 г. — во дворце cardinalis antiquior, с 1628 г. — «nel convento de' padri Domenicani della Minerva», т. е. в монастыре Санта Мария сопра Минерва (Convento S. Maria sopra Minerva), в апартаментах магистра ордена доминиканцев15; по понедельникам — во дворце Инквизиции. По свидетельству кардинала И.Б. де Лука (J.B. de Luca; ум. 1683), младшего современника Галилея, «подготовительные собрания происходили по субботам с целью решить, какие дела нужно будет передать консультантам (или, как их еще называли, квалификаторам, поскольку в их обязанности входило решать, какой конкретно приговор следует вынести в отношении утверждений, кои были сочтены неортодоксальными), а какие должны быть рассмотрены непосредственно самими кардиналами. На этом собрании присутствовало только шесть официальных лиц Инквизиции. По понедельникам консультанты собирались и высказывали свое мнение по вопросам, которые должны были быть представлены кардиналам. По средам происходили кардинальские собрания, на которых заслушивались и обсуждались мнения консультантов, после чего кардиналы высказывали свои суждения. На следующий день, в четверг, некоторые кардиналы встречались в присутствии папы, для которого заранее резюмировались материалы дел. После обмена мнениями проводилось голосование в Конгрегации, и вопрос таким образом разрешался»16.
Из сказанного ясно, что формальное прохождение в Инквизиции запроса о коперниканских положениях осуществлялось в следующем режиме:
— 18 февраля (четверг) 1616 г. — решение папы о передаче запроса в Инквизицию;
— 19 февраля (пятница) — запрос на итальянском языке поступает в S. Officium;
— 20 февраля (суббота) — предварительное рассмотрение запроса чиновниками Инквизиции;
— 23 февраля (вторник) — рассмотрение коперниканских положений на собрании консультантов.
Таким образом, чтобы дать необходимое заключение, экспертам Инквизиции потребовалось максимум четыре дня (если допустить, что биение напряженной богословской мысли не утихало даже по воскресеньям).
В среду 24 февраля 1616 г. на пленарном заседании экспертов был составлен официальный ответ консультантов Инквизиции на обращенный к ним запрос. По первому пункту в заключении богословов было сказано:
«Все считают, что это положение глупое и абсурдное с философской и еретическое с формальной точки зрения, поскольку оно явно противоречит Священному Писанию во многих его местах как по буквальному смыслу слов, так и по принятому толкованию и пониманию его Святыми Отцами и учеными теологами».
По второму пункту было заявлено, что все считают, что это положение заслуживает такой же философской цензуры; а рассматриваемое с точки зрения теологической истинности, оно, по меньшей мере, «является ошибочным в вере»17.
Итак, эксперты и консультанты, не будучи компетентными в вопросах астрономии, в короткий срок вынесли свое безапелляционное суждение: гипотезы Коперника, рассматриваемые как утверждения, претендующие на физическую истину, признавались «stultam et absurdam». С теологической же точки зрения первая гипотеза квалифицировалась как еретическая, а вторая — как ошибочная. Причем о том, что сочинение Коперника носило математический характер par excellence, даже не упоминалось. Вопрос казался вполне очевидным и потому не требовавшим долгих выяснений и дебатов, что видно из письма тосканского посла в Риме Пьетро Гвиччардини государственному секретарю Великого герцогства Тосканского Курцио Пиккена (C. Picchena) от 4 марта 1616 г.: «Галилей (который с 10 декабря 1615 г. находился в Риме. — И.Д.) здесь более полагался на собственные мнения, нежели на мнения своих друзей. Синьор кардинал дель Монте и я, а также кардиналы святого судилища (S.to Offizio) убеждали его успокоиться и не вносить в это дело ничего, что могло бы вызвать раздражение. Ему было сказано, что если он хочет держаться этого [коперниканского] мнения, то пусть бы держался его втихаря (tenerla quietamente), не пытаясь привлечь на свою сторону других. Все опасаются, что его приезд сюда может оказаться весьма предосудительным и даже опасным, и вместо собственного оправдания и триумфальной победы над своими противниками он может навлечь на себя одни неприятности. И поскольку он чувствует, что другие весьма прохладно относятся к его намерениям и желаниям, он стал надоедать и докучать (havera informati et stracchi) многим кардиналам, пока не заручился покровительством кардинала Александра Орсини и даже выпросил для этой цели рекомендательное письмо от Вашей светлости (Гвиччардини имел в виду Великого герцога, т. к. формально его письмо было адресовано Козимо II. — И.Д.). В минувшую среду в консистории кардинал [А. Орсини], уж я не знаю, насколь осторожно и осмотрительно, заговорил с папой о Галилее. Папа (Павел V. — И.Д.) сказал ему, что хорошо было бы убедить Галилея отказаться от этого мнения. Когда же Орсини стал что-то возражать в ответ, то папа оборвал его и сказал, что намерен передать это дело их высокопреосвященствам кардиналам Инквизиции. После ухода Орсини Святейший Отец позвал к себе Беллармино и говорил с ним об этом вопросе. После краткого обсуждения они пришли к заключению, что воззрения Галилея являются ошибочными и еретическими. Позавчера, как я слышал, состоялось собрание Конгрегации, посвященное этому предмету, чтобы разъяснить присутствующим его суть. Коперник и другие авторы, которые писали об этом, будут исправлены или запрещены. Я полагаю, Галилей лично не пострадает, поскольку, будучи человеком благоразумным, он будет думать так, как думает Святая Церковь»18.
По мнению С. Дрейка, встреча Беллармино с папой произошла 23 февраля19. Однако более убедительна, на мой взгляд, датировка А. Фантоли — 24 февраля20. Но гораздо важнее не это21. Важнее другие три обстоятельства.
Во-первых, как заметил Фантоли, «вовсе не папа с кардиналом Беллармино приняли окончательное решение по этому вопросу (об ошибочности и еретичности коперниканства. — И.Д.) по собственной инициативе»22, они опирались на мнение экспертов.
Во-вторых, вполне вероятно, что Беллармино сам предложил Павлу V прибегнуть в отношении Галилея к самой мягкой мере воздействия (или, по крайней мере, с нее начать) — увещанию23.
И в-третьих — как папа, так и Беллармино, обсуждая возможные меры воздействия на Галилея, должны были принимать во внимание также мнения некоторых других кардиналов, в частности, Бонифацио Каэтано (B. Caetano, Caietani или Caetani; 1567 или 1568–1617) и М. Барберини, на чем детальнее я остановлюсь далее.
Возвращаясь к тексту официального заключения экспертов Инквизиции относительно главных положений гелиоцентрической теории Коперника (пока речь шла только о сути его теории, о судьбе же «De Revolutionibus» решение будет принято в начале марта 1616 г.), следует заметить, что сам факт умолчания в этом заключении о чисто математическом характере трактата Коперника (т. е. о возможности трактовать гелиоцентризм в духе предисловия А. Осиандера) свидетельствует о том, что упомянутый документ содержит в себе, по выражению Р. Фельдхей, «the seeds of the church's multi-dimensional position»24.
Из подписавших заключение теологов по крайней мере пятеро были доминиканцами и один, Бенедетто Джустиниани, — иезуитом. Замечу также, что трое подписавших — де Лемос, Петр Ломбардский и Григорий Коронель — были активными участниками Congregatio de Auxiliis. Теперь о самих оценках. В соответствии с принятой терминологией слова «formaliter haereticum» — одна из самых жестких цензурных формулировок — означали, что данное утверждение противоречит доктринальным положениям католической веры. В данном случае его использование свидетельствовало о том, что эксперты Инквизиции считали традиционное положение о движение Солнца вокруг Земли доктринальным, находящим свое подтверждение в текстах Священного Писания и Св. Отцов. Выражение «in Fide erroneam» — более мягкое — означало, что рассматриваемое утверждение (в данном случае — о движении Земли), хотя и не противоречит прямо Священному Писанию и «согласному мнению Св. Отцов», тем не менее, не согласуется с общепринятым мнением теологов25.
Приведенное заключение играло роль важного, но вспомогательного документа (своего рода совета или рекомендации). Окончательное же решение должны были вынести кардиналы Инквизиции и/или сам Святейший.
В четверг 25 февраля 1616 г. состоялось обычное еженедельное собрание кардиналов Инквизиции. Как сказано в протоколе: «Его Высокопреосвященство кардинал Миллини уведомил, что Святейший Отец, ознакомившись с результатами цензуры отцов-теологов относительно утверждений математика Галилея о том, что Солнце является центром мироздания и неподвижно, а Земля движется и к тому же совершает суточное обращение, повелел Его Высокопреосвященству кардиналу Беллармино вызвать Галилея и предупредить последнего о необходимости отказаться от подобных утверждений, а в случае неповиновения комиссар Инквизиции в присутствии нотариуса и свидетелей должен отдать ему приказ воздержаться от преподавания и распространения этого учения, а также от его разъяснения; в случае же отказа он будет подвергнут тюремному заключению»26.
Приведенный документ фиксирует три уровня церковного контроля над знанием, каждый из которых отражен в каноническом праве27:
— monitum, т. е. предостережение или замечание («Sanctissimus ordinavit... eumque moneat...»;
— praeceptum, т. е. предписание, приказ («faciat illi praeceptum»);
— carcere, т. е. тюремное заключение («si vero non acquieverit, carceretur»).
Эти три меры воздействия коррелируют с трояким отношением к теории Коперника. Эта теория прежде всего должна быть оставлена, т. е. коперниканство не следует поддерживать (tenere), поскольку оно не доказано так, как того требовали правила аристотеле-томистской логики, что должно было быть доведено до сведения Галилея через официальную процедуру monitum (предостережения). В свою очередь, сказанное ex silentio означало, что, хотя коперниканское учение и лишалось церковной поддержки, но его, тем не менее, можно было защитить (defendere) и преподавать (docere) как некое мнение.
Действительно, томизм четко разграничивал мнения истинные и вероятные (или возможные). Предписание оставить коперниканскую теорию, не содержавшее явного запрета на ее преподавание, защиту и/или обсуждение, вообще говоря, допускало, в контексте упомянутой эпистемологической дистинкции, использование гелиоцентрических воззрений в диспутах для оттачивания полемического мастерства студентов, ибо modus disputandi предусматривал обсуждение и условную защиту даже заведомо абсурдных идей28. Чтобы воспрепятствовать такому толкованию позиций Церкви и устранить возможные лазейки для распространения гелиоцентризма, было упомянуто о втором, более жестком уровне контроля — praeceptum, осуществлять который должен был уже не Беллармино, но комиссар Инквизиции, да еще в присутствии нотариуса и свидетелей. На этом уровне контроля речь шла уже не только о запрещении поддерживать учение Коперника, но также о запрете на его защиту, преподавание и даже толкование и разъяснение. Что касается третьего уровня контроля, то он, по-видимому, не требует специальных пояснений, особенно для отечественного читателя.
По мнению подавляющего числа историков, ни папа, ни Беллармино не сомневались в чистоте веры Галилея и не испытывали к нему никаких враждебных чувств. Кроме того, они учитывали его европейскую известность, обширные связи и, конечно, то, что он был Filosofo e Matematico Primario del Granduca di Toscana. Все это вместе взятое отнюдь не толкало их, особенно Беллармино, к жестким мерам. (Детальней о позиции Беллармино речь пойдет далее). Поэтому, по мнению кардинала, увещания было вполне достаточно, чтобы охладить пыл Галилея и вместе с тем не нанести ущерба его репутации и тем самым не обидеть Козимо II. И еще одна немаловажная деталь — заключение отцов-теологов было запротоколировано, но ни разу не публиковалось (до того времени, когда соответствующие документы стали доступны историкам29). Согласно же каноническому праву, если решение не публиковалось, оно не имело юридической силы.
В пятницу 26 февраля 1616 г. состоялась встреча Галилея с кардиналом Беллармино. О том, как она проходила, свидетельствуют три архивных документа. Однако эти документы, мягко говоря, не вполне согласуются друг с другом, в силу чего историками было предложено несколько версий происшедшего30. Обратимся к текстам этих документов.
В первом из них сказано следующее: «Пятница 26 февраля. В постоянную резиденцию вышеупомянутого Преосвященнейшего господина кардинала Беллармино, в апартаменты его Высокопреосвященства был призван вышеназванный Галилей, и как только он предстал пред лицом Его Высокопреосвященства в присутствии достопочтеннейшего отца Микельанджело Седжицци из Лоди, члена Ордена Проповедников, Генерального Комиссара Инквизиции, то кардинал увещал упомянутого Галилея в ошибочности его известных воззрений и чтобы он [Галилей] их оставил. Вслед за тем, в присутствии моем и т. д., и свидетелей и т. д., а также вышеназванного Преосвященнейшего господина кардинала, вышеупомянутый господин комиссар повелел и предписал все еще присутствовавшему здесь упомянутому Галилею от имени его Святейшества папы и всей Конгрегации Инквизиции полностью оставить вышеупомянутое мнение, — а именно, что Солнце неподвижно и находится в центре мира, а Земля движется, — и в дальнейшем его более не придерживаться, не преподавать и не защищать никоим образом, ни письменно, ни устно. В противном случае Святая Инквизиция вынуждена будет возбудить против него дело. С этим предписанием вышеназванный Галилей согласился и обещал повиноваться.
Учинено в Риме, в вышеуказанном месте, в присутствии, в качестве свидетелей, достопочтенных Бадино Нореса из Никосии, что в Кипрском королевстве, и Августино Монгардо из аббатства Розы, что в диоцезе Монтепульциано, оба они — знакомые упомянутого Его Высокопреосвященства кардинала»31.
Следует отметить, что этот документ не был ни подписан, ни нотариально заверен, как требовалось в таких случаях. Одно время даже считалось, что это фальшивка, сфабрикованная в ходе процесса над Галилеем 1632–1633 гг., но затем была доказана его подлинность32.
Второй документ более поздний. Это копия протокола заседания Инквизиции от 3 марта 1616 г., на котором присутствовали папа и семь кардиналов. Этот документ будет рассмотрен далее. Сейчас отмечу только, что в первой его части имеется следующий фрагмент, относящийся к событиям 26 февраля: «Сделано было сообщение Его Высокопреосвященством господином кардиналом Беллармино о том, что математик Галилео Галилей, после увещания, сделанного согласно предписанию Святой Конгрегации оставить мнение, которое он до сих пор разделял, будто Солнце занимает центр [небесных] сфер и неподвижно, а Земля подвижна, согласился»33.
Заметим, что во втором документе ничего не говорится о действиях комиссара Седжицци, равно как и о запрете на защиту и преподавание гелиоцентрической теории. Беллармино, если верить протоколу, просто проигнорировал соответствующие места папского решения.
И, наконец, третий документ — подлинник протокола заседания 25 февраля (основной текст цитирован выше) с припиской: «26 числа (указанного месяца) Его Высокопреосвященство кардинал Беллармино уведомил Галилея, что его воззрения являются ошибочными etc.» и далее по-итальянски: «ed in appreso dal Padre Commissario gli fu inquinto il precetto come sopra etc.» («и со стороны отца Комиссара ему было сделано предупреждение о том же etc.»)34.
Это «etc.» часто использовалось в документах курии, предназначенных для «внутреннего использования», когда речь шла о вещах известных тем, для кого эти документы предназначались. В первом случае, в латинском тексте, etc. означало, скорее всего, «как было приказано» (т. е. в соответствии с решением (распоряжением) папы), во втором — «в установленном порядке». Правда, непонятно, почему часть приписки (последняя фраза) сделана не на латыни, а по-итальянски.
Итак, что же произошло в день 26 февраля 1616 г.? Фактически Галилею было сделано и увещание, и предостережение, и предписание, что, строго говоря, нарушало решение Павла V, которое предусматривало определенную последовательность действий. Согласно сценарию Верховного Понтифика, praeceptum должно было быть сделано только в случае «неповиновения» («si recusaverit parere») ученого, т. е., если бы он не внял предостережению Беллармино. На деле же, как только кардинал окончил monitum (увещание), комиссар Инквизиции, не дав сказать Галилею ни слова, сразу же перешел к запретам docere и defendere коперниканское учение, ничего, однако, не сказав о возможности (или невозможности) это учение обсуждать (tractare), хотя решение Святейшего предусматривало также и запрет на разъяснение сути коперниканства, скажем, в ходе полемики.
Джером Лэнгфорд одно время полагал, что Галилей, не очень хорошо понимавший, что происходит на самом деле, стал, после увещания Беллармино, возражать (что, добавлю от себя, могло проявиться не только в словах, но также в жестах и в мимике) и это побудило комиссара Седжицци выступить с более жестким заявлением. Видимо, Лэнгфорд опирался на исследование Франца Рейша, который показал, что выражение «successive ac incontinenti» в то время могло означать не «тут же» или «немедленно после (э)того» — в переводе Дж. де Сантильяна «immediately thereafter»35, — но «впоследствии», «после (э)того», «позднее» и т. п.36. Но затем Лэнгфорд без объяснения причин оставил свою версию и принял трактовку С. Дрейка — мол, Седжицци просто переусердствовал в служебном рвении («overzealons in the fulfillment of his assignment» и т. д.)37. Близкую к первой версии Лэнгфорда трактовку событий предложил г. Морпурго-Тальябуэ38, которого поддержал А. Фантоли. «По мнению этого автора (т. е. Гвидо Морпурго. — И.Д.), — пишет Фантоли, — выслушав предупреждение Беллармино, Галилей некоторое время колебался и медлил с ответом (а может быть, даже высказал свои возражения). Тогда Комиссар Седжицци, по всей вероятности, неудовлетворенный слишком мягким и вежливым тоном обращения кардинала, решил вмешаться и выразить приказание в более резкой форме. Услышав угрозу, Галилей, несомненно, должен был немедленно подчиниться. Но непредусмотренное в данной ситуации вмешательство Седжицци могло не понравиться Беллармино, который отнюдь не считал свои возможности исчерпанными. Поэтому кардинал <...> отказался подписать документ, подготовленный нотариусом по желанию Седжицци, так как это противоречило его нравственным убеждениям»39.
Важная особенность всех указанных исторических реконструкций состоит в том, что их авторы главное внимание сосредотачивают на поведении комиссара Седжицци, на его неуместном и нетактичном вмешательстве в процедуру отеческого наставления Галилея со стороны кардинала Беллармино. А между тем удивление, как мне представляется, должно вызывать совсем не это.
Комиссар, видя, что кардинал о чем-то беседует с Галилеем, догадался, что никаких возражений от последнего ждать уже не приходится, а потому его, комиссара, пребывание тут становилось совершенно бессмысленным. Поэтому, как только Беллармино закончил увещание, Седжицци немедленно, не давая Галилею сказать ни слова, выступил с предостережением более строгим, чем было санкционировано папой. В этой ситуации Галилею оставалось лишь молча согласиться.
Беллармино был, разумеется, удивлен и возмущен столь неуместным вмешательством комиссара. Он поднялся со своего места и проводил Галилея до двери, сославшись на обилие других дел, намеченных на это утро, но выразил надежду, что тот заедет к нему перед отъездом из Рима. Вернувшись, кардинал поговорил с комиссаром с глазу на глаз. Видимо, он заявил ему, что заранее согласованные с папой инструкции были нарушены, возможно, неумышленно <...>. Но подписать [составленный нотариусом] протокол — значит привлечь внимание папы к этому обстоятельству» (Drake S. Galileo at Work... P. 254).
В монографии Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... также сказано, что «Эта запись (т. е. неподписанный протокол от 26 февраля 1616 г. — И.Д.), по-видимому, была сделана каким-то усердным чиновником, который писал от первого лица и который хотел засвидетельствовать, что комиссар действительно вмешался, чтобы сообщить Галилею строгое предписание полностью оставить коперниканское учение. Однако Беллармино, видимо, считал, что его увещания было вполне достаточно, и протокол в итоге остался неподписанным» (P. 83–84).
В советской литературе самую занимательную версию этих событий предложил А.Э. Штекли: «Исполняя приказ, генеральный комиссарий вместе с асессором и нотарием явились <...> во дворец кардинала Беллармино.
Туда же был вызван и Галилей. Беллармино в присутствии комиссария стал говорить, что учение о движении Земли является заблуждением, поскольку противоречит Библии, и увещевал его совершенно от него отказаться.
Галилей выслушал кардинала, потом осторожно заметил, что вопрос этот весьма сложен. Среди теологов нет полного согласия <...>.
Беллармино перебил его. Рассуждать здесь больше не о чем! <...>
По знаку кардинала в комнату вошло еще несколько духовных лиц. Свидетели? Генеральный инквизитор от имени папы и всей Святой службы сообщил Галилею официальное предписание <...>.
Мрачно выслушал Галилей генерального комиссария» (Штекли А.Э. Галилей. С. 220–221).
На мой непросвещенный взгляд, цитированный отрывок представляет собой бесценный образец историко-научного сочинения на заданную тему, автор которого не стал попусту тратить времени и сил на анализ и сопоставление документов, фактов и контекстов, ведь и так ясно — во всем виноват Беллармино (ну, и, конечно, Павел V).
При внимательном чтении приведенных документов бросается в глаза поразительная нелогичность решения Святейшего от 25 февраля 1616 г. Чего, собственно, хотели Павел V и курия? Что их больше всего волновало? Судя по всему, в конфессионально расколотой посттридентской Европе католический истеблишмент более всего должен был опасаться — и опасался! — всевозможных ересей, откуда бы они ни исходили. Коперниканские космологические идеи — а именно они стали предметом богословской экспертизы в Инквизиции — были признаны еретическими или, по крайней мере, «ошибочными в вере», и их распространение следовало пресечь. Для этого нужно было внести соответствующие сочинения в «Index librorum prohibitorum» (что и было сделано в начале марта 1616 г., о чем см. далее) и тем самым заставить замолчать защитников новой космологии, среди которых наиболее активным и талантливым был, бесспорно, Галилей. Причем нейтрализовать его и его единомышленников надо было так, чтобы они не только «оставили» гелиоцентрические взгляды — это-то они запросто могли пообещать, — но и не смогли бы их ни преподавать, ни публично защищать, ни даже использовать затем в качестве modus disputandi в полемическом задоре, поскольку само по себе внесение того или иного прокоперниканского сочинения в «Index» еще не означало запрет на условную защиту коперниканства и на упоминание о нем (пусть даже как о примере ложной и теологически ошибочной доктрины) в процессе обучения. И все это нашло отражение в решении Святейшего от 25 февраля 1616 г. Но... как-то странно.
Папский поэтапный сценарий уламывания Галилея демонстративно алогичен, поскольку судьба коперниканской теории (точнее, возможность ее социализации) ставилась в прямую зависимость от поведения Галилея в гостях у Беллармино. Если он (Галилей) соглашается с увещанием, то ему дозволялось если не defendere, то, по крайней мере, docere и tractare учение Коперника, пусть даже с приемлемыми для матери католической Церкви оговорками, а ежели Filosofo e Matematico Primario del Granduca di Toscana проявит непонимание дружеских намерений Его Высокопреосвященства, то коперниканство предполагалось полностью изъять из сферы публичного интеллектуального обращения, и уже такой интердикт касался бы не одного лишь Галилея, но и всех его единомышленников-«пифагорейцев».
Любой нормальный (даже просто вменяемый) католик должен был понять дело так: если Святая Церковь намерена последовательно и жестко бороться с ересями и «ошибками в вере» — а это ее прямая обязанность, — то теории, признанные еретическими и/или «ошибочными в вере» должны быть запрещены либо полностью, либо donec corrigatur. Именно так это и понимал доминиканец комиссар Седжицци. Следовательно, вопрос не в том, почему последний столь неделикатно, с солдатской прямотой вмешался в процедуру увещания — его поступок был хоть и нетактичным, но совершенно логичным, — а в том, почему было принято столь странное решение.
По версии А.Э. Штекли, дело было так: «Павел V ненавидит всякие мудрствования и уверен, что мысль о движении Земли — ересь. Объявить Коперника еретиком? Папа вызывает к себе Беллармино и требует совета.
О, кардинал Беллармино далеко не простак! Он видит, каким способом захотели его обойти. Он сумеет приструнить Галилея и тех кардиналов, которые излишне склоняли слух к его речам! Мысль о движении Земли, как противоречащая священному писанию, должна быть, безусловно, осуждена. Но это вовсе не означает, что она должна быть осуждена именно как мысль Коперника. Тот всегда — на этом надо настаивать — считал свою теорию лишь удобной для расчетов гипотезой. Если с таким абстрактным пониманием его теории не согласуются какие-то места самой книги, то их следует изъять или исправить, дабы они никого не вводили в соблазн. Опасность представляет не астрономическая гипотеза, а стремление по-новому осмыслить мироздание. Галилей заходит слишком далеко... Поэтому пагубное заблуждение следовало бы осудить не как мысль Коперника, а как мысль Галилея!
Но зачем святому престолу выступать гонителем прославленного ученого, которого еще недавно чествовали в Риме? Куда дальновидней проявить известную сдержанность: осудив мысль о движении Земли, а ее, как известно, защищали в древности пифагорейцы, сделать Галилею соответствующие секретные внушения.
Доводы кардинала пришлись Павлу V по душе. «Это ловко придумано: наложить узду на чрезмерно умствующих, запретить ненавистное "пифагорейское" учение, не подвергая проклятию и полному запрету книгу Коперника, и тем самым обойти щекотливый вопрос об устоях календарной реформы и немалой пользе, почерпнутой Церковью из сочинения, которое, не будь этой реформы, давно бы следовало разодрать руками палача и швырнуть в костер»40. Несмотря на известный примитивизм этой интерпретации, кое-какие детали она, как будет видно из дальнейшего, отражает (в частности, важность астрономических теорий, в том числе и коперниканской, для исправления календаря).
Во вторник 1 марта 1616 г. во дворце Беллармино состоялось собрание Конгрегации Индекса запрещенных книг. По поводу этого заседания в «Acta Sacrae Indicis Congregationis» (T. I. 2, 89–90r), хранящихся ныне в архиве Св. Инквизиции в Ватикане, сделана следующая запись:
«Во дворце его Высокопреосвященства достопочтенного синьора кардинала Беллармино состоялось собрание Конгрегации в присутствии их Высокопреосвященств, досточтимых синьоров кардиналов Беллармино, [Маффео] Барберини, Каэтано, Галламини, Ланчеллото и Аскулано41, а также Управляющего Св. Дворцом42, в ходе которого, от имени Его Святейшества, его Высокопреосвященство досточтимый синьор кардинал Беллармино предложил рассмотреть вопрос о запрещении книг отца Паоло Антония Фоскарини, кармелита, Николая Коперника — «De Revolutionibus Orbium Coelestium» — и Дидакуса Астуника43 — [Комментарии] на книгу Иова, в коих утверждается, что Земля движется, а Солнце неподвижно. Сначала состоялось углубленное обсуждение этого вопроса упомянутыми Высокопреосвященствами (et mature prius inter Dictos Illustrissimos discusso hoc negotio). В конце концов (tandem) они решили, что прежде всего должна быть полностью запрещена (omnino prohibeatur) книга кармелита, озаглавленная «Lettera del R.P. Antonio Foscarino Carmelito sopra l'opinione de' Pittagorici e del Copernico della mobilità della terra e stabilità del sole, et del nuovo Pittagorico sistema del mondo», в которой вышепоименованный отец пытается доказать, что положения о неподвижности Солнца, находящегося в центре мира, и о подвижности Земли согласны с истиной и не противоречат Св. Писанию, книги же Коперника и Дидакуса Астуники следует временно запретить donec corrigatur (т. е. до их исправления. — И.Д.), и что все прочие [книги], кои учат тому же самому, должны быть соответственно полностью или на время запрещены (Copernicum vero et Didacum Astunica suspendendos esse donec corrigantur [90r] aliosque omnes idem docentes respective prohibendos vel suspendos).
И после того как такой Декрет был зачитан, он был сначала одобрен Его Святейшеством и, кроме того, было предписано, чтобы этот запрет был опубликован и чтобы одновременно в него было добавлено несколько других книг (quoque alique alii libri)»44.
Далее следует перечень из пяти «особо вредных и опасных» книг, отобранных кардиналом П. Сфондрато, который повторяется в окончательном тексте Декрета (см. далее). Кроме того, в протоколе упоминается о некоторых разногласиях по поводу того, кому надлежит обнародовать и подписывать Декрет. В итоге было решено, что, в согласии с обычаем («tandem habito»), «публикация будет сделана не Управляющим Папским дворцом (т. е. не Петрони. — И.Д.), а секретарем (Ф.М. Капиферро (F.M. Capiferro). — И.Д.) и за его подписью, как то и было совершено 5 марта, etc.» После этих слов следует текст Декрета:
«Так как некоторое время тому назад появились на свет среди прочих некоторые книги, содержащие различные ереси и заблуждения, то Святая Конгрегация Высокопреосвященнейших кардиналов Святой Римской Католической Церкви, назначенных для составления Индекса, распорядилась, чтобы сии книги были полностью осуждены и запрещены, дабы от их чтения не случился тяжкий ущерб во всем христианском государстве. А потому настоящим Декретом Святая Конгрегация осуждает и запрещает таковые [книги], как напечатанные, так и могущие быть напечатанными где бы то ни было и на каком бы ни было наречии, и предписывает, чтобы отныне никто, какого бы он ни был звания и какое бы ни занимал положение, не смел, под страхом наказаний, предписанных Святым Тридентским собором и Индексом запрещенных книг, печатать их, или способствовать их напечатанию, или хранить их у себя, или читать; а всем, кто имеет или впредь будет иметь их, вменяется в обязанность немедленно по опубликовании настоящего Декрета представить их местным властям (locorum Ordinariis) или инквизиторам. Книги эти обозначены ниже, а именно:
«Theologiae Calvinistae libri tres» Конрада Шлюссельбурга (C. Schlusselburgius);
«Scotanus Redivivus, sive Commentarius Erotematicus in tres priores libros codicis, etc.»;
«Gravissimae quaestionis Christianarum Ecclesiarum in Occidentis praesertim partibus, ab Apostolicis temporibus ad nostrum usque oetatem continua successione et statu, historica explicatio» Якоба Уссерия (J. Usserius), профессора теологии в Дублинской академии в Ирландии;
«Friderici Achillis, Dicis Wertemberg, Consultato de principatu inter provincias Europee, habitata Tibingie in Illustri Collegio, Anno Christi 1613»;
«Donelli Enucleati, sive commentariorum Hugoms Donelli de Jure Civili in compendium ita redactorum etc.»
А так как до сведения вышеназванной Конгрегации дошло, что ложное и целиком противное Священному Писанию пифагорейское учение о движении Земли и неподвижности Солнца, которому учит Николай Коперник в [книге] «De Revolutionibus orbium coelestium» и Дидакус Астуника [в Комментариях] на книгу Иова, уже широко распространяется и многими принимается, как то видно из появившегося в печати послания некоего отца кармелита под названием «Lettera del R. Padre Maestro Paolo Antonio Foscarino Carmelito sopra l'opinione de Pittagorici e del Copernico, della mobilità della terra e stabilità del sole, et il nuovo Pittagorico sistema del mondo, il Napoli, per Lazzano Scoriggio, 1615», в котором этот патер пытается показать, что вышеназванное учение о неподвижности Солнца в центре мира и движении Земли согласно с истиной и не противоречит Св. Писанию, [Святая Конгрегация], чтобы подобное мнение не распространялось в будущем на пагубу католической истине, решила: названные книги Николая Коперника «De Revolutionibus orbium» и Дидакуса Астуника «[Комментарии] на Книгу Иова» должны быть временно задержаны впредь до их исправления, книга же отца кармелита Паоло Антонио Фоскарини должна быть вовсе запрещена и осуждена (librum vero Patris Pauli Foscarini Carmelitae omnino prohibendum atque damnandum)45, и все книги, кои учат тому же, запрещаются. Согласно настоящему Декрету все [такие книги] соответственно запрещаются, осуждаются или временно задерживаются (prout praesenti Decreto omnes respective prohibet, damnat atque suspendit).
В удостоверение сего настоящий Декрет скреплен собственноручной подписью и приложением печати высокопреосвященнейшего и достопочтеннейшего синьора кардинала Святой Цецилии епископа Альбанского (т. е. П. Сфондрато. — И.Д.) 5 марта 1616 г.
П[етрус], епископ Альбано, кардинал Св. Цецилии,
Фра Францискус Магдаленус Капиферреус,
Орден проповедников, секретарь».
По поводу этой протокольной записи можно сказать следующее. Во-первых, она объединяет события двух дней — 1 марта (собрание Конгрегации Индекса, проходившее в отсутствие папы Павла V) и 3 марта (еженедельное собрание Конгрегации Св. Инквизиции в присутствии Святейшего). Кардинал Сфондрато, префект Конгрегации Индекса, хотя и подписал Декрет, а возможно, — судя по стилистике документа, — и редактировал его, на обоих заседаниях отсутствовал46, и Беллармино вел собрание Индекса не на правах хозяина дома, а на правах самого старшего по возрасту кардинала из числа присутствовавших. Как следует из протокола, дискуссия была продолжительной (mature, т. е. зрелой, по деликатной формулировке нотариуса) и, возможно, непростой.
3 марта 1616 г., в четверг, решение Sacrae Indicis Congregationis и проект соответствующего Декрета были представлены Святейшему на заседании Congregatio Sanctae Inquisitionis adversus haereticam privitatem. Нет данных, что папа был ознакомлен с этими документами заранее, но такую возможность исключать нельзя. Павел V проект одобрил, о чем свидетельствует протокольная запись, сделанная 3 марта: «и когда был представлен Декрет Конгрегации Индекса, Святейший Отец повелел, чтобы Декрет о запрещении и, соответственно, об изъятии этих книг был обнародован управляющим Папским дворцом»47. Видимо, после этого состоялось обсуждение того, кому, кроме Сфондрато, надлежит подписывать Декрет — Петрони или Капиферро.
Замечу также — это был редкий, можно сказать, уникальный случай в практике работы Конгрегации Индекса, когда все заседание было посвящено одной, да еще астрономической тематике, пусть даже в ее теологическом преломлении. Скорее всего, повестку дня предложил сам Святейший. Действительно, Беллармино, открывая 1 марта собрание, прямо сослался на то, что тема предлагается им «от имени» папы (Bellarmino proposuit nomine Sanctissimi»). Кроме того, в материалах Инквизиции отсутствуют какие-либо подготовительные документы к этому заседанию (скажем, заключения экспертов и т. п.). Скорее всего, собрание это, которое, если судить по времени его проведения, не выказывало признаков срочного чрезвычайного сбора48, тематически было все же экстраординарным и рассматривалось Павлом V как необходимое звено в начатой курией борьбе с коперниканством. И, разумеется, помещение «De Revolutionibus» Коперника и трактатов Фоскарини и де Цуниги в «Index librorum prohibitorum» самым тесным образом увязывалось с увещанием Галилея.
Вместе с тем Святейший счел целесообразным не демонстрировать публично обеспокоенность курии распространением нетрадиционной космологии. И дело даже не в самой по себе нетрадиционности гелиоцентрического учения, его, если говорить точнее, соотнесенности с нехристианизированной (т. е. неаристотелевой) языческой космологической традицией, пусть даже и не занимавшей доминирующей позиции49. Дело в том, что в богословской полемике вокруг коперниканства, как и во многих других эпизодах истории римско-католической Церкви XVI—XVII вв., выявилась неоднородность теологических взглядов высшего духовенства, в силу чего католическая Церковь не могла выступить в этой полемике как единое целое, на чем я детальней остановлюсь далее. В этой ситуации Павел V предпочел «разбавить» список запрещаемых прокоперниканских сочинений другими еретическими опусами, причем какими угодно, хоть «Возрождающимся шотландцем», лишь бы затушевать монотематичность Декрета, придав ему видимость заурядного списка librorum prohibitorum; мол, курия ведет последовательную и целенаправленную борьбу со всеми и всяческими уклонениями от истинной веры, в том числе и с коперниканством. Словом, ничего особенного, синьоры, идет обычная плановая проверка на благонадежность.
Во-вторых, далеко не все кардиналы были готовы занять в отношении гелиоцентризма, а тем более — Галилея, непримиримо жесткую позицию. Это относится по крайней мере к трем из шести участвовавших в заседании 1 марта прелатам: Б. Каэтано, М. Барберини и Р. Беллармино. Одним из результатов состоявшейся mature discusso стало то, что характеристика «еретические» не была употреблена в Декрете по отношению к коперниканским воззрениям, хотя, напомню, именно такое определение эксперты Инквизиции дали тезису о неподвижности Солнца.
По свидетельству Джанфранческо Буонамичи (G. Buonamici), — дневниковая запись от 2 мая 1633 г. — «при Павле V это мнение (о «неподвижности Солнца в центре мира». — И.Д.) признавалось ошибочным и противоречащим многим местам Священного Писания; поэтому Павел V хотел объявить его противоречащем вере. Но из-за возражений кардиналов Бонифацио Каэтано и Маффео Барберини <...> папа в самом начале был остановлен разумными доводами, которые выдвинули их Высокопреосвященства, а также ученым сочинением <...> синьора Галилея по этому вопросу, адресованному госпоже Кристине Тосканской около 1614 года»50.
О Маффео Барберини, ставшем в 1623 г. папой под имением Урбана VIII, речь пойдет далее. Что же касается Бонифацио Каэтано51, то это был весьма образованный прелат, живо интересовавшийся астрономией и астрологией. В начале 1616 г. (а возможно, и ранее) он обратился к доминиканцу Томмазо Кампанелле, находившемуся тогда в неаполитанской тюрьме, прося того высказать свое мнение по поводу взглядов Коперника и Галилея на строение Вселенной. Как вспоминал позднее сам Кампанелла (в письме Урбану VIII от 10 июня 1628 г.): «Я написал "Apologeticus pro Copernico et Galilaeo" по просьбе кардинала Бонифацио Каэтани, когда в Инквизиции спорили о том, является ли их (т. е. Коперника и Галилея. — И.Д.) мнение еретическим»52. На вопрос Каэтано Кампанелла ответил небольшим трактатом, который был издан в 1622 г. во Франкфурте протестантским издателем Тобиасом Адами. По-видимому, Адами и дал этому сочинению название «Apologia pro Galileo». Я не буду здесь детально рассматривать взгляды и аргументацию Кампанеллы, замечу только, что в «Apologia» он защищал не столько гелиоцентризм, к которому этот почитатель Б. Телезио вряд ли относился с симпатией и тем более с пониманием, сколько интеллектуальную свободу вообще и право ученого высказывать свои взгляды в частности.
Возвращаясь к Каэтано, следует отметить, что само желание кардинала разобраться в научной стороне дела и получить информацию о предмете спора говорит, как выразился А. Фантоли, «об интеллектуальной честности Каэтано»53. Видимо, не случайно, что именно Каэтано было поручено внести необходимые исправления в текст «De Revolutionibus». Однако исполнить это поручение кардинал не успел, он скончался 29 июня 1617 г.
Что касается Беллармино, то тот, видимо, согласился с доводами Барберини и Каэтано. Во всяком случае, в тексте Декрета, как, кстати, и в увещании Галилея, термин «еретическая» по отношению к теории Коперника не фигурировал.
Уместно привести еще два свидетельства, относящихся к рассматриваемым событиям. Так, 16 марта 1630 г. Кастелли сообщил Галилею о разговоре князя Чези с Кампанеллой, в ходе которого калабриец рассказал Чези, что в беседе с Урбаном VIII он поведал Святейшему, как однажды чуть было не обратил в католичество двух немецких протестантов, но все его усилия пошли прахом, когда те узнали про антикоперниканский Декрет54. В ответ, как уверял Кампанелла, Святейший поморщился и нехотя ответил: «Это (запрещение книги Коперника. — И.Д.) никогда не входило в наши намерения; если бы все дело было предоставлено нам, этот декрет никогда бы не появился»55.
Второе свидетельство содержится в письме Галилея князю Чези от 8 июня 1624 г.: «Вчера Цоллерн (т. е. кардинал Фридрих Цоллерн (Eitel Friedrich von Zollern-Sigmaringen; 1582–1625)56, сочувствовавший Галилею. — И.Д.) отбыл в Германию. Он сказал мне, что накануне имел разговор с Его Святейшеством о Копернике и упомянул, что все еретики (имеются в виду протестанты, т. е. Цоллерн решил сыграть на межконфессиональных распрях, мол, раз те гелиоцентризм принимают, то как бы Римской курии не попасть в неловкое положение, если это учение окажется-таки истинным. — И.Д.) придерживаются этого (т. е. коперниканского. — И.Д.) мнения и считают его наиболее достоверным (что, конечно, было неправдой, но когда добиваешься чего-либо от святейших мира сего, правду последним сообщать не обязательно. — И.Д.) и что нам поэтому надлежит в любых наших определениях по этому вопросу проявлять сугубую осторожность. На это Святейший Отец (быстро сообразивший, куда клонит кардинал. — И.Д.) заметил, что Святая Церковь не осуждала эту теорию как еретическую и не намерена это делать впредь, она только указала "на известную опасность этой теории. Однако не следует бояться того, что когда-либо будет доказана ее истинность"»57.
В-третьих, обращают на себя внимание некоторые текстологические изменения, приключившиеся с Декретом. Как отметила Р. Фельдхей, «существует различие между документом зачитанным (1 марта. — И.Д.) и подписанным (3 марта. — И.Д.) Согласно зачитанной версии, эти книги (т. е. «все прочие [книги], кои учат тому же», что и трактаты Фоскарини, Коперника и де Цуниги. — И.Д.) должны быть «соответственно полностью или на время запрещены». Согласно же подписанной версии, они все должны быть "запрещены"»58. Полагаю, однако, что д-р Фельдхей здесь не совсем права. Сопоставим соответствующие тексты:
| 1 марта 1616 г. | 3 марта 1616 г. |
| «Copernicum vero et Didacum Astunica suspendendos esse donec corrigantur [90r], aliosque omnesidem decentes respective prohibendos vel suspendendos» | «...censuit, dictos Nicolaum Copernicum De revolutionibus orbium, et Didacum Astunica in Job, suspendendos esse, donec corrigantur; librum vero Patris Pauli Antoni Foscarini Carmelitae omnino prohibendum atque damnandum; aliosqueomnes libros, pariter idem docentes, prohibendos; prout praesenti Decreto omnes respective [Congregatio] prohibet, damnat atque suspendit» |
Как видим, в подписанном Декрете suspendendos относится к книгам Коперника и де Цуниги, а prohibendum и damnandum — к Lettera Фоскарини, как и в первоначальном варианте Декрета, зачитанном 1 марта. Что же касается «прочих книг, кои учат тому же», то эта фраза («aliosque omnes libros, pariter idem docentes») из подписанного варианта примыкает к предыдущей, т. е. речь в ней идет о сочинениях типа Lettera Фоскарини. А что касается прокоперниканских работ вообще, то они, согласно последней констатации, — «prout praesenti Decreto», — могут быть как полностью запрещены, так и временно (donec corrigantur) изъяты из обращения.
Таким образом, никаких принципиальных расхождений в приведенных текстах нет, но известная неопределенность в подписанном тексте действительно имеется, поскольку omnes в заключительной части цитированного выше фрагмента должна, строго говоря, относиться — при том, как построена фраза — лишь к сочинениям типа опуса Фоскарини, а не к тем, авторы которых не ставили своей задачей согласовать экзегезу Св. Писания с «пифагорейским учением». Но что в самом деле вызывает недоумение, так это версия того же Декрета, появившаяся в очередном сводном Индексе, опубликованном в 1619 г. («Edictum librorum qui post Indicem fel. rec. Clementis VIII prohibiti sunt»). Там мы не находим никаких альтернатив типа prohibet, damnat atque suspendit, там с солдатской прямотой было заявлено, что libri omnes docentes mobilitatem Terrae et immobilitatem Solis запрещаются, т. е. запрет стал всеохватным, без всяких там donec corrigatur.
Здесь целесообразно прервать на время временную последовательность изложения и сделать скачок на хронологической шкале в 1618–1620 гг., когда в «De Revolutionibus» были, наконец, внесены соответствующие исправления.
1. Оригинал запроса по совершенно непонятным причинам составлен на итальянском языке, но в экспертном заключении эти положения приведены по латыни.
«Prima: Sol est centrum mundi, et omnino immobilis motu locali. <...>
Secunda: Terra non est centrum mundi nec immobilis, sed secundum se totam movetur, etiam motu diurno».
(Città del Vaticano, Archivio Segreto, Misc. Arm. X, 204. Processus Galilei, f. 41v (на f. 41v имеется регистрационная пометка). Публикация: Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 320–321.
2. Сам Галилей в это время считал, что лично ему опасаться нечего, а потому свою задачу он видел в том, чтобы воспрепятствовать принятию церковными властями поспешного решения против теории Коперника. «И хотя мои противники понимают, что их возможности нанести мне обиду уже истощились и больше уже ничего нельзя сделать, — писал он Пиккена 13 февраля 1616 г., т. е. всего за пять дней до решения о богословской цензуре главных положений коперниканской космологии, — они не перестают прибегать к низким уловкам и ко всякого рода махинациям... Они пытаются не только подорвать репутацию этих авторов (коперниканцев. — И.Д.), но и свести на нет значение их работ и исследований, столь благородных и полезных миру. Но я верю, что божественная благодать не даст осуществиться этим замыслам» (Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 234).
3. Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 166–167.
4. Фантоли А. Галилей С. 189, примеч. 54. Кроме того, в книге Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... авторы, приведя английский перевод запроса, замечают далее: «Этот неуклюжий английский (the awkward English) отражает итальянский оригинал» (P. 81).
5. «Hisque [cardinalibus] adjuncti sunt plures Praelati, ac Religiosi, ac etiam quandocumque clerici saeculares, qui Canonum, et Conciliorum, ac sacrae Theologia peritissimi Consultores appelantur» (De Luca G.B. Relatio curiae Romanae: In qua omnium Congregationum, Tribunalium aliarumque, Iurisdictionum Urbis Status ac Praxis dilucide describitur. Coloniae Agrippinae [Köln]: Metternich, 1683. P. 95).
6. «Prelati e altri padre Teologi, di diverse religione con titulo di Consultori del Sant' Officio» (Lunadori G. Relazione della corte di Roma: Bracciano, 1641. P. 44).
7. Auctarium Bellarminianum. Supplément aux Œuvres du Cardinal Bellarmin / Ed. X.M. Le Bachelet. Paris: G. Beauchesne, 1913. P. 633.
8. «Consultores a Sanctissimo sunt deputanti» (Pastor L.F. von. Geshichte der Päpste seit dem Ausgang des Muttelalters. In 16 Bds. Bd. 7. Freiburg im Breisgau, St. Louis, Mo.: Herder, 1920. S. 660); «ex diversis religionibus assumi solent pro Papae libito» (De Luca G. Relatio... P. 95).
9. Разница лишь в том, что при устном обсуждении соблюдался прямой порядок, т. е. старшие по рангу говорили после младших, тогда как в письменном документе (декрете) подписи шли в обратном порядке.
10. Pastor L. von. Allgemeine Decrete der romischen Inquisition aus den Jahren 1555–1597 // Historisches Jahrbuch. 1912. Bd. 33. S. 496.
11. Motuproprio (т. е. личный приказ правителя. — итал.), 2 августа 1564 г. Pastor L. von. Geschichte der Päpste... Bd. 17. S. 659.
12. Первым днем недели считалось воскресенье.
13. Декрет от 19 марта 1615 г. (I Documenti del Processo di Galileo Galilei / Ed. S.M. Pagano, A.G. Luciani. Città del Vaticano: Pontificia Academia Scientarum e Archivi Vaticani, 1984. P. 220).
14. Декрет от 2 апреля 1615 года (ibid. P. 222).
15. Cadene F. Collectio Decretorum Responsorumque S. Officii // Analecta Ecclesiastica. Revue romaine. 1894–1896. Vol. 2–4. № 298.
16. De Luca J.B. (Jo[annes] Baptistae de Luca Venusini, S.R.E. Presbyteri Cardinalis). Theatrum veritatis, et justitiae, sive Decisivi discursus per materias, seu titulos distincti: & ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis & civilibus, in quibus in urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit. Venetiis: Ex typographia Balleoniana, 1698. Vol. XV. Pars II, disc. XIV. P. 50.
17. Полный латинский текст оригинала:
«Propositiones censurandae. Censura facta in S. Officio Urbis, die Mercurii 24 Februarii 1616, coram infrascriptis Patribus Theologis.
Prima: Sol est centrum mundi, et omnimo immobilis motu locali.
Censura: Omnes dixerunt dictam propositionem esse stultam et absurdam in philosophia, et formaliter haereticam, quatenus contradicit expresse sententiis Sacrae Scripturae in multis locis secundum proprietatem verborum et secundum communem expositionem et sensum Sanctorum Patrum et theologorum doctorum.
[Secund]a: Terra non est centrum mundi nec immobilis, sed secundum se totam movetur, etiam motu diurno.
Censura: Omnes dixerunt, hane propostionem recipere eandem censuram in philosophia; et spectando veritatem theologicam, ad minus esse in Fide erroneam.
Petrus Lombardus, Archiepiscopus Armacanus;
Fr. Hyacintus Petronius, Sacri Apostolici Palatii Magister;
Fr. Raphael Riphoz, Theologiae Magister et Vicarius generalis ordinis Praedicatorum;
Fr. Michael Angelus Seg. [Michelangelo Segizzi]. Sacrae Theologiae et Com.s S.ti Officii;
Fr. Hieronimus de Casalimaiori, Consultor S.ti Officii;
Fr. Thomas de Lemos;
Fr. Gregorius Nunnius Coronel;
Benedictus Jus[tinianus], Societatis Jesu;
Dr. Raphael Rastellius, Clericus Regularis, Doctor theologus;
Dr. Michael a Neapoli, ex Congregatione Cassinensi;
Fr. Iacobus Tintus, socius R.mi Patris Commissarii S. Officii.
(Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 320–321).
18. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 241–242.
19. Drake S. Galileo at Work... P. 252.
20. Фантоли А. Галилей... С. 190, примеч. 58.
21. Ведь Беллармино в любом случае знал о заключении экспертов уже 23 февраля и, возможно, тут же сообщил о нем папе. (Там же. С. 192, примеч. 66).
22. Там же. С. 191, примеч. 60.
23. «Это, — замечает Фантоли, — также могло бы объяснить и тот факт, что поручение о подобном предупреждении (увещании. — И.Д.) было возложено папой именно на Беллармино во время их встречи (Там же. С. 163).
24. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 28.
25. См., например, трактат Антония из Кордовы (Antonio de Cordoba; 14851578): F. Antonii Cordubensis, Ordinis Minorum Regularis Observantiae, Prouinciae Castellae, & Theologi Eminentissimi, Quaestionarium theologicum, siue, Sylua amplissima decisionum, et variarum resolutionum casuum conscientiae / in quibus abstrusa theologorum et iurisprudentum doctrina, methodo singulari congesta, tam ad theoriam quam ad praxim expeditissima, fuse declaratur. Venetiis: Sumptibus Baretii Bareti; Taruisij: Ex typographia Euangelistae Deuchini, 1604. I., g. 17. 146. (См. также: Cahill J. The Development of Theological Censure after the Council of Trent: 1563–1709. Friburg: Friburg University Press, 1955. P. 174).
26. «Illustissimus Dominus cardinalis Millinus, notificavit, quod relata censura Patrum Theologorum ad propositiones Galilei mathematici, quod sol sit centrum mundi et immobilis motu locali, et terra moveatur etiam motu diurno, Sanctissimus ordinavit illustrissimo Domino cardinali Bellarmuno ut vocet coram se dictum Galileum, eumque moneat ad deserandas dictas propositiones, et si recusaverit parere, Pater commissarius, coram Notario et testibus, faciat illi praeceptum ut omnino abstineat huiusmodi doctrinamet opinionem docere aut defendere, seu de ea tractare, si vero non acquieverit, carceretur» (цит. по: Фантоли А. Галилей... С. 162). Подлинник протокола был обнаружен и опубликован в монографии I Documenti del Processo di Galileo Galilei / Ed. S. Pagano. Città del Vaticano: Pontificio Academia Scientiarum e Archivi Vaticani. P. 222–223. По мнению А. Фантоли, и подлинник, и известная до сих пор копия (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 321) свидетельствуют об отсутствии папы Павла V на этом заседании, и кардинал Миллини огласил то, что уже было согласовано со Святейшим. Скорее всего, по Фантоли, о результатах богословской цензуры Павла V информировал Беллармино (Фантоли А. Галилей... С. 162–163; 191–192).
27. Mereu I. Storia dell'intolleranza in Europa: Sospettare e punire. Il sospetto e l'inquisizione romana nell'epoca di Galilei. Milano: A. Mondadori, 1979 (Series: Saggi (Arnoldo Mondadori editore); 125).
28. Kenny A. Medieval philosophical literature // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy / Ed. by N. Krezmann, A. Kenny, I. Pinborg. Cambridge: The Cambridge University Press, 1982. P. 19–24.
29. Подр. см.: Фантоли А. Галилей... С. 363–393.
30. Wohlwill E. Der Inquisitionprocess des Galileo Galilei. Hamburg: Berl Oppenheim, 1870; Gebier K. von. Galileo Galilei and the Roman curia from authentic sources / Transl. with the sanction of the author, by Mrs. George Sturge. London: C. Kegan Paul & Co., 1879 (1-ое изд.: Galileo Galilei und die römische Curie. Stuttgart: Cotta, 1876); Reusch F.H. Der Process Galilei's und die Jesuiten. Bonn: Eduard Weber's Verlag (Julius Flittner), 1879; Santilliana G. de. The Crime of Galileo; Morpurgo-Tagliabue G. I Processi di Galileo e l'epistemologia. Milano: Edizioni di Comunita, 1963. P. 14–25 (2-ое изд.: Roma: Armando, 1981); Drake S. Galileo at Work... P. 253–254; Langford J.J. Galileo, Science and the Church (2nd revised edition); Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1971. P. 92–97; Brandmuller W. Galilei und die Kirche, oder, Das Recht auf Irrtum. Regensburg: F. Pustet, 1982 (см. также: Brandmuller W. Galilei und die Kirche: ein «Fall» und seine Losung. Aachen: MM-Verlag, 1994); Blackwell R. Galileo, Bellarmine and the Bible; Фантоли А. Галилей... С. 163–169.
31. «In palatio solitae habitationis dicti Ill. mi D. Card.lis Bellarminii et in mansionibus Dominationis Suae Ill.mae, idem Ill.mus D. Card.lis, vocato supradicto Galileo, ipsoque coram D.sua Ill.ma existente, in praesentia admodum R.P. Fratris Michaelis Angeli Seghitii de Lauda, ordinis Praedicatorum, Commissarii generalis S.ti Officii, praedictum Galileum monuit de errore supradictae opinionis et ut illam deserat; et successive ac incontinenti, in mei etc. et testium etc., praesente etiam adhuc eodem Ill.mo D. Card.li, suprodictus P. Commissarius praedicto Galileo adhuc ibidem praesenti et constituto praecepit et ordinavit [proprio nomine] S.mi D.N. Papae et totius Congregationis S.ti Officii ut supradictam opinionem, quod sol sit centrum mundi et immobilis et terra moveatur, omnino relinquat, nec eam de caetero, quovis modo, teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis; alias, contra ipsum procedetur in S.to Officio. Cui praecepto idem Galileus acquievit et parere promisit. Super quibus etc. Actum Romae ubi supra, praesentibus ibidem R. do Badino Nores de Nicosia in regno Cypri, et Augustino Mongardo de loco Abbatiae Rosae, dioc. Politianensis, familiaribus dicti Ill.mi D. Cardinalis, testibus etc.» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 321–322).
32. Подр. см.: Фантоли А. Галилей... С. 164; Выгодский М.Я. Галилей и Инквизиция... С. 191–216.
33. «Facta relatione per Ill.mum D. Cardinalem Bellarminum quod Galileus Galilei Mathematicus, monitus de ordine Sacrae Congregationis ad deserendam opinionem quam hactenus tenuit, quod sol sit centrum spherarum et immobilis, terra autem mobilis acquievit...» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 278).
34. Фантоли А. Галилей... С. 165, 192, примеч. 73. Как уже указывалось выше, впервые этот документ опубликован в I Documenti del Processo... / Ed. S. Pagano. P. 222–223.
35. Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 126.
36. Reusch F.H. Der Process Galilei's... S. 137ff; Langford J.J. Galileo, Science, and the Church... P. 46–41.
37. Langford J.J. Galileo, Science, and the Church... P. 97. Дрейк весьма красочно описывает сцену увещания Галилея, но, к сожалению, большинство сообщаемых им деталей — не более чем плод его воображения: «комиссар-доминиканец не очень-то доверял иезуиту Беллармино, который мог уговорить Галилея не вступать ни в какие пререкания и, таким образом, избежать более жесткого предписания. Беллармино быстро догадался об истинной цели прихода комиссара и был в негодовании. Когда ему доложили о прибытии Галилея, он встретил его в дверях с учтивым поклоном, как всегда делал, принимая гостя, и, понизив голос до шепота, предупредил, чтобы тот ни в коем случае не высказывал никаких возражений, что бы далее ни происходило. После чего он вместе с Галилеем вернулся к своему креслу и, в соответствии с указанием папы, сообщил ученому о принятом накануне решении.
38. Morpurgo-Tagliabue G. I processi di Galileo e l'epistomologia. P. 14–25.
39. Фантоли А. Галилей... С. 165.
40. Штекли А.Э. Галилей. С. 215–216.
41. Т. е. Феличе Центини (F. Centini; 1570–1641). — И.Д.
42. Тогда Управляющим Папским дворцом (Magistro Sacri Palatii) был Джачинто Петрони (G. Petroni). — И.Д.
43. Astunica или, в другом написании, Диего де Цунига (Diego de Zuciga). — И.Д.
44. Т. е. книг, тематически не связанных с коперниканством и вообще с космологической проблематикой. — И.Д.
45. Фоскарини, напомню, к тому времени уже скончался, так и не успев написать задуманный им ответ Беллармино. Однако неаполитанский издатель Lettera вынужден был, опасаясь преследований, пуститься в бега, бросив свое дело и семью, но был пойман и предстал перед судом Инквизиции, который оштрафовал его на 100 дукатов. — И.Д.
46. Он вообще, начиная с 1615 г., редко посещал заседания Конгрегации Индекса; из 27 собраний, состоявшихся в период с 27 января 1615 по 10 февраля 1618 г., Сфондрато присутствовал только на четырех.
47. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 278. На этом же заседании, как я уже упоминал выше, Беллармино доложил о выполнении возложенной на него миссии по увещанию Галилея.
48. Ср. даты и дни недели заседаний Конгрегации Индекса в 1615–1617 гг.: 1615 г.: 27.01 (вт.); 12.02 (чт.); 20.03 (пт.); 29.05 (пт.); 17.07 (пт.); 18.08 (вт.); 22.09 (вт.); 09.10 (пт.); 1616 г.: 26.01 (вт.); 01.03 (вт.); 10.05 (вт.); 09.07 (сб.); 03.10 (пн.); 11.11 (пт.); 16.12 (пт.); 30.12 (пт.); 1617 г.: 28.01 (сб.); 23.02 (чт.); 08.04 (сб.); 30.05 (вт.); 10.07 (пн.); 08.08 (вт.); 05.09 (вт.); 09.10 (пн.); 28.11 (вт.).
49. По терминологии того времени «учение о движении Земли и неподвижности Солнца в центре мира» называлось пифагорейским («il nuovo Pittagorica sistema del mondo», как именовал его Фоскарини).
50. «Ma opponendosi li SS.ri Card.li Bonifatio Caetano et Maffeo Barberino, fu fermato il Papa di testa, per le buone ragioni addotte de loro Eminenze et per la dotta scrittura fatta del detto S.r Galileo in questo proposito, diretta a Mad.a Cristina di Toscana circa l'anno 1614» (Galileo Galilei. Le Opere. Vol. XV. P. 111). Вряд ли папа и кардиналы были знакомы с содержанием письма Галилея Кристине Лотарингской, поскольку этот документ хотя и распространялся в списках, но широкого хождения не имел.
51. Он был членом Конгрегации Индекса, но в состав Конгрегации Св. Инквизиции не входил.
52. Campanella T. Lettere // A cura di Vincenzo Stampanato. Bari: Laterza, 1927. P. 223. B «Questiones Physiologicae» (опубликованных в 1638 г. как первая часть «Philisophia Realis»), статья 4, вопр. X, Кампанелла писал: «Спустя пять лет после того как я написал эту статью, я узнал, что в Риме осудили теорию суточного вращения Земли как противоречащую Св. Писанию. Это произошло за восемь дней до того, как наш трактат на эту тему (т. е. Apologia. — И.Д.) был получен кардиналом Б. Каэтани». Отсюда следует, что Каэтано, возможно, получил сочинение Кампанеллы к 1 марта, но вряд ли это повлияло на последующие события. (Campanella T. Apologia pro Galileo / Ed. S. Femiano. Milan: Marzorate Editore, 1971. P. 27. Bonansea B.M. Campanella's Defense of Galileo // Reinterpreting Galileo / Ed. by W.A. Wallace. Washington, DC.: Catholic University of America Press, 1986. P. 206–214; Campanella Th.O.P.Apologia pro Galileo // A Defense of Galileo, the Mathematician from Florence / Trans. with an Introduction and Notes by R.J. Blackwell. Notre Dame, Indiana — London: University of Notre Dame Press, 1994. P. 19–24).
53. Фантоли А. Галилей... С. 119, примеч. 98. См. также: Shea W., Artigas M. Galileo in Rome... P. 86: «сам факт, что он [Каэтано] пожелал, чтобы его информировали, свидетельствует о его честности».
54. Не исключаю, что Кампанелла придумал эту историю. Протестанты относились к гелиоцентризму в целом с не меньшим подозрением, чем католики, но сторонники Коперника в католических странах, защищая свои взгляды, подчас разыгрывали протестантскую карту.
55. Galilei G. Le Opere. Vol. XV. P. 87–88.
56. Цоллерна Галилей характеризовал следующим образом: «хотя его знания о наших исследованиях не отличаются особой глубиной, тем не менее, он показал хорошее понимание вопроса и всего связанного с ним; он сказал мне, что хотел бы поговорить по этому поводу с Его Святейшеством до своего отъезда» (Ibid. Vol. XIII. P. 179). — И.Д.
57. Ibid. Vol. XIII. P. 182.
58. Feldhay R. Copernicus, Galileo and the Inquisition. Essay review: Pierre Noël Mayaud. La Condamnation des Livres Coperniciens et sa Révocation: à la lumière de documents inédits des Congrégation de l'Index et de l'Inquisition. Rome: Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1997 // Journal of the History of Astronomy. 2002. Vol. 33. P. 280–284; P. 282.
Поразительно, что Галилей уже 6 марта 1616 г. в письме Курцио Пиккена, госсекретарю Великого герцога Тосканского, проявил удивительную осведомленность о том, какие именно изменения предполагалось внести в книгу Коперника. «Из предисловия [-посвящения] Павлу III, — писал Галилей, — будут изъяты десять строк, в которых Коперник говорит о том, что его учение, как он полагает, не противоречит Св. Писанию. Как я понимаю, они могут убрать по слову там и сям (una parola in qua e in la), где два или три раза он называет Землю звездой (sidus). Исправление этих книг поручено Его Высокопреосвященству кардиналу Каэтано. Другие авторы не упоминаются»1. Действительно, исправления в целом носили именно тот характер, о котором писал Галилей. События развивались следующим образом.
На заседании Конгрегации Индекса 2 апреля 1618 г. было заслушано сообщение теолога Ф. Инголи (о нем см. далее), который отметил, что труд Коперника «очень полезен и необходим для астрономии (valde utilis et necessarius ad Astronomiam)» и потому он предлагает внести в него необходимые исправления («emendatus et correctus»). Т. е. Инголи, как следует из протокольной записи, исходил из того, что ранее «De Revolutionibus» был полностью запрещен («jam prohibitus») и он, Инголи, предлагает разрешить пользоваться этой книгой, после того как в нее будут внесены исправления2. Из сказанного ясно, что к началу апреля 1618 г. формулировка Декрета от 5 марта 1616 г. в отношении книги Коперника, а также, по-видимому, трактата де Цуниги уже была ужесточена, и именно эта более жесткая формулировка была внесена затем в сводный Индекс (Edictum) 1619 г. Иными словами, вместо исправления сочинений Коперника и де Цуниги решили исправить сам Декрет. Трудно сказать, кому принадлежала эта инициатива (кардинал П. Сфондрато скончался 14 февраля 1618 г., и в принципе можно допустить, что он успел-таки еще раз отредактировать Декрет 1616 г.), но кто бы это ни был, сам факт изменения Декрета, одобренного папой, свидетельствует о серьезных разногласиях в курии.
Предложение Инголи приняли, и было решено отправить труд Коперника «достопочтеннейшим отцам иезуитам, преподавателям математики в Collegio Romano» с целью определить, как и какие поправки и изменения в его тексте надлежит сделать («ad effectum ut ipsi etiam videant an aliquis mondus excogitari possit, ut talis liber corrigatur»)3.
На следующем заседании Конгрегации Индекса 3 июля 1618 г. Беллармино сообщил, что отцы иезуиты — К. Гринбергер и О. Грасси — внимательно рассмотрели и полностью одобрили поправки Инголи4.
Некоторые детали, связанные с внесением исправлений в книгу Коперника, обсуждались также на заседаниях Конгрегации Индекса 9 октября 1618 г. и 31 января 1620 г., причем на последнем собрании синьоры кардиналы распорядились, чтобы все исправления еще раз были им представлены. Возможно, их Высокопреосвященства решили не принимать каких-либо определенных решений в отсутствии Беллармино.
Кроме того, в протоколе заседания от 28 февраля 1619 г. имеется запись о том, что Конгрегация Индекса постановила запретить книгу И. Кеплера «Epitome Astronomiae Copemicanae», изданную в 1618 г. в Линце5. Инициатором запрета стал все тот же Инголи, о котором следует сказать несколько слов.
Франческо Инголи (F. Ingoli; 1578–1649) — уроженец Равенны, изучал право в Падуанском университете, где в 1591 г. получил степень доктора utriusque juris (т. е. канонического и гражданского права) и где он, вероятно, познакомился с Галилеем. В 1601 г. Инголи предпочел церковную карьеру юридической. Он начинает изучать восточные языки и организует в Ватикане издание католической литературы на разных языках в основанной им tipografia poliglota. В 1608 г. Инголи поступает на службу к кардиналу Б. Каэтано, тогда легату в Романьи. Как и его патрон, Инголи живо интересовался астрономией и астрологией, известны его неопубликованные рукописи: «De Stella anni 1604» и «De Cometa anni 1607» и др., кроме того, он помогал Каэтано переводить на итальянский язык «Tetrabiblos», астрологический трактат Птолемея6, а также, как и Галилей, занимался составлением гороскопов.
В 1616 г. Инголи публично полемизировал с Галилеем в доме Л. Магалотти7, отстаивая свои антикоперниканские позиции, которые он изложил в трактате «Disputatio de situ et quiete Terrae contra Copernici systema», написанном в конце 1615 — феврале 1616 г. и обращенном к Галилею. Причем из 20 приводимых Инголи доводов против гелиоцентрической теории только четыре имеют теологический характер, остальная аргументация основана на математических и физических соображениях. При этом он, мягко говоря, не проявил сколь-нибудь основательного знания и понимания математических и астрономических вопросов8.
Галилей намеревался ответить на возражения Инголи, но тогда, в 1616 и в последующие годы, не смог это сделать, поскольку был связан увещанием. Только в 1624 г., т. е. уже после смерти Беллармино и при новом папе (Урбане VIII), он написал «Lettera a Francesco Ingoli»9. Однако ни «Disputatio», ни «Lettera» не были опубликованы при жизни авторов, но довольно широко распространялись в списках.
В мае 1616 г. Инголи стал консультантом Конгрегации Индекса, что, по-видимому, было связано с поручением, данным его патрону (кардиналу Каэтано), внести соответствующие изменения в книгу Коперника. В 1622 г. Инголи был назначен секретарем созданной тогда Конгрегации по распространению веры (de Propaganda Fide)10. Но вернемся к событиям, связанным с внесением исправлений в «De Revolutionibus».
1 мая 1610 г. Конгрегация Индекса, наконец, приняла окончательное решение11:
«[193] Конгрегация состоялась во дворце его Высокопреосвященства достопочтенного синьора кардинала Беллармино в присутствии их Высокопреосвященств, досточтимых синьоров кардиналов Беллармино, [М.] Барберини, [Дж. Г.] Миллини, [С.] Ланчелотти, [П.] Убальдини, [С.] Кобеллуцци, [А.] Орсини и Управляющего папским дворцом. <...>12
[191] А также секретарь предложил, если то будет угодно их Высокопреосвященствам, чтобы исправления [сочинения] Коперника были бы, наконец, опубликованы, etc.
И их Высокопреосвященства решили, что они могут быть опубликованы.
[Декрет]
Обращение к читателю Николая Коперника (Monitum ad Nicolai Copernici lectorem) и его исправление13.
Хотя отцы Св. Конгрегации Индекса признали необходимым полностью запретить сочинение прославленного астронома (nobilis Astrologi) Николая Коперника «De Mundi revolutionibus»14 по причине того, что в нем принципы, касающиеся положения и движения земного шара, несовместимые со Св. Писанием и его истинным и католическим толкованием (что христианин никак не должен терпеть) изложены не как гипотетические, но без колебаний защищаются как истинные, тем не менее, в силу того, что это сочинение содержит много вещей, очень полезных для государства (in iis multa sunt reipublicae utilissima15), отцы единодушно сошлись на том, что сочинения Коперника, напечатанные до сих пор, должны быть разрешены. И разрешаются они при условии, что будут скорректированы в соответствии с прилагаемым ниже исправлением тех мест, где он [Коперник] обсуждает положение и движение Земли не гипотетически (ex hypothesis), но как утверждение (sed asserendo). Что же касается книг16, кои могут быть напечатаны в будущем, то они разрешаются при условии, что в них нижеперечисленные места будут исправлены следующим образом и настоящие поправки будут помещены перед предисловием Коперника. Перечень исправлений тех мест, кои представляются заслуживающими исправления в книгах Коперника17 (locorum quae in Copernici Libris visa sunt correctione digna, emendatio)».
Данный Декрет основывался на списке исправлений, предложенных Инголи, и на его общих соображениях, изложенных им в следующей записке, поданной в Конгрегацию Индекса18:
«[58a] Об исправлении шести книг Николая Коперника «De Revolutionibus».
Высокопреосвященнейшим и достопочтеннейшим кардиналам Конгрегации Индекса.
Есть, Высокопреосвященнейшие и достопочтенные отцы, три вещи, о коих Вашим преосвященствам надлежит проявить особую заботу при исправлении шести книг «De Revolutionibus» Коперника. Первая состоит в том, что названные книги Коперника должны быть полностью сохранены и поддержаны ради пользы христианского государства (pro utilitate Reipublicae Christianae conservandos ac sustinendos esse), ибо составление календаря, в коем христианский народ имеет огромную потребность как для определения церковных праздников и обрядов, так и для правильного ведения дел, зависит от астрономических исчислений, [и] в частности, от исчислений, относящихся к Солнцу и Луне и к прецессии [точек] равнодействия, как это видно, исходя из того, что было исполнено для исправления года в понтификат блаженной памяти папы Григория XIII19, или от астрономических вычислений, кои периодически необходимо делать для внесения уточнений (restitutione et reparatione), поскольку, будь то по незнанию всех небесных движений или же по причине некоторых незначительных особенностей уже известных движений, кои ускользают от человеческого ума и накапливаются со временем, сии вычисления не могут дать абсолютно правильного положения звезд. Уточнения же эти астрономы не в состоянии сделать, если они не располагают данными наблюдений минувших веков [58b], как это ясно видно из написанного Птолемеем в «Almagestum» и Тихо [де Браге] в «Progymnasmata». И поскольку книги Коперника наполнены (sint referti) такими наблюдениями, — что ясно тем, кто их читал, — они должны быть полностью сохранены как полезные для государства (ut Reipublicae utiles, conservandi sunt).
Второе, [что необходимо принять во внимание] — это то, что исправление [сочинения] Коперника не может быть сделано в предположении неподвижности Земли, что согласно с истиной и Св. Писанием. Действительно, поскольку Коперник принял в качестве [исходного] принципа три движения Земли и построил на нем все свои доказательства, чтобы спасти видимости или явления небесных движений, то, если этот принцип устранить, исправление [трактата] Коперника станет [тогда уже] не поправкой, но его полным разрушением (Copernici emendatio non esset correctio, sed totalis eius destructio).
И третье, — выбирая средний путь, как это делают в трудных делах, можно сохранить [сочинение] Коперника без ущерба для истины и священного текста (sine praejudicio veritatis, et sacrae pagina), а именно: исправляя только те места, где о движении Земли говорится не гипотетически, но как о реальности (non hypothetice, sed secundum realitatem videtur). В самом деле, за исключением очень немногих мест, он [Коперник] говорит либо гипотетически, либо не утверждая истинного движения Земли.
И я говорю также, что это исправление может быть сделано без ущерба для истины и для [59a] Св. Писания. Действительно, поскольку наука, которую излагает Коперник, — это астрономия, методу коей непременно присуще использование ложных начал для спасения видимости и небесных явлений (cuius propriissima methodus est uti falsis, et imaginatiis principiis pro salvandis apparentiis, et phoenomenis coelestibus), что очевидно из эпициклов древних [авторов], а также из их эксцентров, эквантов, апогеев и перигеев. И если фрагменты [сочинения] Коперника, касающиеся движения Земли и представленные в негипотетической манере, сделать гипотетическими, то они не будут противоречить ни истине, ни Св. Писанию. Более того, они будут согласовываться с последними в силу природы ложных предположений, повсеместное использование коих наука астрономия сделала неким своим особым правом.
Таким образом, рассмотрев тщательно эти вещи, приходим к решению об исправлении [сочинения Коперника] таким образом...»
И далее следует перечень предложенных Инголи исправлений в тексте «De Revolutionibus». Но прежде чем обращаться к этому перечню, необходимо сделать несколько замечаний по поводу приведенных протокольных записей.
Во-первых, Декрет подписан не Беллармино, а только секретарем. Случай чрезвычайно редкий, а в период с 1613 г. по середину XVII в. (до издания Индекса 1664 г.) — единственный в практике работы Конгрегации Индекса.
Во-вторых, и предложения Инголи, и фраза Декрета: «locorum quae in Copernici Libris visa sunt correctione digna, emendatio» свидетельствуют о том, что Конгрегация понимала невозможность полного исправления трактата Коперника. Инголи был прав, когда утверждал, что подобное изменение привело бы к destructio книги. Об этом же, напомню, писал и Галилей еще в марте 1615 г.: «Что касается учения Коперника, то оно, по моему мнению, не допускает компромиссы (non и capace di moderazione), так как существеннейшим его положением и основным утверждением является утверждение о движении Земли и неподвижности Солнца; поэтому его следует или целиком осудить, или принять таким, как оно есть»20. Поэтому «исправлению» подверглись лишь некоторые фразы трактата Коперника, где идеи новой космологии выражались в наиболее отчетливой форме21.
И в-третьих, Декрет датирован только годом, т. е. число и месяц его принятия не указаны ни в протоколе, ни в издании Индекса 1624 г. Возможно, это небрежность секретаря, но возможно — еще одно свидетельство особого характера документа.
Теперь о самих исправлениях. Текст Декрета по содержанию и в целом по форме идентичен записке Инголи:
«В предисловии в конце.
Убрать все со слов si fortasse до слов hi nostri labores и заменить на caeterum hi labores22.
В книге I, главе 1, стр. 6.
Там, где сказано si tamen attentius исправить на si tamen attentius rem consideremus. nihil refert an terram in medio mundi, vel extra medium existere, quoad salvandas caelestium motuum apparentias: omnis emin etc.23
В главе 8 той же книги.
Вся эта глава могла бы быть изъята (expungi), поскольку в ней ясно говорится о движении Земли и отрицаются древние доводы, доказывающие ее неподвижность. Но поскольку предпочтительно всегда говорить проблематически (problematice) и чтобы удовлетворить ученых (studiosis) и сохранить весь порядок книги, можно внести следующие исправления.
Во-первых, на странице 6 убрать строки, начиная со слов cur ergo до слова provehimur, и исправить таким образом: «Cur ergo non possumus mobilitatem illi formam suae concedere, magisquam quod totus lobatur mundus, cuius finis ignoratur, scirique nequit, et quae apparent in coelo proinde se habere, at si diceret Virgilianus Aeneas etc.24
Во-вторых, на с. 7.
Строки со слова addo исправить на: addo etiam difficilius non esse contento, et locato, quod est Terra motum adscribere, quam continenti25.
В-третьих, на той же странице, в конце главы строки со слова vides и до конца главы изымаются26.
В главе 9, страница 1.
Начало этой главы до строк quod enim исправить на: Cum igitur terram moveri assumpserim, videndum nunc arbitor, an etiam illi plures possint convenire metus, quod enim, etc.27
В главе 10, страница 9.
Строки, начинающиеся со слова proinde, исправить на proinde non pudet nos assumere28. И несколько ниже, где сказано: hoc potius in mobilitate Terrae verificari исправить на «hoc consequenter in mobilitate Terrae verificari29.
Страница 10 в конце главы.
Изъять самые последние слова: tanta nimirum est divina haec [D.] O. M. fabrica30.
В главе 11.
Заглавие главы должно быть заменено на: De hypothesi triplicis motus Terrae, eiusque demonstratione31.
В книге 4, в главе 20, стр. 122.
В заглавии главы убрать слова horum trium syderum, поскольку Земля — не звезда, как это принимал Коперник»32.
Итак, что же получается в итоге? Как видим, Декрет 1620 г. мало что изменил в тексте Коперника33. Многие и многие фрагменты «De Revolutionibus», в которых идеи гелиоцентризма и геодинамизма выражены достаточно ясно и рельефно и отнюдь не в гипотетической манере, остались нетронутыми. Более того, некоторые исправления выглядят весьма странно.
Так, например, замена «hoc poius in mobilitate Terrae verificati» на «hoc consequenter in mobilitate Terrae verificari» в десятой главе первой книги скорее усиливает коперниканскую мысль о движении Земли вокруг неподвижного Солнца, нежели гипотетизирует ее, поскольку вся фраза после такой замены звучит так: «Если же Солнце остается неподвижным, то все видимое движение его находит, следовательно, себе объяснение в подвижности Земли».
Или другой пример — исправление названия одиннадцатой главы. Почему в него было добавлено слово hypothesi — понятно. Но непонятно — почему осталось слово demonstratione? Ведь если гипотеза доказана, то это уже не гипотеза.
Далее, если в 1616 г. теологи не делали различия между полезными аспектами книги Коперника и неприемлемостью его трактовки гелио-центризма/геодинамизма как истинного in rei natura, то Декрет 1620 г. со всей отчетливостью отражает маневрирование курии между идеологией и практической полезностью (при том, что вопрос о календаре, для совершенствования которого необходимы точные астрономические данные и расчеты, имел как социально-экономические, так и религиозно-идеологические грани). И вся эта сложная игра санкций, абсолютных запретов и запретов donec corrigatur, увещаний и одобрений отражала глубинное столкновение различных интеллектуальных традиций, разделявшее курию на соперничающие группировки.
1. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 244. В то время термин звезда часто употребляли в том же смысле, что и «планета», а звезды небосвода называли «неподвижными звездами».
2. Acta Sacrae Indicis Congregazionis. I, 2, f. 128r (далее сокр. ASIC). Archivio della Congregazione per la dottrina delle fede (это архивное собрание включает в себя документы Sant'Uffìzio Romano, т. е. римской Инквизиции и Congregazione dell'Indice, т. е. Конгрегации Индекса запрещенных книг) и в настоящее время находится в Archivium Secretum Apostolicum Vaticanum (Archivio Segreto Vaticano).
3. ASIC. F. 128r.
4. Ibid. F. 139v.
5. Ibid. F. 154r.
6. Bucciantini M. Contro Galileo. Alle Origini dell'Affaire. (Biblioteca di Nuncius. Studi e testi XIX). Firenze: Leo S. Olschki, 1995. P. 144; Фантоли А. Галилей... С. 188–189.
7. Лоренцо Магалотти (L. Magalotti; 1584–1637) в 1642 г. стал кардиналом. Его сестра была замужем за Карлом Барберини, братом папы Урбана VIII.
8. Так, например, Инголи утверждал, будто в системе Коперника параллакс Солнца должен быть больше параллакса Луны, поскольку Солнце, находясь в центре мира, оказалось бы дальше от «небесного свода», чем Луна (Galilei G. Le Opere. Vol. VI. P. 513–529).
9. См. русский перевод Н.И. Идельсона: Галилей Г. Послание к Франческо Инголи // Галилей Г. Избр. труды. Т. I. С. 55–96.
10. Metzler J. Francesco Ingoli, der erste Sekretär der Kongregation (15181649) // Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 1611–1911. Rom; Frieburg; Wien, 1911–1916. Vol. I. P. 191–143.
11. ASIC (в квадратных скобках указаны номера страниц дела).
12. Опущена часть записи, посвященная другим пунктам повестки дня, не имеющим отношения к теме настоящей работы. — И.Д.
13. Строго говоря, трактат Коперника начинается не с обращения к читателю, а с предисловия-посвящения его труда папе Павлу III. — И.Д.
14. Видимо, достопочтенные отцы с таким рвением занимались «делом Коперника», что забыли точное название труда прославленного астронома. — И.Д.
15. Под термином reipublicae здесь имеется в виду либо общественное благо, либо сообщество христиан. — И.Д.
16. Множественное число здесь и в вышеприведенном тексте означает, что речь идет либо о шести книгах, составляющих трактат Коперника, либо о будущих изданиях его сочинения. — И.Д.
17. Далее следует перечень поправок, который будет приведен ниже. — И.Д.
18. Biblioteca Apostolica Vaticano, Codex Barberinianus, XXXIX.
19. Речь идет о реформе календаря, осуществленной в 1582 г. в понтификат Григория XIII (1572–1585), когда астрономический год был приведен в согласие с церковным (булла Inter gravissimas от 24 февраля 1582 г.), для чего потребовалось опустить несколько дней, с 4 по 14 октября. — И.Д.
20. Письмо Галилея монсиньору П. Дини от 23 марта 1615 г. (Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 299).
21. Да и то кое-какие места были пропущены, например, следующее двустишие (возможно, принадлежащее самому Копернику) из второй книги «De Revolutionibus»:
Qui terra vehimur, nobis Sol Lunaque transit,
Stellarumque vices redeunt iterumque recedunt
(Кто Землею влеком, мимо тех Луна с Солнцем проходят,
Звезды идут чередой, приближаясь и вновь удаляясь)
(Коперник Н. О вращениях небесных сфер. Малый комментарий. Послание против Вернера. Упсальская запись / Пер. И.Н. Веселовского. Статья и общая редакция А.А. Михайлова. М.: Наука, 1964. (Серия «Классики науки»). С. 72.
22. Т. е. вычеркивалось начало последнего абзаца из предисловия-посвящения, а именно: «Если и найдутся какие-нибудь ματαιολόγοι (пустословы), которые, будучи невеждами во всех математических науках, все-таки берутся о них судить и на основании какого-нибудь места Священного Писания, неверно понятого и извращенного для их цели, осмелятся порицать и преследовать это мое произведение, то я, ничуть не задерживаясь, могу пренебречь их суждением как легкомысленным. Ведь не тайна, что Лактанций, вообще говоря, знаменитый писатель, но небольшой математик, почти по-детски рассуждал о форме Земли, осмеивая тех, кто утверждал, что Земля имеет форму шара. Поэтому ученые не должны удивляться, если нас будет тоже кто-нибудь из таких осмеивать. Математика пишется для математиков, а они, если я не обманываюсь, увидят, что этот наш труд...» (Коперник Н. О вращениях... С. 14). Вместо этого текста предлагалось оставить: «В остальном, если я не обманываюсь, этот наш труд...» и т. д. Замечу, что в письме герцогине Кристине ди Лорена Галилей с похвалой отозвался об этом, изъятом Декретом 1620 г., месте сочинения Коперника. — И.Д.
23. Т. е. вместо «Однако, если мы разберем дело внимательнее (речь идет о положении Земли. — И.Д.), то окажется, что этот вопрос еще не решен окончательно, и поэтому им никак нельзя пренебрегать» (Коперник Н. О вращениях... С. 22) предлагалось вставить: «Однако, если мы разберем дело внимательнее, то, как мы полагаем, не имеет значения, находится ли Земля в центре мира или же вне его, ведь речь идет о спасении видимости небесных явлений». Кроме того, и в записке Инголи, и в Декрете неправильно указан номер главы (надо 5 вместо 1). — И.Д.
24. Т. е. вместо слов: «Но тогда зачем же еще нам сомневаться? Скорее, следует допустить, что подвижность Земли вполне естественно соответствует ее форме, чем думать, что движется весь мир, пределы которого неизвестны и непостижимы. И почему нам не считать, что суточное вращение для неба является видимостью, а для Земли действительностью? И все это так и обстоит, как сказал бы Виргилиев Эней» (Коперник Н. О вращениях... С. 27), предлагалось ввести следующий фрагмент: «Но тогда не следует ли допустить, что движение ее [Земли] соответствует ее форме, чем полагать неустойчивой всю Вселенную, пределы которой неизвестны и непостижимы. И почему бы не допустить, что видимое на небе происходит так, как это сказано Виргилиевым Энеем». — И.Д.
25. T. е. вместо слов: «Добавлю также, что довольно нелепо приписывать движение содержащему и вмещающему, а не содержимому и вмещенному, чем является Земля» (Коперник Н. О вращениях... С. 29), вводилась следующая фраза: «Добавлю также, что не более трудно приписывать движение тому, что помещено в некое место в содержащем, а именно Земле, чем содержащему». — И.Д.
26. T. е. изъятию подвергся следующий абзац: «Итак, из всего этого ты видишь, что подвижность Земли более вероятна, чем ее покой, в особенности если говорить о суточном вращении как наиболее свойственном Земле. И я полагаю, что этого достаточно для первой части вопроса» (Там же.). — И.Д.
27. Т. е. фрагмент: «Таким образом, поскольку ничто не препятствует подвижности Земли, то я полагаю, что нужно рассмотреть, не может ли она иметь несколько движений, так, чтобы ее можно было считать одной из планет» (Там же. С. 30) заменялся на: «Если, таким образом, допустить, что Земля движется, то, я полагаю, нужно иметь несколько движений. Ибо из того, что...». — И.Д.
28. Т. е. начало фразы «Поэтому нам не стыдно признать, что» (Там же. С. 33) заменяется на: «Поэтому нам не стыдно предположить, что...», т. е. глагол fateri заменялся глаголом assumere, чтобы оттенить гипотетичность высказывания. — И.Д.
29. Т. е. вместо: «все видимое движение его [Солнца] должно скорее найти себе объяснение в подвижности Земли» (Там же.) предписывалось сделать следующую замену: «все видимое движение его [Солнца] находит, следовательно, себе объяснение в подвижности Земли». — И.Д.
30. Т. е. изымались слова: «Так велико это божественное творение всеблагого и всевышнего» (Коперник Н. О вращениях... С. 35). — И.Д.
31. Т. е. заглавие: «Доказательство тройного движения Земли» («De Triplici Motu Telluris Demonstrato») (Там же. С. 36) заменялось на «О гипотезе тройного движения Земли и ее доказательства». — И.Д.
32. Т. е. в заглавии этой главы — «О величине трех упомянутых светил — Солнца, Луны и Земли — об их соотношениях (De Magnitudine Horum Trium Siderum Solis Lunae et Terrae ac [ad] Invicem Comparatione)» (Там же. С. 271) — изымались слова «трех упомянутых светил», т. е. в буквальном переводе — звезд, но под термином «звезда» в то время часто подразумевалась также и планета. — И.Д.
33. По подсчетам О. Гингерича, только в 8% экземпляров «De Revolutionibus» были внесены требуемые Декретом изменения (Gingerich O. The Censorship of Copernicus' «De Revolutionibus» // Annali dell'Instituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. 1981. Vol. 7. P. 45–61).
Одна из этих традиций восходит к Фоме Аквинскому, согласно которому, истинное знание природного мира — это знание, полученное путем абстрагирования от чувственных данных и использования формальной логики для установления каузальных связей между объектами и явлениями Природы. По характеристике Н.А. Бердяева, «схоластическая средневековая философия была проникнута упорным и всеохватывающим стремлением сделать формальной наукообразной дисциплиной не только философию, но и теологию. Само научное сознание Средневековья очень отличалось от современного, но схоластика приспособлялась к научности своего времени, недаром властителем дум был Аристотель, самый наукообразный философ древности. <...> Для Фомы Аквинского метафизика была строгой наукой о сущем и принципах сущего. Это была наука чисто рациональная, конструкция ее была строго логическая. <...> Философия была прислужницей теологии — это можно понимать и так, что философия делала теологию научной, наукообразной»1.
Аристотелева физика, в глазах Фомы, — это система «природных субстанций», связанных друг с другом сетью логических отношений, в силу чего эта физика и могла рассматриваться как scientia, т. е. как достоверное знание о Природе. Иное дело астрономия, которая выстраивает связи между наблюдаемыми фактами, используя математические построения и гипотезы, эти факты объясняющие. Скажем, эпициклы, эксцентры, экванты и т. п. математические объекты использовались для объяснения видимых движений планет. Да, астрономические теории могут правильно предсказывать те или иные явления, но логический статус астрономических гипотез резко отличен от логического статуса физических причин, ибо первые, в отличие от вторых, не могут рассматриваться как абсолютно истинные утверждения.
Фома, следуя Аристотелю, различал два мира — мир математических сущностей, отвлеченных от пространственно-временных реалий и качественных характеристик тел, и мир реальных физических субстанций, элементы которого имели пространственно-временную и квалитативистскую определенность. Математические сущности (к примеру, те же эпициклы, эксцентры, деференты и экванты) не могли служить причинами наблюдаемых явлений, а потому математика в принципе не могла дать истинного знания о Природе. И если имело место соответствие (и даже согласие) между наблюдаемыми фактами и астрономическими (читай — математическими) гипотезами, то оно было обусловлено, как правило, характером логического вывода в астрономии — от следствий (явлений) к причинам. Но такой логический вывод не мог рассматриваться как полноценное научное доказательство, которое, по Аристотелю, должно быть дедуктивным, исходящим из самоочевидных первопринципов. Астрономия же заимствовала свои первопринципы не из Природы, а из математики, что и определяло ее статус как вспомогательной математической дисциплины, черпающей свои начала из математики, но не способной доказать свои физические утверждения. Астрономия — это, по Фоме, мир возможных, более или менее вероятных истин, принимаемых лишь постольку, поскольку не было предложено лучших гипотез для «спасения явлений». Именно поэтому в рамках аристотеле-томистской методологии противоречия между птолемеевой астрономией и перипатетической физикой не вызывали никакого беспокойства2. С другой стороны, поскольку, по Фоме, между абсолютными истинами Откровения, зафиксированными в Св. Писании, и относительными («возможными») философскими истинами, основанными на опыте и человеческом интеллекте, не могло быть противоречий, то на разработку математико-астрономических гипотез, не обладавших статусом натурфилософских утверждений и не способных претендовать на этот статус, никаких существенных теологических ограничений не накладывалось.
Таким образом, томизм, как это ни парадоксально на первый взгляд, открывал широкие возможности для согласования теологических утверждений, в том числе и позиций теологов Святейшего Учреждения (т. е. Инквизиции), с практическими соображениями эпохи. Не было никакой необходимости запрещать «De Revolutionibus» вообще, на веки вечные, достаточно было изъять его из обращения donec corrigatur, но correctiones должны были состоять не в полной переделке гелиоцентризма в геоцентризм, а в ясном придании первому (как, впрочем, и второму) статуса математической гипотезы. Тогда всякая необходимость в теологическом обосновании взглядов Коперника отпадала.
Все это ясно обозначилось в цитированном выше письме Беллармино Фоскарини (от 12 апреля 1615 г.), в котором кардинал призывал не в меру теологически смышленого кармелита (а заодно и Галилея) оставаться в рамках суждений ex suppositione, характерных для астрономии, и признать, что теория Коперника еще не обрела статуса полностью доказанной — в соответствии с томистскими канонами доказательства — физической истины. При этом Беллармино не пытался ни накладывать какие-либо ограничения на математико-астрономическое гипотезотворчество, ни противиться признанию телескопических открытий Галилея, ни отрицать принципиальную возможность того, что в будущем коперниканские гипотезы могут оказаться физически истинными, выказав весьма спокойное отношение к тому, что в последнем случае придется отойти от буквального понимания соответствующих мест Св. Писания. Кардинал настаивал, фактически, на сохранении дисциплинарных границ между теологией, философией (в том числе и натурфилософией) и математическими дисциплинами (к числу которых относилась и астрономия). И здесь его позиция была непреклонной, потому как Беллармино прекрасно понимал, что, переходя из области чисто математических наук в область натурфилософии, астрономия непременно должна будет пройти по теологическому полю, «заминированному» тридентскими решениями. Процесс этот будет трудным и опасным в силу того, что, во-первых, скорее всего, придется коренным образом менять физику, а во-вторых, реинтерпретировать Св. Писание. В принципе, и то, и другое само по себе опасений не вызывало, схоластическая теология справлялась и с куда более трудными задачами. Что же касается отказа от физических принципов Аристотеля, то к этому лично Беллармино в известной степени был готов, что следует хотя бы из того, что в своих Лувенских лекциях он весьма скептически высказался по проблеме «лунной грани», т. е. по поводу аристотелевой идеи разделения мира на две качественно разнородные части (над- и подлунную)3.
Труднее обстояло дело с теологическими последствиями изменения дисциплинарного статуса астрономии, если бы его пришлось менять, окажись коперниканская теория доказанной. И дело, повторяю, не в самих по себе изменениях в экзегетике, а в том, что на них придется пойти под давлением физических доказательств, которые с таким упорством искал Галилей. Это означало утрату католической Церковью монополии на экзегезу священного текста (или, по крайней мере, сильный удар по такой монополии). Кроме того, любые поползновения на реинтерпретацию Св. Писания воспринимались курией весьма болезненно, потому как один печальный прецедент уже был — протестантская Реформация.
Иными словами, наука воспринималась как сила, соразмерная этой Реформации. Поэтому Беллармино и подчеркивал, что в эпоху, когда исключительному праву Церкви толковать Св. Писание уже был брошен вызов, подходить к вопросу реинтерпретации Библии (пусть даже речь идет о замене одного, буквалистского, типа толкования отдельных мест священного текста другим, аллегорическим) необходимо с величайшей осторожностью.
Но в курии получили распространение и другие мнения, опиравшиеся на иную теологическую традицию, берущую начало в августинианской теологии воли и усиленную номинализмом XIV в. В рамках этой традиции акцент делался на неспособности человеческого разума достичь абсолютного знания природного мира, а потому все знание о Природе, полученное благодаря опыту и интеллекту, признавалось гипотетическим.
Представители обеих традиций, когда речь заходила о теории Коперника, сходились в одном — эту теорию допустимо использовать только как гипотезу. Но пути к этой констатации и ее обоснование были различны. Если Беллармино допускал, хотя бы в принципе, такую ситуацию, когда истинность коперниканской космологии будет доказана и придется пересматривать экзегезу Св. Писания, то, скажем, Инголи категорически отрицал не только самое возможность такого доказательства, но даже легитимность его поисков. По Инголи, нет и изначально не может быть никаких доказательств гелиоцентризма. Беллармино, увещая Галилея и отвечая Фоскарини, мог хотя бы вообразить, что между астрономией и религиозной истиной возможно согласие. Для Инголи — это была утопия, бессмысленная и вредная. Любое человеческое знание гипотетично, т. е. недостоверно, им можно пользоваться в прагматике практической деятельности, но тщательно избегая каких-либо противоречий между текстом откровения и рациональным знанием. В этом ракурсе коперниканство рассматривалось не как недоказанная, а как в принципе недоказуемая доктрина.
Указанные разногласия между традицией эпистемологического оптимизма, усвоенной иезуитами (или, по крайней мере, их частью) и традицией эпистемологического скептицизма, носителями которого стали доминиканцы (или, по крайней мере, идеологи Ордена проповедников в начале XVII в.), ясно давшие о себе знать в полемике De auxiliis (1597–1609), отразились и в так называемом «первом деле» Галилея. Не случайно поэтому подпись Беллармино отсутствует на документе об увещании ученого (26 февраля 1616 г.), цитированном выше, и на Декрете 1620 г., а в выписке из протокола заседания Инквизиции от 3 марта 1616 г. ни слова не сказано о действиях комиссара Седжицци и о запрете на защиту и преподавание теории Коперника. Зато до нас дошел другой любопытный документ — письмо Беллармино Галилею от 26 мая 1616 г., о котором речь пойдет чуть позднее. Сейчас же важно отметить другое: защищая коперниканство, Галилей оказался в эпицентре борьбы за культурную и идеологическую гегемонию между различными группировками католической элиты, и малейший сдвиг в соотношении сил мог иметь для него самые драматические последствия. Теперь можно вернуться к событиям 1616 г., имевшим место после 5 марта.
1. Бердяев Н.А. Смысл творчества: опыт оправдания человека // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл Творчества. М.: Изд-во «Правда», 1989. С. 251–580; С. 263.
2. Так, например, аристотелева физика требовала, чтобы планеты равномерно двигались по окружностям вокруг общего центра. Однако астрономические наблюдения противоречили этому требованию. Птолемеева теория, с ее эпициклами и эксцентрами, была создана именно для «спасения явлений», т. е. наблюдаемых фактов.
3. См. сн. 403. Здесь уместно хотя бы кратко остановится на биографии кардинала. Роберто Франческо Ромоло Беллармино родился 4 октября 1542 г. в Монтепульчиано (Тоскана). Его мать, Цинтия Червини (C. Cervini), приходилась родной сестрой кардиналу Марчелло Червини, папскому легату на Тридентском соборе, которому довелось в течении трех недель (с 10 апреля по 1 мая 1560 г.) под именем Марцелла II занимать престол Св. Петра. 20 сентября 1560 г. Беллармино вступает в Общество Иисуса и следующие три года посвящает учебе в Collegio Romano, после чего преподает дисциплины тривиума и квадривиума сначала во Флоренции, а затем в Мондови. В 1567–1569 гг. он изучает теологию в Падуанском университете, после чего был послан в Лувен, где в течении семи лет преподавал «Summa Theologia» Св. Фомы и участвовал в напряженной полемике с протестантами. Пожалуй, никто в католическом мире не был знаком с протестантизмом лучше Беллармино. Возможно, именно поэтому Григорий XII (понтификат: 1572–1585) вызвал тридцатичетырехлетнего теолога в Рим для чтения лекций в Collegio Romano о спорных пунктах веры. Эти лекции были затем положены Беллармино в основу фундаментального трехтомного сочинения «Disputationes de controversiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos», опубликованного первым изданием в Риме в 1581 г. Трактат Беллармино стал столь популярным, что в ряде протестантских университетов читались специальные лекционные курсы с целью опровергнуть доводы автора. До сих пор De controversiis остаются классическим трудом по вопросам христианской веры. В 1592 г. Беллармино был назначен ректором Collegio Romano, а в 1598 г. становится кардиналом. Однако из-за некоторых разногласий с папой Климентом VIII (понтификат: 1592–1602) в связи с полемикой De auxiliis Беллармино стал нежелательной фигурой в Риме (хотя сам Святейший относился к нему с уважением) и в 1602 г. получил назначение архиепископом в Капую. При Павле V (понтификат: 1605–1621) Беллармино смог вернуться в Рим, где был удостоен звания протектора Целестинского ордена, инспектора германского коллегиума, а также включен в состав конгрегаций Св. Инквизиции и Индекса. Умер Беллармино в Риме 17 сентября 1621 г. Во время его последней болезни его дом был полон прелатами и мирянами, которые в течение двух с половиной недель не давали смертельно больному кардиналу спокойно отойти в лучший из миров. Люди пытались поцеловать или хотя бы прикоснуться к нему, а когда больному ставили пиявки, они ловили в платки капли его крови. После кончины Беллармино его вещи, включая мебель, домашнюю утварь и одежду, растащили на реликвии. В 1930 г. Беллармино был канонизирован.
Возможно, вызов к Беллармино и последующее увещание стало для Галилея неожиданностью, во всяком случае, события конца февраля — начала марта 1616 г. произвели на него угнетающее впечатление. Утешало лишь то, что его имя в Декрете не упоминалось.
Впервые за все время своего пребывания в Риме после 20 февраля он не посылает еженедельного отчета тосканскому двору. Только в воскресенье 6 марта 1616 г. Галилей пишет госсекретарю К. Пиккена, стараясь по мере возможности не драматизировать ситуацию. Письмо это начинается с заявления о том, что он «не писал с прошлой почтой, потому что не имел ничего нового сообщите (sic! курсив мой. — И.Д.), поскольку в это время был поставлен вопрос о принятии решения по тому делу, о котором я говорил вам как о деле, имеющем для меня лишь общественный, а не личный интерес»1. И далее он убеждает адресата в том, что инсинуации его (Галилея) врагов «не нашли сочувствия у Святой Церкви». Разумеется, Галилей не смог бы долго утаивать сам факт принятия Декрета и его содержания, обман тотчас бы раскрылся. Поэтому он пытается на свой лад истолковать смысл документа: «Святая Церковь постановила только, что мнение [Коперника] не согласуется со Св. Писанием, в силу чего запрещаются те книги, которые ставят своей специальной целью (ex professo) доказать, что оно с Писанием не расходится. К таким книгам отнесено только письмо одного кармелитского патера, оно одно запрещено (т. е. речь идет о «Lettera» Фоскарини. — И.Д.)»2. И затем следует цитированный выше фрагмент с разъяснениями, какие именно исправления в книге Коперника предполагается сделать и кому это поручено. «О других авторах, — не забывает многозначительно отметить Галилей, — ничего не упоминается».
Конечно, он сознавал, что дискредитирующая его информация непременно дойдет до тосканского двора, причем из самых разных источников, а потому поспешил заранее представить ситуацию в выгодном для себя свете. «Я, следует отметить, — пишет Галилей, слегка лукавя, — к существу этого дела поначалу не испытывал ни малейшего интереса и никогда не стал бы им заниматься, если б мои противники не вовлекли меня в него. Обо всем, что я сделал, можно узнать из моих книг, которые я храню, дабы иметь возможность пресечь злобные нападки и заткнуть кое-кому рот и чтобы показать, что мое отношение к этим материям таково, что даже святой не мог бы относиться к ним с большим уважением и проявить большее усердие к Святой Церкви»3.
Опасения Галилея относительно «уловок, клеветы и дьявольских ухищрений» его недоброжелателей были не напрасны, что ясно видно из цитированного выше письма, которое 4 марта 1616 г. тосканский посол Гвиччардини написал Великому герцогу специально о Галилее за день до публикации Декрета. В этом письме, напомню, дипломат сообщал о том, как кардинал Орсини пытался заступиться за Галилея перед папой, но неудачно. При этом Гвиччардини настаивал на немедленном возвращении Галилея во Флоренцию. «Сам климат Рима становится для него очень вредным (rende molto pericolo questa cielo di Roma), — писал посол, — особенно в сей век, когда наш владыка (il Principe) питает отвращение к литературе (belle lettere) и ее людям и не может слышать о новых и тонких научных предметах. <...> Подвергаться большим неприятностям без всякого к тому серьезного основания, когда из этого нельзя извлечь никакой пользы, а один лишь вред — я не понимаю, зачем это нужно». И далее Гвиччардини отмечает еще одно важное обстоятельство: «Галилей действует только в своих собственных интересах и готов подвергнуть опасности не только себя, но и всех тех, кто идет навстречу его желаниям и позволяет ему убедить себя»4. Такой поворот темы в письме Гвиччардини неслучаен.
Во-первых, Галилей действительно активно искал союзников и вовлекал в орбиту своих целей и желаний множество людей. Во-вторых, в сложившейся ситуации он не спешил покинуть Рим и воспользоваться тем, что за несколько дней до принятия Декрета ни о чем не подозревавший Великий герцог Козимо II попросил его встретить приезжающего в Рим кардинала Карло де Медичи (брата Козимо), сопровождать его при посещении папы и на званых обедах для поддержания беседы, в чем Галилей был большой искусник. Разумеется, ученый не мог не воспользоваться случаем, поскольку его появление среди римской знати вместе с кардиналом показало бы всем, что и Великий герцог, и церковные власти относятся к нему с прежним расположением. Гвиччардини же со своей стороны понимал, что присутствие Галилея в окружении кардинала де Медичи может навредить последнему, ибо Галилей «всех, кто попадает в его руки, тотчас же атакует, вмешивая их в свои личные дела», а с такими вещами шутить нельзя, поскольку Галилея воспринимают не как частное лицо, но как официального представителя тосканского двора. Но пока шла переписка, время было упущено, и 30 апреля 1616 г. госсекретарю Великого герцога оставалось только предупредить Галилея: «когда Вы оказываетесь за одним столом с Его Высокопреосвященством синьором кардиналом, весьма вероятно, что за тем же столом сидят и другие высокообразованные люди (ancora altre persone dotte), а потому Вашей милости следует воздержаться от дебатов по вопросам, которые вызвали преследования со стороны монахов»5.
Кроме того, Галилей в ожидании кардинала не сидел сложа руки, но, как выразились его биографы, «pulled strings»6, в результате чего в пятницу, 11 марта 1616 г., он был милостиво принят папой и их совместная прогулка продолжалась около 45 минут, о чем Галилео с гордостью доложил во Флоренцию на следующий же день. Судя по этому отчету, ученый выстроил беседу с Его Святейшеством тонко и продуманно. Он начал с того, что передал Павлу V приветствие от Великого герцога, затем рассказал о причине своего прибытия в Рим, подчеркнув, что отказался от какого-либо покровительства герцога в вопросах, относящихся к вере и благочестию (папа, разумеется, тут же одобрил его чистосердечие), и только затем перешел к жалобам на происки его противников, уверяя, что сам он во всей этой истории чист и ни в чем не повинен. Видя ангельское смирение своего собеседника, Павел V поспешил его утешить, сказав, что Галилей «может жить со спокойной душой», т. к. его «воззрения вполне разделяются и им самим, и всей Конгрегацией, которая не обращает внимания ни на какие клеветнические измышления» и пока он, Павел V, жив, Галилею не о чем волноваться и он всегда будет получать поддержку со стороны верховного понтифика7.
Таким образом, папа перед Галилеем (а Галилей перед тосканским двором) сделал вид, что ничего особенного не случилось, просто, как выразился каноник Антонио Кваренго в письме кардиналу д'Эсте от 5 марта 1616 г., «размышления синьора Галилея растворились в алхимическом дыму, когда Святейшее Учреждение объявило о том, что разделять его мнение значит открыто отступать от нерушимых догматов Церкви. Итак, мы, наконец, снова на твердой [неподвижной] Земле, целые и невредимые, и нам нет нужды летать с ней, подобно насекомым, карабкающимся по поверхности воздушного шара»8. Поэтому беседа с папой вряд ли могла удовлетворить Галилея, и он решает остаться в Риме еще на некоторое время, чтобы и далее поддерживать свою репутацию и противостоять разного рода слухам и измышлениям, которые после выхода Декрета ходили на его счет по всей Италии. Действительно, утверждали, будто его вызывали на допрос в Инквизицию и обвиняли там в ереси, будто Беллармино применил к нему строгие меры и будто в застенках Sant'Uffizio romano ученого вынудили отречься от теории Коперника и т. д.
Однако тосканский двор был сильно обеспокоен событиями конца февраля — начала марта, и потому там настаивали на скорейшем возвращении Галилея. «С огромным удовлетворением, — писал Пиккена Галилею 20 марта 1616 г., — узнали Их Светлости о милостивой аудиенции, которую Вы получили у Его Святейшества; и так как Им кажется, что вы восстановили во всех отношениях свою репутацию, то Они поручили мне убедить вас в том, чтобы вы успокоились, не занимались бы более этим делом и вернулись как можно скорее. Вы знаете, что Их Светлости вас любят, и говорят это вам для вашего же блага и спокойствия»9.
Все хотели спокойствия, для чего требовалось прежде всего успокоить Галилея. Но тот успокаиваться не желал и в ответ на письмо госсекретаря со свойственной ему поистине казуистической изобретательностью в поисках нужных аргументов ответил, что указание Их Светлости на необходимость скорейшего возвращения еще не означает отмены ранее данного позволения остаться в Риме до прибытия туда кардинала де Медичи. Вот ежели такое прямое указание будет дано, то он немедленно покинет Рим. И еще одна просьба, которой Галилей соизволил обеспокоить покладистого Пиккену — хотелось бы вернуться во Флоренцию в тех же носилочках Великого герцога, в которых он оттуда отбыл, а то пойдут, знаете ли, опять всякие разговоры, будто ученый впал в немилость тосканского правителя и т. п.
А что касается указания «не заниматься более эти делом», так это само собой разумеется, поскольку все дело-то свелось к незначительному исправлению книг Коперника и де Цуниги, а это уж не его забота10.
Галилей своего добился — ему разрешили остаться в Риме и сопровождать там кардинала де Медичи. Кардинал поначалу планировал прибыть в Вечный город к Пасхе, которая в 1616 г. пришлась на 2 апреля, но задержался более чем на две недели. Его въезд был обставлен с невиданной помпой, и Галилей был доволен, что не упустил возможности оказаться в эти дни рядом с кардиналом. Любопытно, что, описывая (в письме к К. Пиккена от 23 апреля) торжества, он умолчал о своем присутствии на обеде с кардиналом, — во Флоренции это могло вызвать неудовольствие, — резко сменив тему11.
Тем временем Гвиччардини продолжал настаивать на немедленном отъезде Галилея из Рима, на этот раз делая акцент на том, что содержание Галилея на вилле Медичи обходится слишком дорого тосканской казне. Посол приказал А. Прими, управляющему виллой Медичи, показать соответствующие счета и когда увидел, сколько денег ушло на удовлетворение прихотей Галилея и на содержание обслуживающей его челяди, то пришел в ярость. «Аннибале [Прими] говорит, — писал Гвиччардини Пиккена 13 мая, — что у него [Галилея] огромные расходы и любой может убедится, что они живут на широкую ногу (haver fatto una grossa spesa), не говоря уж о том, что воинственный пыл Галилея нисколько не убавился и он собирается нанести удар братьям (т. е. монахам. — И.Д.), которые настроены против него (я несколько смягчил перевод, в действительности посол выразился резче и вульгарней — «di scaponire i frati», «оскопив братьев». — И.Д.)»12.
На этот раз доводы Гвиччардини подействовали. 23 мая 1616 г. Пиккена пишет Галилею: «Вы уже испытали преследования братьев и вкусили их прелесть. Их Светлости опасаются, что дальнейшее ваше пребывание в Риме может принести вам неприятности и потому они отнесутся к вам с похвалой, если теперь, когда вам удалось с честью выйти из положения, вы не будете более дразнить спящих собак (возможно, здесь намек на доминиканцев, которые имели прозвище domini canos — псы Господни. — И.Д.) и при первой же возможности вернетесь сюда, так как здесь ходят слухи вовсе нежелательные, а братья всемогущи, и я, ваш покорный слуга, хочу со своей стороны предупредить вас об этом, доводя до вашего сведения мнение их Светлостей»13.
Галилею пришлось начать сборы. Но слухи, о которых упомянул Пиккена, его также сильно беспокоили и он решил обратиться напрямую к кардиналу Беллармино, чтобы тот дал ему письменное разъяснение того, что в действительности имело место, разъяснение, которое бы он, Галилей, мог использовать в свою защиту. Беллармино ответил незамедлительно:
«Мы, Роберто кардинал Беллармино, узнав, что синьор Галилео Галилей был оклеветан в том, что якобы он по нашему принуждению произнес клятвенное отречение и искренне раскаялся и что на него было наложено спасительное церковное покаяние, с целью восстановления истины заявляем, что вышеназванный синьор Галилей ни по нашей воле, ни по чьему-либо еще принуждению ни здесь в Риме, ни, насколько это нам известно, в каком-либо ином месте не отрекался от какого бы то ни было своего мнения или учения и не подвергался никаким наказаниям, благотворным или иного рода. До его сведения было лишь (ma solo; первоначально было si bene (хотя). — И.Д.) доведено распоряжение Его Святейшества, выраженное Декретом Святой Конгрегации Индекса, в котором сказано, что учение, приписываемое Копернику, будто Земля движется вокруг Солнца, а Солнце находится в центре мира, не двигаясь с востока на запад, противоречит Св. Писанию, и потому его нельзя ни защищать, ни придерживаться (non si possa a difendere nu tenere). В удостоверении чего мы написали и подписали сие собственноручно сего 26 мая 1616 г.»14
Но и этого свидетельства Галилею показалось недостаточно! Перед отъездом он заручился рекомендательными письмами от кардиналов Ф.М. дель Монте и А. Орсини, которые отмечали, что ученый полностью сохранил свою репутацию. Эти рекомендательные письма были крайне важны для Галилея (не для Галилея-ученого, но для Галилея-courtier), которому необходимо было любой ценой сохранить расположение и поддержку Великого герцога.
4 июня 1616 г., убедившись, что «нет ненависти более сильной, чем ненависть, которую невежество испытывает по отношению к знанию»15, Галилей покинул Рим.
Спустя неделю после его отъезда Маффео Каччини, брат Томмазо Каччини, сообщил в письме их третьему брату, Александру, что репутация Томмазо в результате последних событий заметно укрепилась16.
1. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 243.
2. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 244.
3. Ibid.
4. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 242.
5. Ibid. Vol. XVIII. P. 422.
6. Shea W.R., Artigas M. Galileo in Rome... P. 89.
7. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 248.
8. Ibid. P. 243.
9. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 250.
10. Ibid. P. 250–251.
11. Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 255–256.
12. Ibid. P. 259.
13. Ibid. P. 261.
14. Galilei G. Le Opere. Vol. XIX. P. 348.
15. Цит. по: Santillana G. de. The Crime of Galileo... P. 137.
16. «E quella cosa del Galilei gl'ha dato molta reputazione...» (Galilei G. Le Opere. Vol. XII. P. 265).
По возвращении во Флоренцию Галилей заболел. Он полагал, что причина болезни — нездоровый флорентийский воздух, и в апреле 1617 г. перебрался на арендованную им виллу Беллосгвардо (Villa Bellosguardo) на южном берегу Арно, откуда открывался замечательный вид на город и где он замкнуто и плодотворно прожил до 1631 г.
Ему ничего не оставалось делать, как терпеливо ждать изменения ситуации. Рим, конечно, город вечный, но не его обитатели. Павел V и кардинал Беллармино были уже в преклонном возрасте. Возможно, после их кончины позиция церковных властей изменится.
Тем временем ученый пристроил двух своих дочерей в монастырь Сан Маттео в Арчетри, в 45 минутах ходьбы от Беллосгвардо. Старшая, Вирджиния, взяла себе имя Мария Челеста, а младшая, Ливия, стала Арканджелой. Сын Галилея, Винченцо, который решением Великого герцога был признан законным, учился в Пизанском университете.
Теперь, когда Галилей мог наконец-то посвятить себя спокойной работе, он обращается к пересмотру своих прежних сочинений, посвященных механическому движению и продолжает, если позволяло самочувствие, астрономические наблюдения.
Между тем ситуация и в Риме, и во Флоренции со временем действительно стала меняться. Великий герцог Козимо II, не отличавшийся крепким здоровьем, скончался 28 февраля 1621 г. Его сменил сын, Фердинандо II, которому едва исполнилось 10 лет, и потому эрцгерцогиня Мария Магдалина, мать Фердинанда, стала регентшей1.
В Риме в том же 1621 г. в лучший из миров перешли папа Павел V и кардинал Беллармино. Комиссар Инквизиции Седжицци покинул город, отправившись епископом в свой диоцез. Таким образом, три человека, которым была хорошо известна вся история с увещанием, сошли со сцены.
Новый папа — 67-летний Алессандро Лудовизи (A. Ludovisi) из Болоньи, больной и слабый, — занял престол Св. Петра 9 февраля 1621 г. под именем Григория XV (понтификат: 1621–1623)2. При нем некоторые друзья Галилея заняли важные посты. Джованни Чьямполи был назначен папским секретарем, он вел переписку с коронованными особами и прелатами. Герцог Вирджинио Чезарини, племянник Ф. Чези, стал управляющим папским двором, т. е. фактически помощником и советником папы в сугубо конфиденциальных вопросах. Оба они — Чьямполи и Чезарини — были членами Academia dei Lincei и почитателями Галилея. «Никогда не было недостатка в царях и великих правителях, — писал Чьямполи Галилею 15 января 1622 г., — но людей, подобных Вам, не сыскать не только во всей провинции, но и во всем столетии»3.
Чьямполи относился к ученому с искренней симпатией и даже с восторгом. 27 мая 1623 г., после аудиенции у верховного понтифика, он сообщает Галилею, как он в течение получаса расхваливал его папе и добавил, имея в виду события 1616 г.: «Если бы вы в те дни имели тех друзей, которых имеете ныне, то, возможно, не возникло бы никакой необходимости искать способы нейтрализовать [наветы], выдавая в качестве замечательных выдумок те прекрасные идеи, коими вы просветили наш век»4.
Однако 8 июля 1623 г. Григорий XV скончался. Выборы нового верховного понтифика шли туго. Запертые в Сикстинской капелле Ватиканского дворца кардиналы голосовали дважды в день, утром и вечером, но набрать 2/3 голосов никому не удавалось. Тем временем шесть кардиналов, принимавших участие в конклаве, отправились в мир иной. Только 6 августа 1623 г. 50 из 55 прелатов проголосовали за Маффео Барберини, который взял себе имя Урбана VIII (рис. 31). Многие тогда видели в этом избрании mirabile congiuntura, первые признаки обновления католической церкви.

Рис. 31. Микеланджело Меризи да Караваджо. Портрет кардинала Маффео Барберини (ок. 1598). Флоренция. Частное собрание
Урбан VIII (1568–1644) был человеком умным, деятельным и хорошо образованным (кстати, как и Галилей, он был членом Academia dei Lincei). Что же касается его отношения к теории Коперника, то в принципе оно вполне укладывалось в «стандартную» для курии позицию, с тем лишь (впрочем, немаловажным) отличием, что любая астрономическая теория (Коперника, Тихо Браге или Птолемея) — не более чем гипотеза, ибо Творец своим всемогуществом может свершить все, что Ему будет угодно, а слабому человеческому уму не дано постичь тайну Господа, Его божественную волю и тайну божественного творения.
Однако к Галилею Урбан относился с большой симпатией. Он, в меру своих возможностей, защищал его в 1616 г. (вместе с кардиналом Каэтано) и поддерживал теплые отношения с ученым после увещания. 20 августа 1620 г. Маффео Барберини направил Галилею оду Adulatio perniciosa, в которой с восхищением писал об астрономических открытиях тосканского математика.
Естественно, Галилей с большим энтузиазмом воспринял известие об избрании М. Барберини папой. Из письма Ф. Стеллути (август 1623 г.) он узнал, что Урбан VIII назначил Б. Чезарини председателем Палаты (Camera pontifico), а Чьямполи — секретарем палаты папских грамот и своим тайным советником (segretaria dei brevi). Оба были давними друзьями Галилея. «Мне трудно выразить, насколько я счастлив, — писал Галилей Франческо Барберини, — что Его Святейшество взошли на высочайший престол. Считаю уместным добавить, что отныне остаток моей жизни я проведу в радостном упоении, а встреча со смертью — в какой бы момент она меня ни настигла — не будет для меня так тяжела. Я буду счастлив знать об осуществлении надежд, казавшихся несбыточными и уже было похороненных. Я умру довольный тем, что увидел в этом мире своего любимейшего покровителя в сиянии славы; не думаю, что кто-либо еще мог мечтать о подобной радости»5.
Спустя два месяца двадцатисемилетний Франческо Барберини станет кардиналом и правой рукой Урбана VIII. Свое доброе отношение к Галилею он сохранит и в 1633 г., когда откажется подписать приговор ученому.
Разумеется, Галилею очень хотелось отправиться в Рим и встретиться там с новым папой, но болезнь (артрит) в августе 1623 г. снова приковывает его к постели. Только 1 или 2 июня 1624 г. он смог, наконец, отправиться в Рим. Предполагалось, что конная повозка доставит его в Акваспарту, где он остановится у князя Чези, которого он не видел уже 8 лет. Однако в Перудже, в 40 километрах от имения князя, кучер бесцеремонно высадил Галилея, потому что нашел более выгодного пассажира. Не без труда удалось Галилею добраться до Акваспарты в понедельник 8 апреля. Две недели он провел в гостях у Чези, узнав там печальную весть о кончине (11 апреля) В. Чезарини. Галилей потерял не только верного друга и почитателя, но и человека, на поддержку которого он всегда мог рассчитывать в будущем (Чезарини имел вполне реальную перспективу стать кардиналом).
Разговор с Чези складывался непросто. Последний был увлечен идеей публикации результатов наблюдений за пчелами, которые он и его коллеги проводили с помощью микроскопа. Тема была выбрана отнюдь не случайно, поскольку именно пчелы украшали семейный герб Барберини. Благосклонность нового папы была князю крайне необходима, поскольку финансовое положение Чези оказалось в то время катастрофическим. Конечно, созданная им Academia dei Lincei, как и ее основатель, всегда отстаивали идеал свободы научного исследования, но в сложившейся ситуации князь не мог поддерживать никакие рискованные проекты. Lincei должны любой ценой сохранить и укрепить хорошие отношения с властью. И Чези делал для этого все возможное. Так, узнав об избрании М. Барберини на престол Св. Петра, князь немедленно заказывает для издания «Il Saggiatore» Галилея новую обложку, на которой изображен герб с тремя пчелами, а сама книга тут же посвящается Урбану VIII и 27 октября 1623 г. торжественно, в присутствии всей курии, преподносится Его Святейшеству. Кроме того, Ф. Барберини, еще не ставший кардиналом, срочно, в конце сентября 1623 г., избирается членом Academia dei Lincei.
Галилей же, направивший свои стопы в Рим, преследовал свою цель — получить возможность для дальнейшей защиты коперниканства, надеясь, что Чези ему поможет. Как видим, намерения и ближайшие планы Чези и Галилея совпадали не вполне, но они «didn't see into each other's cards»6.
Воскресным утром 21 апреля 1624 г. Галилей покинул Акваспарту и поздно вечером следующего дня прибыл в Рим, а утром 23 апреля он уже был принят папой Урбаном VIII, с которым беседовал в течении часа в присутствии брата Его Святейшества кардинала Антонио Барберини, устроившего эту аудиенцию. На следующий день, в среду, Галилей был принят кардиналом Франческо Барберини и Карло де Медичи.
Вместе с тем Галилей, которому в феврале 1624 г. исполнилось 60 лет, проявлял крайнюю осторожность и уже далеко не всем, как то было ранее, спешил рассказать о главной цели своего визита. Определенную надежду он возлагал на кардинала Ф. фон Цоллерна, который обещал «поднять этот вопрос (Галилей не уточняет, о чем именно идет речь, надеясь, что адресат, князь Чези, догадается. — И.Д.) в беседе с Его Святейшеством»7. Но Урбану было не до коперниканства. Верховного понтифика волновала куда более важная в тот момент политическая проблема, вставшая перед Св. Престолом: как сохранить нейтралитет в продолжавшейся уже шесть лет войне, названной впоследствии Тридцатилетней (1618–1648). Главная забота Урбана VIII — не стать габсбургской «imperial puppet», т. е. сохранить независимость папской власти в первую очередь от испанских Габсбургов. Поэтому он поддержал Ришелье в его борьбе против Испании и Австрии.
Галилей понимает — сейчас папе не до него, и 23 мая 1624 г. он сообщает Иоганнесу (Джиованни) Фаберу (J. Faber, 1574–1629), врачу из Баварии, члену Academia dei Lincei, что через шесть дней собирается покинуть Рим. «Я надеюсь, — пишет в свою очередь Фабер Чези 24 мая 1624 г., — что кардинал Цоллерн сумеет вытянуть из папы хоть что-то о системе Коперника»8. Наконец-то в переписке, так или иначе связанной с пребыванием Галилея в Риме весной 1624 г., была ясно указана главная цель его визита, как говорят англичане, let the cat out of the bag. Но ждать, пока Цоллерн встретится с папой, пришлось долго, до начала июня. И Галилей ждал.
1 июня 1624 г. в апартаментах Цоллерна собрались: Галилей, И. Фабер, отец Никколо Риккарди (N. Riccardi; доминиканец, давший imprimatur на публикацию «Il Saggiatore») и некий г. Шопп (G. Schopp), немецкий протестант, перешедший в католичество. «Мы выяснили, — сообщил Фабер Чези, — что отец Монстр (P[adre] Mostro, т. е. Н. Риккарди. — И.Д.) всецело на нашей стороне (molto per noi), но он не советует в данное время начинать вновь остывшие споры»9.
По поводу этой встречи Галилей не без покровительственной иронии писал Чези 8 июля 1624 г., что ее участники «конечно, не в состоянии говорить об астрономии стихами, как они того желали бы, но твердо держатся мнения, что [астрономические рассуждения] — не предмет веры и не следует привлекать [к их обсуждению] Св. Писание. Что же касается их истинности или ложности, то отец Монстр не поддерживает ни Птолемея, ни Коперника, а довольствуется собственным суждением — небесные тела без всяких усилий движутся ангелами»10.
Наконец, 7 июля 1624 г. Цоллерн смог поговорить с Урбаном VIII, о чем я уже писал выше. Замечу, что это не была специально устроенная встреча для обсуждения статуса гелиоцентризма. Все гораздо проще: Цоллерн уезжал в свой диоцез в Богемию и, как полагается в этих случаях, нанес визит вежливости верховному понтифику, затронув в разговоре с ним и вопрос о коперниканстве. Ответ папы был не намного лучше позиции «отца Монстра». Фактически Урбан VIII настаивал на том же, на чем и А. Осиандер, только инструментализм (я буду faute de mieux использовать этот термин. — И.Д.) верховного понтифика был откровенно теологизированным: любая астрономическая теория признавалась в принципе недоказуемой, ибо Господь всемогущ и в состоянии множеством способов сделать то, что, как нам представляется, может быть сделано одним-единственным или вообще никаким.
Галилей, в отличие от Цоллерна, за полтора с лишним месяца своего пребывания в Риме встречался с папой шесть раз, решив при этом ряд важных для себя вопросов — о пособиях для сына Винченцо и дочери Вирджинии (Марии Челесты), о назначении во францисканский монастырь в Арчетри, где находилась Мария Челеста, нового духовника11 и т. д. Он даже получил от Святейшего кое-какие подарки. Но нет никаких указаний на то, что в их беседах затрагивалась космологическая тематика. Все, что Галилей смог узнать о позиции Урбана в этом вопросе, исходило из рассказа Цоллерна. Впрочем, ответ, данный папой кардиналу, можно было бы считать обнадеживающим, ведь Святейший ясно выразился — Церковь не осуждала коперниканство как ересь, но только как необдуманное заблуждение. Радовало и весьма благосклонное отношение Урбана VIII к «Il Saggiatore». Но на большее рассчитывать не приходилось, и 16 июня 1624 г. Галилей покидает Рим в компании друзей-флорентийцев — Микельанджело Буонаротти и епископа Франческо Нори. Он спешит домой, чтобы, как он выразился в письме к Чези, «очиститься».
От близкого друга и биографа Урбана VIII Агостино Ореджо (A. Oregius; 1577–1635) известно, что между М. Барберини и Галилеем как-то произошел такой разговор: «[Барберини] высказал все, о чем размышлял в одиночестве и в конце беседы спросил (вопрос был риторическим. — И.Д.) способен ли Бог расположить орбиты планет, звезд и всех видимых небесных тел иным образом, изменив при этом все расстояния, координаты, направления движений светил. <...> Если Бог способен это сделать (в чем Барберини, конечно, не сомневался. — И.Д.), то можно ли тогда полагать пределы божественной силе и мудрости? Услышав такие слова, сей ученейший муж (т. е. Галилей. — И.Д.) погрузился в глубокое молчание»12. А что мог сказать figlio diletto будущего папы? Что в действительности аргументация кардинала была прямо противоположной — если мы не можем полагать пределы божественной силе и мудрости, то какие у нас основания считать, что Бог не в состоянии изменить структуру мира и его законы? Ясное дело — никаких. Но зачем тогда наука?
1. Реальную власть Фердинанд II получил в 1628 г., когда он достиг восемнадцатилетия.
2. Именно при нем 6 июня 1622 г. была учреждена, для большего успеха католической миссии, постоянная Congregatio de propaganda fide.
3. Galilei G. Le Opere. Vol. XIII. P. 84.
4. Ibid. P. 117.
5. Galilei G. Le Opere. Vol. XIII. P. 130–131.
6. Shea W., Artigas M. Galileo in Rome... P. 109.
7. Galilei G. Le Opere. Vol. XIII. P. 179 (письмо Галилея Чези от 15 мая 1624 г.).
8. Galilei G. Le Opere. Vol. XIII. P. 181.
9. Ibid. P. 181.
10. Galilei G. Le Opere. Vol. XIII. P. 183.
11. Готовясь к поездке в Рим, Галилей попросил дочь выяснить, в чем нуждается монастырь. Она ответила ему 10 декабря 1623 г.: «Ваше милое письмо, написанное несколько дней назад, дало мне надежду на возможность дать при свидании непосредственный ответ на ваш вопрос. Но т. к. погода препятствует вашему прибытию, я решила высказать свои мысли письменно. Я должна начать с выражения удовольствия, которое доставило мне ваше доброе предложение о помощи. Я говорила об этом с госпожой настоятельницей и некоторыми из старших матерей, и все они высказали ту меру благодарности, какой заслуживает ваше предложение. Но, совещаясь друг с другом, они не могли решить, о чем лучше всего просить, госпожа настоятельница попросила совета у нашего покровителя — архиепископа. Он ответил, что для столь нищенствующего монастыря наиболее разумным было бы просить о милостыне. Тем временем я подробно поговорила об этом предмете с одной из монахинь, которая обладает, как мне кажется, здравыми суждениями. Движимая не пристрастием или интересом, а чистым рвением к благополучию монастыря, она советовала и даже настаивала, чтобы я просила Вас о вещи, которая, несомненно, будет столь же полезна для нас, сколь и легко выполнима для Вас, а именно, чтобы Его Святейшество даровал нам привилегию избирать своим духовником монаха из какого-либо монашествующего ордена, на условиях смены его через каждые три года, как это в обычае в других монастырях» (Galilei G. Le Opere. Vol. XIII. P. 157).
12. Цит. по: Фантоли А. Галилей... С. 237.
Из приведенного выше далеко не полного рассмотрения событий, связанных с полемикой вокруг гелиоцентрической теории Коперника и усилий Галилея доказать ее истинность, вырисовывается сложная и противоречивая картина, анализ которой требует использования поликонтекстуального подхода. В свою очередь, такой подход должен исходить из того, что система контекстов, в которых предполагается интерпретировать изложенную выше фактологию, не оставалась неизменной во времени, она постоянно меняла свою структуру.
Вдумчивый анализ ситуации выявляет внутреннюю разнородность каждого типа контекста. В частности, невозможно говорить о теологическом контексте вообще, не уточняя, о чем конкретно идет речь. В силу исторического многообразия, а зачастую и несовместимости позиций разных групп теологов, церковная традиция выявляет полифоническую природу, причем разделительные линии в богословских дискуссиях далеко не всегда отвечали демаркации католических орденов (не говоря уж о конфессиональной раздробленности Европы). Даже члены одного и того же религиозного ордена могли придерживаться совершенно разных позиций, скажем, в вопросе о статусе коперниканства и характера отношений между теологией и натурфилософией (или, как принято говорить, между религией и наукой)1.
Далее, само католическое понятие авторитета предполагает допустимость (и даже необходимость) определенного экзегетического плюрализма, хотя бы потому, что истинность того или иного библейского утверждения определяется, как подчеркнул Беллармино в письме Фоскарини, не только ex parte objecti, но и ex parte dicentis. Однако поскольку далеко не всегда наивно-буквалистское понимание священного текста соответствует наивно-«буквалистскому» пониманию чувственно-воспринимаемого мира2 («ведь каждый день пред нами Солнце ходит»), и уже в силу одного этого обстоятельства (не говоря о том, что Библия рассчитана на ограниченное понимание простецов) библейский текст нуждался в толковании.
Более того, история догматических учений выявляет напряженное противоречие между наличием известного экзегетического плюрализма и необходимостью контроля предлагаемых толкований священного текста со стороны Церкви. Насколько трудным оказывается поиск компромисса, показывают, в частности, документы Тридентского собора, решения которого именно в силу своего компромиссного характера нередко содержали смысловые лакуны и неопределенности, что, в свою очередь, порождало необходимость их последующей реинтерпретации и, соответственно, новые дискуссии, примером чего может служить рассмотренная в первой главе полемика De auxiliis, длившаяся почти двадцать лет. И никакими соборными декретами и инквизиционными трибуналами невозможно было искоренить многообразие мнений по догматическим вопросам, хотя католическая Церковь, атакуемая протестантами, вынуждена была в целях самозащиты время от времени ужесточать свои позиции, в том числе и относительно пределов допустимого в библейской экзегетике.
На мой взгляд, было бы неправильно видеть в так называемой Контрреформации только деятельность конгрегаций Инквизиции и Индекса запрещенных книг. Одна из фундаментальнейших задач Тридентского собора состояла в переосмыслении («reconceptualization», по более точному выражению Р. Фельдхей3) отношений между трансцендентным и мирским, священным и профанным. Но как бы ни формулировать это отношение, ясно (по крайней мере, для Беллармино), что непозволительно допускать реинтерпретацию текста Св. Писания на том лишь основании, что синьору Галилею кажется, будто он доказал истинность коперниканского учения. Риторика, даже самая изощренная, — это еще не доказательство.
И еще один немаловажный момент — Беллармино, бесспорно, относился к Галилею с большим уважением, он понимал, что Filosofo e Matematico Primario del Granduca di Toscana, человек упорный, темпераментный и увлекающийся, поставил себе целью убедить мир в истинности коперниканского учения, но при этом он не только торопился, но и рассуждал о весьма тонких материях, так сказать, sub specie aeternitatis, не принимая в расчет всю сложность и противоречивость современной конфессионально-политической ситуации в Европе. Беллармино же, большую часть жизни посвятившей полемике с протестантами, понимал, что вопрос о толковании Писания — далеко не второстепенная проблема, наоборот — это тот самый gravissima quaestio, который определяет ход и характер всей прочей полемики и идейного противостояния. Именно необходимость противостоять идейным вызовам протестантизма вынуждала Беллармино занимать позицию, выходящую за рамки тридентских решений и предписаний Св. Августина и Св. Фомы.
Беллармино вполне разделял упомянутый выше тезис Св. Августина о необходимости пересмотра библейской экзегезы в случае получения неопровержимых доказательств физической истинности тех или иных научных положений, не согласующихся с буквальным пониманием текста Св. Писания4, — тезис, на котором также настаивал Св. Фома и на который часто ссылался Галилей. Понимал Его Высокопреосвященство и то, что Св. Писание ни в коем случае не следует рассматривать как энциклопедию по естествознанию. Неприемлемым для Беллармино было другое. Почему-то Галилей полагал, будто упомянутый тезис Св. Августина правомерно распространять и на недоказанные (или, по крайней мере, пока недоказанные) научные утверждения (типа основных положений коперниканской космологии), которые, однако, по глубокому убеждению Галилея, непременно будут доказаны в будущем. Такой подход представлялся Беллармино странным. Галилей настаивал на научной (когнитивной, как бы мы сейчас сказали) значимости гипотезы и потому требовал свободы в поиске путей ее верификации (или опровержения). Беллармино и тут не возражал, но одно дело искать доказательства и совсем другое — заниматься пропагандой недоказанного (но противоречащего тексту Писания) как доказанного5.
И здесь мы вплотную подходим к иному контексту космологической полемики (и научного дискурса вообще) — к вопросу о доказательности научных утверждений. Беллармино, как и многие другие теологи, вовсе не считал, что некое научное утверждение ложно потому, что оно противоречит Библии. Скорее, он допускал обратное — оно потому противоречит Библии, что ложно.
Драматизм же ситуации для Галилея состоял именно в том, что чем более он вдумывался в проблему доказательства, тем яснее осознавал — его доводы ничего не доказывают и не опровергают, circulus vitiosus — неизбежен. Даже когда фактологическая достоверность его наблюдений не ставилась под сомнение (а такое, как мы видели, случалось далеко не всегда), предметом спора оставалась их теоретическая интерпретация. Circulus vitiosus обнаруживался не только когда речь шла о падении камня или инерционном движении (что было рассмотрено в главе III), но и, к примеру, при анализе наблюдений Луны. Ведь когда Галилей утверждал, что Луна светит отраженным светом Солнца, он уже исходил из того, что ее поверхность неровная. Поэтому его телескопические наблюдения Луны не могли опровергнуть аверроистскую теорию Луны, согласно которой последняя не отражает солнечный свет, но под его воздействием начинает светиться (флуоресцировать), а поскольку лунная субстанция неоднородна, одни ее части светятся сильнее других, и последние воспринимаются как темные пятна6.
Фактически Галилей, который, при всем своем антиперипатетизме в сфере методологии, вполне разделял (как и его оппоненты) аристотелевский идеал научного познания, склонялся к тому, что единственная причина, заставляющая верить в достоверность данной теории — это ее способность объяснить связность нашего опыта7. Но это обстоятельство в глазах его оппонентов не обладало логической принудительностью, поскольку не гарантировало, что теория, хорошо объясняющая всю доступную совокупность релевантных фактов и данных наблюдений и опытов, является единственной, которая в состоянии это делать.
И потому так значима в стратегии галилеева дискурса роль риторики, причем риторики, естественно, небескорыстной. Когда он писал, к примеру, что католический священник Николай Коперник, чуть ли не по настоянию папы опубликовал «De Revolutionibus», где привел все необходимые наблюдения и доказательства в пользу гелиоцентризма («quanto ella sia ben fondata sopra manifeste esperienze e necessarie dimostrazioni»8) и т. п., все это не следует принимать за чистую монету, поскольку то была риторика, нацеленная на убеждение своих оппонентов и противников и удержание матери католической Церкви от пагубного шага — наложения запрета на гелиоцентрическую теорию. Именно поэтому Галилей свой развернутый ответ Беллармино преподносит в качестве письма Вдовствующей герцогине, а не ученой братии в Collegio Romano и не математику Кастелли (более компактное письмо которому было посвящено только одной стороне вопроса — толкованию Св. Писания в контексте новой космологии). С одной стороны, Кристина Лотарингская как-никак, а представительница правящей династии Тосканы, а с другой — ей много не надо, поскольку математическими познаниями коронованная вдовица не обладала, достаточно много раз повторить слова о necessarie dimostrazioni, не приводя конкретно никаких dimostrazioni.
Кроме того, Галилей не мог не учитывать и ряда социально-психологических моментов. Как упорный (а по меткому слову А.С. Пушкина — упрямый) защитник коперниканской теории9 — в то время трудно (если вообще) доказуемой, теологически отнюдь не индифферентной и с «наивно-эмпирической» точки зрения вовсе не очевидной — он нуждался в определенном статусе, который бы служил для него мощным «защитным поясом» от всяческих обвинений со стороны религиозных консерваторов, натурфилософов-традиционалистов и просто крикливых, но опасных дураков и невежд. Университет такого статуса дать не мог, об академиях — и говорить не приходится. Оставался только патронат мощного абсолютного монарха, в данном случае — Великого герцога Тосканы, плюс многочисленные связи в Риме. Но и тут ситуация складывалась далеко не однозначная. Дело не только в жаловании, дарах и защите. Удачно выбранный патронат открывал новые исследовательские перспективы. На науку во времена Галилея часто смотрели как на своего рода venatio (охоту) за тем, что недоступно обыденному опыту, будь то новые научные идеи, открытия или «куриозы» для придворных Kunstkammern. Места такой охоты лежали подчас далеко от университетских дисциплинарных угодий, да и правила охотников зачастую оказывались «в оппозиции методологическим установкам официальной академической культуры»10. Поэтому людей одаренных и беспокойных так привлекала придворная среда. И чем выше оказывался социальный статус придворного virtuoso, тем внимательней относились к его идеям, мнениям и достижениям, тем выше был их когнитивный статус. И наоборот — творческий успех повышал социальный рейтинг придворного.
Итак, из приведенного выше анализа вырисовываются три главных взаимосвязанных контекста: теологический (отнюдь, как мы видели, не монолитный), логико-методологический и патронатный. Кроме того, многое зависело от субъективных факторов (уровня и характера образования, эрудиции, гибкости и свободы мышления, темперамента и прочих личностных характеристик участников событий, включая, разумеется, и самого Галилея). И только в первом (а возможно, даже в нулевом) приближении вся описанная история оказывается выражением и «типичным примером» пресловутого конфликта между наукой и религией. Теологический контекст, бесспорно, важен, но скорее именно как тео-логический. Несколько спрямляя и схематизируя ситуацию, можно представить развитие событий в означенной системе контекстов следующим образом.
Полемика вокруг коперниканства развивалась в двух направлениях — натурфилософском и теологическом. Возражения оппонентов Галилея, движимых самыми различными мотивами и побуждениями (от элементарной зависти до понимания логических и физических, в частности, оптических проблем, с которыми столкнулись попытки обоснования коперниканства как теории, истинной in rei natura) показали, что на легкую победу ему рассчитывать не приходится. Выяснилось, что «сила истины (la forza della verità)»11 отнюдь не всемогуща, скорее приходится говорить о слабости истины (по крайней мере, когда речь заходит о процессах ее восприятия и социализации)12. В 1609–1610 гг. Галилей направляет усилия на создание вокруг себя и своих идей патронатного «защитного пояса» во Флоренции, а позднее — и в Риме (в частности, в Collegio Romano и в курии). Одновременно (и даже несколько ранее, до своего возвращения во Флоренцию) он начинает осознавать всю серьезность и трудность проблемы доказательства научных утверждений.
Поначалу Галилей надеялся, что дебаты удастся удержать в границах астрономии, математики и натурфилософии, а научные и логико-методологические трудности удастся так или иначе преодолеть. Однако усилиями наименее образованной и наиболее консервативно настроенной части его оппонентов, т. е. тех, кому было трудно или даже невозможно вести полемику в границах научного дискурса, эпицентр дискуссий стал, на рубеже 1611–1612 гг., неуклонно смещаться в сферу теологии13, что немало тревожило Галилея14, который ни под каким видом не соглашался уступать позиции тем «глупцам, кои в момент, когда оспариваешь одну их глупость, выдвигают другую, еще большую».
В итоге когнитивная стратегия сменилась оборонительной, а у последней, как известно, свои законы. Причем, по мере смещения полемики в теологическую плоскость, Галилей приближался к границам созданных им с большим трудом «защитных поясов», поскольку чем жестче звучали формулировки экспертов Инквизиции, тем на меньшую поддержку своих патронов он мог рассчитывать.
Наконец, следует упомянуть о том, что сама по себе теория Коперника обладала определенным защитным потенциалом. Правда, этот потенциал был связан не столько с космологическими идеями Коперника, сколько с предполагаемой полезностью его математических расчетов для исправления и совершенствования календаря. На этот аспект обращал внимание уже сам Коперник, но не исключено, что вклад его теории в решение календарных проблем был сильно (и, возможно, предумышленно) преувеличен15. Роль этого фактора зафиксирована в рассмотренных выше документах, относящихся к процедуре «исправления» «De Revolutionibus».
К 1615 г. теологическая дискуссия приняла своеобразный оборот — в ней все отчетливей стала выявляться логико-методологическая компонента, о чем уже было упомянуто. Именно сложное переплетение разнородных факторов определило, в конечном счете, парадоксальный характер событий 1616 г. — жесткая оценка основных положений теории Коперника экспертами Св. Инквизиции versus мягкость избранной Беллармино меры воздействия на Галилея (увещание), не говоря уж об алогичности задуманной процедуры этого воздействия. В событиях февраля — марта 1616 г. дали себя знать все движущие силы и контексты идейного противостояния предыдущих лет: непреклонность жестких противников коперниканства (главным образом из числа доминиканцев), требование неопровержимых доказательств физической истинности гелиоцентризма со стороны Беллармино и некоторых других прелатов и теологов (главным образом из числа иезуитов), необходимость ужесточения внутренней и внешней политики престола Св. Петра перед угрозой со стороны протестантских сил, патронатный фактор16, бесспорно, принимавшийся в расчет при обсуждении мер, которые надлежало принять, чтобы умерить воинственный пыл упрямого Галилея, нецелесообразность полного запрета коперниканства по причине его полезности (реальной или кажущейся) для усовершенствования календаря.
Можно, конечно, по-разному оценивать роль каждого из указанных контекстов в истории увещания Галилея, можно расширять или сокращать перечень контекстов, в рамках которых разворачивались основные события, по-разному представляя контекстуальную структуру. Но главный результат исторических исследований последних десятилетий, на мой взгляд, ясно показывает, что события, связанные с увещанием Галилея и процессом 1633 г., не укладываются в рамки монофакторных («однониточных», по выражению Г. Померанца) репрезентаций и примитивных нарративов à la Штекли о том, как церковные мракобесы портили жизнь великому ученому.
1. Здесь уместно привести замечание М. Финоккьяро в адрес Р. Фельдхей. Последняя «доказывает, что римско-католическая церковь не была монолитным институтом, что доминиканцы представляли консервативное ее крыло, а иезуиты — прогрессивное. Однако, доминиканцы и иезуиты также не были едины» (Finnocchiaro M. Science, Religion, and the Galileo Affair: On the Undesirability of Oversimplification // Osiris. 2001. Vol. 16. № 1. P. 114132; P. 117). Да, в целом это так, но если ограничиться перечнем основных оппонентов Галилея (по крайней мере, в хронологических рамках «первого дела»), то наиболее заскорузлыми консерваторами оказываются все же доминиканцы, тогда как многие иезуиты вели с Галилеем куда более содержательный диалог и занимали более гибкую позицию.
2. Бог, по словам Иоанна Златоуста (IV в.), устроил «все сотворенное выше естественного порядка» (цит. по: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ. М.: Наука, 1980. С. 391).
3. Feldhay R. Recent Narratives... P. 497.
4. См. главу IV, раздел «Физика священного текста».
5. Здесь не лишне отметить, что в зрелых работах Галилея (например, в Dialogo) ясно просматриваются контуры того методологического подхода, который в настоящее время принято называть гипотетико-дедуктивным (подр. см.: Finocchiaro M. Galileo and the Art of Reasoning (Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Methods). Boston etc.: Reidel [Kluwer], 1980) и, возможно, не будет сильным преувеличением сказать, что теологическая полемика в известной мере способствовала формированию галилеевой «hypothetical epistemology» (Finnocchiaro M. Science, Religion, and the Galileo Affair... P. 123), так сказать, «пожар способствовал ей много к украшенью».
6. Точку зрения Аверроэса разделяли многие — Ж. Буридан, Н. Орем, Альберт Саксонский, Леонардо да Винчи, Х. Клавиус и др. См. также: Ariew R. Galileo's Lunar observations in the context of medieval lunar theory // Studies in the History and Philosophy of Science. 1984. Vol. 15. № 3. P. 213–226 (подр. русский реферат В.Н. Поруса см.: Методологические принципы современных исследований развития науки (Галилей). Реферативный сборник / Под ред. Л.М. Косаревой. М.: ИНИОН АН СССР, 1989. С. 133–138).
7. Ален Сокал и Жак Брикмон в монографии Интеллектуалвнеле уловки: критика современной философии постмодерна (пер. с англ. А. Костиковой и Д. Кралечкина. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002) пишут по этому поводу: «Мы снова и снова возвращаемся к проблеме Юма: никакое суждение о внешнем мире не может быть доказано в буквальном значении этого термина, но оно, если воспользоваться весьма точным выражением из англосаксонского права, может оказаться вне всяких разумных сомнений. Неразумное же сомнение остается всегда» (С. 59) и всегда, добавлю, остается размытой граница между разумным и неразумным сомнением.
8. Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 312.
9. По выражению Винченцо Ферроне и Массимо Фирпо, коперниканство стало для Галилея «a sort of obsession», авторы даже употребили по отношению к тосканскому ученому термин «Copernican fanaticism» (Ferrone V., Firpo M. From Inquisitors to Microhistorians: A Critique of Pietro Redondi's Galileo Eretico // Journal of Modern History. 1986. Vol. 58. P. 485–524; P. 493.
10. Eamon W. Court, Academy and Printing House: patronage and scientific careers in late-Renaissance Italy // Patronage and Institutions: Science, Technology and Medicine at the European Court: 1500–1700 / Ed. by B. Moran. Woodbridge: Boydell Press, 1991. P. 74.
11. Выражение, которое Галилей употреблял довольно часто (см., например, Galilei G. Le Opere. Vol. I. P. 303; Vol. II. P. 241 и т. д.).
12. По замечанию Г. Блюменберга, «Галилей не простил истине, что она оказалась столь слабой» (Blumenberg H. The Genesis... P. 381), что она «не обладала достаточным светом, который бы выделил ее среди мрака стольких заблуждений» (Галилей Г. Диалог... С. 514).
13. Разыгрывалась также и астрологическая карта, но этот контекст, насколько можно судить по дошедшим до нас материалам, не сыграл в антикоперниканской полемике сколько-нибудь значимой роли.
14. Как он выразился в одном из писем, «они (т. е. его противники. — И.Д.) обрели новую возможность меня терзать» (Galilei G. Le Opere. Vol. V. P. 292).
15. Мне неизвестны серьезные исследования, посвященные этой теме.
16. Сюда я отношу также и многочисленные связи и знакомства, которые Галилей завел в разных городах Италии и особенно в Риме.