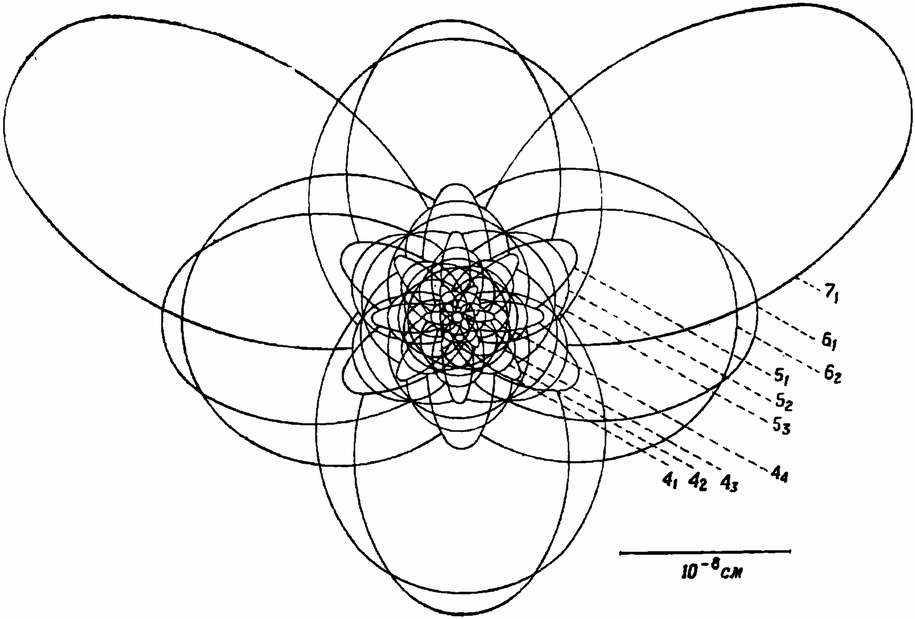
Фиг. 1. Квантовые орбиты некоторых оболочек для элемента радия-88 и соответствующие квантовые числа
|
Физико-математическое наследие: физика (философия физики) |
Werner Heisenberg
PHILOSOPHIC PROBLEMS
OF NUCLEAR SCIENCE
В.Гейзенберг
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
АТОМНОЙ ФИЗИКИ
Перевод с английского
и предисловие
Н. Ф. Овчинникова
Вступительная статья
И. В. Кузнецова
Издание третье
МОСКВА
| {I} |
ББК 22.38 87.2
Гейзенберг Вернер
|
Философские проблемы атомной физики: Пер. с англ. / Предаёт. Н. Ф. Овчинникова. Вступ. ст. И. В. Кузнецова. Изд. 3-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 192 с. (Физико-математическое наследие: физика (философия физики).) |
Книга выдающегося немецкого физика, лауреата Нобелевской премии Вернера Гейзенберга (1901–1976) освещает широкий круг принципиальных вопросов физической науки. В ней затрагиваются философские основы физики, рассматриваются её пути развития, важнейшие проблемы и задачи, делается попытка проанализировать социальную роль науки. Автор привлекает разнообразный материал, относящийся к различным этапам истории естествознания, в ряде случаев апеллируя к своему собственному опыту и жизненным наблюдениям.
Рекомендуется широкому кругу читателей, интересующихся проблемами философии естествознания.
Издательство ЛКИ. 117312, г. Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, д. 9.
Формат 60×90/16. Печ. л. 12. Зак. № 1606.
Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».
117312, г. Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, д. 11А, стр. 11.
ISBN 978-5-382-00758-8 |
© И. В. Кузнецов, вступительная © Издательство ЛКИ, 2008 |
| {II} |
В конце 1952 г. в библиотеке Института философии на стенде новых поступлений я увидел книгу: Werner Heisenberg. Philosophic Problems of Nuclear Science, изданную в Нью-Йорке. Тогда я только что защитил кандидатскую и был зачислен сотрудником Института в сектор «Философия естествознания». Мой интерес к философской книге Гейзенберга, выдающегося физика, вполне понятен. Тем более, что в то время подобного рода книги были редкостью. С интересом и энергией молодых лет я стал переводить для себя английскую книгу немецкого учёного.
Позднее я узнал о других книгах Гейзенберга, переведённых на русский язык. А недавно К. А. Томилин опубликовал полный список переводов книг и статей немецкого физика, в котором отмечены выходные данные его трудов [Исследования по истории физики и механики 2002. М.: Наука, 2003. С. 234]. В списке 10 книг (монографии и сборники) и 90 статей. Из этого списка упомяну некоторые книги, содержание которых так или иначе связано с книгой 1952 г. Ещё до войны, в 1932 г., вышел перевод книги «Физические принципы квантовой теории». В предисловии к этой книге Гейзенберг писал: «Цель книги покажется мне достигнутой, если она несколько будет способствовать распространению того „копенгагенского духа” квантовой теории (если я могу так выразиться), который дал направление всему развитию новой атомной физики» [С. 8]. Вскоре после войны, в 1947 г., появился перевод книги «Физика атомного ядра». Книга эта — собрание докладов, прочитанных Гейзенбергом в 1942 г. в высшей Технической школе. Автор начинает с описания истории атомного учения. В частности, он пишет: «Представление об атомном строении материи, т. е. допущение о существовании мельчайших неделимых частиц, из которых составлена материя, исходит уже от античной философии. Две с половиной тысячи лет назад на это осмелились греческие мыслители. Кто хочет понять современную атомную теорию, тому следует обратить внимание на историю атомизма» [С. 7]. Среди книг в списке К. А. Томилина отмечу ещё сборник статей «Шаги за горизонт» (1987), в издании которого мне пришлось участвовать в качестве редактора и автора вступительной статьи. И ещё: для меня особенно интересна {III} книга «Физика и философия. Часть и целое». М., 1989. (Вторая часть этой книги вышла отдельным изданием [М.: УРСС, 2004].) В конце этой книги А. В. Ахутин опубликовал основательный анализ философских воззрений Гейзенберга.
Что касается книги 1952 г., напомню, изданной в Нью-Йорке, над переводом которой я старательно и торопливо, как я помню, работал и которая вышла в русском переводе в 1953 г., то она представляется теперь в ряду тех книг выдающегося физика, которые удивляют своим охватом многих проблем развивающейся науки и её истории. Особенно поразительной в книге 1953 г. оказалась для меня речь Гейзенберга, произнесённая перед студентами Гёттингенского университета 13 июля 1946 г. Эту речь он озаглавил: «Наука как средство взаимного понимания народов».
Всего год как закончилась жестокая война, которая велась со стороны Германии под лозунгами национал-социализма. Кажется, естественным было бы допустить, что выдающийся физик, работая во время войны в научном институте своей страны, разделял господствующую националистическую идеологию. Но при таком допущении было удивительным читать его речь перед студентами вскоре после войны, где он так настойчиво и так убедительно говорил об интернациональной значимости научных исследований в полном противоречии с националистическими идеями, в атмосфере которых он жил и работал.
Рассказывая о воздействии на него личности Бора, Гейзенберг говорил студентам Гёттингена, что его общение с датским физиком привело к пониманию того, что «если кто-либо пытается выяснить строение атома, то совершенно безразлично, кто он — немец, датчанин или англичанин. Я усвоил также и нечто, быть может, ещё более важное: в науке всегда можно, в конце концов, решить, что правильно и что ложно; она имеет дело не с верой, мировоззрением или гипотезой, но, в конечном счёте, с теми или иными определёнными утверждениями, из которых одни правильны, другие неправильны, причём вопрос о том, что правильно и что неправильно, решают не вера, не происхождение, не расовая принадлежность, а сама природа или, если хотите, бог, но во всяком случае не люди» [Гейзенберг Вернер. Философские проблемы атомной физики. М., 1953. С. 125].
Надо было пережить годы особенного националистического угара, вызванного войной, чтобы оценить значимость сказанного в 1946 г. Гейзенбергом перед студентами Гёттингенского университета. Такой угар с особенной настойчивостью распространился в послевоенные годы и в нашей стране. Разумеется, в облике привычных для нас идеологических штампов. Это тот случай, {IV} когда непримиримые противоположности, доведённые до предела, оказываются в своём существе тождественными. Утверждение Гейзенберга о науке как средстве взаимного понимания народов явно расходилось с тем, что можно было услышать тогда на семинарах или прочитать в философских публикациях.
Я с удивлением вчитывался в текст речи Гейзенберга, испытывая особенные трудности перевода, постоянно сомневаясь, верно ли я понимаю английский язык немецкого физика. В наше время процитированные мысли Гейзенберга представляются очевидными. Но если ещё раз допустить, что Гейзенберг во время войны так или иначе разделял националистическую идеологию в том её обличии, которое было характерно для национал-социализма, то невольно возникает вопрос: что же — выдающийся физик, как только закончилась война, вдруг так радикально изменил своё мировоззрение? К моему удивлению, некоторые историки науки так и оценили эволюцию его идей. В сказанном, и во многом другом, книга Гейзенберга, изданная в 1952 г. в Америке, была тогда открытием новых для меня проблем. Вскоре я узнал об издании этой книги на немецком языке, сверка с которой была проведена уже после того, как рукопись перевода с английского была в издательстве.
Я рассказал о своей работе над переводом книги Ивану Васильевичу Кузнецову, в те годы зав. сектором «Философии естествознания» в Институте философии. Кузнецов оценил значимость этой книги и предложил мне как можно скорее закончить работу над переводом, с тем чтобы опубликовать его в московском издательстве. В те годы это было издательство ИЛ («Иностранная литература»). Иван Васильевич написал предисловие к русскому переводу и рекомендовал его к изданию.
Публикуя ныне второе стереотипное издание перевода книги, вышедшей в 1953 г., по обоюдному согласию с издательством «УРСС» мы ничего не меняем в предисловии к этой книге, написанном И. В. Кузнецовым, — оно, как легко понять, выражает идеологию послевоенных лет в нашей стране и ныне может служить историческим документом эпохи. Нет необходимости что-либо исправлять в аргументации и оценках, типичных для того времени. За прошедшие десятилетия радикально изменилось понимание исторических событий и человеческих деяний. Предоставим современному читателю составить своё суждение относительно всего, что было высказано полвека тому назад в предисловии к этой книге Гейзенберга. Равно как и оценить идеи выдающегося физика XX в., высказанные им вскоре после Второй мировой войны. {V}
Но я хотел бы вместе с нынешним читателем вернуться к книге Гейзенберга 1953 г., выходящей теперь вторым стереотипным изданием. В этом издании после публикации основного текста я пытаюсь кратко представить личность автора этой книги, его облик, его поведение в условиях тоталитарного режима, его оценку времени, в котором он жил. Что касается его философских идей, то их основательный анализ, как я уже упомянул, дан в статье А. В. Ахутина; я подчеркну лишь некоторые мысли выдающегося физика, которые мне представляются существенными при оценке его воззрений.
Подчеркнём, что книга вышла в русском переводе именно в 1953 г. В марте этого года скончался Сталин. Ироничный Окуджава в одной из своих песен образно выразил многозначность случившегося: «Умирает мартовский снег. Мы устроим ему весёлые похороны»; и строчками далее: «Умирает мартовский снег. Мы ему воздадим генеральские почести». Генеральная линия распалась на кусочки и всё смешалось тогда в нашем доме.
К работе над изданием книги был причастен автор предисловия И. В.Кузнецов, авторитет которого определил возможность её выхода в свет. Выход книги философского характера на русском языке западного «физика-идеалиста» именно в 1953 г. нежданно оказался для нас знаком больших перемен. Однако, как говорили и писали в то время, «сознание отстаёт от бытия», иногда на долгие годы. Несмотря на постепенное изменение интеллектуальной атмосферы, личность Гейзенберга оставалась под подозрением — во время войны он руководил так называемым «Урановым проектом». Физики антигитлеровской коалиции опасались, что ещё в ходе войны гитлеровская Германия может получить в своё распоряжение новое невиданное оружие — атомную бомбу. Тот факт, что Гейзенберг, оставшись в Германии, вскоре после начала войны стал возглавлять работы, которые могли вести к получению такого оружия, определил оценку личности выдающегося физика. Иначе говоря, для историка науки после войны возникла «проблема Гейзенберга». Немецкий историк науки Хорст Кант подробно рассмотрел ситуацию, связанную с участием Гейзенберга в урановом проекте. Начиная свой анализ, он пишет, что «участие Вернера Гейзенберга в немецком урановом проекте представляется наиболее противоречивым аспектом его жизни» [Исследования по истории физики и механики. М., 2003. С. 151].
Евгений Львович Фейнберг назвал ситуацию, в которой оказался Гейзенберг, «трагедией эпохи». Не только Гейзенберг, но многие другие интеллектуалы, да наверное и люди разных профессий испытали трагедию того времени. Обсуждая проблему, связанную {VI} с жизнью немецкого учёного, российский физик пишет следующее: «Мы приходим к заключению, что политическое поведение Гейзенберга в большой мере определялось естественной заботой о судьбе немецкого народа и самой страны. Такой глубокий патриотизм может, конечно, в известных случаях переходить в национализм и даже шовинизм, в убеждение о превосходстве своей нации над всеми другими. В истории Германии так бывало несмотря на то, что веками немецкая культура была открыта для благотворного взаимообмена с культурами других народов» [Фейнберг Е.Л. Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания. М., 1999. С. 242].
И действительно, исторический факт заключается в том, что в Германии произошло превращение патриотизма в национализм. Невозможно определённо утверждать, почему это случилось, вопреки высоким культурным традициям этой страны. Можно только сослаться на высказывание Бора, который основательно размышлял не только о проблемах атомной физики, но и судьбах человеческого существования. Гейзенберг в своих воспоминаниях сохранил для нас такое высказывание Бора: «Возможно, возрастание могущества Германии за последнее столетие далось ей в некотором смысле слишком легко. Возьмём войну 1864 г. против нашей страны, оставившую у нас столько горького чувства, потом победу над Австрией в 1866 и над Францией 1870 г. Немцам, должно быть, показалось, что мановением руки можно построить центрально-европейскую державу. Но всё обстоит не так уж просто. Чтобы основать державу, необходимо даже в случае, когда нельзя обойтись без насилия, прежде всего завоевать сердца многих людей и склонить их к новой форме объединения. Этого пруссакам, несмотря на всю их доблесть, явно не удалось» [Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 178].
В связи с тем, что говорил Бор о политической истории Германии, можно сказать, что тут проявилась психологическая склонность людей переоценивать свои успехи в том или ином виде деятельности. Человек, добившийся успеха, начинает осознавать себя особенным существом, выделенным среди других. Апеллируя к высшим силам, он ощущает себя богоизбранным в своём превосходстве. Иногда это служит внутреннему оправданию безнравственных деяний. На основе такой склонности, при условии узости культурного сознания, возникает феномен идентичности — отдельный человек отождествляет себя с тем кругом людей, к которому он принадлежит по рождению или по условиям жизни.
Люди склонны объединяться в «стаи» — так им живётся безопаснее и комфортнее. Человек чувствует близость, «родство» {VII} с любым другим членом «стаи» — Он идентичен Ему. «Стаи» — это не только метафора, но это реальные феномены социального поведения: различные религиозные конфессии, политические партии, определённые нации и даже нынешние террористы, явно управляемые могущественными кланами. А когда начинается война, склонность к идентичности оказывает особенное действие — стремление к объединению перед грозящими испытаниями способствует превращению патриотизма в национализм. При этом национализм часто прикрывается патриотизмом. Не каждый может внутренне противостоять общему умонастроению.
В разговоре с Бором Гейзенберг обратил внимание на тот факт, что в начале войны мир в сознании людей изменился: повседневные заботы, стоявшие в центре жизни, отступили и даже, можно сказать, исчезли. Людей постигла одна и та же судьба — это объединяло. Но к этому можно добавить уже сказанное — такое объединение народа направляло его сознание в сторону национализма. На замечание Гейзенберга Бор ответил выразительными словами: «И верно, что нет силы, способной в описываемый Вами момент сказать „нет”. Но разве не ужасно, что это так? Разве всенародный порыв, свидетелем которого Вы были, не имеет совершенно явственного сходства с тем, что происходит, например, когда осенью птицы стаями тянутся на юг? Ни одна из птиц не знает, кто принял решение об этом перелёте на юг и почему этот перелёт происходит. Но каждая захвачена всеобщим возбуждением, чувством стаи и счастлива, что может лететь, хотя для многих полёт кончится гибелью. У людей в подобном совместном порыве поражает то, что он, с одной стороны, стихийно несвободен, как, скажем лесной пожар или любое другое естественное явление природы; а с другой стороны, в поддавшемуся ему индивиде он порождает ощущение крайней свободы. Молодой человек, участвующий во всенародном движении, сбрасывает с себя груз повседневных забот и тревог» [Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 179].
Обсуждая проблему национализма, Фейнберг формулирует вопрос по отношению к Гейзенбергу: произошло ли подобное превращение патриота в националиста? И наш физик чётко отвечает на поставленный им вопрос: «Для такого предположения у нас нет никаких оснований» [Фейнберг Е.Л. Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания. С. 243]. Обращение к литературе, где так или иначе затрагивается «проблема Гейзенберга», позволяет принять оценку Фейнберга — Гейзенберг оставался немецким патриотом в высоком значении этого слова, но его патриотизм никак не переходил в национализм. Иногда одно и то же слово приобретает {VIII} различный смысл в зависимости от контекста употребления. В данном случае слово «патриотизм» может оставаться в своём высоком значении, а может и падать до самого низкого уровня, опускаясь до оправдания безнравственных деяний по отношению к людям из другой «стаи», а порою и по отношению к своим, в особенности если кто-то из них затрагивает их материальные интересы. Такая неопределённость требует внимания при использовании подобных понятий — тут необходимо понимание конкретной ситуации. В данном случае неопределённость понятия способствует тому, что «проблема Гейзенберга» остаётся нерешённой — существовали и ещё существуют различные оценки его личности.
Летом 1959 г. в Киеве проходила международная конференция по физике высоких энергий. Основные докладчики на конференции к тому времени — это физики нового поколения. Гейзенберг присутствовал как «живой классик» — он не был докладчиком и провёл лишь небольшой семинар, на котором представил свои идеи по единой теории элементарных частиц. На этой конференции я был в составе небольшой группы сотрудников московского Института философии, приглашённых в качестве «наблюдателей». Мне действительно посчастливилось наблюдать, как Гейзенберг и наш физик-теоретик и математик Н. Н. Боголюбов, прогуливаясь перед началом заседания, оживлённо беседовали, прежде чем войти в здание, где проходила конференция. Я только ныне осознаю и вспоминаю, что во все дни конференции мне не пришлось видеть Гейзенберга с кем-либо из других наших физиков. Можно истолковать этот факт как проявление особенного отношения учёных нашей страны к немецкому учёному. Создавалось впечатление, что Гейзенберг для участников международной конференции — это залётная птица из другой «стаи».
Отношение к Гейзенбергу в нашей стране явно сказалось в декабре 1971 г., в год его семидесятилетия. Говоря о юбилее выдающегося учёного, я предложил моей аспирантке Галине Богомоловой, только что защитившей диссертацию об эволюции философских воззрений Гейзенберга, написать для журнала «Природа» статью о его научных достижениях и философских идеях. Конечно, редакция журнала ожидала юбилейной статьи от кого-либо из наших авторитетных физиков. Но все попытки получить такую статью к юбилею Гейзенберга окончились неудачей. Публикация статьи Г. Богомоловой, представленной к сроку, спасала положение — семидесятилетний юбилей немецкого физика, несмотря на молчание наших учёных, был всё же отмечен в нашей стране публикацией статьи Богомоловой в журнале «Природа» [1971. № 12]. {IX}
Я вспомнил эти эпизоды, затрагивающие отношение к выдающемуся физику, для того, чтобы указать на сложность оценки человека, вынужденного жить и работать в условиях жестокой диктатуры. С того времени, когда отмечалось семидесятилетие учёного, прошло свыше трёх десятилетий, а если отсчитывать срок со времени выхода книги 1953 г., то протекло полвека. Давность событий позволяет с большей уверенностью исторически осмыслить многое из того, что связано с фактами из жизни и с воззрениями Гейзенберга. Сейчас можно обратиться к возможно более объективному описанию непредсказуемых при его жизни поворотов в судьбе учёного. На основании известных мне источников я пытаюсь представить некоторые события из жизни Гейзенберга, позволяющие оценить его поступки в связи с событиями времени, в котором ему довелось жить.
Вернер воспитывался в семье профессора Мюнхенского университета Августа Гейзенберга, специалиста по Византийской культуре и новогреческим языкам. Основательное музыкальное образование стало для него первой областью творчества, которая вела его в высокую сферу различных форм интеллектуальной жизни. Но время поисков призвания оказалось для него нелёгким во многих отношениях. После экзамена на аттестат зрелости он тяжело заболел и в долгие дни болезни, а затем и нескорого выздоровления, как он сам пишет, «оставался наедине со своими книгами». Надо думать, что погружение в мир книг определило направленность его интереса — он решается изучать математику. Опустим подробности внешних влияний на его поиски призвания и скажем, что волею непредсказуемых событий его решение корректируется — он становится учеником знаменитого Зоммерфельда, который представлял тогда в Мюнхенском университете теоретическую физику. Такому счастливому повороту в его жизни способствовал и отец.
Но увлечение музыкой остаётся у него на всю жизнь. Он часто бывает у своего друга, виолончелиста Вальтера, и музицирует на прекрасном рояле. Мама друга, слушая игру Гейзенберга, однажды сказала ему: «От Вашей игры и от характера Ваших рассуждений о музыке у меня сложилось впечатление, что искусство ближе Вашему сердцу». И всё же Гейзенберг склоняется к профессиональному занятию теоретической физикой.
В студенческие годы его жизнь, как он сам вспоминает, протекала в двух совершенно разных мирах — в дружеском кругу молодёжного движения тех лет и в абстрактно рациональной области науки. Мир музыки настолько органичен его личности, что не выделяется им как особенная сфера его жизни. Хотя у тех, кто {X} его близко знал, не было сомнения, что музыка была той областью жизни, которая составляла внутренний стимул теоретической мысли.
А мысль всё настойчивее обращалась к проблемам атомной физики. Возможно, такое направление интересов определялось общим интеллектуальным настроем эпохи. Регулярный семинар Зоммерфельда способствовал углублённому интересу к этим проблемам. Здесь же, на этом семинаре, Гейзенберг познакомился с Вольфгангом Паули, ставшим его другом и непременным критиком. Ему необычайно повезло — с таким другом жизнь приобретала особенный смысл. Это та редкостная роскошь дружеского общения, которая стимулирует и обогащает мысль. В самом начале дружбы им было о чём поговорить — теория относительности и новая теория атома волновала обоих. Особенно привлекала атомная теория, которая своими загадками призывала к творчеству.
Паули ещё в 1921 г. обратил внимание своего друга на то, что датчанину Нильсу Бору удалось связать удивительную устойчивость атомов с квантовой гипотезой Планка. Хотя, склонный к критическому взгляду на любые теоретические идеи, Паули вместе с тем заметил: «Однако сама по себе идея Планка ещё никем не разъяснена». Зоммерфельд внимательно следил за развитием своих учеников, поддерживая их устремления к новым идеям и пытаясь включить молодые умы в живой процесс горячих обсуждений волнующих проблем.
В начале лета 1922 г. Нильс Бор был приглашён в Гёттинген для прочтения лекций о своей теории атома. Зоммерфельд понимал, что его ученикам будет полезно прослушать выдающегося физика. В эти летние дни он спросил Гейзенберга, не хочет ли он лично познакомиться с Бором. Вспоминая удивившее его приглашение, Гейзенберг замечает, что в те времена поездка в Гёттинген из Мюнхена представляла для него неразрешимую финансовую проблему. Надо думать, что Зоммерфельд понимал это затруднение ученика и, приглашая его в Гёттинген, сразу же заметил, что расходы, связанные с поездкой, он берёт на себя. Другие участники семинара, по-видимому, не нуждались в такой опеке.
Вспоминая лекции в Гёттингене, названные позднее «Фестивалем Бора», Гейзенберг писал: «Бор говорил довольно тихим голосом, с мягким датским акцентом, и когда он разъяснял отдельные положения своей теории, то выбирал слова осторожно, гораздо осмотрительнее, чем мы привыкли слышать от Зоммерфельда, и почти за каждым тщательно сформулированным предложением угадывались длительные мыслительные ряды, лишь начала которых {XI} высказывались, а концы терялись в полумраке чрезвычайно волновавшей меня философской позиции. Содержание лекции казалось новым и вместе с тем не новым. У Зоммерфельда мы изучали теорию Бора и потому знали, о чём идёт речь. Но все слова в устах Бора звучали иначе, чем у Зоммерфельда. Непосредственно ощущалось, что свои результаты Бор получил не путём вычислений и доказательств, а путём интуиции и догадок, и что теперь ему было нелегко защищать их перед гёттингенцами с их высокой математической выучкой» [Гейзенберг Вернер. Физика и философия. Часть и целое. С. 169].
Гейзенберг в этом воспоминании удивительно точно рисует портрет великого датчанина. А он, молодой студент, решается в ходе лекции Бора сделать критическое замечание по поводу исследований нидерландского физика-теоретика X. Крамерса в области изучения спектральных явлений. Бор сослался на Крамерса в подтверждение своих рассуждений, указывая, что хотя принципы теории ещё не ясны, однако можно положиться на то, что теоретические результаты Крамерса правильны и позднее будут подтверждены экспериментами. Именно на эти слова Бора возразил молодой студент, заметив, что работы Крамерса несостоятельны. Конечно, на эту реплику надо было решиться. Но внешне происшедшее могло представляться дерзостью, если не упоминать, что за такой решимостью Гейзенберга скрывалась основательная предварительная работа — он ещё до лекций Бора тщательно проанализировал работы Крамерса, относящиеся к проблеме, и докладывал результаты своего анализа на семинаре Зоммерфельда. Бор почувствовал, что за репликой молодого человека стоят основательные занятия по проблемам его теории. Вспоминая значащие для него события, Гейзенберг подробно описывает происшедшее, и такое описание позволяет воссоздать атмосферу творческого общения выдающегося учёного и студента, начинающего свой непростой путь в науке.
После лекции Бор подошёл к Гейзенбергу и спросил, не может ли он во второй половине дня прогуляться с ним и обсудить возникшие вопросы. Вернувшись к предмету утренней дискуссии, Бор во время прогулки пояснил, что необходимо весьма осмотрительно относиться ко всем утверждениям о строении атома. Он кратко рассказал ему об исходных принципах новой теории атома. Часто говорят, что атом представляет собою планетную систему в миниатюре, и полагают, что к атому можно применять законы классической астрономии. Такое понимание атомного строения Бор решительно отвергает. И хотя известно, что картина планетарного строения атома вполне разделялась Резерфордом, тем не менее, опираясь на эту картину непрестанного движения внутриатомных {XII} частиц, невозможно было понять внутриатомный мир. Главная исходная мысль, иначе говоря, основной принцип построения новой атомной теории, настаивал Бор, заключается в факте устойчивости материи. С точки зрения классической физики этот факт не получает объяснения и представляется подлинным чудом.
Бор особенное внимание обратил на слово «устойчивость». Под этим словом, говорил Бор, он имеет в виду тот факт, что одни и те же вещества всегда и везде встречаются с одними и теми же свойствами — так, мы наблюдаем, как образуются одинаковые кристаллы, возникают одинаковые химические соединения и т.д. Можно производить самые разнообразные воздействия, например, на кусок железа, но в результате таких воздействий атомы, из которых состоит этот кусок, оказываются обладающими теми же самыми свойствами — они сохраняют эти свойства. Все подобные наблюдения можно выразить так: в природе имеется тенденция к образованию определённых форм. Бор пояснил, что слово «форма» используется им в данном случае для обозначения сохраняющихся объектов природы, способных воспроизводиться тождественными самим себе при всевозможных изменениях. В этой связи можно было бы обратиться к наблюдению живых организмов, ибо живые существа несут удивительную способность сохранять себя как нечто целое. Но Бор не стал углубляться в биологические проблемы, обратившись к более простым формам, с которыми приходится встречаться в физике и химии.
Гейзенберг вспоминает, что Бор подчеркнул решающее значение проблемы устойчивости и тот факт, что на эту проблему не обращалось должного внимания, существенно тормозил развитие новой атомной теории. Направленность мысли на наблюдаемые изменения, на очевидный Гераклитов поток, уводит мысль от подлинных проблем. Если обращаться к идеям античных мыслителей, то надо в связи с поисками принципов новой атомной теории упомянуть Парменида, учившего о вечности бытия, его неизменности. Можно сказать, что направленность мысли, если использовать термин Поп-пера, на «парменидионизм» открыла рациональный путь к новой атомной теории. Бор обратил внимание на мировую постоянную Планка, указывающую на дискретность изменения энергии атомной системы. Стремление включить в рассмотрение новую мировую постоянную позволило направить теоретические поиски в нужном направлении. Планк обнаружил, что энергия атомной системы изменяется ступенчато, так сказать, с остановками. Эти остановки, как заметил Бор, были названы стационарными состояниями. {XIII}
Бор осознал нетерпимость ситуации, когда прежних понятий оказывалось недостаточно, чтобы построить теорию строения атома — всё отчётливей становилось ясным, что ньютонова механика неприменима внутри атома. Физика оказалась перед трудной задачей объяснения внутриатомного мира — для этого нужны поиски другого языка. Ко времени беседы с Гейзенбергом Бор мог только сказать по этому поводу, что непонятные черты пробивающейся к росту квантовой теории, связанные с устойчивостью материи, как-то могут быть усмотрены посредством новых понятий, по-видимому, совершенно ненаглядных. Но эти новые понятия необходимо ещё найти.
Внимательно слушая Бора, Гейзенберг заметил: «Если строение атомов столь мало поддаётся наглядному описанию, как Вы говорите, и если у нас, собственно, нет языка, на котором мы могли бы вести речь об этом их строении, то сможем ли мы вообще когда бы то ни было понять атомы?» [Гейзенберг Вернер. Физика и философия. Часть и целое. С. 172]. После недолгого размышления Бор сказал, что всё же мы сможем понять атомы, но сначала нам необходимо будет ответить на вопрос: что такое понимание? Ответ Бора на вопрос Гейзенберга полон глубокого смысла — в его ответе ожидание плодотворного поворота мысли к самой себе. Бор неожиданно переходит в область философского подхода к научному познанию, и такой подход органичен его особенному способу размышления. Именно такой подход ведёт мысль к построению искомой теории.
Вспоминая всю ситуацию, связанную с вечерней прогулкой с Бором, Гейзенберг замечает, что их путь шёл по одной из хорошо ухоженных лесных тропинок к озарённой солнцем вершине, откуда можно было одним взглядом обозреть прославленный университетский городок с возвышающимися шпилями старинной церкви Иоанна и Иакова. Для Гейзенберга беседа с Бором была решающим событием в его жизни. В своей автобиографической книге он писал: «Эта прогулка оказала сильнейшее воздействие на моё последующее развитие, или даже, вернее сказать, что всё моё научное развитие, собственно, и началось с этой прогулки» [Там же. С. 170]. Когда они, заканчивая прогулку, приближались к первым городским домам, Бор предложил Гейзенбергу обсудить возможность того, чтобы часть студенческой жизни провести ему в Гёттингене, а затем посетить и Копенгаген.
Но эти счастливые надежды, открывшиеся приглашением Бора, не скоро смогли осуществиться. Протекли почти два года работы — защита докторской диссертации по устойчивости ламинарного течения в жидкости, последующий за этой защитой экзамен в Мюнхене {XIV} и ещё один семестр в Гёттингене в качестве ассистента Макса Борна — прежде чем в пасхальные каникулы 1924 г. Гейзенберг смог отправиться в Данию. Уже в первые часы пребывания на датской земле он почувствовал значимость личности Бора — когда в случае формальных затруднений он объяснял, что намерен работать в Копенгагене у профессора Бора, все затруднения мгновенно преодолевались. По прибытии в Институт Бора, Гейзенберг оказался среди большого числа блестящих молодых людей из самых разных стран, и главное, как он осознавал, эти молодые люди превосходили его в знании языков и были более основательно подготовленными в той науке, в которой ему предстояло работать. Ему пришлось преодолевать трудности общения. Но ему повезло — Елизабет Гейзенберг в своей книге замечает, что пожилая хозяйка квартиры приняла его как сына и стала обучать его английскому и датскому языкам.
Погружённый в заботы Института, Бор не смог сразу уделить внимание приглашённому ученику. И всё же вскоре нашёл возможность отправиться с ним в поход по острову Зеландия. Гейзенберг в своих воспоминаниях описал особенно значащие подробности их бесед. Описывая одну из прогулок с Бором, он замечает, что однажды они шли вдоль берега, минуя небольшие рыбацкие посёлки, и могли различать по ту сторону пролива шведский берег, отдалённый здесь от датского лишь на несколько километров. Они подошли к старинному замку Кронборг в Эльсиноре. На крепостных стенах замка они смогли видеть старинные орудия, символы былого могущества. Бор рассказал, что датский король Фридрих II построил замок в конце XVI в. Бор и Гейзенберг стояли в сумерках на бастионе возле старых пушек и скользили взглядом по парусным судам в проливе — при этом, как вспоминает Гейзенбрег, они явственно ощутили, какая гармония может исходить от места, где отгремели былые бои. Бор заметил, что если применить научный подход, то замок предстаёт перед нами как сооружение из камней; мы наслаждаемся формами, в которые их сложил архитектор. При таком подходе ничего не изменится, если мы узнаем, что здесь жил Гамлет. И тем не менее, как только мы об этом узнаём, замок Кромберг вдруг становится другим. Стены, крепостные валы и двор замка образуют для нас особенный мир, в котором простой закоулок напоминает о темноте человеческой души, мы слышим вопрос: «Быть или не быть?». Новое знание о воспринимаемом изменяет содержание восприятия.
И всё же, так или иначе они возвращались к заботам и волнениям текущих дней. Проблемы атомной физики овладевали их помыслами, составляя важнейшую часть их жизни. На пути понимания стабильности атомов вставали трудности, которые не удавалось {XV} преодолеть. Конечно, не только Бор и Гейзенберг, но и физики разных стран, пытаясь преодолеть трудности, постепенно привыкали к тому, что понятия классической физики при перенесении их в сферу атома верны лишь наполовину — невозможно требовать при их применении большой точности. В летний семестр 1924 г. на семинарах Макса Борна в Гёттингене уже говорилось о задаче построения новой научной дисциплины — квантовой механики, призванной занять место ньютоновской механики. В следующем году, продолжая свою работу в Гёттингене, Гейзенберг пытался, как он вспоминает, угадать правильные формулы интенсивности спектра водорода, используя метод математических расчётов, который он, будучи ещё в Копенгагене, применял в совместной работе с Крамерсом. Вскоре он убедился, что от такого метода пришлось отказаться и что не следует опираться на понятие орбит электронов в атоме, достаточно обратиться к «как никак» наблюдаемым величинам — амплитудам и частотам колебаний.
В разгаре этой работы, в мае 1925 г, он заболел сенной лихорадкой (вид аллергии). Болезнь способствовала погружению в проблему. Вскоре стало ясно, что необходимо искать наиболее простую математическую форму теории, в которой должны содержаться только наблюдаемые величины. Вместе с тем должны быть гарантии того, что математическая схема непротиворечива. Это требование связано с тем, чтобы в предложенной математической схеме выполнялся закон сохранения энергии, ибо, как замечает Гейзенберг, «без закона сохранения энергии вся схема утрачивает какую-либо ценность».
Сосредотачивая усилия на выполнимости закона сохранения энергии, Гейзенберг продвинулся далеко в построении искомой теории. Он писал в своих воспоминаниях: «У меня было ощущение, что я гляжу сквозь поверхность атомных явлений на лежащее глубоко под нею основание поразительной внутренней красоты» [Гейзенберг Вернер. Физика и философия. Часть и целое. С. 190]. Гейзенберг сообщил о своих результатах в построении математической схемы новой теории своему другу Паули. Обычно критичный Вольфганг Паули поощрил его в разработке взятого направления. В его жизни наступила пора необыкновенно интенсивной работы. При этом оказалось, что в различных странах наблюдались не менее интенсивные усилия по построению новой атомной теории: коллективная мысль шла независимым путём как единый поток, составленный из различных струй: в Гёттингене к Гейзенбергу присоединились Бор и Иордан, в Кембридже одиноко работал Дирак, в Берлине — Планк, Эйнштейн, фон Лауэ, Нернст. Весной 1926 г. Гейзенберг {XVI} был приглашён в Берлинский университет, чтобы рассказать о своих работах по построению новой квантовой механики.
Примерно в те дни, когда Гейзенберг делал доклад в Берлине, гёттингенцам стало известно о работе венского физика Шрёдингера, который подошёл к проблемам атомной теории с совершенно другой стороны. Он был убеждён, что переход от частиц к волнам позволит разрешить все затруднения — Шрёдингер отрицал дискретности, каковы бы они ни были. Вступая в полемику с Шрёдингером, Гейзенберг собрал все известные ему аргументы в пользу того, что дискретность является подлинной чертой самой реальности. Бор усмотрел в этих непримиримых позициях главную проблему рождающейся атомной теории. Датский мудрец настойчиво искал объединения противоположностей.
Зимой 1926–1927 гг. Гейзенберг снова в Копенгагене и его дискуссии с Бором становятся условием и содержанием творческой жизни. Гейзенберг жил тогда на верхнем этаже под крышей боровского Института. Почти каждый вечер Бор, освободившись от основной работы, поднимался к Гейзенбергу, чтобы продолжать обсуждение волнующих проблем — возникшее при этом напряжение мысли стало непрестанной чертой всех бесед Гейзенберга и Бора, и это напряжение усилилось к февралю 1927 г. настолько, что Бор не выдержал и, прекратив беседы, уехал в Норвегию, чтобы на лыжных прогулках отвлечься от непримиримых споров со своим учеником.
Оставшись один в Копенгагене, Гейзенберг продолжал интенсивно размышлять о дискретности как фундаментальной черте природного мира и о непрерывности, на которой настаивал Шрёдингер, убеждённый, что переход от частиц к волнам материи избавит новую физику от парадоксов строящейся квантовой теории. Бор же увёз с собой на лыжную прогулку груз нескончаемых споров о природе внутриатомного мира. Ситуация споров привела к тому, что перед Бором во весь рост встала проблема теоретического синтеза дискретного и непрерывного. Гейзенберг, оставаясь в Копенгагене, продолжал размышлять над проблемами, сформулированными Бором и направленными к поискам единой картины. Ученик Бора не мог отказаться от дискретности, заданной историей знания, опытом его мысли и простым наблюдением, но не мог принять и чистую непрерывность. Можно утверждать, что в его сознании настойчиво возникала воровская мысль, устремлённая к единству разнообразного — невозможно устранить из теоретического рассмотрения ни дискретность, ни непрерывность. {XVII}
Прогуливаясь в одиночестве по Феллед-парку, окружавшему Институт Бора, Гейзенберг размышлял вместе с тем и об источнике теоретических идей. Нет сомнения, что мы черпаем идеи из наблюдения над физическими процессами. Но сама по себе процедура наблюдения далеко не проста — надо помнить о принципе Эйнштейна — «только теория решает, что именно можно наблюдать». Допустим, мы наблюдаем туманные следы в камере Вильсона. Гейзенберг усомнился: наблюдаем ли мы при этом, скажем, движущийся электрон? Возможно, мы наблюдаем не частицу, но всего лишь дискретные следы неточно определённых положений электрона. В камере Вильсона видны лишь отдельные капельки воды, которые заведомо значительно больше электрона. Поэтому вернее было бы спросить: можно ли в квантовой механике описать ситуацию, при которой электрон лишь приблизительно, т. е. с некоей неточностью, находится в данном месте и при этом приблизительно, т. е. опять-таки с неточностью, обладает заданной скоростью? Записав эти размышления с помощью математических символов, Гейзенберг получил соотношения, названные позднее соотношениями неопределённостей.
Обращаясь к ходу размышлений, представленному самим Гейзенбергом, спросим, что нам кажется более важным: процесс рассуждения или его результат? Наверное, в процессе научной мысли, как она растёт в живой истории науки, важно и то, и другое. Хотя, конечно, физику важен результат — в данном случае записанные в виде формулы соотношения неопределённостей. Историк же науки обратит внимание на процесс получения результата, и этот процесс оказывается для него существенно важным, ибо только в этом процессе мы сможем усмотреть картину рождения научной мысли и тем самым схватить её содержание.
Обратимся к туманному следу электрона в камере Вильсона и опишем полученный Гейзенбергом результат пока на естественном языке, без формул (хотя формулы эти предельно просты): произведение неопределённости местоположения частицы на неопределённость количества движения (произведение массы на скорость) не может быть меньше постоянной Планка.
Бор вернулся из норвежских снегов с новыми мыслями, которые, как и у Гейзенберга, вырастали из зёрен их дискуссий. Гейзенберг вспоминает об этом в спокойных тонах, замечая, однако, что после лыжного отпуска Бора были ещё сложные дискуссии по проблемам истолкования квантовых процессов. Ученик Бора делает исторически важное утверждение: «Бор тоже продвинулся в развитии своих идей, пытаясь, как и в беседах со мной, сделать принципиальной основой истолкования дуализм волновой и {XVIII} корпускулярной картин. Центральное место в его размышлениях занимало вновь созданное им понятие дополнительности, призванное описывать ту ситуацию, когда одно и то же событие мы можем охватить с помощью двух различных способов рассмотрения. Оба эти способа взаимно исключают друг друга, но они также и дополняют друг друга, и лишь сопряжение двух противоречащих друг другу способов рассмотрения полностью исчерпывает наглядную суть явления» [Гейзенберг Вернер. Физика и философия. Часть и целое. С. 205–206].
Гейзенберг при этом замечает, что Бор увидел в соотношениях неопределённостей «лишь ещё один слишком специальный случай общей ситуации дополнительности». В этом последнем утверждении можно усмотреть существо различных оценок происшедшего после возвращения Бора из Норвегии — глава копенгагенской школы привёз из лыжной прогулки весьма общий принцип, в то время как его ученик за это время сформулировал конкретное проявление этого принципа. Но такая оценка полученных соотношений неопределённости не устраивает Гейзенберга — он стремится подчеркнуть, что его соотношения неопределённостей имеют столь же широкое значение, как и принцип дополнительности. После этого он пространно разъясняет ситуацию разногласий между Эйнштейном и Бором, которая так выразительно проявилась осенью 1927 г. на Международном конгрессе, посвящённом памяти Вольты в итальянском городе Комо, а вскоре и на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе. На этих представительных встречах физиков действительно обсуждалась проблема общности действия соотношений неопределённостей в квантовой физике, названных позднее соотношениями Гейзенберга. Впрочем, надо заметить, что обсуждение это проходило вне официальной программы конференции. По общему признанию, победу в этой полемике между Бором и Эйнштейном одержал Бор и тем самым подтвердил значимость соотношений неопределённостей, на общности действия которых настаивал Гейзенберг.
И такое название — соотношения неопределённостей Гейзенберга — закрепилось с 1927 г. и, можно сказать, стало каноническим. И всё же, попытаемся критически оценить ход аргументации Гейзенберга, который не мог принять истолкование ситуации, предложенной Бором, а именно, что соотношения неопределённостей — это специальные случаи принципа дополнительности. Гейзенберг настаивал на одинаковой общности действия как принципа дополнительности, так и соотношений неопределённостей. В этой связи зададимся вопросом: как понимать общность действия принципа дополнительности, с одной стороны, и общность действия соотношений неопределённостей — с другой? {XIX}
Истолкование возникшей ситуации, которое предложил Бор, вполне понятно, а именно: соотношения неопределённостей всего лишь специальный случай действия принципа дополнительности. Но в таком случае, на каком основании Гейзенберг настаивал на общности применимости соотношений неопределённостей в сопоставлении с принципом дополнительности? Основание это заключается в том, что ученик Бора, доказывая общность действия соотношений неопределённостей, имел в виду построение квантовой теории и демонстрировал эту общность, показывая применимость соотношений неопределённостей во всей области квантовых явлений. Именно такую общность действия соотношений неопределённостей и отстаивал Бор в его знаменитой полемике с Эйнштейном.
Вдумываясь в содержание сложившихся разногласий между Бором и Гейзенбергом, мы замечаем, что действие принципа дополнительности существенно выходит не только за рамки квантовых, но и вообще физических явлений. В то время как явления неопределённостей, усмотренные Гейзенбергом и выраженные математическими формулами, например (Δр)(Δх) ≥ h, имеют отношение лишь к физическим процессам. В результате сложилась непростая ситуация: Бор после возвращения из норвежских снегов увидел в подготовленной Гейзенбергом статье конкретный результат, представляющий важный случай действия принципа дополнительности. Он явно сожалел, что упустил возможность самому записать вывод из сформулированного к тому времени общего принципа. Хотя и не сказал об этом никому — историки науки смогли воссоздать лишь психологическую картину их встречи. В рукописи подготовленной Гейзенбергом статьи содержалось так много ошибок, что Бор вынужден был тщательно исправлять их. Гейзенберг, по-видимому, слишком торопился изложить волновавшие его мысли и потому не следил за корректностью своих вычислений. Только после тщательного исправления статья была отправлена в печать.
Я возвращаюсь к возникшей тогда ситуации — можно сказать, что Бор был смущён происшедшим. Он увидел в формулах Гейзенберга конкретное воплощение своей мысли о единстве дискретного и непрерывного, в истинности которой он стремился убедить своего ученика. Из прогулки в норвежских снегах он привёз более широкое понимание этого единства. Но конкретная формула ближе и понятнее физикам; язык формул доступнее и привычнее, чем язык философских утверждений.
Будучи доступнее, формула Гейзенберга была принята сообществом физиков. Я бы сказал — более приземлённый, деловой язык физика более понятен, чем язык высоких философских рассуждений. {XX} Но задача историка человеческой мысли представить ситуацию в её конкретных связях исторического развития, прояснить контекст употребления понятий. В описанной ситуации проявляется психологическая особенность человеческого понимания и человеческих оценок: всё, что мы умеем делать, то и представляется нам как существенное, основное, а то, что мы делать не умеем, о чём мы не знаем, то для нас оказывается в нашем представлении несущественным. Только то ценно, что чётко выражено в формуле. Математически зафиксированная мысль понятна нам: мы знаем, как её применять, что с ней делать. А принцип дополнительности — абстрактное утверждение — что с ним делать, мы не знаем.
Весьма определённо выразил принятую сообществом физиков трактовку связи принципа дополнительности с соотношениями неопределённостей российский математик А. Н. Паршин. Описывая феномен дополнительности, он, вопреки сложившейся в 1927 г. ситуации, оценивает принцип дополнительности как вытекающий из квантовой теории, а именно из соотношений неопределённостей — исторические факты заменяются им логикой. «Дополнительность возникла, — пишет Паршин, — при анализе хорошо известного фундаментального факта квантовой механики — соотношения неопределённостей, которое было обнаружено и положено в основу этого раздела физики Вернером Гейзенбергом в 1927 г. Это соотношение относится в своей простейшей форме к ситуации, когда мы имеем материальную частицу массы m и она движется в пространстве R с координатой х, со скоростью v» [Паршин А.Н. Путь. Математика и другие миры. М., 2002. С. 145].
Паршин подробно анализирует ситуацию, связанную с трактовкой принципа дополнительности, и приходит к неутешительному выводу: концепция дополнительности не стала общенаучным понятием, как, например, представление о симметрии. Наш математик подробно выявляет связь дополнительности с симметрией. В своём анализе, обращаясь к трудам Павла Флоренского и анализируя проблему кантовских антиномий, он приходит к выводу: «Мы можем предположить, что антиномия — это противоречащие друг другу высказывания об одном и том же, но делаемые в разных дополнительных ситуациях. Короче, можно сказать, что антиномия = дополнительность» [Паршин А. Н. Путь. Математика и другие миры. С. 167]. Как видим, вопреки обобщающему утверждению самого Паршина, концепция дополнительности стала именно общезначимым понятием, и это продемонстрировано им самим, когда он выявляет связь понятия антиномии с принципом дополнительности {XXI} — ведь понятие антиномии характеризует все области познания, в том числе и область научной мысли.
Конечно, трактовка Паршина, в которой историческая ситуация спрямляется логикой, вполне допустима, если мы интересуемся исключительно логическим процессом движения мысли. Но при этом надо иметь в виду, что реальный ход мыслей был сложнее и, как в данном случае, имел прямо противоположное направление — не от соотношений неопределённостей к принципу дополнительности, но наоборот — от дополнительности к соотношениям неопределённостей.
Для нас важен процесс исторически растущей мысли во всей её конкретности. При более широком взгляде на человеческое познание мы ясно видим, что без обращения мысли к самой себе невозможно её продвижение в определённой области исследования. Принципы, сформулированные в естественном языке, — это те зёрна, из которых вырастает знание конкретного, которое может быть выражено и в математической форме.
Фактическое влияние принципа дополнительности, смысл которого явственно звучал в споре Бора с Гейзенбергом в течение их долгих дискуссий, определило рождение соотношений неопределённостей. Это даёт нам основание принять сказанное Виталием Лазаревичем Гинзбургом, который отметил следующее: «К истории создания квантовой механики я могу сообщить лишь об одном, быть может неизвестном свидетельстве. Именно, известный физик Феликс Блох (1905–1983), работавший вместе с Бором и Гейзенбергом (кажется, он был первым ассистентом Гейзенберга), рассказывал мне, что соотношение неопределённости, по его мнению, принадлежит не Гейзенбергу, а Бору. Сам Гейзенберг, по словам Блоха, признавал это в разговоре с ним, заявив что-то в таком роде: Бор выражается туманно, вот я и написал это в более понятном виде (сказанное, — замечает Гинзбург, — я уже сообщал в издании 1995 г. „О физике и астрофизике” [М.: „Бюро Квантум”, 1995. С. 374], но не указал фамилию Блоха. — И. О.). Прав ли Блох? Замечу лишь, что из хорошо документированной книги А. Пайса (Pais A. Nils Bohr's Times. Clarendon Press. Oxford) это прямо не следует, хотя и не исключено» [Гинзбург В. Л. К столетнему юбилею квантовой теории (несколько замечаний) // 100 лет квантовой теории. М., 2002. С. 7].
Соотношения неопределённостей рождались зимой 1927 г. в результате долгого и волнующего обоих общения учителя и ученика. Эти соотношения стали выдающимся достижением атомной физики. Но приближались тридцатые годы — в Германии, по выражению Гейзенберга, «нарастала политическая смута». Независимые {XXII} социальные события отражались на судьбе учёных. Приход нацистов к власти вынуждал многих эмигрировать.
Виктор Вайскопф в предисловии к книге Елизавет Гейзенберг так пишет о выдающемся учёном: «Он был приятным человеком, с которым было легко дружить. Каждый, кто знал его, восхищались им — он проявлял широкий интерес к культурной жизни, был замечательным пианистом, с энтузиазмом занимался горным спортом и лыжными прогулками. Можно предполагать, что он прожил бы счастливую и плодотворную жизнь как ведущий учёный, окружённый учениками, жизнь, посвящённую исключительно глубокому пониманию физики и восприятию искусства, музыки, литературы и красоты природы. Но жизнь его прошла особенным путём. Он и его современники жили во времена политических потрясений. Европа, и в особенности его родная страна, переживала один из самых худших периодов мировой истории. Нацистский режим развязал наиболее разрушительные стороны человеческой природы, несовместимые и прямо противоположные хранимым ценностям, дорогим тому кругу людей, к которому принадлежал Гейзенберг» [Heisenberg Elisabeth. Inner Exile. Recollection of a life with Werner Heisenberg. Boston-Basel-Stuttgart. 1980. P.XI].
Потрясение, которое переживала Европа, вызвало непередаваемый страх и разрушение всех устоев жизни. Миллионы людей погибли, а оставшиеся в живых испытывали гнёт и унижение. Гейзенберг и его семья не испытали тех ужасов, которые переживали многие люди. Они не страдали в непосредственном смысле этого слова. В сравнении с судьбой жертв нацизма, бремя их переживаний было значительно легче. Вся эта нетерпимая ситуация явно складывалась ещё до наступления мировой войны. В преддверии неотвратимых событий Гейзенберг был поставлен перед нелёгким выбором.
К началу летнего семестра 1933 г. перед Гейзенбергом открылась картина постепенного разрушения прежнего уклада жизни. Многие из его учеников и друзей покинули Германию, а другие готовились к бегству. Его ассистент Феликс Блох уже принял решение эмигрировать. Для Гейзенберга наступило время глубоких раздумий о дальнейшей своей судьбе, а с ним и судьбе его семьи. Политические события, условия жизни друзей и близких, и тут же волнующие события в науке — всё смешалось в его жизни. И вместе с тем, его мысль каждодневно обращена к научным идеям, к тому, что совершается в теоретической физике. К концу 1938 г. в физике произошло удивительное событие, значимость которого могли понять немногие, — немецкий радиохимик Отто Ганн (1879–1968) обнаружил, что при бомбардировке атомов урана нейтронами в конечных {XXIII} продуктах распада присутствует элемент барий. Это означало, что ядро атома урана раскололось на две части сравнимой величины. Вылетающие при этом нейтроны могли побудить к расщеплению другие атомы урана и тем самым вызвать цепную реакцию.
Сообщение об открытии Отто Гана привёз из Берлина Карл Фридрих. Гейзенберг обсуждал с ним возможности последствий нового открытия в области ядерной физики. Они понимали, что потребуется ещё много работы физиков — экспериментаторов и теоретиков — прежде, чем открывающиеся теоретические возможности станут реальностью. И всё же, уже тогда размышления о таких возможностях захватывали воображение и пугали их, и наверное, не только их. А в летние месяцы 1939 г. Гейзенберг по приглашению читал лекции в Чикаго и там встретил Энрико Ферми (1901–1954), который всего год назад был вынужден эмигрировать из Италии в связи с надвигавшейся нацистской опасностью. Ферми — физик, который своими руками готовил первый атомный котёл, — говорил Гейзенбергу, что в складывающейся политической ситуации ему было бы разумнее переселиться в Америку. Итальянский физик пояснял, что в Европе он, Ферми, был «большим человеком», а здесь в Америке он снова молодой физик. Он спрашивал Гейзенберга: «Почему бы Вам тоже не сбросить с себя весь прежний балласт и начать всё сначала?»
К тому времени Гейзенберг уже задавал себе подобный вопрос и у него был готов ответ. Европейская теснота, говорил он Ферми, давно уже тревожит, а простор нового света соблазняет его. Но за эти годы он уже успел создать кружок творческого общения, в котором успешно работают молодые люди. Гейзенберг говорил Ферми, что он чувствовал бы себя предателем по отношению к молодому поколению, устремлённому к науке, если бы решился переехать в Америку; молодым нелегко найти здесь своё место. Все эти аргументы Гейзенберга, объясняющие его решение остаться в Германии, были обдуманы им и, можно сказать, выстраданы ещё в начале тридцатых годов, когда силовое вмешательство властей в жизнь университета стало невыносимым.
Началось увольнение некоторых коллег Гейзенберга по университету — был лишён своего поста заслуженный математик Леви. Возмущение этим актом властей было так велико, что некоторые молодые преподаватели, в частности, известный историк математики Ван дёр Верден, задумали в знак протеста оставить свои посты в университете и призвать к этому акту как можно больше своих коллег. Понимая всю ответственность такого акта, Гейзенберг предложил вначале обсудить такое решение с человеком старшего {XXIV} поколения, а именно с Максом Планком (1858–1947), основоположником квантовой теории, нобелевским лауреатом, авторитет которого был высок даже для новоявленных властей того времени. Гейзенберг попросил Макса Планка принять его, и разговор с ним состоялся в доме Планка в Груневальде под Берлином.
Уже в начале беседы Планк сказал Гейзенбергу, что у него нет надежды, что Германию, а тем самым и университеты, ещё как-то можно удержать от катастрофы. Он добавил, что недавно у него состоялся разговор с Гитлером. Великий физик надеялся, что он сможет довести до сознания фюрера бессмысленность и безнравственность такого образа действия, когда коллеги оцениваются по национальным признакам и даже изгоняются из университета. При этом речь идёт о людях, сознающих себя целиком немцами, несмотря на этническую принадлежность другой нации. Планк говорил Гейзенбергу, что он не нашёл у Гитлера никакого понимания. А между тем, заметил выдающийся учёный, уже идёт процесс, ведущий к чудовищной катастрофе. В своих воспоминаниях Гейзенберг передаёт слова Планка, в которых звучала тревога и безнадёжность перед происходящими событиями.
В разговоре с Планком Гейзенберг изложил ему вопрос, ради которого он попросил принять его. Он рассказал Планку о событиях в Лейпцигском университете, о том, что молодые сотрудники задумали отказаться от профессуры в знак протеста против увольнения их коллег, заявив тем самым, как они наивно полагали: «Ни шагу далее». Умудрённый опытом своей жизни, Планк сказал Гейзенбергу, что такой поступок не даст никаких результатов — газеты сообщат о вашей отставке таким хамским тоном, что никому не придёт в голову принимать этот поступок всерьёз и делать из него какие-либо выводы. Когда лавина уже пришла в движение, повлиять на её ход невозможно.
Планк советовал обдумать последствия предполагаемого шага. Если Вы уйдёте в отставку, — говорил он, — то в лучшем случае придётся искать возможность работы в других странах. Тем самым Вы составите конкуренцию многим эмигрантам. Если Вы останетесь в Германии, перед Вами встанет нелёгкая задача, но совсем другого рода, и Вы должны сейчас представить себе пути её решения. Едва ли Вы способны на прямое сопротивление. Придётся осознать, что у Вас нет возможности остановить катастрофическое течение событий. Вы будете вынуждены принимать те или иные компромиссы, совершать поступки, противные Вашим убеждениям или привычкам. Но зато, оставшись в своей стране, Вы сможете вместе с преданными друзьями создавать островки устойчивости. {XXV} Кто имеет формальные данные оставаться в стране, — говорил Планк, — тот может попытаться готовить предстоящее будущее.
И конечно же, такой выбор обещает Вам трудную жизнь — надо будет привыкать к компромиссам, на которые придётся пойти. И надо понимать, что эти компромиссы будут поставлены Вам в вину. Этого не избежать. Но может быть, — говорил Планк, — надо поступать именно так. Тут можно говорить только о возможностях — никакого определённого совета никто не может дать. Какое решение ни прими, попадаешь в ситуацию неправды или неопределённости. Принимая то или иное решение, думайте о времени, которое наступит. Планк лишь дал предостережение.
Но главный совет Гейзенберг всё же получил — не стройте иллюзий относительно властей и, принимая выбор, думайте о будущем. В результате беседы с Планком Гейзенберг с особенной остротой стал терзаться вопросами — принимать ли вполне определённый совет Ферми и отправиться в благополучную для него Америку или прислушаться к размышлениям великого немецкого учёного и, несмотря на предстоящие при этом тяжкие испытания, остаться в Германии. Он пытался теоретически представить себе тот или иной выбор в сложившейся для него ситуации и не находил убедительного ответа на вопрос — как же ему поступить. Если эмигрировать ради того, чтобы спастись от социальной катастрофы, то надо же при этом принять во внимание, что такой поступок не может служить общезначимой максимой — не могут эмигрировать все люди из страны. И, кроме того, в любой стране неизбежно происходят социальные катастрофы, и что же — ради того, чтобы избавиться от них, надо переезжать из одной страны в другую? И в своих размышлениях он приходит к решающему аргументу: «В конце концов, мы по рождению, языку и воспитанию принадлежим к одной определённой стране. И не означает ли эмиграция, что мы без борьбы оставляем нашу страну группе одержимых людей, вышедших из психического равновесия, в своём помешательстве ввергающих Германию в необозримые бедствия?» [Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 271].
В конечном счёте, он решается остаться в Германии. Конечно, в его решении можно усмотреть и такой иррациональный фактор, как любовь к своей стране, немецкий патриотизм. Но по всему видно, что решающий импульс в окончательном решении Гейзенберг получил от доверительных и мудрых размышлений Макса Планка.
Рассказывая о трудном принятии решения, Гейзенберг вспомнил Бора, с которым однажды они говорили об отношении дополнительности между понятиями «справедливость» и «любовь». То {XXVI} и другое, справедливость и любовь — важные составляющие нашего поведения в совместной жизни с другими людьми. Но иногда возникают ситуации, когда справедливость и любовь исключают друг друга — область наших чувств оказывается несовместимой со сферой этических норм. Любовь к родной стране, если Гейзенберг остаётся в Германии, ведёт его к несправедливым поступкам, ибо он будет вынужден подчиняться власти враждебной, по сути, народу его страны. Немецкому физику предстояло принять вполне определённое решение. Какое бы решение он ни принял, одно исключает другое. Определённый выбор означает принятие на себя ответственности за судьбы близких. Из всего, что говорил Планк, если он остаётся, следует, что нужно будет создавать островки устойчивости с тем, чтобы провести близких людей невредимыми через катастрофу. И конечно, это решение неминуемо вело к вынужденным комромиссам, а позднее к неизбежным наказаниям за них.
Начались годы испытаний, которые представлялись ему как время бесконечного одиночества. Это мучительное одиночество неотступно сопровождало его в годы нацизма. Взаимопонимания между людьми затруднились. Оставался только узкий круг людей, где ещё можно было говорить, не оглядываясь. Язык становился, скорее, средством скрывать свои мысли, чем сообщать их другим людям. Специальная властная структура, как бы она ни называлась, действовала по доносам и могла врываться в дом без предупреждения с целью найти недозволенные вещи или произвольно запрещённые издания. Трудно передать в словах состояние отчаяния, в которое впадал человек в те годы — люди моего поколения всё это знают по опыту своей жизни, ибо подобные ситуации имели место не только в Германии. Для Гейзенберга это было предвоенное время — 1937–1941 гг. При этом, как вспоминал он, ты постоянно находишься в зоне политической опасности, и если к тебе пришли и предъявили обвинение, то оказывается невозможным рассказать об этом уже только потому, что многим друзьям пришлось пережить худшее.
Гейзенберг ясно понимал, что война приближается, и какова бы она ни была, непредсказуемая опасность для него самого вынуждает реально подумать о безопасности близких. Весной 1939 г. он начал искать для своей семьи загородный дом в горах, где бы его жена, Елизабет Шумахер, и дети могли бы найти пристанище в случае бомбовых ударов по городам. Он нашёл такой дом в Урфельде вблизи озера Вальхензее. Сама по себе покупка загородного дома — вполне легальный поступок, и никто не мог усмотреть в этом какое-либо отступление от принятых тогда норм поведения. Но оценивая {XXVII} исторически ситуацию с покупкой дома, обратим внимание на то, что Гейзенберг начал искать убежище для своей семьи ещё до Второй мировой войны, о начале которой он услышал лишь 1 сентября 1939 г. в дни, когда в августе он вернулся из Америки и принялся обставлять дом, приобретённый в Урфельде. Ныне с полным основанием можно говорить, что Гейзенберг тем самым внутренне оценивал подготовку к войне, а затем и вступление в войну как трагические события для страны.
Хотя надо заметить, что о нападении немцев на нашу страну 22 июня 1941 г. Гейзенберг в своих воспоминаниях отмечает предельно кратко, можно сказать протокольно — после подробного описания своих бесед с разными людьми весной 1941 г., он кратко замечает: «Несколько недель спустя началась война с Россией». Можно, конечно, упрекнуть Гейзенберга в том, что он опустил такие значащие для нас события, как коварное нападение гитлеровских армий на нашу страну. Но можно попытаться понять умолчание немецкого физика об этих событиях. Может быть, он был потрясён самонадеянным коварством немецких властей в 1941 г., приведшим не только к неимоверным страданиям нашего народа, но и к позору, капитуляции любимой им Германии в 1945 г. Смешанные чувства отзываются болью — лучше о них не говорить и не писать.
В последние дни войны, опасаясь бомбовых ударов, он на велосипеде добрался до своего дома в Урфельде и нашёл родных невредимыми. А в лесу, как вспоминает он, бродили отбившиеся от своих частей солдаты, а главное, валялось огромное количество брошенной амуниции, что заставляло его бояться за своих детей. Но неизбежное неотвратимо — 4 мая 1945 г. американский полковник Пэш с несколькими солдатами ворвался в его дом в Урфелде с тем, чтобы взять его в плен. По словам Гейзенберга, он при этом «испытал чувство смертельно истощённого пловца, который впервые ступает ногой на твёрдую землю» [Гейзенберг Вернер. Физика и философия. Часть и целое. С. 305]. Трудно не поверить сказанному — я думаю, что это было искреннее выражение его чувств. Можно представить, какую трудную ношу взвалил он на себя, оставшись во время войны в родной стране.
Вскоре плен свёл его с несколькими старыми друзьями — союзники в первые дни окончания войны в Европе собрали вместе десять известных физиков и поселили их в Англии, в усадьбе Фарм-Холл, недалеко от старинного университетского городка Кембриджа. Среди его друзей и более молодых сотрудников «уранового клуба» были Отто Ганн, Макс фон Лауэ, Вальтер Герлах, Карл фон Вейцзеккер, Карл Виртц. Описывая условия их жизни в плену, {XXVIII} Гейзенберг замечает, что «опекавшие нас офицеры исполняли свою задачу с необыкновенным тактом и гуманностью». Но не всё в жизни зависит от тесного круга людей — 6 августа 1945 г. они узнали по радио, что на японский город Хиросиму сброшена атомная бомба. Пленённые физики были потрясены таким сообщением — погибли тысячи людей. «Может быть, и мы виноваты — мы ведь тоже работали в атомной физике?» — такой вопрос задавали они сами себе. Но тогда в чём же их вина?
Карл Вейцзеккер в разговоре с Гейзенбергом, пытаясь найти ответы на волновавшие их вопросы, предложил различать открывателей и изобретателей. Открыватель, как правило, не может знать всего о последствиях применения его идей. Гальвани и Вольта не могли представить себе позднейшей электротехники. Назовём изобретателем человека, который всегда имеет определённую практическую цель. Но и при таком различении — открыватели и изобретатели — отдельного человека можно обвинить в ужасных последствиях содеянного лишь отчасти. Можно ли при этом бросить обвинение Ферми? В Италии он открыватель, в Америке изобретатель.
Предложенное Вайцзеккером различение «открывателей» и «изобретателей» не разъясняет ситуацию, которая волновала пленённых физиков. Но продолжая размышления о сложившейся в мире ситуации, он высказывает существенную мысль — только выбор средств позволяет прояснить вопрос, является ли то или иное дело добрым или дурным. Гейзенберг пытается применить этот вопрос к возникшей ситуации. Судьба послевоенного мира зависит от того, какие средства будут применять экономически сильные державы для поддержания благополучного мира. Возникает с особенной остротой проблема выбора средств, ибо характер средств определяет устройство жизни. В политической практике часто провозглашение целей воспринимается как решение насущных проблем. А между тем без выбора средств невозможно достигнуть какой бы то ни было цели. Необходима теория поисков средств. Такую теорию надо ещё строить.
Плен немецких физиков закончился в январе 1946 г., и они возвратились в Германию. Гейзенберг писал, что это было трудное время — приходилось тратить немалые усилия для удовлетворения элементарных жизненных потребностей. И существенно отметить, как он вспоминает, что это было вместе с тем и счастливое время. Символом новой для него жизни были новые встречи с Бором и постоянное общение с Планком, который в свои почти 90 лет {XXIX} продолжал трудиться вместе с Гейзенбергом над организацией науки в послевоенной Германии.
Чем отдалённее годы войны и послевоенных лет, тем яснее картина жизни того времени и возможность более объёмно описать поведение человека в те неимоверно трудные годы. Существенно осознать, что добротных времён человеческая история не знает — каждое время трудно по-своему. Мы оцениваем жизнь человека, всматриваясь в его поведение, а главное, в его твёрдое внутреннее решение следовать вечным принципам. Он размышлял о неизменном центральном порядке, о ценностях, которыми мы руководствуемся в своём поведении. Вопрос о ценностях — это вопрос о человеке, о компасе, которому мы должны следовать, отыскивая свой путь в жизни. В разных мировоззрениях и различных религиях этот направляющий импульс, осознаваемый как цель жизни, получил различные наименования: счастье, воля всеблагого, высокий смысл и многое другое. Не следует умалять различия во множестве таких понятий, ибо эти различия указывают на особенные формы жизни определённых групп людей, объединённых общей структурой сознания. И всё же, когда мы пытаемся раскрыть смысл подобных слов-символов, попытки эти неизбежно ведут к центральному миропорядку. Конечно, в сфере субъективной воли — идёт ли речь об отдельном человеке или о целом народе — мы можем наблюдать поражающую путаницу. Но, в конечном счёте, побеждает центральный импульс, исходный порядок или, если обратиться к языку античных мудрецов, действует «единое». Действенность единого сказывается уже в том, что мы воспринимаем порядок как благо, а беспорядок — как хаос или зло.
Гейзенберг волею событий был поставлен перед трудным выбором. Его решение — несмотря на неимоверно тяжкие испытания оставаться в родной стране — это урок понимания жизни. Преодолевая жестокий тоталитарный порядок, творимый властью, отдельный человек несёт в себе возможность сохранить своё лицо, свою независимость, если имеет мужество, несмотря на молчаливое непонимание многих, следовать своему стремлению к тому центральному «единому», которое открывается только высокой культуре мысли. Так было всегда, во все времена, так было и в XX веке — в этом непреходящая судьба человеческого существования.
Н. Ф. Овчинников
| {XXX} |
Вернер Гейзенберг — один из крупных немецких физиков, внёсший значительный вклад в развитие современной теоретической физики. С его именем связаны разработка основ квантовой механики и её математического аппарата, развитие ряда идей в области теории атомнсго ядра, теории магнетизма, квантовой электродинамики. Вместе с своим учителем М. Борном он разработал так называемую «матричную механику», представляющую собой первый вариант современной квантовой механики; она позволила определять интенсивность спектральных линий, испускаемых простейшей квантовой системой — линейным осциллятором. Гейзенбергу принадлежит квантово-механический расчёт атома гелия, вскрывший возможность существования атома гелия в двух различных состояниях (ортогелий и парагелий). Он дал математическое выражение одной из существенных закономерностей движения микрообъектов, широко известной в литературе под названием «соотношение неопределённостей». В этом соотношении выражается специфическая взаимосвязь импульса и координаты микрообъектов, определяемая их внутренне противоречивой корпускулярно-волновой природой. Гейзенберг внёс существенный вклад в разработку теории, объясняющей намагничение ферромагнетиков спиновым магнитным моментом электронов и раскрывающей обменный характер сил, вынуждающих эти элементарные магнитики при намагничении вещества ориентироваться в одном направлении. Ряд работ Гейзенберга посвящён проблеме ядерных сил, связывающих элементарные частицы (протоны и нейтроны) в устойчивые системы — атомные ядра; в них раскрыт обменный характер ядерного взаимодействия. В практических расчётах многообразных процессов рассеяния микрочастиц при взаимодействии их друг с другом немаловажную роль играет {XXXI} введённая Гейзенбергом так называемая матрица рассеяния («S-матрица»).
Но Гейзенберг не ограничивается чисто профессиональной постановкой вопросов и разработкой специальных проблем физики. Он охотно выступает и по философским вопросам физической науки. К его голосу прислушиваются широкие круги буржуазных учёных, подхватывающих его идеи. Наряду с Нильсом Бором Гейзенберг является одним из вождей того направления среди современных буржуазных физиков, которое в нашей литературе обычно именуется «копенгагенской школой». По своим философским воззрениям «копенгагенская школа» является идеалистической. Это одна из школок современного «физического» идеализма, активно пытающаяся внедрить свои философские взгляды в физическую науку.
Предлагаемая вниманию советского читателя книга Гейзенберга «Философские проблемы атомной физики» объединяет лекции, речи и доклады по принципиальным вопросам физической науки, прочитанные им за период с 1932 по 1950 г. Она неоднократно издавалась на немецком языке, а в 1952 г. была переведена в США на английский язык и выпущена издательством «Пантеон»1. В этой книге Гейзенберг касается философских основ науки, рассматривает пути развития физики, даёт характеристику важнейших проблем и задач физики, пытается проанализировать социальную роль науки. При этом автор привлекает разнообразный материал, относящийся к различным этапам истории естествознания. В ряде случаев он апеллирует к своему собственному опыту и жизненным наблюдениям.
Несмотря на то, что все эти лекции и доклады были прочитаны Гейзенбергом по совершенно различным поводам и на протяжении длительного, почти двадцатилетнего периода времени, они едины по своему общему {XXXII} характеру и по своей основной тенденции. Указанный период в развитии современной физики был ознаменован рядом замечательных открытий, блестяще демонстрирующих правоту и силу подлинно научного материалистического мировоззрения, торжество материалистической диалектики. Между тем Гейзенберг упорно, вопреки действительному положению дел, стремится доказать, будто современная физика подтверждает... идеализм и метафизику!
Обратимся к рассмотрению важнейших методологических проблем, затрагиваемых Гейзенбергом в этой книге.
Что дало развитие современной физики для понимания коренных принципов научного знания? Вот вопрос, который интересует Гейзенберга больше всего и к которому он возвращается неоднократно.
Как подчёркивает Гейзенберг, классическая физика строилась на следующем основном положении: существуют объективные события, происходящие во времени и пространстве и не зависящие от наблюдателя и его измерений. Познание этих объективных событий, совершающихся в реальных пространстве и времени, и составляет сущность науки. В общем и целом эта характеристика классической физики правильна. Действительно, материалистическая теория познания стихийно принимается всем естествознанием, в том числе и классической физикой.
Однако Гейзенберг утверждает, что положение изменилось с возникновением теории относительности и в особенности квантовой механики. Эти новые физические теории привели якобы к созданию совершенно «нового способа мышления», неизбежным следствием которого является отказ от признания объективности физических явлений, отказ от признания объективности пространства и времени, отказ от принципа причинности.
Гейзенберг ставит вопрос: должен ли учёный раз и навсегда отказаться от мысли сб объективности событий во времени и пространстве или же этот отказ можно рассматривать только как некий «преходящий кризис», от которого наука в дальнейшем избавится? На этот вопрос он отвечает с полной решительностью: такой отказ должен {XXXIII} быть окончательным; никогда и никакие эксперименты уже не вернут науку на путь признания объективности явлений, на путь признания обьективности пространства и времени. Стремление понимать явления природы как объективные, как происходящие в объективных пространстве и времени он сравнивает с донаучными попытками людей, считавших Землю плоским диском ограниченного размера, найти «край мира». Как нет «края мира», так будто бы нет и объективных явлений, независящих от наблюдателя! «...надежда, что новые эксперименты наведут нас на след объективных событий во времени и пространстве или абсолютного времени, была бы не более основательной,— пишет Гейзенберг,— чем надежда обнаружить, в конце концов, «край мира» где-нибудь в неисследованных районах Антарктики» (стр. 10 настоящего издания). Так, например, по Гейзенбергу, атомы, изучаемые современной физикой, нельзя рассматривать как реальные объекты, находящиеся в пространстве и времени. Гейзенберг утверждает, что, по существу, они являются не материальными частицами, существующими в пространстве и времени, а только символами, введение которых придаёт законам природы особенно простую форму. «Атомное учение современной физики, таким образом, существенно отличается от античной атомистики тем, что оно не допускает больше какой-либо интерпретации в духе наивного материалистического мировоззрения» (стр 49–50).
Дело здесь, конечно, не в том, что Гейзенберга не удовлетворяет какая-либо наивная форма материализма. Он отвергает материализм вообще как научное мировоззрение, как основу научного познания.
Чем же Гейзенберг пытается обосновать свой катего рический отказ от материализма и свою защиту идеализма? На какие конкретные данные физики он стремится опереться в своём столь далеко идущем пересмотре основ научного познания?
Вдумчивый читатель не может не видеть, что аргументация Гейзенберга основана на смешении различных вопросов. Гейзенберг совершенно не знает (или не хочет знать) современного научного материализма, каким является диалектический материализм, и строит своё отрицание материализма вообще на критике ограниченных представлений метафизического материализма. {XXXIV}
В самом деле, характеризуя точку зрения классической физики, стоящей на позиции признания объективной реальности, данной нам в ощущении, Гейзенберг связывает это признание объективной реальности с обязательным утверждением, что время и пространство друг от друга независимы, неизменны, с физическими объектами не связаны (см. стр. 3–4). Материализм, говорит он, обязательно должен признавать неизменность пространства и времени, их независимость друг от друга и от материальных объектов. Но современная физика показала взаимосвязь пространства и времени, раскрыла связь свойств пространства с распределением материи, зависимость пространственных и временных свойств тел от их движения. Следовательно, заключает Гейзенберг, материализм опровергнут.
Однако из того, что пространство и время оказались тесно взаимосвязанными, что они зависят от свойств движущейся материи, вовсе не следует, будто физические явления стали зависимыми производными от субъекта. Оказалась несостоятельной метафизическая точка зрения, согласно которой пространство и время — это некие неизменные и не зависящие друг от друга пустые «вместилища» для физических процессов. Но от этого ни пространство, ни время, ни сами физические процессы не перестали быть объективно реальными. Своё отрицание объективности физических явлений, объективности пространства и времени Гейзенберг не может вывести из данных современной физики; он насильственно навязывает его физической науке.
Между тем признание взаимосвязи пространства и Времени, их зависимости от движущейся материи не только не противоречит научному материализму, но, наоборот, является одним из его важнейших положений. Диалектический материализм учит, что пространство и время — формы существования материи. Следовательно, они неразрывно связаны с материей, определяются ею и вместе с тем связаны друг с другом и изменчивы в своих свойствах. Учение диалектического материализма о пространстве и времени было разработано задолго до тех открытий в физике, на которые ссылается Гейзенберг, и давным-давно указало путь прогрессивной научной мысли. Этого пути не увидели буржуазные учёные и в том числе Гейзенберг, ослеплённые туманом антинаучной {XXXV} идеалистической философии, к которой их толкает вся социальная обстановка, существующая в империалистических государствах.
Другой «аргумент», используемый Гейзенбергом для отрицания объективной реальности, состоит в следующем. Материализм, по его мнению, обязательно связан с признанием того, что мельчайшие частицы материи являются уменьшенными копиями обычных макроскопических тел и непременно должны двигаться по законам механики Ньютона. Между тем современная физика доказала, что микрообъекты вовсе не являются уменьшенными копиями макроскопических тел и движутся не по законам механики Ньютона. Очи обладают сложной корпускулярно-волновой природой и подчиняются особым, неизвестным ранее, квантовым законам. Значит заключает Гейзенберг, материализм потерпел крах, микрообъекты не являются объективной реальностью!
Совершенно ясно, однако, что развитие физики показало несостоятельность не материализма вообще, а метафизической точки зрения, согласно которой все виды и формы движения материи везде и всюду одинаковы и подчиняются одним и тем же законам — законам механики. Из того, что качественно своеобразным фопмам материи, какими в данном случае являются микоообъекты, присущи особые формы движения, не тождественные механическому перемещению, вовсе не следует, что они не являются объективной реальностью. Диалектический материализм учит, что существуют качественно различные формы материи, которым свойственны специфические, характерные для них формы движения. Эти различные формы движения несводимы друг к другу и к механическому перемещению. Диалектический материализм давным-давно отверг присущий метафизическому материализму упрошенный взгляд на движение материи и указал прогрессивному мышлению путь к познанию качественной специфики различных областей материального мира.
И в этом случае Гейзенберг. противореча фактам, насильственно навязывает современной физике отрицание объективной реальности. Аналогичным образом «обосновывает» он и своё отрицание принципа причинности в микропроцессах. Связывая признание объективности {XXXVI} причинности с утверждением о том, что все формы причинности сводятся к механической, он объявляет причинность ликвидированной, поскольку в микропроцессах обнаружены иные формы причинных связей, отличных от механических.
Отрицая объективную реальность, Гейзенберг пытается успокоить читателя ссылкой на то, что это отрицание не является потерей для науки, а представляет собой открытие новых «мыслительных возможностей». Однако он вынужден признать, что в отрицании объективности физических явлений учёные вовсе не единодушны, что это отрицание встретило сопротивление и решительные возражения многих физиков, не принадлежащих к «копенгагенской школе», возглавляемой Бором и Гейзенбергом. Правда, об этой борьбе против идеалистических устремлений «копенгагенской школы» Гейзенберг говорит довольно глухо, но он ясно понимает, что по существу здесь речь шла не об узко специальных вопросах, а о размежевании коренных философских направлений. «Речь шла в действительности не только о физическом эксперименте,— пишет он,— но и об истинно философских позициях. Здесь боролось старое, укрепившееся со времени Декарта представление о разделении мира на объективный, развивающийся в пространстве и во времени мир и обособленную от него душу, в которой он отражается, против новых воззрений, в свете которых уже невозможно провести разделение таким примитивным способом» (стр. 118).
Конечно, научный, последовательный материализм никогда не представлял себе «душу», т. е. сознание, психические процессы, как нечто обособленное от материи. Гейзенберг извращает точку зрения философского материализма. Однако он прав, говоря, что для материализма дух, сознание есть отражение материального мира.
Какие же «новые воззрения» противопоставляет Гейзенберг вместе со всеми своими соратниками по «кененгагенсксй школе» научным представлениям о материальности мира? Ядро этих «новых воззрений» выражено в разработанной Бором и Гейзенбергом так называемой «концепции дополнительности» (или принципе дополнительности). Философский смысл этой концепции состоит в утверждении, что объект и субьект будто бы неразрывно {XXXVII} связаны друг с другом и что они якобы не могут существовать один без другого. Нетрудно видеть, что «новые воззрения», которые защищает Гейзенберг вместе с Бором, есть старая-престарая идеалистическая теория «принципиальной координации» субъекта и обьекта, выдвинутая в своё время Авенариусом и Махом для борьбы с материализмом и разгромленная В. И. Лениным в его труде «Материализм и эмпириокритицизм».
На что опирается «концепция дополнительности»? Она опирается на извращённое толкование взаимоотношения между волновыми и корпускулярными свойствами микрообъектов. Микрообъекты обладают волновыми и корпускулярными свойствами, существующими в неразрывном единстве друг с другом. Неразрывное единство волновых и корпускулярных свойств — одна из наиболее характерных черт микрообъектов. В этом открытии нельзя не видеть одного из блестящих подтверждений положения материалистической диалектики о внутренней противоречивости явлений природы. Между тем «концепция дополнительности» метафизически разрывает это внутреннее единство корпускулярных и волновых свойств микрообъектов и объявляет их «дополнительными» друг к другу: когда микрообъект проявляет волновые свойства, тогда якобы не имеет смысла говорить о его корпускулярных свойствах, и наоборот, наличие корпускулярных свойств якобы полностью исключает существование волновых свойств. Получается так, будто всё дело именно в особом «принципиально неконтролируемом» взаимодействии приборов с микрообъектами. Эти приборы и «принципиально неконтролируемое» взаимодействие таковы, что при применении приборов одного типа микрообъект находится в пространстве и времени, но зато якобы перестаёт подчиняться закону причинности; при применении же приборов другого типа микрообъект будто бы перестаёт сущестовать в пространстве и времени, но зато начинает подчиняться принципу причинности. Отсюда и вытекает «взаимосвязь» микрообъекта и субъекта, который по своему произволу с помощью соответствующего прибора либо «отменяет» закон причинности, либо «вводит» его в действие; либо «вводит» микрообъект в пространство и время, либо «выводит» его за их пределы. {XXXVIII}
Эту идеалистическую и метафизическую «концепцию дополнительности» Гейзенберг и Бор пытаются объявить основой не только квантовой механики, но и всего научного познания. В последние годы Бор занялся усиленным распространением этой «теории» далеко за рамки физических проблем, внедряя её в биологию, физиологию и общественные науки.
«Концепция дополнительности» была подвергнута аргументированной критике советскими учёными. Экспериментальные и теоретические исследования советских физиков, в особенности исследования С. И. Вавиловым и его учениками диффракции световых пучков весьма малой интенсивности, показали с полной ясностью нераздельность волновых и корпускулярных свойств микрообъектов в условиях одного и того же опыта, одной и той же экспериментальной установки.
Конечно, взаимодействие прибора и микрообъекта может существенно отличаться от взаимодействия микро-объектоз друг с другом, поскольку прибор представляет собой макроскопическое тело. Но нет никаких оснований утверждать, как делает «копенгагенская школа», будто это взаимодействие «принципиально неконтролируемо». Напротив, это взаимодействие контролируется законами сохранения энергии, импульса, заряда, массы и другими законами физической науки, имеющими силу в микропроцессах. Нет никаких оснований видеть в этом взаимодействии хоть какую-нибудь «границу непознаваемости», «принципиальную неконтролируемость» и т. п. измышления «физических» идеалистов.
Агностический характер «концепции дополнительности», защищаемой и развиваемой Гейзенбергом, ясно обнаруживается так же и в утверждении, будто наше мышление принципиально не в состоянии выйти за пределы понятий классической механики; будто, исследуя микропроцессы, физика вынуждена ограничиваться только теми понятиями, которые характеризуют макроскопический прибор; будто наше познание всегда неизбежно, по самой своей природе является «макроскопическим». Иными словами, хотя микрообъекты не являются уменьшенными копиями макроскопических тел и не подчиняются законам классической механики, мы будто бы неизбежно должны характеризовать их этими неадэкватными им понятиями и прогресс физической науки состоит {XXXIX} якобы только в том, что мы нашли границы применимости понятий классической механики, хотя выйти за их пределы не в состоянии.
В действительности же квантовая механика вовсе не ограничивается понятиями классической механики, не останавливается на них, а вырабатывает совершенно новые физические понятия, адэкватные природе исследуемых ею микрообъектов и относящиеся не к прибору, а именно к самим микрообъектам. Главным достижением квантовой механики как раз и является выработка этих новых понятий, а вовсе не установление «границ применимости» старых понятий, хотя, несомненно, выработка новых понятий имела своим следствием обнаружение пределов применимости старых понятий. Импульс и координата в квантовой механике, в отличие от того, что было в классической механике, носят операторный характер. Они также по-особому связаны друг с другом и выражаются через величины, совершенно несвойственные классической механике; так, импульс микрообъекта р выражается через особую величину λ, характеризующую его волновые свойства:
p = |
h λ |
, |
где h — квант действия, а λ — длина де-бройлевской волны. Ничего подобного классическая механика не знала и знать не мсгла, ибо в этом выражена особая квантовая природа микропроцессов. Так называемое «соотношение неопределённостей», истолковываемое Гейзенбергом как некий «предел точности» или «степень приложимости» классических механических понятий, на самом деле является выражением внутренне противоречивой корпускулярно-волновой природы микрообъектов, отражением новой специфически квантовой связи их импульсов и координат.
Таким образом, Гейзенберг вместе со всей «копенгагенской школой» искажает существо современной физики. Одним из путей такого искажения является неправильная трактовка роли и места прибора в исследовании микропроцессов. Как указывал В. И. Ленин, софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение она принимает не за связь сознания с внешним миром, а за «единственно сущее». Подобно этому «концепция {XL} дополнительности», приспосабливаясь к новым данным науки, пытается объявить прибор не средством связи человека с миром исследуемых микроявлений, а чем-то таким, что будто бы определяет само существование этих явлений, «наличие» или «отсутствие» пространства и времени, «действие» или «исключение» закона причинности и т. п. Это своего рода «приборный» идеализм, суть которого в точности та же самая, что и всякого субъективного идеализма вообще.
Однако Гейзенберг пытается создать у читателя впечатление оригинальности «своего» идеализма, по сути дела представляющего собой смесь махизма с кантианством и пифагореизмом. Так, он высказывает критические замечания по адресу философии Канта, обвиняя её в том, что в своё время она способствовала «окостенению научного мировоззрения» (стр. 15), поскольку объявляла ряд положений классической физики универсальными «априорными условиями физических исследований». Однако сам Гейзенберг не только не отказывается от априоризма, но всё своё внимание сосредоточивает на попытках приспособить априоризм к данным современной физики. Он, как и Кант, считает пространство и время субъективными априорными «формами упорядочения опыта», «формами созерцания». По его мнению, современная физика не опровергает априоризм Канта, а уточняет его: «...современная физика более точно определила границы идеи «a priori» в точном естествознании, чем это было возможно во времена Канта» (стр. 13). Это «уточнение» Гейзенбергом априоризма состоит в утверждении, что должна существовать не одна какая-либо система априорных форм созерцания, справедливая всегда и везде, а ряд таких систем априорных форм, применимых в различных условиях «опыта».
Итак, вместо одной системы априорных форм созерцания—много систем. В этом будто бы и состоит освобождение науки от «окостенения научного мировоззрения»! Но наличие ряда таких систем явно противоречит внутреннему единству науки. И не случайно Гейзенберг в результате этого приходит к выводу: «На здание точных естественных наук едва ли можно смотреть как на связное единое целое, на что раньше наивно надеялись... Это объясняется тем, что здание состоит из отдельных специфических частей; и хотя каждая из последних {XLI} связана с другими посредством многих переходов и может окружать другие части или быть окружённой ими, тем не менее она представляет замкнутое в себе, обособленное единство» (стр. 18).
Метафизическое расчленение единого здания физической науки на ряд замкнутых, обособленных частей Гейзеиберг стремится использовать для того, чтобы попытаться сделать свои воззрения более приемлемыми и для физиков, не желающих отказываться от признания объективности физических явлений, объективности пространства, времени и причинности. С этой целью он заявляет: «В настоящее время изменения в основных естественнонаучных положениях, произведённые таким удивительным образом под влиянием изучения атомных явлений, оставили классическую физику нетронутой» (стр. 16). Более того, Гейзеиберг вместе с Бором готов признать даже, что она, по сути дела, остаётся «предпосылкой всякого объективного научного опыта также и в современной физике» (стр. 13); он подчёркивает, что «понятия классической физики всегда будут оставаться основой для всякой точной и объективной естественной науки» (стр. 38). Может показаться, что здесь Гейзеиберг противоречит сам себе и опрокидывает все свои предыдущие построения. Однако это не так; своим чисто словесным заявлением о важности классической физики как основы научного познания он только вуалирует свою основную посылку.
В самом деле, почему Гейзеиберг считает, что классическая физика с её положением об объективности физических процессов и признанием причинности сохраняет значение «предпосылки научного знания» и в современной атомной физике, в которой, по его мнению, уже нет больше объективных явлений и отвергнут детерминизм? Потому, подчёркивает он, что результаты и процессы измерения можно выразить только посредством описания приёмов измерения, рассматриваемых именно как объективные процессы, протекающие в пространстве и времени и подчиняющиеся принципу причинности; в противном случае, указывает сам же Гейзенберг, нельзя было бы связать разные измерения друг с другом (см. стр. 13).
Таким образом, Гейзенбергу приходится впустить обратно с шумом изгнанный принцип причинности, ибо, {XLII} оказывается, «мы не можем также на основании результатов измерений делать заключения о свойствах наблюдаемых объектов, если принцип причинности не гарантирует однозначной взаимосвязи между ними» (стр. 13) Иными словами, без принципа причинности невозможна никакая наука! «Подобным же образом,— пишет Гейзенберг,— во всех дискуссиях, касающихся экспериментов в атомной физике, без колебаний можно было бы говорить об объективности процессов в пространстве и времени» (стр. 38).
Можно подумать, что, будучи вынужденным считаться с фактами, Гейзенберг восстанавливает в своих правах объективную реальность, которую он всячески пытался изгнать?
Но идеалист остаётся идеалистом. И Гейзенберг тут же снова отказывается и от принципа причинности и от объективной реальности вообще. Он «уточняет» дело небольшой оговоркой, согласно которой объективные процессы оказываются совершающимися «в пространстве и времени нашего восприятия» (стр. 13; подчёркнуто мною. — И. К.). Круг замкнулся: физические процессы снова оказались запертыми в рамки человеческих восприятий, то есть перестали быть объективными.
Однако это чудо совершается, конечно, только в воображении «физических» идеалистов, считающих, что со-чнание творит материальный мир. На самом же деле мир остался таким, каким он был, то есть материальным, существующим вне и независимо от сознания, от наблюдателя и его измерительных процедур, и в нём господствует объективная детерминированность явлений, познаваемая нами всё лучше и лучше. И квантовая механика даёт блестящие свидетельства этого: познание современной атомной физикой причинных связей и сущности явлений достигло новой, более высокой ступени, благодаря чему стало доступно сознательное управление атомными процессами, о возможности которого прежняя физика не имела даже представления.
Своим попыткам обосновать отрицание объективности физических процессов в атомной физике В. Гейзенберг хочет придать убедительность также путём проведения {XLIII} исторических параллелей и сопоставлений. Он стремится убедить читателя в том, что весь ход развития естествознания и, в частности, вся история атомистики с самых древнейших времён неизбежно ведёт к идеализму. По его мнению, в современной атомной физике, под которой он подразумевает «копенгагенскую» трактовку квантовой механики, «исполнилось многое из того, что предугадывали Левкипп и Демокрит», что идеи «копенгагенской школы» являются «последовательным продолжением прежних длившихся тысячелетиями усилий человека понять природу» (стр. 20).
Каков же, по Гейзенбергу, путь развития физической науки?
Прежде всего, это развитие представляется ему как совершающееся под влиянием чисто логических побудительных причин, вроде стремления к обобщению, поисков «математической гармонии» и даже «желания понять взаимосвязи мира в целом, постигнуть план божественного творения» (стр. 74). Подлинные же причины развития науки он полностью игнорирует. С другой стороны, в истррии науки он усматривает некую общую тенденцию, выражающуюся в том, что «почти каждый новый шаг е развитии естествознания достигается ценой отказа от чего-либо предшествующего», в результате чего по мере развития науки якобы «уменьшаются притязания на полное «познание» мира» (стр. 20).
Если бы Гейзенберг имел в виду метафизические претензии на постижение вечной, раз навсегда данной «истины в последней инстанции», исчерпывающей всё познание мира, то он был бы прав: такого «полного», раз навсегда законченного познания не существует. Но критика Гейзенберга направлена не на претензии исчерпать познание природы, а на возможность познания вообще. Он отрицает то положение, что с каждым новым шагом наука всё глубже и глубже проникает в сущность вещей, расширяет и углубляет наше понимание явлений природы. По его мнению, развитие науки ведёт ко всё большему и большему уменьшению «объяснения природы» и к замене объяснения описанием. Таким образом, Гейзеиберг возражает не против взгляда, согласно которому познание в какой-либо момент может стать исчерпывающе полным, а против того, что наука даёт нам подлинное знание существа физических процессов. «Чем больше {XLIV} областей открывается физикой, химией и астрономией, — заявляет он, — тем прочнее мы приобретаем привычку заменять выражение «объяснение природы» более скромным выражением — «описание природы», стремясь тем самым подчеркнуть, что этот прогресс относится не к непосредственному знанию, а к аналитическому объяснению. С каждым великим открытием — и это особенно хорошо можно видеть в современной физике — уменьшаются претензии естествоиспытателей на понимание мира в первоначальном смысле этого слова. Мы считаем, что этот процесс заложен глубоко в самой сущности вещей или в природе самого человеческого мышления» (стр. 27).
Итак, оказывается, «в природе самого человеческого мышления» заложено то, что с развитием науки объяснение природы, то есть раскрытие сущности явлений, их законов, постепенно заменяется описанием явлений; следовательно, этот процесс совершенно неизбежен. Но это неверно. Вся история науки в действительности показывает, что ум человеческий идёт от незнания к знанию, от менее полного знания ко всё более полному и глубокому знанию, в котором раскрывается необходимая связь явлений. Познанием сущности явлений, их закона и достигается объяснение явлений, служащее основой успешной практической деятельности людей. Именно успехи в практической деятельности людей — в производстве, в исследовательской работе, в лабораторном эксперименте и т. п. неоспоримо свидетельствуют о правильности научного объяснения; об этом говорит оправдывающаяся на деле возможность предсказания течения сложнейших и тончайших физических процессов, предвидения их детальных особенностей, обязанные теоретическому объяснению явлений. Конечно, научное объяснение никогда не может быть исчерпывающим, и с развитием науки оно постоянно меняется. Но это не значит, что объяснение вообще рушится и «заменяется» описанием. Рушится только метафизическое понимание научного объяснения природы как сведения к каким-то конечным, неизменным, абсолютным сущностям, дальше которых дорога для научного познания закрыта и постижение которых якобы исчерпывает познание. Диалектический материализм учит, что никаких конечных, неизменных сущностей в природе нет, что материя бесконечно сложна, что она неисчерпаема, {XLV} что за явлением стоит сущность первого порядка, за ней — сущность второго порядка и т. д. без конца. Отражая всё более и более глубокую сущность вещей, научное объяснение развивается, обогащается, становится всё более и более точным и глубоким. Объяснение не заменяется описанием, а менее полное и глубокое объяснение заменяется другим, более полным и глубоким; при этом из старого объяснения удерживается (но, конечно, в переработанном виде) всё ценное и подтверждённое опытом.
Но вернёмся к рассуждениям Гейзенберга. К каким же результатам приводит в конце концов этот процесс мнимой замены объяснения описанием?
На первых этапах развития науки человеческое мышление оперировало с представлениями о материальных телах, обладающих многими чувственно воспринимаемыми свойствами — цветом, запахом, твёрдостью, тяжестью и т. п. Стремление объяснить эти качества привело в атомистической теории к представлению об атомах, как о частицах, уже не обладающих такими чувственно воспринимаемыми свойствами, как цвет, запах, твёрдость, тяжесть и т. п. Считалось, что атомы обладают только различной формой, движением и положением. Таким образом, по Гейзенбергу, «качественное многообразие мира «объясняется» посредством сведения к разнообразию геометрических конфигураций» (стр. 22). Это, по его выражению, уже не «непосредственное», а «аналитическое» понимание природы; само слово «объясняется» он заключает в кавычки, подчёркивая тем самым, что сами попытки объяснять несостоятельны по существу.
Современная атомная физика, подчёркивает Гейзенберг, так же, как античная атомистика, предполагает наличие неделимых элементарных частиц материи — электронов, протонов, нейтронов и т. д. Однако необходимость объяснить новые тончайшие экспериментальные данные привела к вскрытию глубокого «внутреннего противоречия» и «непоследовательности», якобы присущих античной атомистике. Эта «непоследовательность» состояла будто бы в том, что атомы мыслились как некие реальные сущности, находящиеся в пространстве. Таким образом, древняя атомистика, устраняя чувственно воспринимаемые свойства атома, всё же оставляла, заявляет {XLVI} Гейзенберг, за ними одно такое свойство — «свойство» занимать пространство» (стр. 49). Чтобы осуществить программу атомистики полностью, надо было лишить атом и этого свойства. Современное естествознание, утверждает Гейзенберг, последовательно продолжает тенденцию к «аналитическому описанию»: устраняя все чувственно воспринимаемые свойства атома, оно оперирует уже тем, что не имеет никаких свойств, а представляет собой чистую математическую символическую форму. По заявлению Гейзенберга, атом в современной физике «не обладает никакими материальными свойствами» (стр. 31); «...современная атомная физика в одном пункте идёт значительно дальше атомистического учения древних греков, причём это имеет существенное значение для понимания всего её развития. Согласно Демокриту, атомы были лишены качеств, подобных цвету, вкусу и т. д.; они обладали лишь свойством заполнять пространство. Геометрические же высказывания относительно атомов рассматривались как вполне допустимые и не требовали какого-либо дальнейшего анализа. В современной физике атомы теряют и это последнее свойство; они обладают геометрическими качествами не в большей степени, чем остальными — цветом, вкусом и т. д. Атом современной физики может быть лишь символически представлен дифференциальным уравнением в частных производных в абстрактном многомерном пространстве; только эксперименты наблюдателя вынуждают атсм принимать известное положение, цвет и определённое количество теплоты» (стр. 31).
Атом, таким образом, «дематериализовался»: материя «исчезла» — остались одни уравнения.
Представляя дело так, будто «копенгагенская школа» продолжает вековые традиции атомистического учения, Гейзенберг пытается скрыть антинаучную сущность защищаемых им воззрений, используя заслуженный авторитет атомистики, принёсшей великие научные завоевания. Но о каком продолжении основной идеи научной атомистики может говорить «копенгагенская школа», если научная атомистика зиждется на признании объективной реальности атомов, объективности пространства и времени, а «копенгагенская школа» с порога отвергает объективную реальность?
Античная атомистика всегда стремилась объяснить {XLVII} реальные свойства тел, исходя из объективных, наиболее общих свойств материальных атомов; Гейзенберг же со своими соратниками по «копенгагенской школе» пытается представить физические явления как комбинации символических математических форм, существующих лишь в человеческом сознании. То, что он считает «непоследовательностью» античной атомистики — её признание реальности атомов и их свойств, — на самом деле было основой всех её успехов и достижений.
С философской точки зрения несостоятельная попытка Гейзенберга представить субъективистские воззрения современных «физических» идеалистов продолжением идей научной атомистики основана на извращении действительного соотношения общего и частного, абстрактного и конкретного. В трактовке Гейзенберга общее — это не что-то реально присущее различным материальным телам и существующее в частном, а произвольное создание человеческой мысли; научная абстракция — не отражение того, что объективно имеется в самой материальной действительности, а условный символ, служащий отметкой для практики, средством для упорядочения опыта; в книге Гейзенберга мы встречаемся с прямым отождествлением абстрактного и символического. Таким образом, наиболее общие свойства атсмов Гейзенберг объявляет не реальными, а существующими лишь в нашей голове. Отсюда его вывод, будто «претензии нашей науки на познание природы в обычном смысле этого слова становились всё меньше» (стр. 33).
Усиленно настаивая на своих утверждениях, будто современное понятие атома имеет чисто «символический характер», будто «атомы не существуют как простые телесные предметы» (стр. 50), но только как совокупность мысленных математических форм, Гейзенберг непосредственно связывает свою трактовку атомной физики с учением пифагорейцев. Он говорит о «творческой силе математических построений», о том, что «рациональный порядок окружающей нас природы» имеет «свою основу в математической сущности законов природы» (стр. 51).
По утверждению Гейзенберга, на таком убеждении основано всё математическое естествознание, ставящее себе целью «математическое истолкование порядка в природе», то есть отыскание того, из комбинации каких {XLVIII} мысленных математических форм «строятся» все явления.
Как математическая симметрия создаёт в калейдоскопе нечто, «имеющее смысл и красоту», так и явления природы будто бы имеют своей основой математические формы. «Если в основе музыкальной гармонии, — пишет Гейзенберг, — или форм изобразительного искусства обнаруживается математическая структура, то рациональный порядок окружающей нас природы должен иметь свою основу в математической сущности законов природы. Такое убеждение впервые нашло своё выражение в пифагорейском учении о гармонии сфер и в том, что элементам были присвоены правильные формы» (стр. 51). Но учёные древности, указывает Гейзенберг, обладали ничтожным запасом пригодных для этого математических форм; это были по преимуществу геометрические формы. К тому же они исследовали статические формы и отношения. Вынужденный самим фактическим материалом науки как-то принять во внимание диалектику природных явлений, Гейзенберг подчёркивает, что такой статикой в современной науке обойтись больше нельзя: сами эти геометрические формы и отношения уже не являются неизменными. К каким же в таком случае «математическим формам» нужно теперь сводить все явления? «... в окружающем нас реальном мире,— пишет Гейзенберг,— неизменными являются не геометрические формы, а динамические законы, определяющие возникновение и исчезновение. Гармонию пифагорейцев, которую ещё Кеплер надеялся найти в орбитах небесных светил, естествознание со времён Ньютона ищет в математической структуре законов динамики, в уравнениях, формулирующих эти законы» (стр. 51–52).
В отличие от древних пифагорейцев, Гейзенберг сводит все явления не просто к геометрическим формам, а к «математической структуре» динамических законов. Эти изменения, утверждает он, представляют собой последовательное осуществление программы пифагорейцев.
В соответствии с тем, что, по словам Гейзенберга, во всех законах природы есть «простая математическая сущность», «математическая простота считается высшим эвристическим принципом» (стр. 53) научного исследования. {XLIX}
Все эти рассуждения являются извращением факта возросшего значения математических методов в современной физике. Действительно, ни одна сколько-нибудь плодотворная физическая теория не может обойтись без выражения исследуемых ею законов природы в той или иной математической форме. Но математические формы не создают явлений природы, не определяют их «рациональный порядок», не обладают никакой «творческой силой», способной порождать материальные явления или быть «основой» последних. Существуя в нашей голове, они только отражают объективные взаимосвязи самих материальных явлений, присущие им закономерности. Вся история науки показывает, как наше мышление меняет эти «математические формы», всё лучше и лучше приспосабливая их к объективной реальности, образом которой они являются. Попытка Гейзенберга объявить «математическую структуру» явлений основой самих этих явлений представляет собой обычную для всех идеалистов попытку подменить отражаемое, то есть объективную реальность, её отражением — ощущениями, абстрактными понятиями и т. п.
Высшим принципом подлинно научного исследования является не «математическая простота», а согласие научных представлений с объективной реальностью, достигаемое путём испытания их критерием практики. Как бы поразительно просты ни были те или иные «математические формы», им не суждена жизнь в науке, если они не пройдут успешной проверки практикой. Только практика отберёт для физической теории те «математические формы», которые сохранят научное значение и окажутся действительно плодотворными для дальнейшего развития науки. Принцип «математической простоты» весьма сильно смахивает на пресловутый «принцип экономии мышления», изобретённый Махом и Пуанкаре и подвергнутый уничтожающей критике В. И. Лениным в его книге «Материализм и эмпириокритицизм».
Гейзенберг пытается оживить и подкрасить под современность не только пифагореизм, кантианство, махистско-авенариусовскую теорию «принципиальной координации» субъекта и объекта, но и антинаучную энергетику Оствальда. Правда, имя самого автора энергетики — Оствальда — он нигде не упоминает. Впрочем, это и понятно, если учесть, с каким скандалом провалилась в {L} своё время эта энергетика; прямые ссылки на неё вряд ли были бы популярны даже среди буржуазных учёных. Однако Гейзенберг клонит к тому же самому, к чему пытался склонить физиков Оствальд: к отрицанию материи, к мысли о возможности движения без материи.
Если в своё время энергетика пострадала от ударов материалистической атомистики, то теперь Гейзенберг хочет использовать для оправдания энергетики самый факт атомистического строения материи. Каким же путём он делает это? Путь этот не оригинален.
Главная цель атомной теории, её, так сказать, программа состоит, по утверждению Гейзенберга, в том, чтобы свести мир к одному «первоначальному веществу» (стр. 96). Но последовательному сведению мира к «первоначальному веществу» мешает наличие в современной физике ряда различных типов частиц материи — электронов, протонов, нейтронов и др. Чтобы осуществить программу этого сведения, Гейзенберг объявляет, будто эти частицы материи есть не что иное, как различные формы одной и той же энергии: «Мы теперь знаем то, что надеялись найти древние греки, а именно, что действительно существует только одна основная субстанция, из которой состоит всё существующее. Если давать этой субстанции наименование, то её можно назвать не иначе, как «энергия»... Материя в собственном смысле слова состоит из этих форм энергии, к чему всегда следует добавлять энергию движения... Многообразие явлений нашего мира создаётся... многообразием форм проявления энергии» (стр. 98–99).
Для обоснования этих утверждений Гейзенберг использует факт превращения пар электронов и позитронов в фотоны (кванты света), которые он рассматривает как форму энергии. С другой стороны, он заявляет, что известная в атомной физике формула: Е = mc2 (где Е — энергия, m — масса, с — скорость света) означает, будто энергия «обладает» массой.
Все эти рассуждения совершенно несостоятельны. Во-первых, нельзя считать научной программу сведения всего многообразия мира к некоему одному «первоначальному веществу». Эта точка зрения целиком и полностью метафизическая. Диалектический материализм отвергает представления о наличии какой-то универсальной {LI} «первоматерии» или «первоначального вещества», к которому якобы сводятся все явления мира. В познании качественного своеобразия различных форм явлений диалектический материализм видит одну из важнейших задач науки.
Во-вторых, из факта превращения пар электронов и позитронов в фотоны отнюдь не следует, будто материя «превращается» в энергию или что материя «состоит» из энергии. Фотоны — вовсе не энергия, а частицы материи, и процесс превращения позитронов и электронов в фотоны есть процесс превращения одних форм материи в другие. Утверждение, что фотон есть «порция энергии» противоречит данным современной физики.
В-третьих, соотношение Е = mc2 выражает взаимосвязь энергии, которой обладает материальный объект, с присущей ему массой m. Из него вовсе не следует, будто энергия «обладает» массой. Правильное толкование этого соотношения означает, что материальный объект, обладающий некоторой массой, обязательно имеет также энергию, величина которой и определяется соотношением Е = mc2.
Утверждение о том, что энергия «обладает» массой, содержит в скрытом виде молчаливое допущение, будто энергия может быть связана с массой не как свойство материальных объектов, а сама по себе, без материальных объектов. Тем самым делается попытка протащить мысль о существовании движения без материи.
Идеи энергетизма широко распространены ныне среди буржуазных физиков и философов. Этот современный энергетизм, лагерь которого возглавляется, в частности, и Гейзенбергом, советская научная общественность подвергла в последнее время убедительной критике.
Таковы в основном философские позиции Гейзенберга по коренным вопросам науки. Нет необходимости говорить о других, более частных и второстепенных пороках его книги.
Книга Вернера Гейзенберга — яркое свидетельство полнейшего бессилия идеалистической философии опровергнуть современный научный материализм и насадить {LII} в естествознании метафизику. На примере Гейзенберга ясно видно, что даже наиболее талантливые из защитников буржуазной идеологии не могут подняться над уровнем несостоятельных софизмов, когда речь заходит о действительных основах научного знания, когда необходимо широкое философское обобщение данных науки и освещение путей дальнейшего продвижения научного знания. Издание книги В. Гейзенберга в русском переводе даёт возможность советским физикам и философам на конкретном примере проследить, каким именно путём осуществляется идеалистическая фальсификация выводов, вытекающих из новейших достижений естествознания. Тем самым оно даёт материал для всесторонней и глубокой критики современных форм идеализма и метафизики, упорно пытающихся зацепиться за успехи современней науки. С другой стороны, книга Гейзенберга помогает глубже проанализировать корни тех идейно-теоретических ошибок, которые подчас делаются ещё отдельными советскими физиками, некритически воспринимающими воззрения буржуазных учёных.
В заключение остановимся на некоторых идеях Гейзенберга, высказанных им в одной из своих речей, посвящённой вопросу о роли науки как средства взаимного понимания народов. Эта речь была произнесена им в середине 1946 г. — год спустя после разгрома фашистской Германии. Здесь Гейзенберг говорит о том, что решение научных проблем может быть одинаково доступно всем людям, что в развитии науки могут принимать участие в равной мере учёные самых различных наций и рас. Эти положения он фактически противопоставляет тем насаждавшимся фашистскими человеконенавистниками взглядам, согласно которым наука якобы целиком «национальна» и будто научное «мышление разных рас существенно различно, следовательно, различна и их наука» (стр. 123). На примере развития атомной физики в первой четверти XX в., основываясь на личном опыте общения с учёными разных национальностей, Гейзенберг показывает, что в решении научных проблем национальная принадлежность учёных не имеет значения. Он заявляет: «Я тогда понял, что если кто-либо пытается выяснить строение атома, то совершенно безразлично, кто он — немец, датчанин или англичанин. Я усвоил также и нечто, быть может, ещё более важное: в науке всегда можно, в конце {LIII} концов, решить, что правильно и что ложно вопрос о том, что правильно и чго неправильно, решают не вера, не происхождение, не расовая принадлежность, а сама природа или, если хотите, бог, но во всяком случае не люди» (стр 125). Конечно ссылка на бога здесь ни к чему, и она характеризует только присущую идеалисту Гейзенбергу тенденцию уделять религии место наряду с наукой. Но он прав в том, что вопрос об истинности научных воззрений никак не связан ни с происхождением, ни с национальностью человека.
В силу всего этого Гейзенберг приходит к выводу о целесообразности и плодотворности международного сотрудничества учёных, которых сближает совместная разработка научных идей. Однако, рассматривая взаимоотношение учёных, участвующих в таком сотрудничестве с государствами, в которых они живут и действуют, Гейзенберг отмечает коренной разрыв между интересами государства и интересами науки. Государство, пишет он, «смотрело на интернациональные взаимосвязи учёных с глубоким недоверием, так что иногда учёный считался узником своей собственной страны и его интернациональные связи трактовались как нечто аморальное» (стр. 129). Это верно лишь в отношении капиталистических государств делающих науку орудием порабощения одних наций другими, одних народов другими, ставящих её на службу войне. Но Гейзенберг не видит что такого противоречия национальных интересов народов и общих интересов науки нет и не может быть в условиях социализма.
Говоря о том, что современная наука имеет огромные достижения, могущие быть использованными в ущерб всему человечеству. Гейзенберг заявляет: «Создаётся впечатление, что наука, гак сказать широким фронтом подходит к той области, в которой жизнь и смерть всего человечества самым ужасным образом могут оказаться в зависимости от небольшой группы людей. Задача науки состоит, пожалуй, как раз в том, чтобы пробудить в людях чувство того насколько опасным стал этот мир, показать им, как важно, чтобы все люди независимо от их национальности и идеологии объединились для отражения этой опасности. Конечно об этом гораздо легче говорить, чем делать, но несомненно, что больше нельзя уклоняться от решения этой задачи» (стр. 129—130). {LIV}
Это стремление Вернера Гейзенберга дать отпор тем, кто грозит человечеству истребительными войнами, найти опору в объединении людей без различия национальности не может не встретить сочувствия у всех сторонников мира во всём мире, хотя многие из них должны будут отметить, как наивно убеждение автора, будто опасность войны мсжет отвратить наука сама по себе простым разъяснением наличия этой опасности. Мир может быть сохранён только в результате активной борьбы за него народных масс.
И. В. Кузнецов.
| {LV} |
| {LVI} |
В. ГЕЙЗЕНБЕРГ
ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
АТОМНОЙ ФИЗИКИ
| {1} |
| {2} |
Развитие современной физики, начало которой положено открытием Планком кванта действия и революционизирующее содержание которой выражено в теории относительности и квантовой теории, получило в последние годы известное завершение. Применение вновь открытых принципов к более широкой области исследования станет возможным лишь тогда, когда новые области экспериментально будут изучены более подробно, чем до сих пор. В отличие от этого, повидимому, уже сейчас можно сделать попытку набросать картину такого развития, которая была бы свободна от искажений, возникающих в результате повседневной борьбы мнений, и дать насколько возможно объективное истолкование сущности этого развития.
Классическая физика, нашедшая своё завершение примерно тридцать лет назад, была построена на следующем основном положении, которое, как очевидный, само собой разумеющийся отправной пункт всей точной науки, казалось, не нуждалось ни в обсуждении, ни в доказательстве: физика имеет дело с отношениями вещей в пространстве и с их изменением во времени.
Хотя первоначально это указывало только на характер опытов, лежащих в основе физики, однако в то же время казалось, что тем самым устанавливались и отдельные свойства вещей, о которых можно было делать заключение на основании таких опытов. Молчаливо предполагалось, что существует объективное, не зависящее от отдельного наблюдения течение событий в пространстве и времени и что пространство и время являются неизменными, {3} друг от друга не зависящими формами упорядочения всего происходящего и благодаря этому представляющими объективную для всех людей одинаковую реальность.
Эти коренные положения классической физики, естественным следствием которых было научное мировоззрение XIX в., впервые подверглись пересмотру в специальной теории относительности Эйнштейна. Мы остановимся здесь на тех основных идеях его теории, которые необходимы для понимания её методологической установки.
Возникновение теории относительности было результатом внутренней необходимости. Классическая физика пришла к противоречиям при попытке последовательно объяснить некоторые точные эксперименты, в особенности знаменитый опыт Майкельсона. Наука была вынуждена признать, что одна из предпосылок классического объяснения, соответствующая нашему повседневному опыту с его обычными неточностями в областях, недоступных прямому восприятию, не основывалась ни на каком непосредственном опыте и поэтому могла быть отброшена. Я имею в виду положение, согласно которому имеет смысл без дальнейших уточнений называть два события одновременными также и в том случае, когда они происходят не в одном и том же месте. Мы называем событие «прошедшим», если можно, по крайней мере в принципе, узнать о нём посредством некоторого наблюдения. Мы называем событие «будущим», если можно, по крайней мере в принципе, вмешаться в его течение. Нашему повседневному опыту соответствует вера в то, что событие, которое мы могли как-то наблюдать, отделено от события, которое мы ещё можем изменить, только бесконечно коротким мгновением, называемым «настоящим». Несостоятельность этого скрытого допущения классической физики была доказана экспериментальными исследованиями, побудившими учёных принять специальную теорию относительности. Действительно, между тем, что мы назвали «прошедшим», и тем, что назвали «будущим», лежит скорее хотя и малый, но всё же конечный интервал времени, продолжительность которого определяется удалённостью наблюдателя, фиксирующего «прошедшее» и «будущее», от места данного события. Приводящая к такому пониманию теория, будучи подтверждённой большим {4} числом экспериментов, становится между тем само собой разумеющимся основанием всей современной физики. Она становится неотъемлемым достоянием точной науки подобно классической механике или теории теплоты. Особое её значение состоит, прежде всего, в совершенно неожиданном установлении того факта, что последовательное проведение идей классической физики вынуждает преобразовать самые основы последней; с таким положением мы будем встречаться неоднократно.
Современные теории возникли не из революционных идей, которые, так сказать, введены в точную науку извне; напротив, в большей своей части к ним пришли в результате попыток последовательно и до конца осуществить программу классической физики; следовательно, они порождены самой её природой. Поэтому начало современной физики в этом отношении нельзя сравнивать с великими переворотами в прежнее время вроде открытий, сделанных Коперником. Идеи Коперника были в значительно большей мере привнесены извне в круг идей естествознания того времени и поэтому привели к гораздо более существенным изменениям в науке, чем основные воззрения современной физики в настоящее время.
К пересмотру понятия времени общая теория относительности добавила пересмотр геометрических свойств пространства. Если эта теория правильно интерпретирует небольшое число астрономических наблюдений, относящихся к комплексу связанных с ней вопросов и имеющихся в нашем распоряжении, то, очевидно, должна существовать связь между геометрией и распределением материи во Вселенной. В таком случае эвклидова геометрия приложима только к небольшим областям пространства, в то время как в больших масштабах пространство может обладать другой структурой, совершенно отличной от той, которая соответствует непосредственному восприятию. Общая теория относительности пока ещё не покоится на такой надёжной экспериментальной основе, как специальная теория, хотя в то же время до сих пор нет ни одного эксперимента, который бы определённо противоречил ей. Её убедительность состоит не в разъяснении многих и до сих пор ещё неясных результатов наблюдения, а в новом методе мышления, который раньше был скрыт от естествоиспытателей. Насколько велика {5} сила такого нового метода мышления, хорошо видно на примере учения Коперника. В настоящее время часто даже и не подозревают, что вначале идея Коперника едва ли имела преимущество перед идеями Птолемея в смысле правильности изображения данных опыта. К тому же экспериментальные доказательства Галилея, подтверждающие положения Коперника, были менее убедительны, чем те, которыми мы располагаем в настоящее время для подтверждения общей теории относительности. Тем не менее, тот факт, что само утверждение о движении Земли вокруг Солнца не было нелепым утверждением, оказался достаточным для того, чтобы Галилей мобилизовал всю силу своего духа в защиту Коперника. Подобно этому уже сам факт, что утверждение о зависимости геометрии во Вселенной от распределения материи не является нелепым утверждением, окажет независимо от каких-либо экспериментальных доказательств такое влияние на будущие исследования, что никакая теория гравитации не сможет обойтись без общей теории относительности и обязательно воспримет её.
Не прошло ещё и десяти лет с момента появления теории относительности, которая показала, что считавшиеся ранее самоочевидными основные положения точных наук из-за новых опытных данных следует видоизменить, как в результате новых экспериментальных открытий была подорвана вера в объективное, независимое от наблюдателя течение событий, являющаяся внутренней сущностью классической физики. Как следствие этого появилась боровская теория строения атома. В квантовой теории точно так же отступление от основных принципов классического описания природы произошло не в результате внезапного внедрения в нашу науку новых идей, чуждых предшествовавшей физике. Напротив, наука была вынуждена постепенно, шаг за шагом, отказываться от отдельных положений классической физики в результате серии замечательных экспериментальных открытий. После открытия Планком кванта действия первым и наиболее важным шагом было установление (исследованиями Ленарда и их интерпретацией Эйнштейном) того, что свет, который на основании бесчисленных опытов по интерференции следовало бы рассматривать как волновой процесс, всё же в некоторых экспериментах проявляет корпускулярные свойства. Таким образом, {6} мы опять обнаруживаем, что начало новой теории связано с внутренними противоречиями, возникшими в классической физике при попытке последней последовательно истолковать некоторые эксперименты на основе своих принципов.
В опиравшейся на опыты Резерфорда атомной теории Бора дуализм, полностью чуждый закономерностям классической и доклассической физики, стал ещё более явным. В последующие годы эта теория получила основательное подтверждение в ряде экспериментальных и теоретических исследований, из которых в качестве примера следует упомянуть работы Франка и Герца, Штарка, Штерна и Герлаха, с одной стороны, и Зоммерфельда, Крамерса, Борна, Паули — с другой. Впоследствии де Бройль установил дуализм волновых и корпускулярных представлений также и в отношении поведения материи. Наконец, одновременные работы гёттингенского кружка, Дирака и Шрёдингера, в которых удалось дать общее описание при помощи математической схемы различного рода экспериментов, привели к совершенно новой ситуации, касающейся основных принципов физического исследования. Анализом этой ситуации мы обязаны, прежде всего, Бору, чего я здесь могу только коснуться.
Оказывается, в наших исследованиях атомных процессов неизбежно существует своеобразное раздвоение. С одной стороны, вопросы, с которыми мы обращаемся к природе посредством экспериментов, всегда формулируются в ясных понятиях классической физики, в особенности в понятиях пространства и времени, поскольку наш язык приспособлен к передаче только обыденного нашего окружения (при его помощи мы могли бы, например, описать устройство измерительных приборов) и поскольку опыты мы не можем провести иначе, как только во времени и пространстве. С другой стороны, математические выражения, пригодные для изображения экспериментальных результатов, представляют собой волновые функции в многомерных конфигурационных пространствах, не допускающих какой-либо простой наглядной интерпретации. Из этого раздвоения возникает необходимость при описании атомных процессов проводить резкое различие между измерительными приборами наблюдателя, описываемыми в классических понятиях, и наблюдаемыми {7} объектами, поведение которых представляется волновыми функциями.
В то время как все взаимосвязи в области, относящейся к наблюдателю, а также в области, содержащей изучаемые объекты, являются строго определёнными (в первом случае — чаконами классической физики, а во втором — дифференциальными уравнениями квантовой механики), наличие резкой границы между этими областями обнаруживается в статистических взаимосвязях. Точнее, на границе этих областей воздействие средства наблюдения па объект наблюдения должно рассматриваться как частично неконтролируемое возмущение. Эта принципиально неконтролируемая часть возмущения, которая обязательно связана с каждым наблюдением, важна для нас во многих отношениях. Прежде всего, сна является причиной появления статистических законов природы в квантовой механике. Далее, она приводит к ограничению применимости классических понятий: оказывается, что точность, до которой имеет смысл применять классические понятия для описания природы, ограничивается так называемым соотношением неопределённостей. Такое ограничение, определяющее именно меру применимости классических понятий, необходимо для того, чтобы разумно соединить различные наглядные представления относительно некоторых физических явлений, например волновое и корпускулярное представления. Наконец, эта принципиально неконтролируемая часть возмущения поразительным образом обеспечивает непротиворечивый переход от формул и законов в квантово-тео-ретической области к формулам и законам в области классической физики; так что образуется замкнутая область применимости законов. В связи с этим важно отметить, что для формулировки законов природы безразлично, где проходит граница двух областей, то есть что считать средством наблюдения, а что — исследуемым объектом. Пснимание этого факта способствует также устранению обычных возражений против полноты квантовой механики, согласно которым предполагается, что за формулируемыми квантовой теорией статистическими взаимосвязями скрывается ещё другая система детерминистических законов природы, относящихся к неизвестным до сих пор областям, аналогично тому как за термодинамикой была скрыта больцмановская механика атомов. {8} Детальное исследование таких гипотез сразу же показывает, что эти новые законы природы находятся в противоречии со строго определёнными следствиями квантовой механики. Квантовая механика не оставляет места для какого-либо дополнения её положений, так как единственный пункт, содержащий неопределённость, есть вышеуказанная «линия раздела».
Если бы в каксм-либо месте, определённом посредством известного природного процесса, удалось при помощи дополнений устранить неопределённость квантовой теории, то такое устранение привело бы только к смещению «линии раздела» в новое место и означало бы противоречие между квантовой механикой и сделанным предположением.
Всё это непосредственно приводит к более общему вопросу: насколько завершены изменения, сделанные современной физикой в основаниях точных наук? В этой связи здесь необходимо выяснить, должен ли учёный раз и навсегда отказаться от мысли об объективной шкале времени и от объективных не зависимых от наблюдения событий в пространстве и во времени или же развитие современной физики следует рассматривать только как преходящий кризис. Мне кажется (и для этого имеются веские основания), что такой отказ должен быть окончательным. Чтобы обосновать такое утверждение, я хотел бы начать с аналогии. С момента возникновения античной науки люди представляли себе мир в виде плоского диска, и только открытие Америки и первые кругосветные путешествия навсегда разрушили такое представление. Конечно, и раньше никто не видел края диска Земли. Однако этот «край мира» приобрёл всё-таки образ и жизнь в легендах и в воображении людей. Через древние сказания проходила мысль о человеке, который всё хотел исследовать и достигнуть «края мира». Вопрос о «кпае мира» имел в то время определённый, ясный смысл. Но открытие Колумба и Магеллана сразу же сделали этот вопрос лишённым смысла и навсегда превратили связанные с ним идеи в волшебную сказку. Человечество отказалось от идеи «края мира» не потому, что вся поверхность Земли исследована вдоль и поперёк — отдельные её части не изучены еше и до сих пор, — а потому, что путешествия Колумба и Магеллана убедительно свидетельствовали о необходимости рассмотрения новых мыслительных {9} возможностей. Принятие шарообразной формы Земли принесло такую пользу, что отказ от постановки вопроса о «крае мира» уже не воспринимается теперь как потеря.
Аналогичное положение, по моему мнению, имеет место и в вопросе об абсолютной шкале времени, об объективности событий в пространстве и времени, от которых нас заставляет отказаться современная физика. Смысл этих понятий в том общем виде, как их тогда представляли, никогда не был основан на непосредственном опыте; эти понятия также приводят к гипотетическому «краю мира». К тому же мировоззрение, которое должно быть отброшено вместе с этими вопросами классической физики, менее живуче, чем то, которое было ниспровергнуто Колумбом или Коперником. Таким образом, изменения в нашем мировоззрении, внесённые современной физикой, менее радикальны, чем изменения, происшедшие в XV и XVI столетиях. Точно так же и убедительность квантовой теории заключается отнюдь не в том, что мы, применяя чуть ли не все методы измерения положения и скорости электрона, каждый раз убеждались бы, что нельзя избежать соотношения неопределённостей, а в том, что экспериментальные результаты, вроде результатов Комптона, Гейгера и Боте, с очевидностью свидетельствуют о необходимости рассмотрения новых мыслительных возможностей, создаваемых в квантовой теории, благодаря чему отказ от вопросов классической физики больше не кажется нам потерей. Таким образом, подлинная сила современной физики всецело заключается в тех порождённых самой природой мыслительных возможностях, которые она предоставляет нам. Поэтому надежда, что новые эксперименты наЕедут нас на след объективных событий во времени и пространстве или абсолютного времени, была бы не более основательной, чем надежда обнаружить, в конце концов, «край мира» где-нибудь в неисследованных районах Антарктики.
Аналогию можно провести ещё и в другом отношении. Открытие Колумба было несущественно для географии средиземноморских стран, и было бы совершенно неправильно утверждать, что путешествие знаменитого генуэзца опровергло положительные географические знания того времени. Точно так же было бы неправильно говорить в настоящее время о ниспровержении физики. {10} Современная физика ничего не изменила в таких классических разделах физики, как механика, оптика и термодинамика. Решительному пересмотру подвергаются только те представления о неисследованных областях, которые слишком поспешно были составлены на основании наших знаний ограниченной части мира. Однако несомненно то, что эти представления всегда: имеют решающее значение для направления дальнейших исследований.
После этого краткого и поверхностного обзора того что произошло за последнее время в теоретической физике, необходимо выяснить теперь значение происшедших в физике изменений и их возможное влияние на образ будущего научного мышления. Естествознание имеет две задачи: подойти к пониманию природы, создав тем самым возможность поставить её на службу человека, и определить место человека в природе путём действительного проникновения в её внутренние отношения. Первая из этих задач доминировала в развитии естествознания и техники в течение последних столетий и поэтому на ней мы остановимся здесь в первую очередь. Данные теоретической физики, включая результаты теории относительности и квантовой теории, не могут непосредственно служить техническому прогрессу. Теоретическая физика влияет на техническое развитие косвенно и не сразу, а после некоторого значительного промежутка времени. Здесь следует иметь в виду двоякое влияние теоретической физики.
Во-первых, для правильного конструирования аппаратов необходимо знать те общие законы природы, согласно которым происходит работа аппаратов. Например, при конструировании динамомашины или высокочастотной установки совершенно необходимо знать уравнения Максвелла в привычной для техника или физика форме. Подобно этому знание законов ядерной физики будет существенным и для конструирования аппаратов, использующих атомные явления; однако много времени может пройти до тех пор, пока результаты современной физики сделаются ощутительными.
Во-вторых, прогресс в теории должен, тем не менее, в значительной степени отразиться на направлении физических исследований и, в конечном счёте, на развитии техники. В связи с этим следует кратко остановиться на взаимоотношении между экспериментальной и теоретической {11} физикой, поскольку это взаимоотношение в последнее время превратно было представлено немецкой общественности. Само собой разумеется, что экспериментальные исследования образуют во всех областях необходимую предпосылку для теоретического объяснения и что принципиальный шаг делается только под давлением экспериментальных результатов, a не вследствие спекуляций. Однако направление экспериментальной работы должно определяться всё же теорией. Наиболее известным (со времени зарождения современной точной науки) примером такой взаимодополняющей работы, характеризующим взаимосвязь теории и опыта, являются совместные исследования Тихо Браге и Кеплера. Необычайно большой материал наблюдений Тихо Браге за движением планет, который Кеплер никогда не смог бы собрать с такой же точностью, послужил необходимой предпосылкой для работы Кеплера. В свою очередь, направление, в котором развивалась астрономия в последующие столетия, определялось открытиями Кеплера. Но едва ли есть необходимость углубляться так далеко в историю, чтобы наблюдать взаимодействие эксперимента и теоретического знания. Преобразование основ точного естествознания, имевшее место в современной физике, было произведено шаг за шагом в результате воздействия экспериментальных исследований. С другой стороны, сравнение областей исследования в физических лабораториях в настоящее время и двадцать лет назад непосредственно показывает, как направление экспериментальных исследований определяется изменениями в нашем понимании законов природы. Каждое нововведение, оказывающее своё влияние на «нaблюдaтeльную» физику, отражается затем на развитии техники. Поскольку в настоящее время обсуждается вопрос о том, куда в первую очередь должен быть направлен интерес общественности — к технике, экспериментальной или теоретической науке, то необходимо иметь в виду прежде всего, что эти три отрасли науки взаимно обусловливают и взаимно дополняют друг друга. Задача чистого естествознания всегда состоит в том, чтобы подготовить почву для развитии техники. Так как эта почва истощается довольно быстро, то важно, чтобы она непрерывно обновлялась; для этой цели служит теоретическое исследование. Взаимодействие между развитием техники и науки основано в конечном {12} счёте на том факте, что они проистекают из одного и того же духовного источника. Пренебрежение чистой наукой явилось бы симптомом истощения сил, которые обусловливают развитие как техники, так и науки.
Однако преобразование основ точной науки отражается не только в технике и экспериментальных исследованиях. Существует ещё одна область, подверженная такому влиянию, — это философская теория познания. Здесь поднятый Кантом и с тех пор много раз обсуждавшийся вопрос об априорности форм созерцания и категорий предстал в новом свете в результате критики абсолютного времени и эвклидова пространства в теории относительности и принципа причинности в квантовой теории. С одной стороны, было установлено, что наши пространственно-временные формы созерцания и принцип причинности не являются независимыми от всякого опыта в том смысле, что они обязательно должны сохраняться в виде существенной составной части любой будущей физической теории. С другой стороны, как в особенности подчеркнул Бор, применимость этих форм созерцания и принципа причинности является предпосылкой всякого объективного научного опыта также и в современной физике, ибо процесс и результат измерения можно выразить только посредством описания приёмов измерения и способов отсчёта показаний, которые рассматриваются как объективные процессы, разыгрывающиеся в пространстве и времени нашего восприятия Мы не можем также на основании результатов измерений делать заключения о свойствах наблюдаемых объектов, если принцип причинности не гарантирует однозначной взаимосвязи между ними.
Кажущееся противоречие между этими двумя положениями разрешается, если иметь в виду, что физические теории только там могут отличаться по своему строению от классической физики, где предметом их исследования являются объекты, не поддающиеся непосредственному чувственному восприятию, то есть когда покидают область обычного повседневного опыта, где господствует классическая физика. В связи с этим следует заметить, что современная физика более точно определила границы идеи «a priori» в точном естествознании, чем это было возможно во времена Канта. Обсуждая эту проблему с новой точки зрения, и до сих пор ещё не пришли {13} к окончательному согласию в вопросе о том, насколько указанная идея всё ещё остаётся плодотворной в других философских областях, которые были существенны для Канта.
Этот теоретико-познавательный специальный вопрос связан уже со второй важнейшей задачей, поставленной перед физической теорией: дать нам знания о наиболее общих взаимосвязях в природе, частью которой мы сами являемся. Наука не может избежать решения этой задачи, если она хочет остаться верной сама себе. Здесь необходимо только вспомнить, что в античности некоторые из первых представителей зарождающейся натурфилософии были в то же время выразителями религиозных течений. А если к тому же мы примем во внимание, что изменения, происшедшие в научном мировоззрении в конце эпохи Ренессанса, преобразовали всю духовную и культурную жизнь последующего времени, то станет вполне очевидно, что современные изменения также окажут влияние на духовную жизнь будущего. Хотя новейшие преобразования по своему значению и не могут сравниться с теми, которые произошли в начале нового времени, всё же они достаточны, повидимому, чтобы заменить представления, которые можно было бы назвать естественно-научным мировоззрением XIX в., некоторыми другими. На этом следует остановиться несколько подробнее. Естественно-научные представления, которые в прошлом столетии считались само собой разумеющейся основой всех естественно-научных исследований, приняли вполне определённые, известные нам теперь формы с началом нового времени. Очень важным новым открытием, обусловившим всю силу естественно-научного развития, было познание того, что вне сферы воззрений средневековья, для которого главным была мысль о сверх-естественном откровении, имеется ещё большая область действительности. Человек столкнулся с объективной, несомненной реальностью, которую можно было изучать посредством наблюдений природы и проведений экспериментов. Естественным следствием данного открытия были попытки отделить в этой объективной реальности, ставшей предметом человеческих исследований, общее от частного. Из множества частных результатов выкристаллизовалась группа основных положений как подлинное ядро нового естествознания, которые, казалось, были {14} необходимой основой всех естественно-научных исследований. Влияние новой действительности сказалось затем и на философии; основные положения нового научного познания природы явились ссставной частью больших философских систем. Подобно тому как в древнее время геометрия послужила образцом последовательности для философского мышления, так естественные науки породили философские системы, в которых, как и в науке, одна или несколько истин, признаваемых за несомненные, были положены в основу, а всё остальное выводилось дедуктивно из этих истин. Примером таких систем служат системы Декарта и Спинозы. Философия Канта, претендующая на критику поспешной догматизации существующих научных понятий, точно так же не смогла предотвратить окостенения научного мировоззрения; в некотором отношении она, пожалуй, даже способствовала такому окостенению. После того, как ряд основных положений классической физики был принят за априорное условие физических исследований, на основе естественной, однако неверной экстраполяции возникла вера в абсолютный характер этих положений, то есть их стали рассматривать как всегда справедливые и не зависимые ни от каких наших новых опытов.
Тем самым был создан твёрдый остов классической физики. Возникло представление об объективном, существующем в пространстве и во времени телесном мире, который, как машина, после первоначального толчка продолжает существовать по неизменным законам. Тот факт, что такая «машина», как и вся наука, есть опять-таки продукт человеческого разума, казался несущественным, не имеющим значения для понимания природы. Только такое распространение научных форм мышления далеко за пределы их законного применения привело к вызывающему частое сожаление делению духовной жизни на область науки, с одной стороны, и область религии и искусства — с другой. Точная наука была убеждена в общей обоснованности и применимости научных принципов и пыталась распространить их на другие сферы духовной жизни, угрожая, таким образом, их самостоятельному значению. Но так как её силы оказались недостаточными для того, чтобы полностью захватить эти области, то в качестве самозащиты возникли почти непреодолимые границы между этими отныне ставшими чужими областями. Таким образом, научное мировоззрение XIX в. {15} было рационалистическим, так как его основа — классическая физика — была выведена из небольшого числа аксиом, поддающихся рациональному анализу, и так как оно основывалось на вере в возможность рационального анализа всей действительности. Необходимо, однако, подчеркнуть, что надежда понять бесконечное многообразие мира на основании знания его небольшой части никогда не может быть рационально обоснована. В настоящее время изменения в основных естественно-научных положениях, произведённые таким удивительным образом под влиянием изучения атомных явлений, оставили классическую физику нетронутой. Но эти изменения показали, что научные системы, вроде классической механики или других разделов классической физики, только тогда могут считаться правильными, если они полностью внутренне замкнуты. Эти изменения показали также, что распространение научных исследований на новые области опыта не означает применения известных ранее законов к новым объектам. Здесь необходимо снова вернуться к аналогии между открытием сферической формы Земли и результатами современной физики. До тех пор, пока Земля рассматривалась как большой диск, имелась надежда, что человек, достигнув «края мира», сможет получить полное представление обо всём, что касается мира. Эта надежда навсегда была уничтожена открытием Колумба, хотя последнее только изменило наши представления о неизвестной до того части мира. Теперь нам известны многие такие вопросы, на которые нельзя было бы ответить, сколько бы мы ни путешествовали вокруг Земли, так как после каждого возвращения к исходному пункту путешествия перед нами вновь открывается бесконечность мира. Подобно этому и современная физика показывает, что злание классической физики (как, впрочем, и современной) является внутри себя «замкнутым». Классическая физика может быть применена только там, где при-ложимы её понятия, образующие её основу. Но эти понятия уже не всегда приложимы к процессам ядерной физики; это тем более верно для тех научных областей, которые ещё более удалены от классической физики. Так, надежда понять все стороны интеллектуальной жизни, исходя из принципов классической физики, не более обоснована, чем надежда путешественника, который верит, что он сможет получить ответ сразу на все нерешённые вопросы, если сумеет достигнуть края мира. {16}
Однако следует предупредить о могущем возникнуть здесь недоразумении, будто изменение в точном естествознании обнаруживает наличие неких определённых границ для применения рационального мышления вообще. Суженная область приложения может быть определена только для некоторых определённых форм мышления, а не для рационального мышления вообще. Открытие того факта, что Земля — это не весь мир, а лишь небольшая обособленная его часть, дало возможность отбросить иллюзорное понятие «конца мира» и вместо него начертить точную карту всей поверхности Земли. Подобным же образом современная физика освободила классическую физику от некоторых неясностей, связанных с признанием её неограниченной применимости. Современная физика показала, что отдельные разделы нашей науки, как, например, механика, теория электричества, квантовая теория, представляют собой внутренне замкнутые, рациональные, тесно взаимосвязанные научные системы, всегда правильно выражающие соответствующие законы природы; при этом существенна здесь «внутренняя замкнутость» системы. Наиболее важным новым достижением атомной физики было открытие возможности непротиворечивого применения совершенно разнородных систем законов прирсды к одинаковым физическим явлениям. Это обусловлено тем, что в каждой определённой системе законов из-за характера важнейших понятий, на которых основаны эти законы, имеет смысл постановка только вполне определённых вопросов, и вследствие этого наша система отделена от других систем, в которых допустима постановка других вопросов. Таким образом, переход точных естественных наук от ранее исследованных областей опыта к новым областям никогда не будет означать простого применения уже известных законов к этим новым областям. Наоборот, действительно новые области опыта всегда будут вести к возникновению новых систем научных понятий и законов не хуже старых, поддающихся рациональнсму анализу, но обладающих существенно отличной природой. Именно по этой причине современная физика по отношению ко всем новым областям опытов, ещё не включённых в её исследование, занимает позицию, отличную от позиции классической физики. Рассмотрим, например, проблему существования живых организмов. Согласно Бору, с точки зрения современной физики, {17} следует ожидать, что законы, характеризующие эти организмы, отличаются (вполне доступным рациональному пониманию образом) от чисто физических законов, подобно тому как, скажем, квантовая теория отличается от классической механики. Такое положение имеет место. хотя и в меньшей мере, вероятно, и в том случае, когда обращаются к исследованию объектов ещё более малых размеров, например при исследовании свойств атомных ядер, что представляет наибольший интерес для современной физики. На здание точных естественных наук едва ли можно смотреть как на связное единое целое, на что раньше наивно надеялись. Простое следование предписанному маршруту от какой-либо данной точки не приведёт нас во все другие части этого здания. Это объясняется тем, что здание состоит из отдельных специфических частей; и хотя каждая из последних связана с другими посредством многих переходов и может окружать другие части или быть окружённой ими, тем не менее она представляет замкнутое в себе, обособленное единство. Переход от одной уже законченной части к другой только что открытой или вновь возникшей всякий раз требует новых умственных усилий, которые должны быть направлены уже не на простое естественное развитие имеющихся представлений.
Таким образом, в наше время естествознание больше, чем когда-либо раньше, вынуждается самой природой снова ставить старый вопрос о возможности рационального понимания действительности и отвечать на этот вопрос несколько по-иному. Прежде пример точных естественных наук мог приводить к философским системам, выдвигавшим ту или иную истину (вроде «Cogito, ergo sum» Декарта) в качестве основы для решения всех мировоззренческих вопросов. Однако теперь природа отчётливо напоминает нам в современной физике, что мы никогда не должны надеяться на возможность найти такую твёрдую основу для познания всего мира познаваемого. Наоборот, на каждом существенно новом этапе познания нам всегда следует подражать Колумбу, который отважился оставить известный ему мир в почти безумной надежде найти землю за морем.
Понимание этого может предохранить нас от ошибочного стремления, не всегда избегаемого в прошлом, втиснуть новые области опыта в несоответствующую им схему {18} понятий. С другой стороны, благодаря этому легче будет включить методы мышления, возникшие в противоположность идеалу познания классического естествознания, во всеобъемлющее и вместе с тем единое и логически отработанное понятие науки. Попытка как можно скорее связать между собой различные области человеческого знания, надеясь, чго их различие не вызовет больше трудностей, во всяком случае в такой же малой степени привела бы к подлинной унификации духовной жизни, в какой в своё время рациональная наука была обобщена до рационалистического мировоззрения. Тем не менее, подобно тому как это обобщение открывало новые перспективы во многих областях, так и мы сегодня можем сослужить хорошую службу для будущего, если попытаемся, по крайней мере, расчистить путь вновь выработанным методам мышления и не будем выступать против них, ссылаясь на необычайные трудности, возникающие в связи с их непривычностью. Поэтому, может быть, не так уж смело будет надеяться, что новые духовные силы снова приблизят нас к единству научной картины мира, которое намечается в течение последних десятилетий.
| {19} |
Характерной особенностью точного естествознания за последние тридцать лет является то, что его различные ветви — астрономия, физика и химия — смогли быть приведены в атомной физике к их общему истоку и что в известном смысле исполнилось многое из того, что предугадывали Левкипп и Демокрит. Поэтому для более глубокого понимания современного естествознания важно установить, в какой мере, собственно, современные исследования можно рассматривать как последовательное продолжение прежних длившихся тысячелетиями усилий человека понять природу; важно тщательно проследить и сопоставить успехи и неудачи этих исканий.
С обычной точки зрения, развитие науки о природе рассматривается как цепь блестящих и удивительных открытий, внутреннюю связь которых человеческий разум может понять при помощи математики. Вследствие этого мне кажется важным подчеркнуть другую, менее заметную тенденцию в естествознании, мимо которой не может пройти внимательный исследователь истории развития науки и которая, так сказать, ответственна за внутреннее равновесие нашей науки. Эта тенденция состоит в том, что почти каждый новый шаг в развитии естествознания достигается ценой отказа от чего-либо предшествующего; почти для всякого нового познания необходимо пожертвовать вопросами, представлениями и понятиями, которые до этого считались важными и существенными. Таким образом, по мере расширения знаний у учёных в известной степени уменьшаются притязания на полное «познание» мира. Наблюдение природы человеком обнаруживает здесь близкую аналогию с индивидуальным актом восприятия, которое можно, подобно {20} Фихте, рассматривать как «самоограничение Я». Это означает, что в каждом акте восприятия мы из бесконечного множества выбираем только какую-либо одну определённую возможность и тем самым ограничиваем также число возможностей для будущего.
Изучение этого «самоограничения», неизбежно и неотделимо связанного со всяким новым физическим знанием, даёт нам возможность представить себе степень необходимости того пути, который предначертан естествознанию ходом его истории. Такое изучение предохранит, кроме того, современную науку о природе от пристрастных упрёков в односторонности и преувеличении своих возможностей.
Первым физическим феноменом, привлекавшим внимание систематизирующей мысли древних греков, была «субстанция», «неизменное» в изменяющихся явлениях. В известном положении Фалеса о том, что вода является первоосновой, из которой построен мир, можно усмотреть первую попытку ввести понятие «материя»; однако тогда, в начале научных исследований, ни один из указанных нами терминов не мог иметь точного смысла. Ни термин «первооснова», ни термин «вода» и «построен» не имели вполне определённой области приложения или ясного значения. И именно это обстоятельство обеспечило полную свободу последующим научным исследованиям. В то время ничто ещё не могло привести к отказу от единого понимания мира в наиболее общем смысле. В последующем развитии науки термин «первооснова» получил более точное определение: прежде всего, его связали с признаком единообразия и неразрушимости. Это уточнение в дальнейшем привело к усложнению, ибо для того, чтобы сделать понятными изменения явлений в мире, необходимо было либо допустить несколько основных субстанций, смешение и разделение которых могло служить причиной многообразия наблюдаемых в опыте явлений, или совершенно отделить понятие «неизменного» от опыта, как это пытался сделать Парменид в своём учении о «бытии». Эмпедокл рассматривал землю, огонь, воздух и воду как четыре элемента, или «корня», всех вещей (puwfizxa). Он трактовал их как «несотворимые и неразрушимые, однородные и неизмененные, но вместе с тем делимые». Следуя по тому же пути, Анаксагор постулировал бесконечное число элементов, соединение и разъединение которых обусловливает появление или {21} исчезновение отдельных вещей. Всё перечисленное нами подготовило основу для идеи сведения качественного многообразия внешнего мира к соотношениям количеств, к изменениям их пропорций, — идеи последовательно проведённой в атомистическом учении Левкиппа и Демокрита. В этом учении существующими считаются только мельчайшие неделимые составные части материи, атомы, обладающие единственным свойством — заполнять пространство. Качественные различия воспринимаемых явлений объяснялись различием в форме, движении и расположении атомов в пустом пространстве.
Развитие понятия материи от Фалеса до Демокрита представляет собой несомненно важный шаг вперёд в объяснении основных свойств веществ. Непосредственно наглядно была представлена возможность различных агрегатных состояний вещества; можно было разумно истолковать явления, связанные со смешением нескольких жидкостей, и (как теперь известно) фактически уже тогда получило наглядное геометрическсе истолкование неизвестное в то время понятие химической связи. В то же время, хотя и есть серьёзное основание восхищаться таким прогрессом, как успехом в последовательном развитии естественно-научной мысли, мы, тем не менее, не должны забывать, что с этими успехами неизбежно был связан в последующее время рискованный отказ от «непосредственного» понимания качеств. В нашем восприятии качества, подобные цвету, запаху и вкусу, являются в такой же мере непосредственными данными, как форма и движение. Лишение же атомов указанных качеств — а в этой абстракции и состоит сила атомистической гипотезы — означает заранее отказаться от возможности «понять» качества вещей посредством использования представления об атсме в собственном смысле этого слова. Взамен того, что мы назвали «непосредственным пониманием», в атомистической теории появляется своего рода «аналитическое» объяснение: качества «красный», «кислый» и т. п. представляются той или иной геометрической или динамической схемой расположения атомов; получаемым на опыте взаимосвязям между качествами соответствуют почти наглядные геометрические взаимосвязи в атомистической схеме. Качественное многообразие мира «объясняется» посредством сведéния к разнообразию геометрических конфигураций. В этом смысле можно также {22} сказать (в полную противоположность высказанному выше утверждению), что хотя атомистическая теория Демокрита и даёт объяснение упомянутым качествам, однако она оставляет без объяснения геометрические свойства мира, то есть не сводит их к чему-либо известному. Таким образом, следует проводить различие между «аналитическим» и «непосредственным» пониманием.
Предпринимаемая в атомистической теории попытка изобразить чувственные качества вещей, вроде цвета и твёрдости, посредством анализа в виде геометрических конфигураций (в широком смысле слова) приводит в естествознании к отказу объяснить сущность этих качеств. Поэтому вполне понятно, почему, например, у поэтов атомистические представления всегда вызывают ужас.
Вместе с развитием понятия «материя» делались попытки придать более точный смысл понятию «пространство». По наивным представлениям, мир состоит из множества вещей, отделённых друг от друга пустым пространством. Однако в греческой философии именно понятие «пустое пространство» привело к большим теоретико-познавательным трудностям. Парменид, положивший понятие «бытие» в основу своей философии, придал ему с самого начала признак телесности. Бытие он отождествил с тем, что заполняет пространство, но так как существует только бытие, а небытия нет, то, следовательно, не может быть и пустого пространства (т. е. небытия). На примере учения Парменида. приводящего в конечном счёте к рассмотрению всего чувственного мира как «кажимости», можно видеть, к каким затруднениям первоначально приводило философов понятие «пустое пространство». По этой причине долгое время не могли провести чёткого различия между понятиями «пространство» (с его геометрическими свойствами) и «материя». Например, в «Тимее» Платона физические свойства элементов сведены к геометрии, то есть к свойствам пространства; отдельные элементы материи построены из основных тел стереометрии, а последние, в свою очередь, из простых треугольников. Даже у Аристотеля, который значительно дальше своих предшественников продвинулся ст дедуктивной, исходящей из абстрактных принципов науки о природе к описательной, регистрирующей только факты, имеется следующее доказательство невозможности пустого пространства. Тела падают в воде более {23} медленно, чем в воздухе, вследствие, очевидно, различия сопротивлений, оказываемых водой и воздухом. Значит, чем меньше плотность окружающей среды, тем быстрее падают все тела; отсюда следует, что в пустом пространстве тела падали бы с бесконечной скоростью, но это абсурдно. Следовательно, пустого пространства не существует. Здесь пространство всегда фигурирует как «нечто, заполненное материей». Философы долгое время не решались приписывать абсолютной «пустоте» какие-либо свойства. Материализм Демокрита смело преодолел это затруднение. Для него материя состоит из атомов, отделённых друг от друга пустым пространством; геометрия есть свойство пустого пространства. Пространству приписывались также и другие качества, вроде существования «верха» и «низа». Некритическое принятие наивного разделения мира на материю и пространство лежит в основе достигнутых материализмом успехов. Например, хорошо известное атомистическое объяснение агрегатных состояний основывается именно на этой независимости структуры пространства и материи. Таким образом, и здесь нельзя забывать, что успехи учения Демокрита были достигнуты в результате отказа от выяснения сущности всех взаимосвязей между пространством и материей. Как известно, значительный шаг вперёд в вопросе о соотношении «пространство — материя» был сделан только в новейшее время в общей теории относительности. В течение всего развития науки от Демокрита до Ньютона и Максвелла обсуждение этой проблемы не играло никакой роли. Считалось, что пространство можно «объяснить» путём анализа его геометрических свойств; причём геометрические данные повседневного опыта без всяких сомнений переносились на мир атомов или звёзд. Тем самым отказывались от более глубокого понимания взаимосвязи «пространство — материя».
В обоих этих рассуждениях относительно понятий «материя» и «пространство» мы встретили совершенно общую проблему, связанную, собственно, с «объяснением» природы. Привела ли атомистическая теория Демокрита к пониманию качеств материи или же она оказалась не в состоянии этого сделать? В каком смысле эта теория «объяснила» геометрическое поведение тел? Можно ли было рассматривать как науку о природе исследования учениками Пифагора колебаний струн и гармонии, а также {24} представления Демокрита? Подобные вопросы занимали философскую мысль уже древних греков.
Все помнят знаменитую аналогию в «Государстве» Платона, где мир сравнивается философом с тёмной пещерой, а люди — с узниками, прикованными спиной к свету таким образом, что они могут видеть только тени вещей и следить за их движением. Платон описывает, как эти узники считали реальными только тени и пытались открыть закономерности в их движении. Когда один из узников освободился, он получил возможность увидеть свет и вещи такими, каковы они есть в действительности. Платон описывает, с каким сожалением и презрением этот увидевший новый мир человек думает теперь о своём прежнем плене и об изучении теней. В заключении этой аналогии философ говорит о различных науках, об изучении чисел, искусстве измерения, изучении звёзд. Он различает четыре ступени псзнания: высшая ступень называется episthmh и соответствует знанию истинных вещей, познанию их сущности, как это описано в аналогии. Вторая ступень называется рассудочным познанием (dianoia) и может быть достигнута путём изучения наук. Две последние ступени относятся к первым двум, как предположение относится к знанию. Они называются доверием (pistiV) и догадкой (eiϰasia). В нашей проблеме возможности физического «объяснения» природы мы касаемся главным образом различия между первыми двумя ступенями познания. Поясним на простом примере, что можно понимать под этими ступенями. Допустим, что человек, которого мы, как нам казалось, хорошо знаем, неожиданно совершает преступление. Сначала нам это покажется совершенно невероятным. Мы могли бы затем узнать, почему он так поступил, от тех людей, которым известны все подробности этого случая; мы могли бы ознакомиться со всеми аргументами и после тщательных их исследований были бы в состоянии понять совершённое преступление. Это понимание соответствует рассудочному познанию (dianoia). Но могло бы оказаться, что нам сразу стало ясно, что этот человек должен был именно так поступить. Такого рода знание соответствует тому, что Платон Называет etisthmh.
Вернёмся теперь к науке о природе. Сам Платон очень подробно объясняет, что представляет собой вторая, низшая {25} ступень познания и как мы в процессе изучения природы можем достигнуть этой ступени. Наиболее важными ему кажутся, прежде всего, математические законы природы, находящиеся за явлениями, а не сам многогранный мир явлений. Никакая другая задача науки о природе не кажется ему столь существенной, как задача открытия неизменных законов в постоянно меняющихся явлениях. Очень важно и показательно, что Платон так сильно подчёркивает именно эту, как мы её теперь иногда называем, «формальную» сторону науки.
В одном месте, например, Платон говорит о пифагорейцах и их исследованиях гармоний и колебаний струн. Единственно существенным в их экспериментах является для него мысль о численных отношениях, лежащих в основе гармонических звучаний; явления же сами по себе остаются несущественным дополнением. Но познание природы, которое, таким сбразом, «может быть достигнуто путём изучения её математической структуры, представляет собой, согласно Платону, всегда только прелюдию к мелодии, являющейся именно целью изучения, преддверием к раскрытию «сущности» вещей, к достижению высшей ступени познания. Кто забывает это обстоятельство, тот уподобляется тем узникам в изображении Платона, которые воспринимают движение теней как саму действительность и никогда не увидят подлинного света. Насколько важно было для Платона противопоставление этого «истинного» познания методам обычной науки о природе, ясно из того высказывания о пленниках, которое он в своей аналогии вкладывает в уста человека, познающего действительность. Платон пишет:
«Не думаешь ли ты, что вспоминая о своей первой жизни, о той мудрости и о тех узниках, он сочтёт свою перемену счастливой, а о других [оставшихся в пещере] будет жалегь?.. Вспоминая также о почестях и похвалах, которые возданы были друг Другу, и о наградах тому, кто с проницательностью смотрел на происходящее и лучше других замечал, что бывает сначала, что потом или что идёт вместе и, исходя из этого, обладал особой способностью угадывать, что должно быть, — как гы думаешь, будет ли он желать того же и станет ли он завидовать людям, которые у них считаются почётными и влиятельными...»1 {26}
Как исторически обстоит дело в науке о природе с этими двумя видами познания? Мы знаем из истории, что на всём пути её развития, от Фалеса до наших дней, наше «проникновение в природу», её рассудочное познание („dianoia”) постоянно увеличивается. Однако при внимательном рассмотрении этого развития напрашивается вывод, что оба рода познания — etisthmh) и dianoia,— хотя в известном смысле и зависимы одно от другого, тем не менее, находятся во взаимно исключающих отношениях. Чем больше областей открывается физикой, химией и астрономией, тем прочнее мы приобретаем привычку заменять выражение «объяснение природы» более скромным выражением — «описание природы», стремясь тем самым подчеркнуть, что этот прогресс относится не к непосредственному знанию, а к аналитическому объяснению. С каждым великим открытием — и это особенно хорошо можно видеть в современной физике — уменьшаются претензии естествоиспытателей на понимание мира в первоначальном смысле этого слова. Мы считаем, что этот процесс заложен глубоко в самой сущности вещей или в природе самого человеческого мышления. Естественно, всякая попытка показать неизбежность такого развития путём теоретико-познавательного анализа слова «понимание» оставляет чувство неудовлетворённости. Однако здесь не место аргументировать в пользу ценности и необходимости такого развития. Мне кажется, что более правильным было бы показать на примере истории физики (включая и историю последних лет), в какой мере прямолинейно и последовательно развивалось естествознание на протяжении тысячелетий. Это помогло бы нам ощутить довольно странную, не зависящую от личности необходимость, которая, по всей вероятности, заключается в этом развитии.
Отправной пункт физики Галилея является абстрактным и лежит как раз на том пути, который Платон предначертал для науки о природе. Аристотель ещё описывал реальное движение тел в природе и установил, например, что лёгкие тела в общем падают более медленно, чем тяжёлые. Галилей же поставил совершенно другой вопрос: как могли бы падать тела, если бы не было никакого сопротивления воздуха? Как падают тела в пустом пространстве? Галилею удалось сформулировать математические законы этого теоретически воображаемого {27} движения, которое в эксперименте могло быть реализовано всегда только приблизительно. Вместо непосредственного рассмотрения совершающихся вокруг нас процессов природы появилась математическая формулировка предельного закона, который может быть проверен только при экстремальных условиях. Возможность вывести из природных процессов простые и точно формулируемые законы покупается ценой отказа от непосредственного применения этих законов к явлениям природы.
Знаменитое открытие Коперника является шагом в том же направлении: чтобы проще и единообразнее изобразить движение Солнца и планет, он отказался от непосредственно данного факта центрального положения Земли.
Эта часть развития получила, наконец, своё последовательное завершение благодаря гению Ньютона, который формально свёл к единой закономерности две совершенно различные области опыта: движение звёзд на небе и тяжесть тел на Земле. В настоящее время нам трудно даже представить, как тяжело было учёным того времени осознать, что движения звёзд и движения тел на Земле могут быть сведены к одной и той же простой системе законов. Кто хоть в какой-то мере не прочувствовал всё значение этого чуда, тот не может и надеяться сколько-нибудь понять дух современной науки о природе. Вместе с этим необходимо поставить ещё один вопрос. В какой мере открытия Ньютона «объясняют» движение звёзд? Действительно ли лучше мы понимаем теперь это движение звёзд, чем прежде? Чтобы ответить на этот вопрос, полезно сравнить древнегреческое описание движения планет с соответствующим описанием в современном учебнике по астрономии.
В «Тимее» Платона мы читаем:
«Итак, когда все светила, те, что нужны были для образования времени, вступили каждое на приличный путь, и связанные одушевлёнными узами тела явились живыми существами и поняли, что было им предписано... стали они описывать — одно круг больший, другое меньший, причём делавшее меньший круг обращалось скорее, а больший — медленнее»1.
Вот соответствующее место из учебника по астрономии англичанина Ньюкомба: «Планеты движутся вокруг {28} Солнца, и поэтому они должны находиться под действием силы, направленной к Солнцу. Эта сила есть не что иное, Как гравитация, притяжение самого Солнца». «Простое вычисление, согласно третьему закону Кеплера, показывает, что сила, с которой планеты притягиваются Солнцем, обратно пропорциональна квадрату их средних расстояний от Солнца». «Но теперь встаёт вопрос: какого рода орбиту будет описывать планета вокруг Солнца под действием указанных сил? Ньютон показал, что эта орбита должна быть всегда коническим сечением, в одном из фокусов которого находится Солнце. Так полностью быА снят покров тайны с небесных движений и было доказано, что планеты являются просто тяжёлыми телами, движущимися по тем же самым законам, проявление действия которых мы постоянно наблюдаем вокруг себя».
Современное описание отличается от древнего главным образом тремя характерными чертами: качественное рассмотрение заменяется количественным; различные типы явлений сводятся к одной и той же первопричине и не ставится больше вопроса «почему?». В связи с последним обстоятельством следует отметить характерную деталь: естествоиспытатели-романтики были недовольны теорией Ньютона, и, например, такой крупный учёный, как Лоренц Окен, пытался заменить эту теорию другой, «более жизненной». Окен пишет: «Не посредством толчков и ударов создаётся мир, а благодаря одушевлённости. Если бы планета была мертва, она бы не смогла притягиваться Солнцем».
Перейдём теперь от механики к оптике. Ньютон разложил свет, воспринимаемый нами как белый, на спектр различных цветов. Гюйгенс заменил свет волновым движением гипотетической среды, названной эфиром. Наконец, Максвелл интерпретирует это волновое движение как колебание вектора напряжённости электрического и магнитного полей в пустом пространстве. Здесь мы также отчётливо видим, что естествознание всё больше отказывается от одушевления чувственных, непосредственно данных явлений, оставляя только математическое формальное ядро этих процессов. Установление того факта, что электрические, магнитные и оптические явления взаимно связаны и что они могут быть сведены к одной и той же системе уравнений Максвелла, является, несомненно, открытием чрезвычайной важности. С другой {29} стороны, мы должны согласиться с тем, что хотя слепой человек может легко изучить и понять всю оптику, тем не менее, у него не будет ни малейшего представления о том, что же такое свет. Такой отказ от жизненности и непосредственности, который был предпосылкой прогресса науки со времён Ньютона, явился действительной причиной той ожесточённой борьбы, которую вёл Гёте против физической оптики Ньютона в своём учении о цветах. Пренебрежение этой борьбой как не имеющей значения означало бы легкомысленный подход к данному вопросу. Повидимому, этот вопрос имеет глубокий смысл, если такой выдающийся человек, как Гёте, употребил все свои силы, чтобы опровергнуть достижения оптики Ньютона. В чём можно упрекнуть здесь Гёте, так это лишь в недостаточной последовательности: он должен был бы не только опровергать воззрения Ньютона, но и заявить, что вся физика Ньютона — оптика, механика и закси тяготения — есть навождение дьявола. Однако на жизненность и внутреннюю последовательность абстрактной науки о природе ясно указывает то обстоятельство, что, несмотря на всевозможные обвинения, она непрерывно развивается в одном и том же направлении; частично такая жизненность обусловлена — и этого нельзя забывать — возможностью технически управлять миром при помощи абстрактного естествознания.
Завершение механики Ньютоном, электрической теории и оптики Максвеллом и бурное развитие химии в начале прошлого столетия снова направили внимание учёных на проблему материи и привели к попыткам по-новому, при помощи новых средств подойти к этой проблеме, начало решения которой было положено древними греками. Вновь была возрождена атомистическая теория Демокрита. Гассенди, например, подвергал опасности свою жизнь, пропагандируя в XVII в. атомистическое учение. Его последователи объяснили различные агрегатные состояния материи предположением, что в твёрдом состоянии атомы расположены в строгом порядке, в жидком — хотя и тесно сцеплены друг с другом, всё же могут беспорядочно перемещаться, а в газообразном состоянии они, подобно рою комаров, кружатся в пространстве на значительном расстоянии друг от друга. Таким образом, качества — плотность, форма и подвижность — были сведены к геометрическому расположению атомов. {30} К этим качествам в прошлом столетии была добавлена температура. Теплота, многими рассматривавшаяся до тех пор как ссобое вещество, состоящее из огненных атомов Демокрита, стала трактоваться как кинетическая энергия движения материальных атомов. В нагретом теле атомы движутся быстрее, чем в холодном; быстрое движение атомов вызывает у нас ощущение «тёплого». Как известно, благодаря такому воззрению все явления, связанные с нагреванием и охлаждением, стало возможным рассматривать количественно. В такую схему без труда может быть уложена также и теория химических реакций. Качественные изменения веществ в химических процессах оказались сводимыми к изменениям в геометрическом расположении атомов. Далее, явления электролиза показывают, что имеются, кроме того, атомы электричества — протоны и электроны, а изучение радиоактивности указывает, что эти атомы электричества необходимо рассматривать как основные частицы, из которых построены все остальные атомы. Это значит, что только протоны и электроны являются действительными атомами, неделимыми элементарными частицами в буквальном смысле, в то время как остальные так называемые «атомы» состоят из них. Как известно, атомная физика, развивавшаяся на основе этих представлений под руководством Бора в течение последних двадцати лет и пока ещё не вполне завершённая, охватывает уже теперь необычайно широкую область опытных знаний. Например, ею даётся математически формальная сущность всех химических закономерностей: достаточно указать, что в принципе атомная физика даёт возможность определить цвета всех простых веществ. Программа Демокрита, таким образом, здесь в значительной мере реализована — видимые качества материи сведены к конфигурационным свойствам атомов?
Однако современная атомная физика в одном пункте идёт значительно дальше атомистического учения древних греков, причём это имеет существенное значение для понимания всего её развития. Согласно Демокриту, атомы были лишены качеств, подобных цвету, вкусу и т. д.; они обладали лишь свойством заполнять пространство. Геометрические же высказывания относительно атомов рассматривались как вполне допустимые и не требовали какого-либо дальнейшего анализа. В современной физике {31} атомы теряют и это последнее свойство; они обладают геометрическими качествами не в большей степени, чем остальными — цветом, вкусом и т. д. Атом современной физики может быть лишь символически представлен дифференциальным уравнением в частных производных в абстрактном многомерном пространстве; только эксперименты наблюдателя вынуждают атом принимать известное положение, цвет и определённое количество теплоты. В современной физике для атома все качества являются производными; непосредственно он не обладает никакими материальными свойствами. Это означает, что любая картина атома, которую можно нарисовать на основе наших представлений о нём, будет ео ipso1 ошибочной. Объяснение «первого рода» (я бы сказал почти: per definitionem2) невозможно для мира атомов. Это развитие кажется нам последовательным во всех отношениях. Прежде всего, оно восстанавливает равновесие между различными свойствами материи, которое было утеряно в старой атомистической теории; геометрические свойства не имеют теперь преимущества перед другими свойствами. Как подчеркнул Бор, теперь уже неправильно считать, что качества тел сводимы к геометрии атомов. Наоборот, знание цвета тела становится возможным только при условиях отказа от познания движения атомов и электронов внутри этого тела, а познание движения электронов, в свою очередь, заставляет отказаться от знания цвета, энергии и температуры. Оба случая сводимы, если хотите, только к математике атома. В современной атомной теории ни одно из чувственно данных свойств тел не принимается, не будучи проанализированным, и не переносится автоматически на мельчайшие частицы материи. Скорее, каждое свойство анализируется для целей dianoia. Отсюда как естественное следствие вытекает, что атомы не могут обладать в обычном смысле ни одним из этих свойств. Из рассмотрения механики и оптики Ньютона уже можно видеть, что сила этого абстрактного развития науки о природе лежит прежде всего в её способности охватывать простым образом обширные области опыта и непрерывно всё более упрощать и унифицировать рисуемую наукой картину природы. Что атомная физика дала в этом отношении блестящие {32} результаты, показывают нам яснее чем когда-либо успехи последних лет. Мы не можем без восхищения пройти мимо того факта, что бесконечное разнообразие явлений природы, на Земле и на звёздах, могут быть систематизированы в такой простой схеме законов. С другой стороны, не следует забывать, что такая унификация естественно-научной картины мира стоила очень дорого: прогресс в науке о природе был куплен ценой отказа от того, чтобы при. помощи естествознания представить явления природы в их непосредственной жизненности. Таким образом, я возвращаюсь к вопросу, поставленному нами в самом начале: может ли естествознание претендовать на то, что оно в состоянии объяснить природу? Я пытался показать, как физика и химия — хотя нам почти неизвестно, под влиянием чего, — непрерывно развивались в направлении математического анализа природы с целью введения единообразия. В то же время претензии нашей науки на познание природы в обычном смысле этого слова становились всё меньше. Попытка доказать невозможность такого теоретико-познавательного объяснения природы и показать, что математический анализ есть единственно возможный путь познания, кажется мне столь же сомнительной, как и противоположное утверждение, что объяснение природы может быть достигнуто философским путём без знания её формальных законов. Сам выбор того или иного типа объяснения природы как удовлетворительного и достаточного, должен быть, в конечном счёте, оставлен на совести отдельной личности или эпохи. Однако на одно обстоятельство современное естествознание может во всяком случае претендовать с полным правом: оно создало в процессе своего развития новые формы мышления и открыло новые горизонты, которые не могла бы открыть никакая другая наука и которые будут важным вспомогательным средством во всех областях духовной деятельности. Далее, современная физика даёт для других наук очень важный пример того, насколько широкое применение могут получать новейшие основные положения нашего абстрактного мышления без малейшего ущерба для его ясности и точности.
| {33} |
Приступая к рассмотрению принципиальных вопросом современной физики, я не собираюсь давать здесь обзор содержания новой физики, возникшей за последние тридцать лет. Об удивительной ревизии основных положений точных естественных наук, явившейся в псследние годы результатом точных экспериментальных исследований, говорилось, как известно, уже очень много.
Гораздо важнее здесь поставить в качестве основного следующий вопрос: как вообще стала возможной такая ревизия наших основных физических понятий? Каково, с точки зрения этой ревизии, истинное содержание классической и современной физики?
При такой постановке вопроса мы сталкиваемся с комплексом проблем, которые — с точки зрения принципиальных установок квантовой теории — были поставлены и серьёзно обсуждены Бором. Речь идёт, прежде всего, собственно, не о теории научного познания, а об осмыслении законов, на основе которых была создана современная физика.
Классическая физика основана на системе математически строго сформулированных аксиом, физическое содержание которых устанавливается тем, что определённым выбором слов, составляющих аксиомы, однозначно определяется применение этой системы аксиом к природе. Претензия на истинность классической физики — как и любого математического положения — кажется, таким образом, вполне обоснованной; положения классической физики точны и определённы.
В тех случаях, когда такие понятия, как «масса», «скорость» и «сила» несомненно могут быть применимы, будет верно — а в этом и заключается претензия на {34} истинность механики Ньютона, — например, утверждение Ньютона, что сила равна произведению массы на ускорение. Насколько эта претензия справедлива, лучше всего иожно увидеть, скажем, из того факта, что законы рычага Архимеда вплоть до настоящего времени служат теоретической основой при всех расчётах конструкции грузоподъёмных машин, и не может быть никакого сомнения, что эти законы будут играть свою роль и в будущем, пока существуют люди. И всё же в современной физике возникла необходимость ревизии классической механики. Чтобы понять, почему это произошло, необходимо подробнее рассмотреть характер данной ревизии. Если проанализировать основные положения современной физики, то обнаружится, что, собственно говоря, она и не пытается ниспровергнуть указанную претензию классической физики на истинность. Необходимость и возможность ревизии связана лишь с вопросом о том, насколько система понятий классической физики применима к опыту. Современная физика ограничивает, собственно, не справедливость классической физики, а лишь её применимость. Например, опыты, лежащие в основе теории относительности, показывают, что для тел, относительная скорость которых не особенно мала по сравнению со скоростью света, уже нельзя осуществить постановку опыта, используя простое понятие времени из ньютоновской механики. В этом случае оказывается, что величина t, входящая в уравнение Ньютона, не может быть приведена в однозначное соответствие с ходом часов. Поэтому механика Ньютона здесь не применима.
Приведём другой пример из ядерной физики, иллюстрирующий положительную сторону указанного утверждения. Поскольку траектория электрона в камере Вильсона может быть исследована, то к ней могут быть применимы законы классической механики. Классическая механика всегда даёт правильную траекторию электрона. Однако если электрон до наблюдения его траектории отражается от диффракционной решётки, то нет оснований для однозначного применения понятий координаты и скорости; для такого процесса классические законы не применимы.
Это обстоятельство ясно показывает, что возможность ревизии точных законов классической физики возникаег в результате неточности встречающихся в этой системе {35} понятий. Именно, хотя встречающиеся в механике Ньютона величины х, t и М однозначно связаны системой уравнений такого рода, что пря их решении произволен только выбор начальных условий, тем не менее слова «координата», «время» и «масса», соответствующие указанным величинам, полны всяких неясностей, которым в повседневной жизни не придают никакого значения.
Правда, для основных опытных данных, обусловливающих нашу науку, справедливо, что при помощи этих слов в известной области может быть достигнуто взаимопонимание между людьми. Однако последнего можно достигнуть опять-таки лишь путём строгого анализа эффективности этих понятий. Но это могло бы быть выполнено только в том случае, если бы существовала более простая система понятий, на которую мы могли бы, так сказать, положиться безусловно. Таким образом, претензия классической физики на истинность справедлива только в тех областях, внутри которых имеют строгий смысл понятия, встречающиеся в её аксисмах.
Как только наука покидает область повседневного опыта, она уже не может, как было сказано, использовать без риска для опыта обычные понятия и вынуждена заняться ревизией основных положений. Кажется, что этой опасности можно было бы избежать, если бы в науке все понятия с самого начала применялись только в той области, где они подтверждены опытными данными; другими словами, если бы все науки стремились к очищению языка от неясных понятий. Но до конца такая программа никогда не могла бы быть выполнена, ибо в таком случае все повседневные понятия нужно было бы подвергнуть ревизии, я неизвестно ещё, осталось ли бы тогда что-нибудь от нашего языка. Точно так же вряд ли есть такой критерий, с помощью которого заранее можно было бы решить, рискованно ли применение данного понятия. Например, до появления квантовой теории результаты опытов с камерой Вильсона вполне могли бы быть выражены следующими словами: «Мы видим, что в камере электрон описывает ту или иную орбиту», причём эту формулировку можно было бы считать простым описанием экспериментальных фактов. И только позднее на основе других экспериментов впервые возникла проблема понятия «траектория электрона». {36}
Таким образом, для науки, кажется, возможен только один путь развития: для описания опытов использовать сначала существующие понятия; ревизовать же их лишь тогда, когда к этому вынуждают результаты опытов. Требование того, чтобы заранее были разъяснены все понятия, было бы почти равносильно требованию предвосхитить всё будущее развитие науки при помощи логического анализа. Отсюда ясно, что в системе понятий классической физики неизбежно должны быть заключены неясности. Следовательно, мы должны примириться с мыслью, что даже математически строго разработанные разделы физики представляют собой в известной мере только робкие попытки разобраться в полноте явлений. Сказанное в отношении классической физики в той же мере применимо и к современной физике. Подобно тому как теория относительности устранила известные неясности в понятии «время», а квантовой теорией устранены неясности в понятии «материя», так, вне всякого сомнения, и будущее развитие науки вызовет дальнейшую ревизию; иначе говоря, употребляющиеся в настоящее время понятия имеют ограниченную (пока что неизвестную) применимость.
В связи с этим уместно поставить вопрос: как вообще возможно точное естествознание? Для ответа мы снова можем сослаться в качестве примера на область применимости классической механики. Пока могут быть применимы понятия «координата», «скорость», «масса» и т. д. (а они, например, применимы ко всему опыту нашей повседневной жизни), до тех пор будут справедливы и законы Ньютона. Следовательно, эти законы представляют собой идеализацию, обусловленную тем, что обращается внимание только на те части нашего опыта, которые могут быть упорядочены с помощью понятий «координата», «время» и т. д. С этой точки зрения кажется, что образование понятий в классической механике в известной мере есть лишь последовательное развитие языка, в котором каждое отдельное понятие представляет собой бессознательную попытку добиться порядка и ясности в определённых опытах путём выделения общих черт и присвоением им наименования. Подобно тому как развитие языка возможно только на основе уже существующих слов и терминов, так и в физике понятия классической механики образуют необходимую предпосылку для {37} исследования атомных явлений. Если иметь в виду классическую физику в целом, то можно сказать, что самая существенная заключённая в ней идеализация состоит в том, что упорядочение опытов предполагает в их основе объективные процессы, протекающие в пространстве и времени. Классическая физика представляет собой в известном смысле наиболее ясное выражение понятия материи, с помощью которого она пытается дать описание мира, по возможности не зависимое от нашего субъективного опыта. Вследствие этого понятия классической физики всегда будут оставаться основой для всякой точной и объективной естественной науки. Уже одно то обстоятельство, что результаты естествознания обязательно должны допускать объективную проверку (то есть измерения, регистрируемые подходящими приборами), вынуждает нас выражать эти результаты на языке классической физики. Так, например, для понимания теории относительности важно подчеркнуть, что для измерительных приборов, при помощи которых в опытах по отклонению солнечного света устанавливается отступление от эвклидовой геометрии, предполагается справедливость той же эвклидовой геометрии. Можно также показать, как подчеркнул, например, Динглер, что уже сами методы, применяемые при изготовлении измерительных приборов, предусматривают справедливость эвклидовой геометрии для этих приборов (в пределах достижимой для них точности). Подобным же образом во всех дискуссиях, касающихся экспериментов в атомной физике, без колебаний можно было бы говорить об объективности процессов в пространстве и времени. Поучительным примером этого являются эксперименты, в которых присутствие нейтронов обнаруживается благодаря вызываемой ими искусственной радиоактивности. Физические процессы, лежащие в основе этих экспериментов, могут быть поняты в их закономерной взаимосвязи только с помощью абстрактных понятий квантовой теории. Несмотря на это, эксперименты допускают измерения, так как их результаты могут быть выражены в классических понятиях без учёта абстрактного характера квантовотеоретических взаимосвязей. Через искусственную радиоактивность можно установить, что в данном определённом месте и в определённый момент времени находится нейтрон (то есть «определённая вещь»). {38}
Итак, хотя законы классической физики кажутся с точки зрения современной физики только предельными случаями более обобщённых и абстрактных взаимосвязей, всё же соответствующие этим законам классические понятия остаются неотъемлемой частью естественно-научного языка, без которой невозможно даже и говорить о научных результатах.
До открытия теории относительности это обстоятельство служило, вероятно, главным основанием для убеждения в том, что классические понятия должны быть обязательной составной частью любой будущей физической теории. Даже в наше время критика теории относительности и квантовой теории (основанная, как кажется, на недоразумении) направлена против выхода за рамки классических понятий. Так, теории относительности бросают упрёк: не может быть, чтобы время было относительным, ибо уже при обсуждении любого измерения предполагается абсолютное время. Или упрёк квантовой теории: применение статистических законов для описания природы никогда не может быть удовлетворительным, ибо невозможность предсказать событие можно рассматривать ллшь как указание на существование ещё не решённой проблемы. Необходимо, следовательно, выяснить, каким образом современная физика получает возможность выйти за пределы классических понятий?
Необходимость выйти за рамки классических понятий возникла прежде всего из-за технического расширения области наших наблюдений. Классические понятия уже не годятся больше для истолкования данных, получаемых нами от природы. Когда мы один раз видим, что электрон описывает траекторию в камере Вильсона, как частица, а другой раз устанавливаем, что он отражается от диффракционной решётки, как волна, то язык классической физики не годится в этом случае для понимания того, что в основе обоих результатов наблюдений лежит одно и то же явление.
Поэтому нам кажется необходимым прежде всего точнее определить области, в которых классические понятия теряют свою однозначную применимость.
Установление того пункта, где логически возможно отпадение классических понятий, всегда образует основное ядро новейшей теории. Так, центральным в специальной теории относительности является утверждение, что {39} одновременность двух событий, происходящих в различных местах, является проблематичным понятием. Подобно этому для квантовой теории чрезвычайно важное значение имеет утверждение о том, что говорить одновременно о тсчном положении и точном импульсе частицы не имеет никакого смысла. Иногда эти утверждения формулируются и в ином виде: вопрос об «истинной одновременности» двух событий является ложным, точно так же как и вопрос о тсчном положении и точном импульсе частицы; на них нельзя дать никакого ответа, ибо они поставлены неправильно. Эта формулировка действительно содержит логическую сущность рассматриваемой здесь ситуации, так как она с предельной ясностью показывает, что понятия, которыми мы вынуждены пользоваться для описания наших опытов, слишком неточны, чтобы передать то, что открывает нам природа. Во всяком случае решающим здесь является не установление, что существуют «ложные» проблемы, а выяснение того, почему они существуют.
В специальной теории относительности с самого начала устанавливается, что до сих пор не предоставлялось возможности передавать сигналы быстрее скорости света, так что невозможно дать ясное экспериментальное определение абсолютной шкалы времени. Однако это отрицательное утверждение впервые стало плодотворным лишь благодаря открытию того, что простое и логически удовлетворительное упорядочение опыта может быть достигнуто через предположение о принципиальной невозможности передавать сигналы быстрее скорости света и через возможный в этом случае постулат о постоянстве скорости света. Только благодаря последнему стало убедительным утверждение, что вспрос об абсолютной шкале времени является ложным. Совершенно так же обстоит дело и в квантовой теории. Выраженные в соотношениях неопределённостей ограничения классических понятий впервые стали плодотворными лишь после установления того факта, что эти соотношения, рассматриваемые как принципиальные, обеспечивают свободу, необходимую для гармонического и непротиворечивого упорядочения опыта. Только существующая в настоящий момент система математических аксиом волновой и квантовой механики впервые дала право рассматривать упомянутый вопрос о координате и импульсе как ложную проблему. {40}
Из сказанного следует, что понимание такой логической ситуации, в которой мы должны признать лишённым смысла казалось бы правильно поставленный вопрос, является предварительным условием для правильного понимания современной физики. С другой стороны, современная физика показывает также, что признание какого-либо вопроса ложной проблемой возможно и плодотворно только при условии, если это обеспечивает необходимую для установления абстрактных взаимосвязей свободу. Так как все понятия, с которыми мы приступаем к описанию природы, по необходимости не точны — причём именно там, где мы сначала и не подозреваем этого, — то обнаружение такой неточности может привести к новому знанию лишь при условии, если оно определённым образом будет использовано для понимания нового рода взаимосвязи. Пока этого не удастся сделать, не будет надёжного критерия для того, чтобы решить, разумно ли поставлена данная проблема. И мы всегда вынуждены будем мириться с тем, что даже математически формулированные положения физики (поскольку мы не знаем точно область применения заключённых в них понятий) являются в известной мере лишь словесными образами, с помощью которых мы пытаемся сделать ясными и понятными себе и другим людям результаты наших наблюдений природы.
Обнаружение новых взаимосвязей ведёт к тому, что возникает возможность проникнуть в новый мир понятий, качественно отличный от старого. Теория относительности и квантовая теория явились первым решающим шагом из области доступных, обычных понятий в более абстрактную область. Характер открытых здесь взаимосвязей не оставляет никакого сомнения в том, что возврата назад уже никогда не будет. Конечно, указанные нами новые взаимосвязи не могут претендовать на то, что все используемые в них понятия, безусловно, лучше определены, чем классические, и пересмотр их в будущем возможен в той же мере, как и прежних. Тем не менее понятия, развитые в указанных теориях, оправдали себя при постановке такого количества точнейших опытов, что мы имеем основание верить, что новые понятия применимы к нашим новым опытам в такой же мере, в какой старые применимы к опыту обычной повседневной жизни. Следовательно, они так же, как и прежние, {41} становятся, в свою очередь, предпосылкой для дальнейшего развития физики. По существу открытие новой системы понятий означает не что иное, как открытие новых мыслительных возможностей, которые как таковые никогда не могут быть отменены.
По этой причине при данном состоянии нашей науки не может быть оправдана высказываемая иногда надежда, что когда-либо в будущем классические понятия могут ещё быть использованы для упорядочения релятивистских и атомных явлений. Наоборот, из действительного положения вещей следует, что имеется такая экспериментальная область, где результаты могут быть интерпретированы посредством волновой механики Шрёдингера, а не при помощи классической механики; так что не обладающие наглядностью квантовотеоретические закономерности должны будут остаться неотъемлемой частью теоретической науки. В качестве примера я хотел бы выяснить вопрос о том, является ли статистический характер квантовой механики окончательным, то есть нельзя ли надеяться, что в дальнейшем представится возможность найти детерминистическое дополнение квантовой механики. На первый взгляд кажется, будто никак нельзя обосновать возражение против допущения того, что, например, атом радия обладает неизвестными до сих пор физическими свойствами, которые точно определяют время испускания и направление вылета α-частицы. Однако более тщательный анализ показывает, что такое допущение заставило бы нас признать неверными положения квантовой теории как раз в тех пунктах, в которых они дают точные математические предсказания экспериментальных результатов. Между тем, есть основание полагаться прежде всего в этих пунктах на квантовую механику. Остановимся на этом несколько подробнее.
В любом эксперименте атомной физики приходится иметь дело со следующей ситуацией. С помощью более или менее сложных приборов мы задаём вопрос природе, который всегда касается того или иного объективного процесса, происходящего в пространстве и времени. Мы можем, например, пожелать узнать, будут ли электроны попадать на соответствующее место. Из такого положения вещей автоматически следует, что при математическом рассмотрении этого процесса мы проводим резкую {42} грань между приборами, рассматриваемыми нами как вспомогательное средство для постановки вопроса и таким образом, в известном смысле принадлежащими нам самим, и физической системой, о которой мы хотим что-то узнать. Последнюю мы представляем математически волновой функцией, причём, согласно квантовой теории, для неё имеется дифференциальное уравнение, которое определяет будущее состояние волновой функции по её состоянию в настоящее время. В противоположность этому по отношению к приборам мы удовлетворяемся законами, могущими быть формулированными в классических понятиях, что даёт нам право применять эти приборы для измерений. Граница между наблюдаемой системой и измерительными приборами определяется, естественно, нашей постановкой вопроса. Такая граница, очевидно, отнюдь не означает нарушения непрерывности физического процесса, и, следовательно, в известных пределах должна существовать полная свобода выбора места, где проводится указанное разграничение. Поведение измерительных приборов при этом не должно противоречить законам квантовой механики. Квантовая механика фактически содержит законы классической механики как предельный случай, так что место разграничения может быть произвольно выбрано лишь внутри известных пределов. Поскольку физические взаимосвязи по обе стороны разграничительной линии могут быть формулированы однозначно, то законы квантовой механики проявляют свой статистический характер только в месте раздела. Возможность появления статистических взаимосвязей обусловлена здесь тем, что воздействие измерительных приборов на измеряемую систему понимается как частично принципиально неконтролируемое возмущение. Таким образом, детерминистическое дополнение квантовой механики имело бы место только на линии разграничения. Но так как детерминирующие новые физические свойства должны быть приписаны только определённой системе, то при удалении из этой системы разграничительной линии возникает неизбежное противоречие между закономерными следствиями из новых свойств и взаимосвязями квантовой теории. Новые физические свойства наблюдаемой системы, которые должны восполнить пробел статистических законов, стали бы теперь после смещения разграничительной линии {43} проявляться там, где невозможно никакое дополнение; они приводили бы лишь к нарушению уже существующих однозначных закономерных взаимосвязей.
Это рассуждение особенно ясно можно проиллюстрировать на примере радиоактивного распада. Испускаемые ядром α-частицы отражаются от диффракционной решётки соответственно их точно известной энергии в строго определённых направлениях; эти направления определяются свойствами всей решётки. Если бы какое-то ещё не известное свойство атома радия давало нам возможность предсказывать направление испускания α-частицы, то мы смогли бы предсказать также, в какое место диффракционной решётки она попадёт; в таком случае направление отражения не могло бы определяться всей решёткой. Следовательно, возникает противоречие. В действительности это противоречие обусловливается тем, что мы классически интерпретируем высказывание: «а-частипа движется по данной определённой траектории», допуская тем самым, что «её отражение на большом расстоянии от решётки не может зависеть от действия последней». Но без такой интерпретации нельзя было бы решить, что следует понимать под выражением: «α-частица находится в этом месте». В конечном счёте мы всегда приходим к тому, что где-нибудь — если не для α-частицы, то для приборов, применяемых при её наблюдении — мы без колебаний используем классические понятия.
В связи с этим следует также отметить, что статистический характер квантовой теории во многих отношениях сушественно отличается от статистического характера кинетического истолкования термодинамики. В то время как положения этой последней теории всегда выражают степень точности наших знаний о состоянии рассматриваемой системы, в квантовой теории незнание результатов предстоящих экспериментов всё же может быть совместимо с полным знанием (в обычно принятом смысле) состояния рассматриваемой системы. Например, с установлением того, что атом находится в нормальном состоянии, мы приобретаем полное знание рассматриваемого атома. Это следует из того, что на основании такого знания можно определить взаимодействие данного атома с любыми другими системами, а также из того, что существуют эксперименты, результаты которых можно {44} точно предсказать на основе этого знания Однако имеются другие эксперименты, результаты которых предсказать невозможно. Как было указано, некоторые утверждения квантовой механики косвенно обусловливают невозможность дополнить её статистические утверждения. Наоборот, в учении о теплоте незнание исхода некоторых экспериментов всегда отождествляется с незнанием истинного состояния системы; при этом такое незнание обнаруживается соответственно во всех экспериментах. Поэтому в классической статистической механике неопределённость исхода предстоящего эксперимента может рассматриваться как признак наличия ещё не решённой проблемы. Однако сказанное нами не применимо к квантовой теории, так как последняя, если можно так выразиться, даёт основу для наступления, события даже в том случае, когда она сама по себе не может делать точных предсказаний о будущих событиях.
В заключение необходимо остановиться на вопросе о том, в каких пунктах современная физика может быть подвергнута ревизии. Из предыдущего ясно, что область применимости новых понятий по необходимости должна быть ограничена. В результате научных открытий в последние годы стало очевидным, что ограничение в применении имевшихся до сих пор понятий обусловлено существованием электрона. Проблема существования электрона тесно связана с вопросом о том. могут ли быть согласованы требования теории относительности и квантовой теории. Это становится ясным при введении безразмерной е2/ℏc постоянной (постоянной тонкой структуры Зоммерфельда). Но данная проблема не может быть решена, если не признать в гораздо большей мере, чем до сих пор, что излучение и материя представляют собой различные проявления одного и того же явления. Первым шагом в этом направлении было открытие возможности превращения материи в излучение и обратно (Дирак и Андерсон). Это открытие привело к ряду новых проблем, касающихся измеримости полей, координаты электрона и т. д. Наконец, вполне возможно, что для объяснения существования электрона необходимо будет принять во внимание атомистическую структуру всех измерительных приборов, что не было обязательным в квантовой механике. Приобретённый нами опыт едва ли даёт {45} основание для сомнения, что новые теории будут отличаться от предшествующей квантовой механики тем, что некоторые вопросы (считающиеся в настоящее время разумными) они отнесут к «ложным» проблемам. Несмотря на это, необходимо подчеркнуть, что путь в эту новую область, возможно, будет проложен посредством многих утверждений, смысл которых вначале покажется совершенно неясным. Типичным примером этого может быть теория «дырок» Дирака. Трудно было придать ясный смысл утверждению о том, что весь мир бесконечно плотно заполнен электронами с отрицательной энергией. Тем не менее такое утверждение оказалось настолько плодотворным в формализме теории электрона, что оно не только дало возможность предсказать существование позитрона и его анигиляцию, но и привело к существенным изменениям теории Максвелла для больших и быстропеременных полей; следствия из этих положений выявлены ещё далеко не полностью.
Теория Дирака вскрывает здесь существенную особенность физического открытия, представляющую собой не следствие, а предпосылку точного определения области применимости вновь открытых понятий: теория должна открывать новые мыслительные возмсжности, вызывая тем самым действительные сдвиги в теоретической ситуации и изменения постановки вопросов. Другими словами, теория должна приводить к новой, до тех пор не известной гармонии в той области природы, где она применима.
В заключение хотя бы в общем виде стоит сказать, что предположение, согласно которому понятия современной физики также должны быть подвергнуты ревизии, не следует считать скептицизмом. Наоборот, это только другое выражение убеждения в том, что расширение нашей области опыта всегда будет приводить к выяснению новой гармонии.
| {46} |
Современное естествознание во многих отношениях примыкает к древнегреческой натурфилософии, возвращаясь к тем проблемам, которые пыталась разрешить эта философия в своих первых попытках понять окружающий мир. В связи с этим целесообразно рассмотреть, какие из прежних идей сохранили свою плодотворную силу в современной физике и какую форму они приняли под влиянием развития науки на протяжении двух тысяч лет. Особенный интерес представляют для нас следующие две идеи древнегреческой философии, которые и поныне определяют развитие точного естествознания: убеждение, что материя состоит из мельчайших неделимых единиц — атомов, и вера в творческую силу математических построений.
Тезис о существовании атомов был естественным следствием развития понятия субстанции, выяснения которой прежде всего и добивалась античная натурфилософия. Убеждение в том, что в смене явлений должно проявляться в то же время и нечто неизменное, сохраняющееся, вело к учению о существовании некоторого первоначального вещества. Для Фалеса таким первоначальным веществом (первоосновой) являлась просто вода, от которой зависела вся жизнь. В дальнейшем учёные определили это понятие более точно и приписали ему признаки единства и неразрушимости. Чтобы понять многообразие явлений, предполагали (если не хотели искать неизменное вне материального мира) наличие нескольких первоначальных веществ, смешение и разделение которых сбусловливает многообразные изменения явлений. Земля, огонь, воздух и вода казались естественными элементами, из которых построен мир. Но для того, чтобы эти представления действительно способствовали {47} объяснению явлений, необходимо было ясно описать сам процесс смешения. Казалось вполне очевидным принять, что смешение различных жидкостей по существу не отличается от смешения земли и песка, допустив при этом, что мельчайшие частицы смешиваемых жидкостей сохраняют свои первоначальные свойства неизменными и произвольно распределяются в пространстве. Таким образом, как бы само собой, естественно возникла идея о мельчайших неделимых частицах материи. В учении Левкиппа и Демокрита «атомы» появляются уже как единственные носители всех материальных и духовных явлений.
Согласно этому учению, атомы отличаются между собой не по их внутренним свойствам, а лишь по фооме, положению и движению. Сторонники атомистического учения были убеждены, что эти геометрические свойства достаточны для объяснения всего многообразия явлений. Атомы рассматривались как единственно существующее; между ними — ничто, пустое пространство. Большие сложные тела образованы путём сочетания однородных атомов; свойства этих тел в свою очередь определяются характером взаимного сочетания атомов. Сами атомы считались вечными и неразрушимыми. Сравним теперь с основанной на этих идеях античной атомистикой современное атомное учение.
Современная атомная теория также предполагает наличие неделимых элементарных составных частей материи, называемых «электронами», «нейтронами», «протонами». Она точно так же пытается свести все чувственно воспринимаемые свойства вещей к динамике атомов. Однако необходимость детального объяснения тщательно проведённых точнейших экспериментов привела, к выявлению своеобразной двойственности и внутренней непоследовательности античной атомистики. Основные идеи этой атомистики должны быть доведены до логического завершения. Атомистическое учение Демокрита допускает, с одной стороны, что рационально объяснить чувственно воспринимаемые свойства материи можно только путём сведения их к отношениям некоторых сущностей, которым самим по себе уже нельзя приписать эти свойства. Для того чтобы атомами действительно можно было объяснить происхождение цвета и запаха видимых материальных тел, они не должны обладать {48} свойствами, подобными цвету и залаху. Поэтому античная атомистика последовательно отрицала всякую возможность наличия у атомов такого рода чувственно воспринимаемых свойств. С другой стороны, у атомов было оставлено свойство занимать пространство, так что можно говорить о положении, порядке и размерах атомов. Здесь Демокрит явно идёт дальше своих предшественников. Противопоставление «бытия» и «небытия», лежащее в основе предшествующей фишософии, он заменяет противопоставлением «полного» и «пустого». Понятие «пустое пространство» является для него полным глубокого смысла. Благодаря этому понятию Демокрит получил возможность объяснения различных чувственно воспринимаемых свойств веществ посредством разнообразного расположения атомов в пространстве. Но в то же время он вынужден был отказаться ют идеи связи пространства и времени с существованием материи, от «объяснения» пространства и времени. Старая замечательная идея о том, что пространство и время в известном смысле порождены материей и в своём существе ей подобны, в учении Демокрита отсутствует.
Современная атомистика разделяет с античной ту основную мысль, что качественное разнообразие внешних материальных явлений можно объяснить путём сведения их к разнообразным формам, которые легко обозреть и проанализировать. Из таких форм древнегреческие философы имели в своём распоряжении лишь геометрические конфигурации, и поэтому античное атомистическое учение объясняло качества различным характером группировок атомов в пространстве. Предпочтение, отдаваемое только определённому чувственно воспринимаемому свойству — способности занимать пространство — как качеству атома, свидетельствует о недостатке у греков последовательности, и потому понятно, что в этом пункте современная атомная физика должна существенно отклоняться от античных воззрений. Неделимой элементарной частице современной физики присуще свойство занимать пространство не в большей мере, чем, скажем, свойство цвета и твёрдости. По существу она является не материальным образованием во времени и пространстве, а только символом, введение которого придаёт законам природы особенно простую форму. Атомное учение современной физики, таким образом, {49} существенно отличается от античной атомистики тем, что оно не допускает больше какой-либо интерпретации в духе наивного материалистического мировоззрения. Так как атомы не являются больше телесными образованиями в собственном смысле слова, то будет правильным сказать, что современная теория более последовательно, чем античная, реализовала принципиальные основные идеи атомистики. Не вдаваясь в детали, трудно, конечно, создать представление о роли атома в современном естествознании и о математических формах, разнообразие которых даёт нам картину, правильно отражающую — вплоть до деталей — всё многообразие явлений. Для более ясного представления о символическом характере современного понятия атома следует, может быть, сослаться на то, что воцрос о существовании атома в современной физике имеет некоторое формальное сходство с математической проблемой о существовании квадратного корня из минус единицы. Хотя элементарная математика и учит, что среди обычных чисел такого квадратного корня нет, всё же наиболее важные математические положения впервые получили свою простейшую форму лишь после введения этого корня как нового символа, а тем самым было обосновано его существование. Подобным же образом, данные современной физики показывают, что атомы не существуют как простые телесные предметы, но что введение понятия атома делает возможной простую формулировку взаимосвязей, определяющих все физические и химические процессы.
Абстрактность современного понятия атома и математические формы, которые в современной атомной теории служат для выражения разнообразия явлений, приводят нас ко второй основной идее, воспринятой современным точным естествознанием из античности: убеждению в творческой силе математических построений.
Впервые в ясно выраженной форме эта идея встречается в учении пифагорейцев, причём она проявляется здесь в открытии математичеоких условий гармонических колебаний. Исследуя колебания струн, пифагорейцы нашли, что две приведённые в колебачие струны дадут гармоническое созвучие, когда (при прочих равных условиях) их длины будут находиться в простом рациональном отношении. Это означает, что суммарный {50} звук воспринимается человеком как гармонический только в том случае, если в нём реализованы некоторые простые математические отношения, хотя сам слушатель может и не сознавать этого. Данное открытие представляет собой один из сильнейших импульсов для развития науки вообще, ибо кто хотя бы один раз убедился в творческой силе математических построений, тот будет замечать их действие на каждом шагу как в области природы, так и в области искусства. В качестве особенно простого и наглядного примера следует упомянуть калейдоскоп, в котором посредством простой математической симметрии из чисто случайного возникает нечто имеющее смысл и красоту. Более ценные и важные примеры может дать анализ произведений искусства или (в природе) изучение кристаллов. Если в основе музыкальной гармонии или форм изобразительного иокусства обнаруживается математическая структура, то рациональный порядок окружающей нас природы должен иметь свою основу в математической сущности законов природы. Такое убеждение впервые нашло своё выражение в пифагорейском учении о гармонии сфер и в том, что элементам были присвоены правильные формы. В «Тимее» Платон рассматривает атомы земли, огня, воздуха и воды соответственно как кубы, тетраэдры, октаэдры и икосаэдры. В конечном счёте, на таком убеждении основано всё математическое естествознание.
Восприняв от античности идею о математическом истолковании порядка в природе, современное естествознание осуществило её, однако, другим, как мы полагаем, строгим и окончательным способом. Область математических построений, имевшийся в распоряжении древней науки, была сравнительно узкой. Это были по преимуществу геометрические формы, относившиеся к явлениям природы. Поэтому греческое естествознание изучало статические связи и отношения. Предметом её исследования были неизменные орбиты, по которым движутся небесные светила, или формы вечных и неразрушимых атомов. Однако законы, открытые на этом пути античным естествознанием, не нашли своего подтверждения в более точных опытах последующих столетий, а наука нового времени показала, что в окружающем нас реальном мире неизменными являются не геометрические {51} формы, а динамические законы, определяющие возникновение и исчезновение. Гармонию пифагорейцев, которую ещё Кеплер надеялся найти в орбитах небесных светил, естествознание, со времён Ньютона ищет в мате матической структуре законов динамики, в уравнениях, формулирующих эти законы.
Эти изменения постольку представляют собой последовательное осуществление программы пифагорейцев, поскольку бесконечное разнообразие явлений природы находит своё правильное математическое отражение в бесконечном числе решений одного уравнения, например дифференциального уравнения механики Ньютона. Требование, согласно которому из одного уже сформулированного закона природы должно быть выведено бесконечное множество явлений, доступных экспериментальному исследованию, даёт в то же время гарантию правильной и, следовательно, справедливой на вое времена формулировки закона. Уравнение, формулирующее такой закон, выражает прежде всего только простейшие физические условия: оно определяет динамические понятия, необходимые для осмысления рассматриваемых явлений природы. Кроме того, это уравнение содержит некоторые общие высказывания, касающиеся мира наших восприятий, например, указание на тот факт, что в пустом пространстве нельзя определить положение и направление. Тем не менее из него можно получить, как возможное следствие, бесконечное множество явлений, подобно тому как несколько тактов музыкальной темы могут быть развиты до сложной фуги. Таким образом, если древняя философия приписывала атомам элементов правильные геометрические формы, то с элементарными частицами современной физики связывается математическое уравнение. Это уравнение формулирует закон природы, определяющий строение материи. Оно содержит в себе процессы, совершающиеся во времени, например химическую реакцию, а также правильные формы кристаллов или тоны колеблющейся струны. Исходя из случайных начальных услозий, оно закономерно выводит физические явления окружающего пас мира, подобно тому как калейдоскоп создаёт замысловатые узоры из случайного сочетания цветных стёкол.
Результаты такого рассмотрения явлений природы неожиданным образом подтвердили воззрения пифагорейцев, {52} частично обусловив реальное господство над силами природы и оказав решающее влияние на развитие человечества. Поэтому вера в простую математическую сущность всех закономерных взаимосвязей природы (з том числе и тех, о которых мы ещё не подозреваем) настолько жива также и в современной науке, что математическая простота считается высшим эвристическим принципом при отыскании законов природы в открывающейся благодаря новым экспериментам области. В новой области опыта внутренние взаимосвязи впервые становятся понятными лишь тогда, когда удаётся математически просто сформулировать господствующие в данной области законы.
Эти идущие от античности поиски математической структуры явлений могут вызвать, конечно, упрёк в том, что они освещают только некоторые и притом не самые существенные стороны природы, что служит помехой непосредственному и целостному пониманию природы. Но на такое возражение можно было бы ответить указанием на исходное положение учения пифагорейцев. Сущность данного положения состоит в том, что отчётливое понимание рациональных числовых отношений, лежащих в основе музыкальной гармонии, необходимо тому, кто хочет сконструировать музыкальный инструмент или исполнить музыкальное произведение. Собственное же содержание музыки открывается нам в неосознанном духовном восприятии этих рациональных отношений. Подобно этому, предварительным условием активного, практического воздействия на материальный мир является точное знание математически сформулированных законов природы. Можно, однако, понимать природу и непосредственно, бессознательно воспринимая математическую структуру и воспроизводя её в душе; это свойственно всем людям, склонным к непосредственно-интимному сближению с природой.
| {53} |
Кто хочет двигать науку вперёд в сотрудничестве или соревнуясь с другими, тот должен сосредоточить все свои усилия на небольшом круге вопросов. Однако чтобы обозреть прогресс науки в целом, полезно сравнить современные проблемы науки с проблемами предшествующей эпохи и исследовать те специфические изменения, которые претерпела та или иная важная проблема в течение десятилетий или даже столетий. Такая творчески поставленная проблема может ещё и ещё раз предстать в новом свете, несмотря на то, что раньше она уже получила своё удовлетворительное разрешение.
Непрерывное развитие современного естествознания по пути абстрактного, далёкого от живого созерцаний цроникновекия в природу, иеволъно заставляет нас вспомнить великого поэта, который свыше ста лет назад вёл борьбу за «живую» науку в области учения о цвете. Эта борьба закончена. Вопрос о том, что «правильно» и что «ошибочно», уже давно решён во всех подробностях. Учение Гёте о цвете принесло большую пользу в искусстве, физиологии и эстетике. Однако победа осталась за ньютоновским учением о цвете, оказавшим влияние на направление исследований всего последующего столетия. Исключительные успехи, достигнутые с тех пор ньютоновской физикой, именно за последние десятилетия отчётливее, чем когда-либо раньше, указывают нам на возможные следствия такого направления научных исследований. Поразительная абстрактность представлений, дающая нам возможность господствовать над природой (например, в современной атомной физике), теперь более ясно, чем раньше, освещает внутренние ооновы знаменитого спора. В дальнейшем речь будет идти главным образам об этих основах. {54}
Известно, что Гёте заинтересовался изучением природы особенно в период его путешествия по Италии. Геологическое строение страны, разнообразные формы цветущих под южным небом растений, яркие краоки итальянского ландшафта привлекали внимание поэта. Всё это нашло отражение в его красочных описаниях в дневнике. По этим заметкам хорошо можно проследить, как впечатления поэта словно сами собой приобретают некоторую научную стройность и как непосредственно из восприятия живой природы возникли представления, ставшие позднее основой гётевских воззрений на природу. По возвращении в Веймар Гёте сразу же приступил к обработке своих наблюдений. Первым результатом этого занятия была его книга «Метаморфоза растений», опубликованная в 1790 г. Теоретические исследования в области цвета, начатые Гёте в Италии и явившиеся, по его признанию, следствием исследования вопроса о колорите, в это время были им оставлены. Призма, которую Гёте по возвращении из Италии одолжил у гофрата Бюттнера в Иене для изучения цветовых явлений при преломлении света, оставалась нераспакованной на его столе. Лишь после того, как владелец призмы (скорее всего, весной 1791 г.) попросил вернуть её и послал за ней своего служителя, Гёте воспользовался случаем, чтобы посмотреть через неё, надеясь увидеть ожидаемые цветовые явления. К своему удивлению, он обнаружил — вопреки тому, что предполагал, на основании изучения теории Ньютона, — что большие белые поверхности оказались не цветными, но оставались белыми и что аналогичное наблюдается также в отношении больших тёмных поверхностей. Цветная кайма появляется только на грани между светлой и тёмной поверхностями. Отсюда Гёте сделал вывод: «чтобы образовались цвета, необходима граница». Это открытие, которое, как полагал он, противоречило теории Ньютона, послужило толчком к интенсивной работе по исследованию возникновения цветов в процессе рефракции. Гёте пришёл к выводу, что цвета создаются сочетанием светлого и тёмного, а не одним только светом, как учит Ньютон. Он нашёл, что этот вывод подтверждается многими другими явлениями. Солнце, в течение дня дающее белое излучение, выглядит жёлтым и красным, когда затемняется слоем тумана. Дым, поднимающийся из трубы, принимает в солнечном {55} свете вид голубоватой дымки. Убеждённый в дальнейшем различными другими опытами, Гёте, наконец, пришёл к выводу, что в таком возникновении цветов из смешения света и темноты следует видеть первооснову («Urphanomen») цветовых явлений. Такое представление связывает воедино различчые цветовые явления чувственного мира, причём это осуществляется не за счёт понимания руководящей идеи, а скорее за счёт доверия к опыту. Гармонично построенная и наполненная живым содержанием теория Гёте о цвете охватывает всю совокупность объективных и субъективных цветовых явлений. Именно те цвета, которые обусловлены процессами, происходящими в самом глазу (и поэтому в действительности основанные на «иллюзии» наших чувств), рассматривает он с особенной тщательностью. И если Гёте в одном своём прекрасном стихотворении, помещённом в лирическом цикле «Западно-восточный диван», говорит о первооснове возникновения цвета, то можно себе представить, какое большое значение придавал этому открытию сам поэт.
Гёте был убеждён, что его учение о цвете находится в неразрешимом противоречии с учением Ньютона. Поэтому следует обратиться и к теории Ньютона. В этой теории, и до настоящего времени образующей основу физической оптики, белый свет рассматривается как состоящий из различных цветов, подобно тому как воспринимаемый звук отдалённого прибоя кажется нам единым, хотя он складывается из шума отдельных волн. Посредством внешних воздействий из белого света можно выделить отдельные цвета. Для этого всегда необходим какой-то предмет, который бы устранял свет, в результате чего возникает то, что Гёте называет мутностью или темнотой. Следовательно, и теория Ньютона вполне допускает, что из белого света цвета образуются в результате взаимодействия с мутными средами. Однако порядок явлений в двух теориях о цвете совершенно различён. В теории Ньютона простейшим явлением считается узкий монохроматический луч света, отделённый от света других цветов и других направлений посредством сложных приборов. В учении Гёте простейшим понятием является яркий окружающий нас дневной свет. Основное явление в теории Ньютона, столь чуждое нашему повседневному опыту, открывает возможность для {56} измерения и математической обработки оптических явлений. Излучение и распространение света с охватом всё большей области может определяться посредством измерения и фиксирования в математической форме. Каждому цвету может быть сопоставлено число (в современной терминологии — длина волны). Это делает оптику действительно точной наукой и позволяет конструировать точные оптические приборы, открывающие нам те части мира, которые непосредственно недоступны нашим органам чувств. С другой стороны, ясно, что это учение, предоставляющее возможность известного контроля над световыми явлениями и их практического использования, нисколько не помогает более живому, чувственному постижению окружающего нас мира цветов.
Это сравнение показывает, в каком направлении должна была возникнуть взаимная критика гётевского и ньютоновского учений о цвете. Исходный пункт теории Ньютона казался Гёте странным и неестественным. Белый свет, то есть собственно свет в его чистой форме, должен рассматриваться как нечто сложное. Вместо него физик должен принять как основную форму, так сказать, «деформированный» свет, прошедший через узкие щели, линзы, призмы и всякого рода сложные приборы. Поэтому вполне можно понять Гёте, когда он выражает своё недовольство в следующих словах: «Физик также овладевает явлениями природы; он накапливает наблюдения, охватывает и объединяет их вместе искусственными экспериментами... но мы должны встретить, по меньшей мере, с усмешкой и с известной долей сомнения претенциозные заявления, что это и есть Природа. Никакому архитектору никогда ещё не приходило в голову выдавать свои дворцы за каменные глыбы и дерево». Вообще Гёте решительно возражает против желания физиков проникнуть вглубь наблюдаемых явлений, вскрыть их внутренние причины. «Если бы даже и было найдено такое первоначальное явление, всё равно вопрос оставался бы нерешённым, ибо оно могло и не признаваться за таковое, так как мы и за ним всё дальше и дальше будем искать нечто новое. В противном случае мы должны были бы допустить границы познания. Пусть естествоиспытатель оставит первоначальные явления в их вечном мире и великолепии».
С другой стороны, физик вполне законно мог бы упрекнуть Гёте в том, что его учение о цвете не может {57} считаться безупречным, так как не приводит к построению строго научной теории, которая бы смогла дать анализ существа оптических явлений. В частности, цветовые явления, которые ещё не наблюдались, вряд ли могут быть точно предсказаны на основе учения Гёте, в то время как теория Ньютона вполне может претендовать на это. Кроме того, в учении Гёте сознательно связываются такие элементы, которые физик отделяет друг от друга самым тщательным образом: первой предпосылкой всякого исследования для физика служит разделение субъективного и объективного. Учение Гёте о цвете может, конечно, обогатить физика знанием отдельных специальных областей. Из него можно узнать, в частности, о реакции глаза на цветовой импульс, относительно цветов химических соединений или явлений рефракции. Но в целом учение Гёте физик принять не может. Реакция глаза должна находить своё объяснение в тонкой биологической структуре сетчатки и зрительных нервов, передающих цветовое ощущение в мозг. Цвета химических соединений могут быть определены на основе их атомной структуры. И, наконец, явления рефракции математически выводятся из свойств распространяющейся волны. С этой точки зрения непосредственная связь указанных трёх явлений кажется непонятной. Здесь проявляется более общее свойство природы: процессы, воспринимаемые нами как тесно связанные, часто теряют эту связь, когда мы исследуем их внутренние причины.
Всем, кто в наше время внимательно изучал учение Гёте и Ньютона о цвете, ясно, что не имеет большого смысла решать вопрос о том, какая из этих теорий правильна и какая неправильна. Правда, во всех конкретных случаях мы можем натолкнуться на различие между ними; в тех немногих пунктах, где имеется действительное противоречие между теориями, научный метол Ньютона имеет преимущество перед силой интуиции Гёте. Однако в основном эти теории имеют дело с различными вещами. Гораздо больше оснований спросить, как вообще можно связывать с понятием цвета столь различные предметы.
Как уже было сказано, методы Ньютона и Гёте развивались в двух совершенно различных направлениях. Если Ньютон пытался, очевидно, сделать мир цветов доступным для точных измерений и, таким образом, {58} упорядочить этот мир посредством математических методов, подобных тем, которые он так успешно применил в механике, то у Гёте такое математическое рассмотрение явлений не имеет места.
В своём учении о цвете Гёте всячески избегает какой бы то ни было связи с математикой, хотя и подчёркивает, что в некоторых случаях для него желательны точные измерения. При ближайшем же рассмотрении это различие представляется гораздо менее важным, чем может показаться на первый взгляд. Гёте отказывается собственно не от самой 'математики, но скорее от математических расчётов. Если иметь в виду математику в её чистом виде, как она представлена, скажем, в теории симметрии или теории целых чисел, то легко заметить, что теория Гёте содержит немалую долю именно такой математики. Так, в разделе «Чувственно-этическое воздействие цвета» речь идёт о симметричном расположении цветов согласно их полярным соотношениям. Шесть основных цветов располагаются им в правильном шестиугольнике или в круге, разделённом на шесть равных частей, в следующем порядке: красный, красно-голубой, голубой, зелёный, жёлтый и оранжевый. Каждый цвет в этом круге находится против дополнительного ему цвета. Красный, например, противоположен зелёному, голубой — оранжевому. Такое симметричное расположение цветов привело Гёте к изучению различных взаимоотношений между ними. Расположенные один против другого цвета дают, говорит он, «взаимообусловленные», чисто гармонические комбинации, которые всегда содержат в себе некую цельность. Комбинации двух цветов, разделённых только одним промежуточным цветом, Гёте называет характерными на том основании, что «они имеют некоторую выразительность, производящую известное впечатление, но не удовлетворяющую нас. Это происходит потому, что каждый из таких цветов есть всего лишь результат отделения какой-либо части ст целого, с которым он связан, не растворяясь сам в нём». Наконец, комбинацию соседних цветов на круге он называет «нехарактерной комбинацией». Эта трактовка взаимоотношения цветов непосредственно напоминает математическую симметрию, подобную той, которую можно найти в искусных орнаментах или увидеть в простейшей форме в калейдоскопе. Подобное простое {59} симметричное упорядочение пронизывает всю его работу.
Чтобы получить более ясное представление о различии между учениями Гёте и Ньютона о цвете, рассмотрим те цели, которым они должны служить. Никто, надо полагать, не станет сомневаться в том, что научная теория всегда преследует определённую цель и что её единственная задача состоит в том, чтобы достичь этой цели. Но каждая научная теория возникает на некоторых мыслительных предпосылках, содержащих в себе в той или иной форме представление о возможном применении её в будущем. Эти предпосылки нередко бывают обусловлены самим ходом исторического развития соответствующей пауки; причём автор теории может и не отдавать себе в них полного отчёта. Если говорить о целях теории именно в этом смысле, то не может быть никакого сомнения, что учение Гёте о цвете должно служиты художникам и, в особенности, живописцам. В своих заметках Гёте убедительно говорит о том, как он при занятии искусством остро ощущал отсутствие теории цвета; он был поражён тем, что «современный художник действует лишь на основе неустойчивых традиций и неопределённых побуждений и что законы светотени, колорит и гармония цветов применяются им случайно и без всякого смысла». Несомненно, что первоначально Гёте хотел создать учение о цвете, предназначенное для искусЬтва. Но за этим его желанием стояло ещё и другое, более общее стремление, впервые высказанное им во время путешествия по Италии в связи со своими планами по теории цвета: «Я вижу, что при некотором упражнении и сосредоточенном длительном размышлении я буду способен испытывать также и это дивное наслаждение, предоставляемое внешним проявлением мира».
Теория Ньютона возникла совершенно из других предпосылок. Развитие естествознания со времён Галилея и Кеплера показало нам, что механика может быть объединена при помощи математических законов и таким образом понята. Ньютон был первым учёным, осознавшим широкие возможности такого проникновения в природу. В оптике также имеет место ряд исследований, показывающих, что значительная часть оптических явлений может быть изучена при помощи математически сформулированных законов. Отсюда ясно, что усилия {60} Ньютона были направлены на достижение успехов в учении о цвете также математическим путём. Конечно, трудно сказать, насколько сознательно тогда связывали вопрос о точном познании физических законов с возможностью господства над природой. Однако тот факт, что Ньютон долю и упорно работал над улучшением телескопов, показывает, что ему не была чужда и эта сторона точного естествознания.
Последующее развитие показало, в какой мере оба учения о цвете достигли поставленных перед собой целей. Без математической теории света не было бы современного телескопа или микроскопа. С другой стороны, многие живописцы обогатили свои знания благодаря изучению теории Гёте.
Нередко также говорят, что за различием в целях Гёте и Ньютона скрывается гораздо более глубокое различие их мировоззрения в целом и что именно принципиально различное отношение к миру поэта и математика привело к таким различным учениям о цвете. Это мнение можно, конечно, обсудить. Однако было бы неправильно делать отсюда вывод, будто поэтическая сторона мира обязательно должна быть чужда естествоиспытателю. В связи с этим достаточно вспомнить Кеплера, которому принадлежит разработка важнейших основных положений математического естествознания. Во всех своих разнообразных и сложных операциях с числами Кеплер всегда чувствовал гармонию сфер. Учитывая тот восторг, с каким он приветствовал новое открытие гармонического созвучия планетных орбит, нельзя не увидеть в нём человека с необычайно поэтической душой. Ньютон значительную часть своей жизни посвятил философским и религиозным исследованиям. Вероятно, будет правильным сказать, что мир поэзии близок всем действительно великим естествоиспытателям. Во всяком случае, физик также пытается открыть гармонию природных явлений. С другой стороны, было бы в равной мере неправильным полагать, что псэт Гёте проявлял больший интерес к возбуждающему живому восприятию мира, чем к достижению его действительного понимания. Каждое истинно великое поэтическое произведение способствует действительному пониманию тех областей мира, которые иным путём понять очень трудно. Особенно справедливо это по отношению к такому труду Гёте, как {61} его учение о цвете, которое должно способствовать новому объяснению цветовых явлений, причём написан он со всей научной строгостью.
Возможно, что различие между рассматриваемыми нами двумя учениями о цвете более точно определяется тем, что они имеют дело с двумя совершенно различными сторонами действительности. Нельзя забывать, что каждое слово нашего языка может быть связано с различными областями действительности. Истинное значение слов выясняется только в контексте или определяется традицией и привычкой. В естествознании уже в самом начале нового времени возникает деление действительности на объективную и субъективную. В то время как субъективная действительность не обязательно одинакова для всех людей, объективная всегда воздействует на нас извне одним и тем же образом, и поэтому сна стала для естествознания предметом исследования с самого начала его развития. Таким образом, естествознание представляет собой попытку описывать мир так, как он существует независимо от нас, от нашего мышления и нашей деятельности. Наши чувства представляют собой в данном случае только более или менее совершенные средства для получения сведений об объективном мире. Следовательно, вполне естественны и закономерны попытки физика улучшить эти чувства путём искусственных средств наблюдения, чтобы можно было проникнуть в наиболее удалённые области объективной действительности, совершенно недоступные для непосредственного восприятия. На этом основании возникает обманчивая надежда, будто дальнейшее совершенствование методов наблюдения может, в конечном счёте, открыть нам возможность полного познания всего мира.
Этой объективной действительности, подчиняющейся строгим законам и связывающей нас даже тогда, когда она кажется простой случайностью, противостоит другая действительность, которая также важна и имеет для нас значение. В последней события подвержены не количественному расчёту, но лишь оценке; совершающиеся события не объясняются, а истолковываются. Когда здесь говорят о рациональных взаимосвязях, то это означает, что они созвучны человеческой душе. Правда, данная действительность субъективна, но она не менее дейстзенна, чем объективная, и к ней имеет отношении гётевское {62} учение о цвете. Каждый вид искусства связан с этой действительностью, и каждое значительное произведение искусства обогащает нас новыми знаниями в этой области.
На первый взгляд может показаться, что эти две действительности навсегда разделены непроходимой пропастью; в таком случае борьбу Гёте против ньютоновского учения о цвете следовало бы рассматривать как выражение непримиримого противоречия. Однако развитие естествознания за последние десятилетия показало, что разделение мира на две части значительно огрубляет картину действительности. Для того чтобы это понять, рассмотрим последние достижения в области физики.
Мысль о том, что наши чувства являются всего лишь несовершенными средствами познания объективного мира, всё дальше и дальше уводила естествознание от непосредственного чувственного мира. Более совершенная техника наблюдения вскрыла новые стороны природы, которые раньше были неизвестны нам. Вместе с тем понятия, с которыми имело дело естествознание, становились более абстрактными и менее наглядными. Уже основное понятие оптики Ньютона — понятие монохроматического луча света — является непривычным для нашего восприятия. Отрыв естествознания от мира восприятий становится совершенно очевидным в учении об электрических явлениях. В первой половине прошлого столетия была предпринята попытка связать электрическую теорию с механикой через понятие силы. Однако открытия Фарадея и Максвелла показали, что электрические и магнитные явления можно объяснить проще, исходя из понятия электрического поля. Правда, понятие поля можно наглядно представить, сравнивая его с колебаниями упругих тел, но это сходство служит, очевидно, лишь вспомогательным средством для уяснения математических отношений и не имеет никакой связи с нашим непосредственным восприятием электричества через органы чувств. Равным образом, когда говорят об эфире, упругие колебания которого производят электрическое действие, то имеется в виду, что этот эфир не мог быть чувственно воспринимаем. Однако, становясь всё более и более абстрактным, естествознание приобретает в то же время новую силу. Оно оказывается в состоянии вскрывать внутренние связи между самыми различными явлениями и сводить их к общему источнику. {63} Такое исследование объективного мира полностью оправдало себя благодаря открытию непредвиденных взаимосвязей, что сильно упростило общую картину мира, столь сложную в её частностях. В теории Максвелла свет стал рассматриваться как электромагнитное явление. Это, в свою очередь, привело к тому, что электрические и магнитные явления, свет, невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, тепловое излучение стали рассматриваться как различные стороны одного и того же физического процесса, несмотря на то, что они принадлежат к различным областям мира чувственных восприятий. Данное направление развития получило своё завершение в современной атомной физике. Все свойства материи, обнаруженные органами чувств или посредством экспериментов, атомная физика пытается объяснить сведением их к свойствам атома. Последние же, в свою очередь, могут быть сведены к простым математическим законам. Бесконечное многообразие явлений отражается в бесконечном числе следствий из простой системы математических аксиом. Действительно, исходя из свойств атомов, современная атомная физика может объяснить свойства твёрдых тел, химические закономерности, явления теплоты и некоторые другие явления, которые мы может обнаружить при наблюдении материи. Правда, до настоящего времени такое объяснение с необходимой математической точностью выполнялось лишь в сравнительно небольшом числе случаев, но в каждом из них, эта теория удивительным образом выдерживала самые строгие испытания. Но объяснение чувственно воспринимаемых свойств материи поведением атомов предполагает невозможность приписывать этим конечным «кирпичикам» вещества какие-либо чувственно воспринимаемые свойства. Атом можно наблюдать по его действиям посредством высокосовершенной экспериментальной техники. Однако он уже не будет предметом нашего непосредственного чувственного восприятия. Естествоиспытатель должен здесь отказаться от мысли о непосредственной связи основных понятий, на которых он строит свою науку, с миром чувственных восприятий. Основными эти понятия становятся потому, что они охватывают бесконечное разнообразие явлений чувственного мира стройной единой системой делая его, таким образом, доступным пониманию. Последнее доказано техникой, которая {64} развилась на основе этой системы понятий и сделала человека способным использовать силы природы для своих целей.
Благодаря такому развитию объективный мир, по крайней мере для науки, претерпел необычайные изменения. Стремление избежать возможных ошибок, возникающих из-за обманчивости и неточности наших восприятий, заставляло учёных описывать мир как совершенно независимый от нашего мышления и действия. Необходимо было дать по возможности наиболее точную картину мира. В наше время оказалось, что такая картина с увеличением точности становится всё более и более удалённой от живой природы. Наука имеет дело уже не с миром непосредственного опыта, а лишь со скрытыми основами этого мира, обнаруженными нашими экспериментами. Но это вместе с тем означает, что объективный мир в известной мере выступает как результат наших активных действий и совершенной техники наблюдения. Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания.
Это развитие убеждает нас в том, что борьба Гёте против физической теории цвета должна быть в настоящее время продолжена на более широком фронте. Гельмгольц говорил о Гёте, что «его учение о цвете должно рассматриваться как попытка спасти непосредственную истину чувственных восприятий от вторжений науки». В настоящее время эта задача настоятельнее, чем когда-либо, требует своего решения. Весь мир преобразуется в результате огромного расширения наших научных знаний и благодаря богатству технических возможностей, которое, как и всякое богатство, может оказаться для пас и благом и несчастьем. Поэтому за последние десятилетия всё громче звучат предостерегающие голоса, призывающие нас вернуться назад. Нам говорят, что в настоящее время имеет место значительный раскол в духовной жизни вследствие нашего, отхода от непосредственно данного, чувственного мира и связанного с этим разделения природы на различные области и что дальнейший отход от живой природы приведёт нас, так сказать, к «пустому пространству», где больше не будет возможностей продолжать жизнь. В тех же случаях, когда нам не советуют просто отбросить все предшествующие науки и технику, нас призывают развивать их в тесной {65} связи с наглядными представлениями. Недостаточно, говорят они, одного только понимания законов, управляющих всеми процессами объективного мира; важно чётко представлять себе в каждый данный момент все следствия из этих законов для нашего мира чувственных зосприятий.
Постоянно соприкасаясь с природой в своих собственных экспериментах, естествоиспытатель мог бы настолько приблизиться к наблюдаемым явлениям, что сами законы оказались бы не более, как полезной краткой сводкой его опытов. Следовательно, рассматривая мир эксперимента таким же непосредственным и живым, как и окружающую природу, можно было бы избежать опасности полного разделения двух видов действительности. Но заранее очевидно, что взаимосвязи явлений природы может понять только тот, кто в совершенстве знаком с проявлениями природы в соответствующей физической области. Никогда ещё не было успехов и открытий без основательного знания, опирающегося на большое число экспериментальных данных. Однако опасности современного естествознания уже не могут быть преодолены на этом пути, так как наши усложнённые эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а изменённую и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Тот, кто захотел бы добиться радикального изменения в этом пункте, был бы вынужден отказаться от всей современной техники и связанного с ней естествознания. Никто, конечно, не может сказать, что принесла бы такая крутая ломка человечеству — счастье или бедствие. Но одно несомненно — такая ломка невозможна. И мы должны примириться с тем фактом, что в наше время необходимо до конца следовать по раз избранному пути.
В начале нового времени расцвет мореплавания и смелые кругосветные путешествия открыли возможность для завоевамия отдалённых стран и добычи несметных сокровищ. Даже в эту эпоху можно было сомневаться, принесёт ли новое богатство счастье или несчастье. Возможно, что и тогда раздавались предупреждающие голоса, призывавшие вернуться к более мирным и менее претенциозным условиям жизни предшествующих эпох. Но эти предупреждающие голоса остались в те времена без внимания. Притягательные силы чужеземных стран {66} и сокровищ могли, естественно, потерять своё значение только после того, как эти страны исследованы и их сокровища уже распределены. Тогда исчезает ослепление, и мы обретаем способность видеть, хотя и более узко поставленные, но, видимо, более важные задачи. Именно таким образом будет развиваться дальше естествознание и техника нашего времени. Подобно тому как пограничные столбы не могли предотвратить захвата чужеземных стран, так и никакие внешние препятствия не остановят прогресса техники. Только сама природа может положить предел такому активному вторжению в самые отдалённые уголки её, показав, что и здесь сбласти завоевания не бесконечны. Возможно, что наиболее важной особенностью современной физики является именно то, что сна указывает нам границы нашего активного воздействия на природу.
Атомная физика исходила вначале из кажущегося естественным предположения, что наши знания об атомах в процессе улучшения средств наблюдения будут всё более и более уточняться. Хотя атомы считались конечными неделимыми «кирпичиками» материи, тем не менее они представлялись в виде мельчайших частичек обычной материи. Атом, по крайней мере в нашем воображении, был наделён всеми макроскопическими свойствами наблюдаемых нами веществ. Только с течением времени поняли, что мельчайшие составные частицы материи, например электроны, сами не могут обладать чувственно воспринимаемыми свойствами, если они должны объяснять эти свойства у макроскопических материальных тел. В противном случае вопрос о причинах данных свойств был бы не решён, а только отодвинут. Если более нагретое тело отличается, например, от менее нагретого более интенсивным движением атомов, то отдельный атом не может быть ни нагретым, ни холодным. Таким образом, атсм постепенно был лишён всех своих чувственно воспринимаемых свойств. Единственными свойствами, которые в течение долгого времени ему приписывались, были геометрические: свойство заполнять определённое пространство, занимать определённое положение и находиться в оцределенном движении. Однако развитие современной атомной физики лишило атомы даже и этих свойств, показав, что степень применимости геометрических понятий к мельчайшим частицам {67} непосредственно зависит от производимого над ними эксперимента. Правда, при сравнительно небольших требованиях к точности мы можем говорить о положении и скорости электрона, и сравнительно с нашим обычным опытом эта точность весьма значительна. Но в масштабах атома она недостаточна, и законы, характеризующие этот микрсмир, не позволяют нам определить положение и скорость частицы с любой точностью. При помощи эксперимента может оказаться возможным определить, скажем, положение частицы с очень большой точностью, но в процессе этого измерения частица неизбежно подвергается сильному внешнему воздействию, которое сделает невозможным точное определение её скорости. Природа, таким образом, избегает точных определений в терминах наших общепринятых понятий вследствие неизбежного возмущения, сопутствующего каждому наблюдению.
Первоначальная цель естествознания состояла в том, чтобы описывать природу по возможности такой, как она есть, то есть какой она была бы без нашего вмешательства и наших наблюдений. Теперь мы хорошо знаем, что эта цель недостижима. В атомной физике никоим образом нельзя пренебрегать изменениями, привносимыми нами в наблюдаемый объект. Путём выбора того или иного способа наблюдения мы решаем, какие свойства природы определяются и какие стираются в процессе нашего наблюдения. Эта особенность отличает мельчайшие частицы материи от области наших наглядных понятий. Она сделала также правомочным предположение, что электрсны, протоны и нейтроны, из которых, по воззрениям современной физики, состоят все вещества, являются действительно последними неделимыми «кирпичиками» материи и что не имеет больше смысла приписывать им пространственную структуру.
При таком положении вещей два рода соображений заставляют признать, что область, которая до сих пор в известном смысле не могла исключаться естествознанием и техникой, является конечной. С одной стороны, наше приближение в атомной физике к конечным неделимым частицам материи должно привести в недалёком будущем к полному обозрению всех потенциальных сил природы и, вместе с тем, всех возможных технических приложений. С другой стороны, способ, которым атомные явления отграничиваются от явлений нашего повседневного {68} опыта, служит хорошим примером тому, что в науке о природе уже самый характер постановки вопросов и применяемые методы исследования обособляют определённую конечную область из всего множества явлений. Раньше казалось, что задачей точного естествознания является понимание и описание закономерностей движения тел в пространстве. Теперь мы знаем, что областью атомных явлений таким путём овладеть нельзя. Когда мы задаём природе вопрос о положении и движении внутри атомной системы, мы своим воздействием в процессе эксперимента существенным образом нарушаем некоторые взаимосвязи, характерные для мира атома.
Теперь уместно обобщить все эти мысли и снова вспомнить критику Гёте ньютоновской физики. Когда Гёте говорил, что наблюдаемое физиком при помощи своих приборов уже не является природой, он, вероятно, этим хотел также сказать, что имеются и другие, более живые области природы, которые не постигаются этими специфическими методами естествознания. Мы, конечно, готовы верить, что естествознание там, где оно обращается от неживой материи к живой, должно быть всё более и более осторожным в своих вторжениях в природу с целью познания её. Чем дальше будет наше стремление проникнуть также и в более высокие, духовные сферы жизни, тем больше мы будем вынуждены довольствоваться пассивным, созерцательным способом исследования. С этой точки зрения, разделение мира на субъективную и объективную области явилось бы чрезвычайным упрощением действительности. Скорее мы могли бы допустить разделение природы на многие частично перекрывающиеся части, отделённые друг от друга в зависимости от характера вопросов, которые мы ставим природе, и от степени нашего воздействия на неё в процессе наблюдения. Попытка представить такое деление в простых понятиях напоминает гётевскую классификацию, о которой можно прочесть в его приложении к учению о цвете. Гёте подчёркивал, что все эффекты, наблюдаемые нами в опыте, всегда взаимосвязаны; однако, несмотря на это, их отделение друг от друга неизбежно. Он располагает их в порядке постепенного перехода от низших к высшим: случайные, механические, физические, химические, органические, психические, этические, религиозные и духовные (genial). В свете современной науки {69} целесообразно, видимо, изменить некоторые из первых частей данной классификации. Например, вместо механических явлений мы поставили бы всю совокупность явлений классической физики, то есть тех явлений, которые поддаются строго причинному и пространственно-временному описанию. Область химии включалась бы в атомные процессы, а закономерности её структуры раскрывались бы современной атомной физикой. Кроме этих двух мы не нуждались бы в особой категории физики, поскольку она в известном смысле объединяет две предшествующие. Мы не могли бы также ввести категорию случайного, так как и в высших областях случайность играет определённую роль, точно предписанную законами природы. Таким образом, можно ясно представить себе закономерную структуру, взаимосвязь и взаиморазличия четырёх первых областей гётевской классификации. В отношении следующей категории — органической — современная биология полагает, что её границы и внутренняя структура, хотя и не до конца, но в основном познаны. Что же касается остальных, более высоких категорий, то едва ли кто в наше время отважится точно определить их.
При таком разделении действительности на различные области противоречие между учениями Гёте и Ньютона разрешается само собой. В общем здании науки их учения о цвете занимают разные положения. Конечно, признание современной физики не может помешать естествоиспытателю следовать также и по пути Гёте в его объяснении природы. Но было бы преждевременным надеяться на этом основании на скорый возврат к более непосредственному и единому отношению к природе. Задача нашего времени состоит в том, чтобы путём экспериментов познать низшие области природы и благодаря технике заставить их служить человеку. В нашем продвижении вперёд в области точного естествознания мы должны будем отказаться во многих случаях от того наиболее непосредственного соприкосновения с природой, которое служило Гёте предпосылкой к более глубокому её пониманию. Мы идём на этот отказ потому, что благодаря ему можем с математической точностью понять самые широкие взаимосвязи, которые должны послужить основой для правильного понимания более высоких областей. Кто рассматривает указанный отказ как слишком большую жертву, тот не способен в наше время посвятить {70} себя точным наукам. Ему будет доступна только та сторона науки, которая за пределами современных методов исследования сама обнаруживает свои взаимосвязи с жизнью.
Может быть, естествоиспытателя, покидающего область непосредственных чувственных восприятий с целью открытия более общих взаимосвязей, можно сравнить с альпинистом, который хочет подняться на вершину самой высокой горы для того, чтобы обозреть лежащую перед ним местность во всём её многообразии. Альпинист также должен покинуть при этом плодородные населённые долины. По мере того, как он поднимается, перед ним раскрывается всё более и более широкая окрестность, но вместе с тем всё реже и реже он видит вокруг себя признаки жизни. Наконец, он попадает в ослепительно яркую область льда и снега, где уже нет никакой жизни и дышать становится почти невозможно. Только пройдя эту область, он может достигнуть вершины. Но когда он взойдёт на вершину, наступит момент, что вся расстилающаяся под ним местность станет ему видна совершенно отчётливо, и, может быть, тогда область жизни не будет слишком далёкой от него. Нас не удивляет, что в предшествующие эпохи эти безжизненные области воспринимались только как суровые пустыни, вторжение в которые казалось кощунством по отношению к каким-то высшим силам, жестоко каравшим всех тех, кто осмеливался приблизиться к ним. Гёте также чувствовал эту запретную область естествознания. Но мы можем не сомневаться в том, что окончательная и полная ясность, являющаяся целью науки, была близка Гёте-поэту.
| {71} |
На наших глазах меняется внешний облик мира, и на борьбу за его преобразование мобилизованы все силы и средства — вплоть до самых крайних. В такое время изменения в характере мышления, в частности изменения в самой науке, естественно, отходят на задний план. Тем не менее постепенная эволюция в мыслях и желаниях людей имеет не меньшее влияние на внешний облик мира, чем отдельные великие события. И если в некоторых областях духовной деятельности мало-помалу происходят основательные и прочные изменения, то они также имеют большое значение в формировании нашего будущего. Поэтому следовало бы рассмотреть нашу эпоху именно под этим необычным углом зрения и характеризовать её как эпоху, имеющую большое значение также и в области науки, поскольку теперь становится ясным, что различные отрасли естествознания начинают сплавляться в нечто единое целое. Это единство мне и хотелось бы здесь рассмотреть. Уже сама постановка такого вопроса показывает, что до сих пор с этим единством не всё было благополучно.
1. Обратимся, прежде всего, к началу нового времени, когда естествознание делало первые шаги. Когда Галилей открывал законы падения тел, а Кеплер изучал движение планет, существовала простая единая картина мира, но она ещё не была естественно-научной. Картина мира в целом определялась верой в сверхъестественное откровение, указанное в священном писании. Учёный полагал, что его задача состоит в том, чтобы познать в природе деятельность бога и прославить его творения на основе понимания закономерной гармонии природы. Было бы неправильно утверждать, будто Коперник или Галилей {72} допускали возможность конфликта между результатами их научных открытий и существующими религиозными воззрениями. Это положение относится и к тем теориям, которые порывали с традиционными взглядами и приводили к столкновению с церковью. Ещё для Кеплера изучение гармонии сфер, к которой относится его знаменитый третий закон, было не более чем простым следованием предначертаниям божественного творения. Вот что мы находим в конце его пятой книги «Космической Гармонии»:
«Я пытался создать человеческому разуму возможность с помощью математических расчётов проникнуть в план божественного творения; пусть сам создатель небес, отец всех разумных существ, которому наши чувства обязаны своим существованием,— Он, кто сам бессмертен... пусть будет милосердным и предохранит меня от такого сообщения о Его творении, которое не будет соответствовать Его величию или которое ввело бы в заблуждение наш разум, и пусть Он заставит нас стремиться к совершенству Его божественного творения, посвящая этому нашу жизнь...»
Это признание Кеплера, несомненно, выражало основную линию развития зарождающегося естествознания, и только церковь в своей борьбе против новых учений инстинктивно чувствовала скрытую опасность, которую несла с собой новая наука религиозному мировоззрению.
Но уже спустя несколько десятилетий задача учёных изменилась, а тем самым в корне изменилось и их понимание природы. Попытки внести математический порядок в наблюдаемые явления природы и «объяснить» их имели, конечно, большой успех, но в то же время всё более и более стала ощущаться трудность и необъятность этой задачи. Естествоиспытатель начала XVIII в. уже не стремился, подобно Кеплеру, понять план божественного творения, преклоняясь с благоговением перед открывавшейся святыней,— ему открылась новая необозримая страна. Это изменившееся положение превосходно выразил Ньютон в хорошо известном изречении:
«Я не знаю, за кого меня принимает мир. Себе самому я кажусь мальчиком, который играет на берегу моря и радуется, если он найдёт более гладкий камешек или более красивую ракушку, чем обычно, в то время как великий океан истины лежит совершенно неисследованный передо мной». {73}
В этот период в развитии познания произошёл перелом; новый метод естествознания открыл перед наукой неограниченные просторы: простые процессы природы стали раскрываться посредством соответствующих экспериментов, и открытые таким образом законы выражались на математическом языке. Такой метод мог быть применён к отдельным проблемам, поставленным перед нами природой, и, следовательно, он был направлен прежде всего не на понимание единой общей взаимосвязи, но скорее на детальный анализ множества частных, специфических связей. Конечно, ньютоновская механика охватывала значительную часть мира, доступную в то время физическому эксперименту. Однако наряду с этим существовала, например, оптика, в которой механические понятия непосредственно не могли применяться; не могло быть также и речи о применении подобных исследований к живой природе. Механика могла быть образцом, на основе которого должны были строиться все другие области естествознания. Но реальное осуществление этого представляло собой задачу чрезвычайной трудности.
В последующие столетия за решение этой задачи взялись энергично. В XVIII в. были достигнуты решающие успехи в понимании электрических явлений; были заложены основы современной химии и получен ряд важных астрономических результатов, собраны и систематизированы многие наблюдения в области животного и растительного мира. В XIX в. учение о теплоте и об электрических и магнитных явлениях поднялось до уровня ньютоновской механики. Исследования значительно расширялись и углублялись также и во многих других областях естествознания.
Неизбежным следствием этого явилось распадение естествознания на ещё большее количество отдельных областей, каждая из которых выдвигает такое множество проблем, что одному человеку становится не под силу овладеть полностью даже какой-либо одной областью. Это, в свою очередь, ведёт к узкой специализации, часто вызывающей недовольство, и к переоценке научного познания. До сих пор побудительной силой научного исследования было желание понять взаимосвязи мира в целом, постигнуть план божественного творения. Теперь исследование деталей, открытие и систематизация мельчайших проявлений природы в пределах узкой, ограниченной {74} области составляют гордость учёного. Это, естественно, связано с преклонением перед мастером в специальной области науки, «виртуозом», а также с известной недооценкой поисков общих связей, имеющих принципиальное значение. По отношению к этому периоду развития науки едва ли можно говорить о единстве естественно-научной картины мира (во всяком случае, поскольку речь идёт о содержании науки), так как мир отдельного учёного — это маленький кусочек природы, работе над которым он посвящает свою жизнь.
Правда, в известной мере общими были научные методы и в качестве выражения их — представление о конечной цели естествознания. В этом отношении образцом, во всяком случае для точных естественных наук, была ньютоновская механика. Это означает, что на основании некоторых данных ход развития мира можно было выразить количественно, и многие учёные полагали, что такая задача, по крайней мере в принципе, может быть решена во всех областях естествознания. Подобные воззрения на естествознание в эпоху рационализма наиболее чётко выразил Лаплас, который считал, что если представить себе гениальный ум, способный познать современное состояние мира во всей его полноте и многообразии, то из этого знания он мог бы вывести и всё будущее развитие мира.
Цель состояла в том, чтобы построить такую исчерпывающую систему законов природы, которая сделала бы, по крайней мере в принципе, возможным такой количественный подсчёт. При этом оставался открытым вопрос — могут ли быть все явления природы, в конечном счёте, сведены к законам механики или же возможна ещё и другая, самостоятельная система понятий. Такая методологическая точка зрения, образцом которой служила ньютоновская механика, вообще говоря, могла приводить к единству лишь так называемые «точные» науки о природе. Многие из учёных, занимавшихся изучением живой природы, придерживались совершенно других взглядов. Витализм, особенно распространённый во второй половине XVIII в., рассматривал своеобразные законы жизни вне зависимости от физических и химических процессов. Если «жизненную силу», отличавшую живую материю от неживой, иногда и связывали с электрическими процессами, то заранее предполагалось, что в {75} жизненных процессах имели место закономерности совсем иного рода, чем в физике. Особенно тщательно избегался вопрос о математической формулировке этих законов или о предсказании процессов в живой природе. Казалось само собой разумеющимся, что вещества, образуемые живыми организмами, коренным образом отличаются по своему строению от тех веществ, которые химик может получать путём синтеза элементов в своей реторте. Возможность существования таких разнородных типов взаимосвязей особенно подчёркивалась и обобщалась романтической натурфилософией. Некоторые выдающиеся учёные безуспешно пытались перенести определённый тип законов, взятых из живой природы, на процессы неживой природы» например в астрономию. Романтики противились всяким попыткам объяснить процессы природы через «толчки и удары». Но эти усилия романтиков не смогли устоять против методической чёткости и кристальной ясности «точного» естествознания.
Во второй половине XIX в. можно было говорить по крайней мере о методологическом единстве естествознания. Открытие Вёлером синтеза органических веществ из неорганической материи привело химиков к убеждению, что химические процессы в живых организмах подчиняются тем же законам, что и в неорганической материи. Методологическим следствием всего этого было то, Что химия также взяла за образец ньютоновскую механику, а успехи атомной гипотезы создали возможность шире распространить идеал учения о движении материи, основанного на механике мельчайших частиц. В биологии виталистические воззрения были подвергнуты решительной критике со стороны дарвиновской эволюционной теории развития, и главное внимание было уделено анализу причин и действий. Даже в медицине были достигнуты значительные успехи благодаря такому образу мышления, согласно которому процессы в организме сравнивались с процессами в сложной машине.
Таким образом, уже в то время в известном смысле было достигнуто единство естественно-научной картины мира. Мир состоял из вещей, находящихся в пространстве и благодаря действию и противодействию закономерно изменяющихся во времени. Это изменение осуществлялось благодаря их движению в пространстве, а также вследствие внутреннего движения отдельных частей или {76} посредством изменения материальных качеств (цвета, температуры, твёрдости); причём изменения этих качеств, в свою очередь можно было свести к движению мельчайших частиц, атомов. Такую картину мира можно рассматривать как идеализацию действительности; время и пространство считаются здесь независимыми схемами упорядочения (Ordnungsschemata), на которые проецируются процессы как нечто объективно происходящее. Именно эта идеализация и лежит в основе механики Ньютона, являющейся, как мы видели, методологическим образцом для всего естествознания.
Несмотря на то, что такое воззрение на природу оказало решающее влияние на развитие естествознания, тем не менее вскоре стало ясно, что оно не в состоянии связать воедино его различные отрасли. Это произошло потому, что указанная нами идеализация только в очень незначительной мере соответствовала понятиям и проблемам отдельных наук. Уже система химических понятий развилась из наблюдений над свойствами материи независимо от стремлений к механическому объяснению. В биологии учёные имели дело с совершенно другими процессами, которые могли быть раскрыты лишь в понятиях роста, метаболизма, наследственности и т. п. Наконец, в этой картине мира совершенно не находит отражения та обширная область действительности, которая охватывает духовные процессы. И, вероятно, именно вследствие этого произошло вызывающее частое сожаление разделение умственной деятельности на область науки и область искусства и религии. Понятно, что такая лишь наполовину обоснованная картина мира не могла воспрепятствовать разделению науки на отдельные отрасли и способствовала такому развитию, в котором на первый план вместо «universitas litterarum»1 выступило стремление к использованию научного мышления для практических целей.
Хотя и нельзя сказать, что такое развитие уже исчерпало себя, тем не менее сейчас имеются совершенно очевидные свидетельства того, что науки всё более тесно начинают объединяться на новой основе; и едва ли можно сомневаться, что одностороннее научное воззрение XIX столетия в наше время сменяется новыми формами мышления. {77}
2. Исходной точкой нового процесса объединения различных отраслей естествознания является не метод, а содержание этих отдельных отраслей. Уже во второй половине прошлого столетия в двух случаях было достигнуто слияние различных областей физики. Благодаря открытию неразрывной связи нагревания тела с увеличением скорости движения его мельчайших частиц учение о теплоте и механика оказались настолько тесно связанными между собой, что изучаемые ими явления стало возможно рассматривать как различные формы одной и той же физической реальности. Далее, в известной теории Максвелла свет удалось свести к электромагнитным процессам. Оказалось, что свет представляет собой электромагнитный волновой процесс, в результате чего оптика потеряла своё значение самостоятельной отрасли физики. Она стала отделом учения об электричестве, а в конечном счёте — отраслью техники. Таким образом, две отдельные дисциплины прошли через такие стадии, которые, вероятно, обязательны для всех отраслей естествознания. Существенные связи в той или иной области должны сначала длительное время выясняться посредством эксперимента и их теоретического анализа. По мере того как достигается известное (хотя, может быть, и не полное) понимание этих связей, последние могут быть использованы техникой, и тогда исследования продолжаются в основном уже в направлении их практического применения. Наконец, найдена вся совокупность законов природы, действующих в рассматриваемой области, и единственным содержанием научно-исследовательской работы становится применение этих законов к практическим задачам. Теория Максвелла решила все основные проблемы оптики, после чего научный интерес был сконцентрирован на технических задачах, таких, например, как производство оптических приборов.
В начале XX в., последовательно развиваясь по этому пути, атомная физика стала центром научных интересов. Эта дисциплина поставила перед собой (ещё со времён возникновения её в античности) грандиозную задачу: свести поведение и все свойства материи к движению её мельчайших частиц — атомов и таким образом вывести из общего корня все физические и химические дисциплины. Атомная физика сформулировала проблему следующим образом: видимые свойства материи, такие, как свойство {78} занимать пространство, твёрдость, цвет, химические свойства и т. п., присущи по самому своему существу только макроскопическим материальным телам, но они не могут считаться также атрибутами мельчайших неделимых «кирпичиков» материи. В противном случае нельзя было бы понять, каким образом одно и то же вещество может существовать в различных формах (например, вода в виде льда, жидкости и пара). Эти макроскопические свойства возникают в результате движения и взаимодействия мельчайших частиц.
В XIX в. атомистическая гипотеза получила твёрдую основу благодаря развитию химии. Мы теперь знаем, что кусок какого-либо химического элемента, например углерода, может делиться на всё меньшие части до тех пор, пока мы не достигнем мельчайшей частицы, характерной для данного элемента. Это и есть атом элемента — в нашем случае «атом углерода». В химических соединениях атомы различного типа, то есть атомы различных химических элементов, образуют атомные группы, «молекулы», которые можно представить геометрически. Молекула, следовательно, является наименьшей составной частью химического соединения. Эти представления помогают нам объяснять в общих чертах химические свойства материи. Но, с другой стороны, задача атомной физики кажется неразрешимой. Химия имела дело только со специфическими свойствами, которые всегда повторяются одинаковым образом в одном и том же виде материи; эти свойства проявляют особую устойчивость по отношению ко всевозможным воздействиям. Кусок золота всегда сохраняет один и тот же красноватый цвет вне зависимости от того, как он был получен и какая форма ему была придана. Такая устойчивость внешних свойств чужда, однако, механическим системам. Характер движения планет, обращающихся вокруг Солнца, может навсегда измениться под влиянием внешних воздействий, скажем, при пересечении их орбит кометой большей массы. После прекращения возмущения планетная система уже не вернулась бы к своей первоначальной конфигурации. Потребовались бы самые невероятные допущения относительно свойств атомов, чтобы с точки зрения механики объяснить такую устойчивость.
С течением времени выяснилось, что эта трудность действительно является центральной проблемой атомной {79} физики, и её решение стало возможным лишь на основе гипотезы квантов, сформулированной Планком в 1900 г. Здесь можно лишь слегка затронуть историю развития квантовой теории и представлений Бора о строении атома. Прежде всего, Планк открыл, исследуя излучение раскалённых тел, непривычную дискретность энергии, заключённой в атомах. Последние представляются подобными малым излучающим системам, которые могут иметь только вполне определённые, дискретные значения энергии. Позднее Резерфорд, основываясь на своих экспериментах, пришёл к выводу, что атом можно представить в виде планетарной системы в миниатюре, в центре которой находится положительно заряженное атомное ядро, практически несущее в себе всю массу атома, а вокруг него обращаются отрицательные электроны. Несколько лет спустя Бор смог объяснить устойчивость этой планетарной системы, используя гипотезу квантрв Планка; наконец, через четверть века после открытия Планка были найдены точные математические формулировки законов, управляющих строением атома.
Квантовая теория строения атома удовлетворяет, в пределах современного уровня знаний, все наши требования, которые могут быть предъявлены к атомной физике. Эта теория даёт нам возможность, по крайней мере в принципе, подсчитывать — и в известной мере «объяснять» — свойства макроскопической материи. В отношении некоторых очень простых веществ, таких, как газообразный водород, удалось получить с большой степенью точности количественное выражение наиболее важных химических свойств, цвета свечения в разрядных трубках, влияния низких температур и других, связанных с ними свойств. Эти количественные подсчёты пролили свет на некоторые явления, оказавшиеся вне поля зрения физиков-экспериментаторов. В отношении многих другах веществ квантовая теория даёт по крайней мере качественное объяснение их свойств; мы имеем в виду электропроводность металлов или строение кристаллов. Таким образом, возможно, будет правильным полагать, что мы достигли такого уровня исследований, который соответствует механике небесных тел Ньютона. Мсжет быть, теперь мы в состоянии выразить количественные свойства материи во всех случаях, где математические трудности не мешают практическому осуществлению нашей задачи. {80}
Однако осуществление этих стремлений досталось дорогой ценой. Короче говоря, это привело к утрате естественно-научной картины мира, имевшей место в XIX в., или, точнее, к утрате тех представлений о реальности, которые лежали в основе механики Ньютона.
Это произошло потому, что квантовая теория лишила атом доступных органам чувств наглядных представлений, данных нам в повседневном опыте. Атом, или, более точно, элементарная частица современной атомной флзики — электрон, «сам по себе» («an sich») не обнаруживает больше даже простейших геометрических и механических свойств; он их проявляет только в той мере, в какой они становятся доступными наблюдению через внешние воздействия. При этом различные наблюдаемые свойства атома являются дополнительными в том смысле, что, зная одно какое-либо свойство, мы не можем одновременно познать другое. Эта удивительная особенность реальности атомов или электронов ведёт к разного рода важным следствиям. Прежде всего, поведение атома во многих экспериментах может быть описано посредством понятий механики: мы можем, например, говорить о траектории определённых частиц. В таких экспериментах законы классической механики всегда обеспечивают правильное описание рассматриваемого процесса. Поэтому можно утверждать, что законы классической механики применимы и для атомных процессов, там, где их можно непосредственно контролировать. С другой стороны, имеются иного рода опыты, в которых для описания состояния атома необходимо применять немеханическис понятия, например понятия, выражающие химические свойства атома. В таких случаях представление об атоме, с точки зрения классической механики, не может быть использовано, и вопрос о «применимости» её законов теряет смысл. Механические и химические свойства становятся взаимоисключающими, что ясно выражено в математической формулировке квантовых законов. Именно это взаимоисключение и делает возможной специфическую, немеханическую устойчивость атомных систем, являющуюся основой для понимания макроскопических свойств материи.
Указанные выше факты свидетельствуют, с одной стороны, о замкнутости и точности классической теории, которая, очевидно, не может быть нарушена никакими {81} новыми опытами и остаётся справедливой всюду, где применима система её понятий; с другой стороны, они указывают те способы, которыми природа порождает совершенно другого рода взаимосвязи, лишая нас возможности (вследствие возмущений, необходимо связанных со всяким наблюдением) составить полную наглядную картину атома. Атом уже нельзя безоговорочно объективировать как вещь, существующую в пространстве и изменяющуюся определённым образом во времени. Можно объективировать только результаты отдельных наблюдений, но они никогда не дадут полной и наглядной картины. Отсюда следует, что представление о реальности, лежащее в основе механики Ньютона, слишком узко и должно быть заменено каким-то более широким понятием.
До сих пор физика стремилась рассматривать явления, доступные нашим органам чувств, как вторичные и производные, объясняя их путём сведения к микроявлениям. Последние считались, таким образом, «скрытой» объективной реальностью. Однако мы теперь знаем, что явления, воспринимаемые нашими органами чувств (вне зависимости от того, происходит ли это восприятие с помощью приборов или без них), могут рассматриваться как объективные; тем самым, казалось бы, с полным правом можно было бы утверждать, что наблюдаемые нами явления суть объективные явления. Но атомные явления не всегда могут быть представлены как объективные процессы, происходящие во времени и пространстве. Именно это изменение прежней системы реальности, если можно так выразиться, дало возможность без противоречий связать химическую систему понятий с механикой.
Атомная теория соединила, таким образом, физику и химию в одну большую единую науку. Какое же практическое воздействие на отдельные отрасли науки оказало это новое единство и как оно отразилось на прежней естественно-научной картине мира?
Можно было бы подумать, что эта новая ситуация должна была привести к необыкновенному подъёму химии, так как все её основные проблемы, например вопрос о природе химических сил, уже решены атомной физикой; что, следовательно, этот достигаемый нами подъём даёт уже огромные практические результаты. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что химия давно оставила исследования принципиальных взаимоотношений {82} и занимается вопросами практического применения. Проблема природы химических сил — некогда одна из центральных проблем химии — настолько отступила на задний план, что химик, занятый частным, практически важным вопросом, ни малейшего внимания не уделяет решению основных проблем. Это решение вряд ли может принести пользу в частных, практических вопросах, так как подлинная трактовка их на основе атомной теории в большинстве случаев сталкивается с непреодолимыми математическими трудностями. Поэтому до сих пор современная атомная физика оказала влияние только на отдельные области химии, и лишь постепенно новые представления стали использоваться в более общих проблемах, таких, как теория валентности. Атомная физика оказалась более плодотворной в астрофизике, то есть в теорий физического строения звёзд. Многие проблемы, относящиеся к атмосфере звёзд и происхождению их внутренней энергии, впервые смогли быть исследованы только на основе атомной физики.
Если, наконец, спросят о влиянии атомной физики на решение основных проблем, связанных с физической картиной мира, то придётся констатировать, что понятие действительности, благодаря которому достигнуто единство различных отраслей точных естественных наук, не всегда принималось без сопротивления. Оно находилось в противоречии, во-первых, с некоторыми отдельными науками, которые не были склонны жертвовать проверенными традиционными представлениями о реальности ради какого-то высшего единства; во-вторых, с некоторыми теоретико-познавательными системами, несовместимыми с новыми положениями теории познания, с которыми сталкивает нас природа в атомных процессах.
Однако у нас нет оснований беспокоиться о судьбе вновь достигнутого единства. Возражения направляются не против результатов, но только против их интерпретации, и, таким образом, они не затрагивают существа новых представлений. Это можно сравнить с некоторыми событиями в мировой истории. Когда созревали условия для объединения отдельных мелких государств, начиналась жестокая борьба, которая в конечном счёте приводила к объединению. Прошлое всегда так дорого нам, людям, что мы хотим как можно больше старых и близких нам ценностей перенести в новое единство. В {83} естествознании нельзя было бы ожидать, что такие кардинальные изменения в науке, как объединение физики и химии в единую научную систему, совершились бы без принятия новых и необычных понятий.
Несомненно, было бы правильнее признать новые формы мышления, несмотря на вызываемые ими необычайные трудности, и поставить вопрос о том, какие области мы могли бы охватить этими формами мышления.
3. Обратимся, прежде всего, к следующей за физикой и химией науке — к науке о жизни. В течение долгого времени в биологии, если говорить о её принципиальных основах, имели место два противоположных направления — витализм и механицизм. Исходным пунктом витализма является утверждение, что закономерные взаимосвязи, характеризующие жизненные процессы, в своей основе совершенно отличны от физических и химических законов. Поведение организма может быть описано в таких понятиях, как рост, метаболизм, размножение, приспособление, способность к регенерации и т. п., то есть в понятиях, не применимых к физике и химии. Правда, можно было бы допустить, что само поведение, лежащее в основе этих понятий, обусловливается физико-химическими законами. Но наше знание этих законов не даёт никаких оснований для таких предположений; во всяком случае, нужно сказать, что с точки зрения физических и химических законов живой организм представляет собой совершенно невероятное образование, подобно тому как с точки зрения классической физики, применённой к атомам и электронам, казались бы совершенно невероятными образованиями кристаллы.
Против учения о том, что жизнь имеет свои собственные, только ей присущие законы, выступали сторонники так называемого «механистического» воззрения. Они утверждали, что процессы, происходящие в живом организме, во всех случаях, когда они могут быть исследованы,, подчиняются известным законам физики и химии; в живой субстанции никогда не наблюдалось отклонения от этих законов. Кроме физико-химических законов вообще нет никаких других взаимоотношений, так как физика и химия полностью обусловливают всё поведение материи. В течение последних ста лет были достигнуты необыкновенные успехи в физико-химическом объяснении процессов, протекающих в живом организме. Можно указать на {84} проблему теплообмена в организмах, электрические явления в нервной системе, химию гормонов и т. д. Предположение, что известные нам физико-химические законы безусловно действуют в живой субстанции, подтверждалось всем предшествующим опытом. С другой стороны, эти законы совершенно не оставляют места для взаимоотношений инсго типа, причём такого положения ни в коей мере не меняет и квантовая теория, в которой большую роль играют статистические законы. Таким образом, остаётся — по крайней мере по видимости — нередко обсуждаемое противоречие между отдельными процессами в организме, которые могут быть целиком объяснены физикой и химией, и специфическими особенностями жизненных процессов в целом. Общеизвестное положение: «целое больше суммы его отдельных частей» выражает это противоречие, но не разрешает его.
Только что поставленная проблема представится в совершенно новом свете, если мы воспользуемся формами мышления, принятыми в квантовой теории, и подобно Бору используем теоретико-познавательную ситуацию в атомной физике в качестве методологического образца при рассмотрении затронутого вопроса. В квантовой теории также существует кажущееся противоречие между классической физикой, с одной стороны, и химическими явлениями — с другой. Первая полностью определяла свойства системы, исходя из её начальных условий, и применялась всюду, где эти условия могли быть проверены; вторые вели к системе понятий, не имевших непосредственной связи с классической физикой. Противоречие нашло своё разрешение, когда было установлено, что точное знание состояния, которое может быть описано в химических терминах, исключает точное знание условий, определяемых механически. Такое взаимоисключение возникает автоматически вследствие возмущения, которое, в соответствии с законами природы, неизбежно вносится каждым наблюдением. Подобную ситуацию можно наблюдать и в биологии. Установление того факта, что «клетка является живой», исключает точное и полное знание условий, определяющих её физическую структуру. Для достижения такого полного знания, вероятно, было бы необходимо прибегнуть к столь сильным воздействиям (например, к рентгеновским лучам), что клетка в процессе наблюдения была бы разрушена. Методологический {85} пример квантовой теории в одном случае показывает, что нет никакого логического противоречия между основным положением механистического воззрения, согласно которому «физико-химические законы действуют без ограничений в живой природе», и тезисом виталистов, что жизнь имеет свои собственные, специфические законы.
Это, конечно, ещё не решает проблему физико-химического объяснения жизненных процессов и возможности введения закономерностей другого рода; однако исследования, проводимые в течение ряда последних десятилетий, идут в той пограничной области, где решение, повидимому, будет найдено. Анализ поведения организма в целом, очевидно, мало может помочь нам в рассматриваемом вопросе, так как его физические и химические взаимоотношения либо крайне сложны, либо — в тех случаях, когда они могут быть изучены, — являются слишком тривиальными. Собственно говоря, применительно к организму в целом данная проблема формулируется в виде вопроса: каковы причины возникновения таких сложных образований? Этот вопрос непосредственно приводит нас к проблеме роста, деления клеток, удвоения хромосом и ген, то есть, в конечном счёте, в область, находящуюся на границе между биологией и химией больших молекул.
В этой области результаты новой атомной физики могут быть использованы также и по содержанию, и специфические теоретико-познавательные особенности квантовой теории приобретают не только методологическое, но и содержательное значение. Исследования в области генетики, например исследования частоты мутаций, указывают на то, что при некоторых условиях атомные явления, такие, как разрушение отдельной химической связи в хромосоме клеточного ядра, могут привести к изменениям во всём будущем развитии организма. В таких случаях статистические закономерности квантовой теории приобретают практическое значение для поведения живых организмов.
При исследовании области, находящейся на грани между химией белков и биологией мельчайших элементарных телец, необходимо, прежде всего, — отвлекаясь от всех принципиальных вопросов, — использовать, так сказать, до конца систему понятий физики и химии, чтобы выяснить, в какой мере они могут быть использованы {86} для описания процессов жизни. То обстоятельство, что мы должны считаться с возможностью столкнуться с поставленными самими законами природы препятствиями, предохранит исследование от пренебрежения теми другими сторонами жизни, которые явились основой для витализма и которые производят большое впечатление на вдумчивого наблюдателя, возбуждая в нём чувстзо, называемое «благоговением перед жизнью». Изменения в систематизации реальности, осуществлённые в квантовой теории, приблизили к точным отраслям естествознания также и биологические исследования, предметом которых служат именно эти другие специфические стороны жизни. Это означает, что и вне пределов собственно пограничной области устанавливаются известные идейные связи между совершенно разобщёнными до сих пор областями науки.
Таким образом, в течение последних десятилетий биология, физика и химия ещё больше сблизились друг с другом. Окончательное же слияние этих трёх областей науки в единую по содержанию науку могло быть осуществлено только путём значительного расширения наших знаний о жизненных процессах. Однако уже сейчас намечается методологическое единство, в основе которого больше не лежит желание объяснить все процессы по образцу механики Ньютона. Возникшие с развитием атомной физики формы мышления достаточно широки, чтобы охватить самые различные стороны проблемы жизни и связанные с ними направления исследований.
Конечно, такое методологическое единство не может быть с достаточным основанием названо единством естественно-научной картины мира. Ибо картина мира, по крайней мере в принципе, должна, повидимому, охватить все части мира, и в ней также должно быть указано определённое место каждой области действительности. Именно это требование ясно обнаруживает ограниченность картины мира, основанной на классической физике. В этой картине духовный мир фигурирует в известной мере лишь как не содержащийся в ней противоположный материальной реальности полюс. Система понятий классической физики слишком закостенела, чтобы воспринять в себя новые, совершенно чуждые ей опытные данные без принудительного воздействия. {87}
Напротив, систематизация реальности в современной атомной физике в большей мере допускает другого рода системы понятий, потому что она объективирует явления, не претендуя на описываемую в обычных понятиях «вещь в себе». Эти другого рода системы понятий являются средством описания другого рода областей действительности, которые, можно надеяться, когда-либо будут самым естественным образом включены в области, уже более точно известные.
С пониманием теоретико-познавательной стороны квантовой теории мы изменяем и наше отношение к вопросу о том, какое место в, современной естественно-научной картине мира должны занимать те области действительности, которые мы характеризуем словами «сознание» и «дух». Картина мира, какой её представляла классическая физика, была построена на твёрдом фундаменте признания объективной реальности изучаемых явлений, существующих во времени и пространстве и протекающих в соответствии с законами природы, совершенно независимо от духовных явлений, причём сами законы природы считались связанными только с такими «объективными» процессами. Духовные явления представлялись только некоторым отражением этой объективной реальности в совершенно другой области действительности, отделённой непроходимой пропастью от мира пространственно-временных процессов. Современное естествознание в связи с. улучшением техники наблюдения и связанным с этим обогащением положительного знания было вынуждено, наконец, пересмотреть свои теоретико-познавательные основы, и это привело к убеждению, что не может быть дано такой твёрдой основы для всего познания. Представление об объективном мире, изменяющемся во времени и пространстве, есть не что иное, как идеализация действительности, обусловленная нашим стремлением рассматривать мир по возможности объективно. Уже квантовая теория прибегает к другой идеализации, которая в гораздо меньшей степени отвечает нашему стремлению к объективированию, но взамен этого позволяет охватить полностью также и закономерности химических процессов. Поскольку в рамках представлений о реальности в классической физике химические явления не могут быть сведены к физическому движению элементарных частиц, то мы можем ожидать, что такое же своеобразное отношение {88} взаимного дополнения между различными областями действительности будет иметь место и в других случаях.
Конечно, нельзя слишком упрощённо устанавливать такого рода пропорции, вроде следующей: биология относится к химии, как химия к физике. Единственно правильным при таких сравнениях будет убеждение, что при переходе от одной уже познанной области действительности к другой всегда бывает необходимо сделать совершенно новый шаг в познании, ничуть не меньший, чем тот, который ведёт от классической физики к атомной теории.
Несмотря на то, что всё это мы имеем в виду, тем не менее сейчас нам кажется более понятным, чем раньше, почему наряду с явлениями жизни существуют ещё и другие области действительности: область сознания и, наконец, область духовных процессов. Мы не ожидаем, что от познания движения тел во времени и пространстве можно прийти прямым путём к пониманию душевных процессов, поскольку уже из точных естественных наук известно, что действительность для нашего мышления распадается на отдельные слои (Schichten), связи между которыми устанавливаются, так сказать, только в абстрактном пространстве по ту сторону явлений. Мы теперь лучше, чем прежнее естествознание, сознаём, что не существует такого надёжного исходного пункта, от которого бы шли пути во все области нашего познания, но что всё познание в известной мере вынуждено парить над бездонной пропастью. Нам приходится всегда начинать где-то с середины и, обсуждая действительность, употреблять понятия, которые лишь постепенно приобретают вполне определённый смысл благодаря их применению. Даже системы понятий, удовлетворяющие всем требованиям логической и математической точности, представляют собой только робкие попытки ориентации в определённых областях действительности.
Таким образом, мы уже не находимся в таком счастливом положении, как Кеплер, для которого взаимосвязь мира в целом была дана волей творца: Кеплер верил, что, познав гармонию сфер, он вплотную подошёл к пониманию плана божественного творения. Однако предположение о существовании общей взаимосвязи целого, в которую мы, с помощью нашего мышления, можем проникать всё глубже и глубже, остаётся и для нас движущей силой исследований.
| {89} |
Когда в настоящее время говорят об атомной физике, то под ней обычно понимают прежде всего атомную технику, то есть применение огромной энергии атомов для целей войны или в промышленности. Но наука в собственном смысле слова, из которой, как побочные ветви, развились эти технические приложения, значительно менее известна широким кругам. Правда, время от времени могут иметь место сообщения об успехах английских учёных, открывших новую элементарную частицу, о новых данных по внутриядерным силам, полученных на гигантском циклотроне в Калифорнии, или о присуждении Сталинской премии двум русским учёным за их работу в высотной лаборатории на Кавказе. Однако о собственной цели этих работ, общей связи, объединяющей усилия людей различных стран и делающей их частью единого целого, почти ничего не говорится. А для физика эта связь и есть именно то, что он понимает под атомной физикой. Ему в его работе всегда сопутствует многовековой давности стремление людей к единому пониманию мира; о каждом открытии он судит по тому (часто не сознавая этого), насколько оно приближает нас к желаемой цели. Вот почему мне хотелось бы остановиться здесь именно на тех основных идеях, которые в атомной физике объединяют различные эксперименты и теории. Я хотел бы объяснить, на что, собственно, мы надеемся в своей работе и что произойдёт, если наши надежды и желания в этом отношении будут выполнены.
Чтобы понять основы атомной физики, необходимо проследить историю её возникновения. Мы должны будем шаг за шагом последовать за теми идеями, которые ещё две с половиной тысячи лет назад привели греческую {90} натурфилософию к атомистической теории, и затем попытаться найти связь этих основных идей с самыми последними достижениями современной атомной физики. Вот почему ие будет отклонением от темы, если я кратко остановлюсь на предистории и истории атомной теории.
Началом ионийской натурфилософии явилось знаменитое утверждение Фалеса Милетского, что вода есть первооснова всех вещей. Это утверждение, кажущееся нам теперь странным, содержит, как сказал Фридрих Ницше, три основные философские идеи: прежде всего вопрос о происхождении всех вещей; далее, убеждение, что этот вопрос является вполне разумным и, следовательно, ответ на него должен быть дан без помощи мифологии — тогдашнему мышлению были не свойственны поиски первопричины вещей в чём-то материальном, что не было бы взято из самой жизни; и последнее — уверенность в том, что, в конечном счёте, должна существовать возможность понять мир на основе единого принципа. В утверждении Фалеса впервые прозвучала мысль о едином первоначальном веществе, из которого состоит мир, хотя слово «вещество» здесь не имеет ещё того чисто материального смысла, который мы так легко приписываем ему в настоящее время.
Если бы существовало только одно основное вещество, оно должно было бы однородным образом и без всяких качественных различий заполнить собой всё пространство, и пёстрая картина сменяющих друг друга явлений была бы необъяснима. По этой причине в основе философии Анаксимандра, ученика Фалеса, также жившего в Милете, лежит представление о фундаментальной полярности, противоположности бытия и становления. Из однородного бытия возникает изменение, становление, которое, будучи в известной мере извращением чистого бытия, лишь посредством ненависти и любви образует многообразную игру мира. В философии Гераклита становлению придаётся первостепенное значение; огонь становится основным элементом, Источником движения, но он вместе с тем представляет собой добро и свет; война, по мнению Гераклита,— отец всех вещей. Позднее, в особенности в учении Анаксагора, было развито представление, согласно которому мир состоит из нескольких элементарных веществ — однородных и неразложимых; только их смешение и разделение производят пёструю {91} игру жизни. Согласно Эмпедоклу, знаменитые элементы — земля, вода, воздух и огонь — представляют собой четыре «корня» всех вещей.
С этих позиций только Левкипп и Демокрит из Абдеры совершили переход к материализму. Полярность бытия и небытия была сведена к противоположности полного и пустого. Чистое бытие в некотором смысле было сжато в точку, однако оно могло повторить себя любое число раз. Оно стало неделимым и неразрушимым и поэтому названо «атомом». Мир был сведён к атомам и пустому пространству между ними. Смешение элементов рассматривалось подобно смешению двух сортов песка. Положение и относительное движение атомов определяет качества веществ и тем самым создаёт многообразие мира. Если раньше пространство понималось как нечто немыслимое без материи, то в материалистической философии оно приобрело известную самостоятельность; оно стало — в качестве пустого пространства между атомами — носителем геометрии, то есть порождающим всё богатство форм и всё разнообразие явлений мира. Атомы сами по себе не имеют никаких свойств — ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Свойства веществ порождаются косвенно — относительным расположением и движением атомов. Вот что говорится об этом у Демокрита:
«Подобно тому как трагедия и комедия могут быть написаны при помощи одних и тех же букв, так и многие различные явления этого мира могут быть произведены одними и теми же атомами, поскольку они занимают различное положение и движутся различным образом». «Лишь согласно общепринятому мнению существует цвет, сладкое, горькое, в действительности же существуют только атомы и пустота».
Таким образом, атомистическая теория реализовала основное требование Фалеса, что мир должен быть понят на основе единого принципа, признания только одного единственного основного вещества, одной основной формы бытия, а именно — атомов. Это чистое бытие противопоставлялось форме и движению, которые представляли собой процесс становления и обусловливали все явления природы. Платон, воспринявший и отразивший в «Тимее» идеи атомистической теории, различал пять типов атомов, отличающихся друг от друга по форме, и должен был говорить о соответствующих им пяти основных {92} веществах. Считалось, что они обладают формами почти правильных тел. Такое допущение пяти типов атомов может, на первый взгляд, показаться шагом назад от монистического понимания мира, но по сути дела Платон полагал, что все атомы обладают одинаковой сущностью, которая проявляется в различных геометрических формах. Многообразие мира рассматривалось как результат наличия множества математических структур. Всё богатство жизни отражается в богатстве геометрических форм, образованных, в свою очередь, из действительно существующего, то есть из атомов.
Этот краткий исторический очерк дан мною для того, чтобы показать основные цели атомной теории. Атомная теория должна объяснить, что мир состоит, в конечном счёте, из единого вещества и построен по единому принципу. Многообразие явлений так или иначе связано с многообразием математических форм. Позднейшее развитие добавило к этим идеям представление о неизменности законов природы, управляющих всеми событиями. Математические построения, таким образом, проникают также и в будущее и позволяют нам заранее предсказывать то, что произойдёт. Но вместе с тем позднейшее развитие почти без изменений вооприняло основные идеи атомистической теории, которые всё ещё сохраняют свою творческую силу даже в наши дни.
Прежде чем обратиться к нашим современным проблемам с точки зрения указанных основных идей, мне хотелось бы проследить их историческое развитие несколько дальше, ибо только на этой основе можно правильно понять смысл всех наших сегодняшних усилий. В начале нового времени понятие основного вещества развивается на основе химических исследований. С XVII столетия вещества, уже не поддающиеся химическому делению, стали считаться основными элементами, из которых состоит вся материя. Теперь мы знаем около 95 химических элементов, образующих, примерно, полмиллиона химических соединений, встречающихся в природе. Каждому такому элементу соответствует тип атомов, причём эти атомы, например атомы углерода или кислорода, считались опять-таки неделимыми и неразрушимыми. Химические соединения рассматривались как результат того, что атомы различных элементов соединялись в атомные группы, называемые молекулами. Такие атомные {93} группы представляли собой мельчайшие частицы соответствующих химических соединений.
Это атомистическое физическое истолкование химии было успешно осуществлено примерно к концу XVIII столетия, и в дальнейшем оно создало основу значительных успехов химии. Несмотря на это, следует сказать, что такой успех атомной теории не привёл к полному признанию её основных идей. Предполагалось, что мир должен состоять, в конечном счёте, из одного единственного вещества. Но это основное требование именно в то время соблюдалось менее, чем когда-либо, так как допущение наличия почти ста различных элементов, из смешения которых должна состоять вся материя, приводит к такому усложнению, которое всецело противоречит основному стремлению атомной физики. Тем не менее, на основе указанных представлений были достигнуты столь большие успехи, что атомистическое истолкование химии в общем и целом стало общепризнанным. В результате всего этого начали считать несомненным тот факт, что химические элементы не могут быть дальше разложены или превращены в другие при помощи химических методов.
Но уже в 1815 г. англичанин Проут попытался пробить брешь в этих воззрениях, выдвинув гипотезу о том, что все элементы состоят, в конечном счёте, из водорода. К такому убеждению он пришёл в результате наблюдения атомных весов, которые как раз в это время стало возможным определять с известной точностью. Величины атомных весов многих лёгких элементов оказались почта точно кратными величине атомного веса наилегчайшего из них, то есть водорода. Например, атом гелия почти ровно в четыре раза тяжелее атома водорода; это послужило основанием для убеждения в том, что атом гелия состоит из четырёх атомов водорода. Однако прошло ещё одно столетие, прежде чем стало ясно, что химические атомы отнюдь не последние неделимые «кирпичики» материи; так что, собственно говоря, они не являются тем, что имели в виду греки, когда говорили об атомах.
Исследования Фарадея, открытие электрона (то есть атома электричества), изучение радиоактивного излучения привели, наконец, к знаменитой модели атома Резерфорда — Бора, и тем была начата новейшая эпоха атомной физики. Не прошло и сорока лет с тех пор, как мы узнали, что атом химического элемента следует представлять {94} (с некоторыми оговорками) в виде планетарной системы в миниатюре. Основная часть его массы сосредоточена в атомном ядре, заряженном положительно я имеющем диаметр около одной стотысячной диаметра атома. Вокруг ядра обращаются значительно более лёгкие электроны, число которых как раз достаточно для нейтрализации заряда ядра. Диаметр внешней орбиты в самом большом атсме составляет около одной десятимиллионной миллиметра. Упомянутые нами оговорки касаются принципиальных трудностей создания наглядной картины процессов, происходящих в атоме. Правда, мы уже примерно двадцать лет настолько точно знаем законы природы, согласно которым электроны движутся вокруг ядра, что можем совершенно строго формулировать их математически. Однако мы знаем, что эти законы могут дать только очень грубую наглядную картину атома, поскольку планковская гипотеза квантов, на которой законы основаны, содержит элемент, принципиально не доступный непосредственному восприятию.
Оболочки всех атомов состоят, так сказать, из одного и того же вещества, а именно, во всех случаях из электронов — отрицательно заряженных лёгких элементарных частиц. Различие типов атомов обусловлено различием их атомных ядер, которые не подвержены химическим воздействиям. Однако в настоящее время мы располагаем возможностью воздействовать на ядро более сильными, чем химические, средствами; мы можем бомбардировать их другими элементарными частицами, летящими с большими скоростями. При этом оказалось, как уже давно ожидали, что и сами ядра, в свою очередь, представляют собой сложные образования, и одно атомное ядро может превращаться в другое. Уже около пятнадцати лет мы знаем, что все ядра состоят из двух сортов элементарных составных частей, названных протонами и нейтронами. Протоны — это легчайшие ядра, то есть ядра элемента водорода, нейтроны — электрически нейтральные элементарные частицы с массой, примерно равной массе протона. Сейчас нам известно, сколько протонов и нейтроноз содержит каждое атомное ядро. Так, ядро атома водорода состоит из одного протона, ядро атома гелия — из двух протонов и двух нейтронов, тяжёлое ядро атома урана — из 92 протонов и 146 нейтронов. Число протонов определяет заряд ядра и, следовательно, химические свойства атома. {95}
Открытие того факта, что все атомные ядра состоят из одних и тех же составных частей, сразу же, естественно, поставило задачу (разрешимую, по крайней мере теоретически) искусственного разрушения и образования атомных ядер. Со времени известного открытия Ханом возможности деления ядра урана нейтронами искусственное расщепление и создание ядер стало важной отраслью современной техники; мы теперь действительно в состоянии превращать химические элементы друг в друга.
Если современное состояние атомной физики сравнить с тем, что было 150 лет назад, то мы легко увидим, что современное воззрение значительно лучше отвечает основным целям атомной теории, пытающейся понять мир, исходя из признания того, что он состоит из единого первоначального вещества. Вместо сотни отдельных независимых основных химических веществ сейчас имеется по крайней мере три основных вещества, или, точнее, три основные формы материи, атомы которой мы называем электронами, протонами и нейтронами. Вся материя — как неживая, так и живая — состоит только из этих трёх видов элементарных частиц и не содержит ничего больше. Различный порядок и расположение их обусловливают все качественные различия. Многообразие всех возможных явлений находит своё отражение в многообразии математических образов, которые могут быть реализованы этими тремя основными формами бытия.
Последнее обстоятельство характеризует не только атомную физику, но и всё точное естествознание, и на этом мне хотелось бы остановиться несколько подробнее, ссылаясь в качестве примера на химию. Мы точно знаем законы природы, согласно которым электроны движутся вокруг ядра. Следовательно, каждому возможному состоянию атома (скажем, в сложной молекуле) должно соответствовать решение уравнений, представляющих данные законы природы. Таким образом, наши математические образы многообразнее греческих; мы уже не ограничиваемся геометрическими построениями, а рассматриваем сложные системы дифференциальных уравнений, которые, особенно в атомной физике, могут быть определены в многомерном пространстве. Совокупность решений таких уравнений соответствует совокупности возможных состояний атома; пёстрое разнообразие всевозможных химических соединений описывается множеством {96} возможных решений дифференциального уравнения Шрёдингера.
Однако, рассматривая три основных вещества, то есть три влда элементарных частиц — электроны, протоны и нейтроны, как составные части всей материи, мы тем самым ещё не реализовали до конца программу атомной физики. Поэтому я перехожу к собственным целям современной атомной физики. Если бы существовали только эти три элементарные частицы, то можно было бы удовлетвориться тем, что имеются ровно три существенно различных вида материи, которые уже не могут превращаться друг в друга или сводиться друг к другу. Но в действительности имеются ещё и другие формы проявления материи; среди них следует назвать, прежде всего, излучение. С тех пор как знаменитая формула теории относительности тесно связала энергию и массу, мы считаем, что энергия в любой форме также обладает массой и что поэтому она может быть названа некоторым видом материи. Согласно Планку и Эйнштейну, энергия излучения концентрируется в так называемых световых квантах, которые можно рассматривать и как своего родя элементарные частицы. Кроме того, за последние двадцать лет были найдены новые элементарные частицы. В начале тридцатых годов Андерсон открыл положительный электрон, который может возникать при превращении излучения в материю. Квант большой энергии, например квант рентгеновского излучения, проходя случайно вблизи ядра, превращается в отрицательный и положительный электроны. Несколько позднее, исследуя процессы, происходящие в атмосфере при проникновении в последнюю космических лучей, Андерсон открыл следующую элементарную частицу. Эта частица примерно в 200 раз тяжелее электрона и называется теперь «мезоном». Мезоны, однако, всегда имеют очень короткое время жизни и исчезают уже примерно через миллионную долю секунды, превращаясь в электрон и в нейтральную элементарную частицу. Наконец, недавно были открыты новые элементарные частицы, по продолжительности жизни и по другим свойствам довольно сходные с мезонами.
Ввиду того, что развитие атомной физики в последние годы приобрело такой характер, на первый взгляд может показаться, что атомная теория снова удаляется от своей {97} основной цели, поскольку предположение о существовании трёх основных веществ она вновь вынуждена заменить более сложным предположением. Такая постановка вопроса вводит нас в самое существо проблематики современной атомной физики. Имевшиеся до сих пор представления оказываются в действительности слишком простыми. Теперь есть много указаний на то, что существуют и другие элементарные частицы, но они ещё не наблюдались вследствие чрезвычайно короткого времени их жизни. Однако экспериментально был установлен также другой важный факт: элементарные частицы могут превращаться друг в друга. Характеристика неразрушимости больше неприменима к ним в старом смысле. Например, столкновение нейтрона и протона порождает мезон. Для этой области атомной физики вообще характерным процессом является столкновение двух элементарных частиц с очень большой энергией. При таких столкновениях мы часто узнаём о существовании некоторых новых элементарных частиц, и это случается тем чаше, чем больше имеющаяся в наличии энергия. Лучше всего описать этот процесс следующим образом. Энергия столкновения используется статистическим образом на образование элементарных частиц и распределяется между этими частицами. Возникшие частицы имеют определённую массу и определённые другие свойства; некоторые из них являются хорошо известными элементарными частицами. Частицы одного и того же типа всегда идентичны по всем своим свойствам и в этом смысле едины, но они могут превращаться друг в друга.
Знания, приобретённые нами за последние годы, приводят нас, однако, вплотную к собственной цели атомистического учения. Мы теперь знаем то, что надеялись найти древние греки, а именно, что действительно существует только одна основная субстанция, из которой состоит всё существующее. Если давать этой субстанции наименование, то её можно назвать не иначе, как «энергия». Но эта субстанция — энергия — может существовать в различных формах. Она всегда проявляется дискретными порциями, которые мы рассматриваем как мельчайшие неделимые составные элементы всех веществ, и которые по чисто историческим соображениям называются не атомами, а элементарными частицами. Из основных форм энергии три формы отличаются особенной {98} устойчивостью: электроны, протоны и нейтроны. Материя в собственном смысле слова состоит из этих форм энергии, к чему всегда следует добавлять энергию движения. Кроме того, есть частицы, которые всегда движутся со скоростью света и представляют собой излучение; наконец, существуют другие неустойчивые формы, из которых до сих пор только немногие получили убедительное доказательство своего существования. Многообразие явлений нашего мира создаётся, подобно тому как это предвидели греческие натурфилософы, многообразием форм проявления энергии. А эти формы, если мы хотим их понять, необходимо, в свою очередь, представить в математических образах, в конечном счёте, просто посредством совокупности решений системы уравнений. И здесь мы вплотную подошли к решающей проблеме современной атомной теории. Математические образы, описывающие свойства элементарных частиц, известны ещё не полностью. Только знание этих математических образов откроет нам возможность предсказывать результаты экспериментов и управлять событиями в том же смысле, как и в прежней физике. Мы теперь также знаем, что с помощью установления одной субстанции мало чего можно достигнуть и что всё богатство мира заключено в формах. То, что до сих пор достигнуто в понимании материи, выражается, в конечном счёте, математическими уравнениями, ибо у нас нет другого языка, который бы располагал таким богатством форм. Таким образом, единственной задачей атомной физики на ближайшие годы или десятилетия будет дальнейшее экспериментальное открытие и последующая математическая обработка закономерностей природы, определяющих все свойства элементарных частиц и их соединений. Открытие, например, в космических лучах новой элементарной частицы представило бы нам новые сведения относительно этих законов. Если будут доведены до конца математические исследования по изучению свойств билинейных форм (употребляемых в современной атомной теории для выражения наблюдаемых величин), то мы сможем кое-что узнать о таких математических образах, которые позволят в будущей теории описать свойства элементарных частиц.
Здесь я должен сказать несколько слов о тех специфических трудностях, которые мы должны преодолеть. При любом математическом описании природы приходится {99} вводить некоторые математические величины, вроде координаты и скорости частицы в механике Ньютона. При помощи этих величин формулируются уравнения, выражающие законы природы. Если, однако, до сих пор и использовались какие-либо самые обычные величины, например координаты частицы, то при этом молчаливо предполагалось существование самой частицы. Но в действительности главным пунктом последних достижений атомной физики является открытие ею того факта, что частицы не обладают точно определёнными величинами; наоборот, мы сами должны ещё непосредственно удостовериться в их существовании и определить их свойства. Таким образом, нет никакого рационального смысла исходить из существования координат и массы определённых частиц. Но в таком случае из чего же следует исходить? По существу мы ещё не разработали такого математического аппарата, при помощи которого можно было бы охватить сложные явления в бесконечно малом. Правда, нам могут сказать, что хотя частицы и не имеют точно определённых величин, и мы сами должны их определять, тем не менее частицы занимают какое-то место и обладают какой-то массой, так что эти переменные могут, во всяком случае, входить в уравнения. Но действительно ли частицы занимают какое-то место? Конечно, они его занимают, и притом со значительной степенью точности, однако не будет ли здесь наблюдаться не только такое же, но возможно даже более резкое ограничение точности, чем это было раньше в квантовой механике? Отсюда можно себе представить, какие большие трудности должна здесь преодолеть атомная теория. Несмотря на это, можно надеяться, что в недалёком будущем мы сможем написать такое общее уравнение, из которого можно будет вывести свойства всех элементарных частиц, а тем самым и поведение материи вообще.
Если бы нам действительно удалось достигнуть такого положения, то атомное учение осуществило бы тем самым свою конечную цель. И здесь имеет смысл посмотреть, что, собственно, этим достигается. Прежде всего, стало бы понятным единство всего вещественного в том смысле, как это понималось в древнегреческом атомистическом учении. Мы увидели бы, что вся материя состоит из одной единственной субстанции — энергии, проявляющейся в различных формах. Совокупностью этих {100} форм можно овладеть при помощи совокупности решений системы уравнений. Это означает, что результаты экспериментов в атомной физике могли бы предсказываться теоретически, по крайней мере в принципе. Мы можем быть уверены, что эти математические формы будут применимы не только в специальных областях атомной физики, так как даже современная атомная физика содержит в себе — по крайней мере в принципе — химию, механику, оптику, учение о теплоте и учение об электричестве. А это несомненно останется справедливым и для атомной теории будущего. Употребляя здесь выражение «в принципе» в качестве ограничения, мы имеем в виду, что в подавляющем большинстве случаев полное математическое решение поставленной проблемы технически ещё невозможно, так как возникающие при этом трудности вычисления пока что не могут быть преодолены. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что решение основной проблемы даст большие практические результаты. Тем не менее выражение «в принципе» означает всё же, что решение основных вопросов может быть полезным почти во всех случаях, когда мы имеем дело с решением определённых частных проблем.
Здесь, однако, имеются два пункта, в связи с которыми может возникнуть вопрос: в какой мере современная атомная теория удовлетворила бы надежды древнегреческих философов? Математические образы, по представлению греков, — это наглядные геометрические формы, которые, так оказать, вычерчены в пустом пространстве атомами. Имеют ли подобную же наглядность математические формы нашей атомной теории? Далее, атомистическая теория греков претендовала на описание не только свойств неживой материи, но и всего существующего — в том числе психических процессов и поведения живых организмов, как чисто материальных процессов. Демокрит говорил, что «существуют только атомы и пустота». Ограничивается ли современное атомное учение более узкой областью, допускаем ли мы, что кроме атомов существует ещё нечто другое, например душа, или же и современное атомное учение также должно утверждать, что «существуют только атомы и пустота»?
Первый вопрос обсуждался уже много раз. Действительно, наша современная атомная физика значительно {101} менее наглядна, чем ожидали прежние естествоиспытатели. Но нас это нисколько не смущает, ибо сама природа нас учит, что именно такое отсутствие наглядности непосредственно и глубоко связано с существованием атомов. Указанную ситуацию можно было бы сформулировать (хотя я не совсем точно) следующим образом: образование, которое можно наглядно представить, не может быть неделимым; его можно разделить, по крайней мере мысленно, на более мелкие части. Принципиальная неделимость и однородность элементарных частиц делают совершенно понятным, почему математические формы атомного учения имеют очень малую наглядность. Показалось бы даже неестественным, если бы атомы, будучи лишёнными всех обычных свойств материи, вроде запаха, вкуса, твёрдости и т. д., в то же время полностью сохраняли бы геометрические свойства. Гораздо более вероятным было бы допустить, с некоторыми оговорками, конечно, что все эти свойства можно приписать атому. Лишь благодаря такому ограничению мы сможем, быть может, в дальнейшем теснее связать пространство и материю. Тогда бы два основных понятия — атом и пустое пространство — больше не стояли бы рядом не зависимыми друг от друга. Таким образом, в этом пункте наше атомное учение значительно более последовательно, чем учение древних греков.
На втором вопросе мы остановимся более подробно. Утверждение «существуют только атомы» означало для греков, что все явления — материальные и духовные — могут так или иначе рассматриваться как движение атомов. Это положение можно было бы применить и для современной физики, поскольку все процессы постоянно связаны с изменениями энергии и поэтому, вследствие атомистической структуры энергии, так же и с движением атомов. Однако, с другой стороны, понятия «душа» и «жизнь» не фигурируют в атомной физике; их нельзя непосредственно вывести как сложные следствия из каких-то законов природы. В принципе эти понятия принадлежат, во всяком случае, к области форм. Их существование не означает наличия какой-либо другой основной субстанции наряду с энергией, но лишь показывает действие другого рода форм, для которых, пожалуй, нет соответствующих математических образов в современной атомной физике. Отсюда следует, что математический {102} аппарат атомной физики ограничен в своих применениях определённой областью опыта; значит, если мы намереваемся описать процессы жизни или духовные процессы, то нам необходимо расширить этот математический аппарат. Вполне возможно, что это будет сделано путём введения наряду с прежними ещё других понятий, которые можно было бы без противоречий связать с ними. Возможно также, что возникнет необходимость сузить область понятий прежней атомной теории путём наложения на них особых новых условий. Такую расширенную теорию в обоих случаях можно было бы рассматривать как более широкую форму атомной теории, а не как особую теорию, которая описывает явления лишь принципиально иного рода.
Если мы расширим, таким образом, понятие атомной теории, то сразу же обнаружим, что мы бесконечно далеки от завершения так широко понимаемого атомного учения. В самом деле, это будет означать, что под словами «атомное учение» будет практически пониматься просто описание всей действительности, а такое описание, естественно, представляет собой бесконечно трудную, неразрешимую задачу. О завершении атомного учения через несколько лет или десятилетий можно было бы думать только в том случае, если употреблять эти слова в узком смысле, как мы делали выше. Оно должно иметь дело только со специфическими математическими построениями, служащими для закономерного описания свойств элементарных частиц и их превращений при высохих энергиях. Эти математические построения, возможно, применимы к широкой области, но мы не можем заранее определить величину этой области.
Если даже мы и будем употреблять слова «атомное учение» во втором смысле, то есть, что «существуют только атомы и пустота», то, как я пытался показать, такой материализм никоим образом не имеет той антидуховной окраски, которая в настоящее время обычно связызается со словом «материализм». Ещё вопрос — можно ли что называть материализмом? Мы должны с полной серьёзностью отнестить к следующему положению Демокрита:
«Подобно тому как трагедия и комедия могут быть написаны при помощи одних и тех же букв, так и многие различные явления этого мира могут быть произведены {103} одними и теми же атомами, поскольку они занимают различное положение и движутся различным образом», Важно, чтобы мы правильно поняли почерк атомов. Этот почерк не выдуман людьми; он означает нечто большее. Но если мы даже и полностью поймём его, мы всегда должны ясно себе представлять, что в трагедии или комедии важны не буквы, которыми они написаны, а содержание и что то же самое относится и к миру.
| {104} |
19 октября 1900 г., то есть почти 50 лет тому назад. Курлбаум и Рубенс сделали доклад о новом способе точных измерений теплового излучения. В отчёте Берлинского физического общества об этом заседании указывается, что в последовавшей затем дискуссии Планк говорил об уточнении «спектрального уравнения» Вина. Здесь, как выразился позже Макс Планк, его руками было посеяно зерно, которое на протяжении 50 лет приносило разнообразнейшие плоды.
Какова предистория этого уточнения «спектрального уравнения» Вина? Планк в течение многих лет занимался проблемой теплового излучения, то есть изучением того, что при нагревании тела раскаляются, испускают свет, причём тем более яркий и белый, чем они горячее. Излучение тел, поглощающих все падающие на них лучи (так называемых «чёрных тел»), должно было, согласно законам теплоты, зависеть исключительно от их температуры. Спектр теплового излучения теоретически можно было определить на основании учения об электричестве и теплоте; Однако до того времени этого не удавалось сделать. Более раннее исследование Рэлея при помощи физически, повидимому, вполне безупречных методов дало бессмысленный результат, в то время как полуэмпирическая формула Вина теоретически была не совсем понятна и к тому же не вполне соответствовала экспериментам. Планк пытался вычислить излучение, исходя из теплового равновесия электромагнитного поля и рассматриваемого как осциллятор идеализированного атома. При этом он получил простое отношение между так называемой энтропией осциллятора и энтропией излучения. Но к решению загадки теплового излучения он также не {105} приблизился. Планк долгое время верил в правильность закона Вина. Однако после новых измерений, предпринятых Курлбаумом и Рубенсом, результаты которых при больших длинах волн согласуются скорее с законом излучения Рэлея, чем с формулой Вина, Планк попытался применить формулу, являющуюся результатом интерполяции между обоими законами. При той физической формулировке, которую придал проблеме Планк, эта формула выглядела особенно просто. В настоящее время мы её записываем в виде
Eν = |
ν2 c2 |
· |
hν ehν/kT – 1 |
Планк сразу же, 19 октября 1900 г., сообщил эту формулу Рубенсу; Рубенс в ту же ночь сравнил её со своими измерениями. Формула оказалась в полном соответствии с измерениями в пределах их точности. Таким образом был открыт планковский закон излучения. С этого момента начался решающий период в творческом пути Макса Планка, а именно — его попытки физически истолковать и сделать понятной указанную формулу, считавшуюся первоначально не чем иным, как целесообразным изображением экспериментальных да,нных. Уже через 8 недель напряжённой работы Планк смог опубликовать её результаты. Он обнаружил, что относительно физического состояния колеблющегося заряда в атоме, находящемся в равновесии с излучением, необходимо сделать очень странное, но простое допущение; оно заключается в следующем: энергия осцилляторов всегда в целое число раз больше очень малого кванта энергии; для осциллятора частоты v это количество энергии имеет значение hν, где h — новая константа, имеющая размерность «действия»; сейчас мы называем h планковским квантом действия. Кроме того, планковская формула содержит больцмановскую константу k, и вследствие этого она впервые дала возможность точно, хотя и не прямо, определить размеры атома. Именно последнее достижение прежде всего и убедило физиков в правильности гипотезы Планка.
Таким обратим, из семени планковской формулы уже выросло маленькое растение, правда, очень странное и необычное, никак не укладывающееся в рамки физики {106} того времени. Признание прерывности в распределении энергии механических систем — осцилляторов — означало введение совершенно инородного тела в здание классической физики. Это напоминало особенно об атомарной, следовательно тоже прерывной, структуре материи, которая также была ещё не понятной. Противоречия между своей новой гипотезой и всей физикой Планк пытался смягчить при помощи дополнительных допущений, но это не дало никаких результатов. Пробивать же стены классической физики противоречило консервативному духу Планка, который в научном отношении очень хорошо себя чувствовал в ней. Поэтому в течение почти пяти лет квантовая гипотеза не развивалась.
В 1905 г. появился другой великий исследователь этой проблемы, юный и революционный дух которого готов был принести в жертву многое из давно испытанного, если бы только удалось проложить тем самым путь к достижению новых основополагающих знаний. Этим юным исследователем был Альберт Эйнштейн. Во главу угла он поставил то, что в гипотезе Планка казалось абсурдным и невероятным. Допущением, что и само световое излучение состоит из таких квантов энергии, ему удалось объяснить эксперименты Ленарда по фотоэлектрическому эффекту. Следовательно, по Эйнштейну, свет был не волновым излучением, как считалось в течение почти двух столетий, а потоком, состоящим из маленьких быстро летящих корпускул, световых квантов, которые при фотоэлектрическом эффекте могут выбить электроны из металлической пластинки. Тем самым противоречие между квантовой теорией и классической физикой было возведено в принцип, хотя это отнюдь не исключало возможности попыток объяснения.
Спустя два года Эйнштейн нашёл объяснение теплоёмкости твёрдых тел при помощи гипотезы Планка, а ещё двумя годами позже — в 1909 г. — он показал, что колебания в величинах энергии и импульса в поле излучения снова неизбежно ведут к гипотезе световых квантов. Но при всём этом квантовая гипотеза ничуть не лучше стала соответствовать общему зданию остальной физики Общее мнение физиков относительно квантовой теории сводилось тогда примерно к следующему: возможно, в этой теории «что-то должно быть», но с её помощью пока мало что можно сделать. {107}
Лишь немногие довольно скоро поняли огромную плодотворность новых воззрений. Из них следует назвать, прежде всего, Зоммерфельда. Он уже в 1911 г. высказал мысль, что при всех важных успехах, достигнутых в то время теорией относительности, подлинное будущее физики в ещё большей степени принадлежит квантовой теории. «Совсем по-новому актуальна, — сказал Зсммерфельд, — и проблематична теория квантов энергии, или, как я предпочитаю говорить, теория квантов действия. Здесь основные понятия находятся ещё в процессе становления и возникает масса проблем. Планк, открывший элементы энергии, намеревался в своей последней опубликованной работе о квантах излучения значительно изменить свои первоначальные воззрения. Эйнштейн вывел из открытия Планка далеко идущие следствия — между прочим, в том же самом 1905 г., ещё до открытия принципа относительности, — и, кроме квантования процессов излучения и поглощения, он стал квантовать световую энергию в пространстве; однако при всей свсей смелости он, как я полагаю, и до сих пор полностью не обосновал свою тогдашнюю точку зрения. Нернст, столь существенно расширивший фактический материал для учения о квантах энергии, развивает дальше первоначальные идеи Планка. Ничто не было бы так полезно для современной физики, как выяснение взглядов на эти вопросы. Именно здесь находится ключ к объяснению положения дел, причём не только к теории излучения, но и к молекулярному строению материи; этот ключ пока что остаётся далеко спрятанным». Уже последующие годы показали правоту пророчества Зоммерфельда.
Новый решающий шаг в развитии квантовой теории сделан в 1913 г. Ещё двумя годами раньше в Англии Резерфорд на основании своих экспериментов по прохождению α-частиц через материальную среду разработал модель атома. Согласно Резерфорду, атом состоит из положительно заряженного ядра, намного меньшего, чем атом, но содержащего почти всю его массу; вокруг ядра обращаются отрицательно заряженные электроны, подобно тому как планеты обращаются вокруг Солнца. Простейшим атомом является атом водорода, ядро которого состоит из одной положительно заряженной элементарной частицы, так называемого протона, и только одного обращающегося вокруг него электрона. К этой модели {108} атома водорода Бор применил гипотезу Планка. Благодаря смелому перенесению идей Планка с осциллятора на ядерную модель атома ему удалось объяснить излучение атома водорода, в частности знаменитую серию Бальмера в спектре водорода. По Бору, существуют дискретные стационарные состояния атомов, в которых атом не излучает и которые могут быть вычислены согласно классической механики, но при принятии дополнительных «квантовых условий». Излучение атома происходит благодаря тому, что он самопроизвольно переходит из одного стационарного состояния в другое — С меньшей энергией — и излучает разницу энергий в виде светового кванта. Частица излучаемого света определяется, следовательно, разницей энергий. Существование стационарных состояний вскоре было экспериментально подтверждено Франком и Герцем.
Таким образом, квантовая гипотеза стала связующим звеном между тремя большими областями исследования: атомной физикой, спектроскопией и химией. Работа Бсра с очевидностью показала, что квантовая теория должна быть ключом к пониманию всей атомной физики. Однако эта теория настолько мало ещё соответствовала зданию остальной физики, что о преодолении противоречий между ними нечего было, даже и думать.
В заключение своего знаменитого доклада о спектре водорода в Копенгагенской академии в 1913 г. Бор заявил: «Прежде чем закончить этот доклад, хотелось бы выразить надежду, что я высказывался достаточно ясно, чтобы можно было понять, в какой мере изложенные здесь взгляды противоречат изумительно связанному кругу представлений, по праву называющихся классической влектродинамикой. С другой стороны, я старался убедить вас в том, что именно путём выявления противоположности, может быть, удастся со временем внести определённую связность также и в новые представления».
Плодотворность новых представлений проявилась уже через два года, когда Зоммерфельду удалось — благодаря последовательному формулированию квантовых условий также для системы с нескслькимн степенями свободы и учёту теории относительности — объяснить тонкую структуру спектра водорода и рентгеновских спектров различных элементов. Решающий шаг, сделанный Зоммерфельдом в развитии квантовой теории, состоял в том, {109} что квантовые условия были применены им отдельно к различным степеням свободы системы, благодаря чему теория могла быть использована при исследовании тончайших деталей движения электронов.
Тем не менее, как ни убедительно было утверждение теории в целом, при сравнении с экспериментом выявлялись отдельные частности, которые далеко ещё не были тогда поняты; полностью объяснить их удалось лишь гораздо позже, с помощью теории спина электрона, а отчасти — только в самые последние годы, с помощью квантовой электродинамики. За работой Зоммерфельда вскоре последовало замечательное объяснение эффекта Штарка Эпштейном и Шварцшильдом и объяснение нормального эффекта Зеемана. Так называемое пространственное квантование, игравшее большую роль в исследованиях Зоммерфельда, только несколько лет спустя было экспериментально доказано Штерном и Герлахом в молекулярных пучках. Очень важна была также попытка Бора установить при помощи своего так называемого принципа соответствия хотя бы некоторую связь между квантовой теорией и классической физикой. Принцип соответствия представлял собой совершенно необычную в физике формулировку закона, поскольку он не имел никакого количественного выражения и являлся лрежде всего лишь предписанием того, как путём постоянного сравнения квантовой и классической теорий можно вывести количественные суждения об экспериментальных данных. Несмотря на это, принцип соответствия больше других достижений того времени подготовил почву для действительного понимания квантовой теории, которое при всех внешних успехах теории всё ещё отсутствовало.
С 1918 по 1922 г Бор на основе квантовой теории объяснил химические свойства атома; было описано строение атома и различные электронные орбиты обозначены квантовыми числами. Работа Бора основывалась лишь на принципе соответствия, а не на точных расчётах сложной задачи многих тел в тяжёлых атомах. Пример такой атомной модели даёт фиг. 1, на которой вычерчены квантовые орбиты отдельных оболочек и рядом указаны их квантовые числа. Я сам впервые стал заниматься квантовой теорией в этот наглядный период её развития, когда, будучи молодым студентом, в 1920 г. принял участие в семинаре Зоммерфельда. В то время
| {110} |
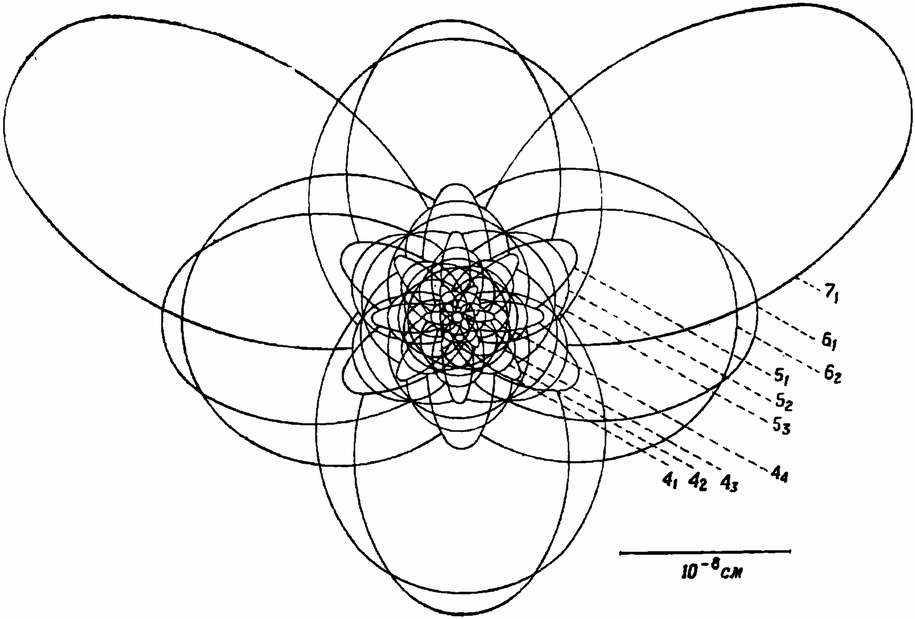 |
Фиг. 1. Квантовые орбиты некоторых оболочек для элемента радия-88 и соответствующие квантовые числа |
| {111} |
мы ожидали работ Бора, по меньшей мере, с тем же напряжением и с таким же пылом дискутировали о них, с каким сегодня ожидаются и обсуждаются последние известия из Кореи. Будучи студентами, мы в известной мере бессознательно ощущали, что и здесь, в работах Планка, Эйнштейна и Бора, разыгрывается кусочек мировой истории — правда, без заголовков в газетах и радиосообщений, но всё-таки такой эпизод мировой истории, который должен был оставить свои следы на столетия.
Однако эти работы раскрыли ещё яснее преходящий характер тогдашней квантовой теории. Ибо, с одной стороны, не могло быть никаких сомнений в качественной правильности представлений Бора, а с другой — сложный атом не поддавался никакому количественному расчёту. Тогда начали понимать, почему эта теория не могла быть вполне правильной. До сих пор энергии стационарного состояния вычислялись исходя из применимости классической механики, дополненной квантовыми условиями Бора — Зоммерфельда. Но для объяснения переходов из одного состояния в другое классическая механика и электродинамика теряли законную силу. При таком переходе частоты излучения вычислялись из энергетических условий. Эти частоты не согласовывались также и с собственными частотами движений электронов, что выглядело с точки зрения физики совершенно невероятным.
Особенно ясно вспоминается мне дискуссия в Гёттингене. Летом 1921 г. Бор был приглашён в Гёттинген на неделю докладов о его атомной теории. Речь шла о «чествовании Бора», как говорили мы, студенты. Мой учитель Зоммерфельд был так любезен, что взял меня с собой из Мюнхена в Гёттинген. Бор выступил с докладом о работе Крамерса, посвящённой расчёту поведения атомов водорода в слабых внешних электрических полях, то есть расчёту так называемого квадратичного эффекта Штарка. Свой доклад Бср закончил замечанием, что довольно многие части квантовой теории ещё неясны, однако можно быть уверенным, что результаты вычислений Крамерса будут соответствовать позднейшему эксперименту. Это мнение казалось мне неубедительным: ведь легко можно было показать, что вычисление для периодически ослабевающих полей должно быть неверным, так как для таких полей места резонансов определялись бы {112} неправильно, а именно, резонансы должны были бы происходить при частотах орбит, в то время как в действительности резонансы наступают, несомненно, при частотах излучения. Из этого сомнения возникла крайне поучительная для меня дискуссия; после этой дискуссии я узнал во время прогулки с Бором в Гайнберг, насколько неопределённо было всё здание квантовой теории, несмотря на все её успехи, и что до поры до времени можно было налагаться только на качественные указания принципа соответствия.
Решающими для дальнейшего развития квантовой теории в эти годы оказались две работы: во-первых, исследование Эйнштейна в 1918 г., в котором он значительно уточнил понятие вероятности перехода и дал вывод закона излучения Планка, используя лишь боровское условие частот и понятие вероятности перехода; эта работа была поводом к важному исследованию Крамерса по теории дисперсии; во-вторых, открытие эффекта Комптона в 1923 г. Комптон обнаружил при рассеянии рентгеновских лучей на электронах изменение цветности рассеянного света, которое нельзя было объяснить с помощью классической волновой тесрии света, но которое вытекает из теории световых квантов.
С этого, собственно, и начался кризис квантовой теории. В то время поняли, что строгое вычисление стационарных состояний атомов невозможно, так как полученные правильные результаты были в значительной степени лишь случайностью. Принцип соответствия служит надёжной путеводной нитью в области атомной физики, но пригодной лишь для качественных заключений. Из строгих законов были известны только воровское условие для частот и в самом общем виде — законы сохранения энергии и импульса в применении к представлению о световых квантах.
Провозглашённый Эйнштейном в 1905 г. дуализм в явлениях излучения, заключающийся в том, что свет представляет собой одновременно волновое и корпускулярное движение, во всей остроте встал на повестку дня.
Прежде чем были разрешены эти трудности, в те годы выли достигнуты ещё два крупных успеха, о которых мы упомянем здесь лишь предварительно.
Гаудсмит и Уленбек открыли, что тонкую структуру атомного спектра можно понять, если мы допустим, что {113} электрон обладает моментам количества движений, так называемым спином.
Паули смог показать, что последовательность элементов в периодической системе можно объяснить, если сделать простое допущение, что на каждой квантовой орбите может находиться только один электрон. Успехи этих работ показывали также, насколько близка к разрешению проблема квантов.
Кризис был преодолён двумя совершенно различными путями. Во-первых, гёттингенский кружок — Борн, Иордан и я — осуществил попытку дальнейшего уточнении принципа соответствия, исходя из доводов крамеровской дисперсионной теории Развивая эти доводы, мы пришли к выводу, что надо полностью отказаться от понятия электронной орбиты и вместо этого говорить о совокупности всех амплитуд излучения, что в классической теории может рассматриваться как некоторый эрзац электронной орбиты, а именно, как её Фурье-представление. Математически эта совокупность выражается в форме «матрицы». Само собой разумеется, математическое понятие «матрица» и правила матричной математики в то время были мне, к сожалению, неизвестны, так что я вынужден был брать их впервые в известной мере из физики. В июне 1925 г. мой учитель Борн, у которого я работал тогда ассистентом, послал меня на остров Гельголанд для поправки после болезни. Наряду с плаванием и другими развлечениями я использовал там время для выяснения того, в какой мере в уравнениях механической системы координаты и скорости могут заменяться соответствующими матрицами. К величайшему удивлению, мне удалось это полностью; в примере, который я тогда вычислил точно, в ангармоническом осцилляторе после тщательных вычислений в результате сам собой получился закон сохранения энергии. Математика неожиданно проявила себя «умнее» физики; и здесь мы опять встречаемся с тем случаем в теоретической физике, когда с помощью такой математики нападают на след новых зависимостей.
Позднее Борну, Иордану и Дираку полностью удалось проникнуть во внутреннюю структуру подобного рода математики и успешно применять математически законченную схему к расчёту атома. Я считаю очень важным подчеркнуть великую, но не всегда достаточно оцениваемую {114} в печати заслугу Борна и Иордана в математическом обосновании квантовой теории. В работах Борна и Иордана матричная механика впервые стала законченной математической системой.
Месяцем позже совсем другим путём той же цели достиг Шрёдингер. Француз де Бройль в 1924 г. снова воспользовался идеями Эйнштейна о дуализме корпускулярных и волновых картин и выдвинул гипотезу, что электрон также может выступать в виде волнового движения. Шрёдингер исследовал дифференциальное уравнение этого волнового движения, рассматривая стационарные состояния атома как стоячие волны, как собственные колебания рассматриваемой системы. Таким образом, ему также удалось найти математическую схему для расчёта атома, а несколько месяцев спустя он смог доказать, что эта схема математически эквивалентна матричной механике. Тем самым была открыта квантовая, или волновая, механика. Что она правильно изображает поведение атомов, то есть действительно может рассматриваться как математическое выражение гипотезы о квантах, очень скоро показали успехи последующих лет. Теперь уже нельзя было электронные орбиты представлять так, как показано на фиг. 1. Если же хотели вообще изобразить атом, то могли приблизительно дать распределение волновой амплитуды и её квадрата, дающего плотность отрицательно заряженного облака материи, окружающего атомное ядро. Картины нормального состояния и некоторых возбуждённых состояний атома водорода показаны на фиг. 2. Кроме того, немного лет спустя волновая природа материи была непосредственно экспериментально доказана прекрасными исследованиями Дэвиссона, Джермера и Томсона.
Теперь, однако, нужно было дать физическую интерпретацию этого вычислительного метода; дело в том, что понятия, с которыми оперировали тогда применительно к электронам и атомам, содержали ещё много противоречий. Существуют ли электронные орбиты или их нет? Существуют ли волны материи или речь идёт лишь о математических вспомогательных средствах, при помощи которых можно было вычислить вероятность наступления определённых явлений? Философским проникновением в теоретико-познавательные основы теории мы обязаны прежде всего Бору. С лета 1926 г. я работал в институте {115} Бора в Копенгагене, благодаря чему почти ежедневно имел возможность беседовать с ним о трудностях квантовой теории и слушать его. высказывания о том, как нужно разумно с точки зрения физики объяснять вновь созданные вычислительные методы. При этом я старался по возможности придерживаться наглядных понятий классической физики, то есть понятия частицы для
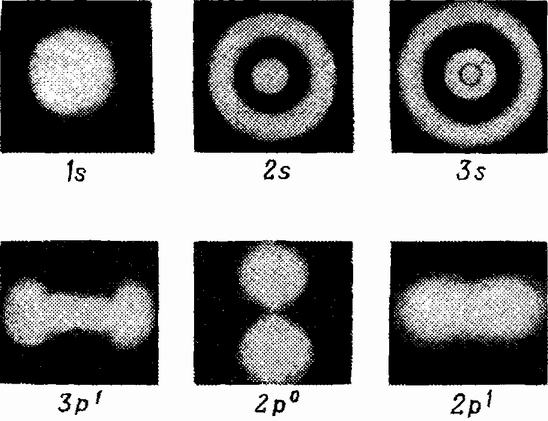 |
Фиг. 2. Атом водорода в основном н в возбуждённых состояниях. |
электронов, а те понятия, с которыми имеют дело, когда говорят об электронах, изменять лишь постольку, поскольку к этому вынуждали математические зависимости, в то время как Бор, наоборот, склонялся к тому, чтобы во главу угла поставить дуализм между понятиями волн и частиц. Мы обсуждали при этом большей частью такие мысленные эксперименты, в которых хорошо можно было изучить правомерность применяемых понятий, и в таком духе месяцами напряжённо работали над своими проблемами. Наши дискуссии начинались только поздно вечером, в уютной комнате на чердаке, занимаемой мной в институте Бора, и часто затягивались далеко за полночь, причём иногда они заканчивались полным отчаянием из-за непснятности квантовой теории уже в квартире Бора за стаканом портвейна. Так мы добивались своей цели различными путями. Не всегда легко удавалось нам прийти {116} к полной ясности, и это, быть может, явилось причиной того, что в феврале 1927 г. Бор один уехал отдыхать в Норвегию. В то время меня особенно занимал один мысленный эксперимент, предложенный мне несколько лет назад товарищем по учёбе из Гёттингена, сыном известного физика Друде: почему нельзя наблюдать орбиту электрона в атоме с помощью микроскопа высокой разрешающей силы, например микроскопа, способного давать изображение в γ-лучах? Обсуждение такого эксперимента, а также другие соображения довольно быстро привели к так называемому соотношению неопределённости. Когда я разговаривал о нём с Бором после его возвращения, мы также не сразу могли найти общий язык для объяснения теории, ибо за это время Бор развил понятие дополнительности, с помощью которого пытался осмыслить взаимоотношение между волновой и корпускулярной картинами. Но вскоре стало очевидно, что в основе мы были согласны с ним в понимании квантовой теории и что теперь все видимые противоречия в теории, очевидно, были устранены. Конечно, устранение противоречий было достигнуто ценой отказа от некоторых элементарных понятий классической физики. Новая квантовая теория имела дело, просто говоря, уже не непосредственно с природой, а с нашими знаниями о природе. Поскольку такие знания неизбежно оказываются неполными-, то статистический, случайный элемент не мог быть устранён и из новой теории. И к тому же эти знания не допускали объективирования простым способом. Новое понимание квантовой теории подверглось решающей проверке, когда осенью 1927 г. на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе произошла дискуссия об основах квантовой теории, продолжавшаяся в течение всех заседаний. Эта дискуссия вылилась в научный спор между Эйнштейном и Бором, во время которого Эйнштейн, проявляя исключительное остроумие, почти каждый день находил новый мысленный эксперимент, надеясь с его помощью доказать, что новое объяснение содержит внутренние противоречия или противоречит опыту. Бор же в продолжение всей дискуссии показывал, что и в новом, выдуманном Эйнштейном, эксперименте соотношение неопределённости также имеет место и, следовательно, противоречия избегаются. Так что нашей партии, я полагаю, удалось «победоносно отразить все нападения». Отзвук этой борьбы вы можете найти в прекрасной статье, которую {117} Нильс Бор поместил в сборнике в честь семидесятилетия со дня рождения Эйнштейна. Планк, великий создатель квантовой теории, занял в дискуссии выжидательную позицию. Перспектива, что его теория должна была привести к тому, чтобы оставить дорогую ему систему понятий классической физики, совсем не была для него приятной, и поэтому он склонен был рассматривать новую систему понятий квантовой теории как преходящую. Шрёдингер, который одно время надеялся, что его волновая механика может привести к атомной теории, столь же наглядной, как и максвелловская теория света, на первых порах тоже скептически отнёсся к новому истолкованию квантовой теории. Лишь более молодые учёные, Дирак и Паули, энергично поддерживали это толкование Речь шла в действительности не только о физическом эксперименте, но и об истинно философских позициях. Здесь боролось старое, укрепившееся со времени Декарта представление о разделении мира на объективный, развивающийся в пространстве и во времени мир и обособленную от него душу, в которой он отражается, против новых воззрений, в свете которых уже невозможно провести разделение таким примитивным способом.
После того как был упрочен фундамент квантовой теории, её здание начало быстро расширяться и развиваться. Уже в 1926 г. теория спектра гелия показала, что новой механике доступна проблема многих тел атомной физики. Дираковская теория электронов дала более удовлетворительное объяснение электронного спина, и соединение этого хода мыслей с принципом исключения Паули привело к вполне удовлетворительному объяснению периодичеокой системы элементов и атомных спектров Здесь обнаружилось, что применение теории групп в новой механике значительно облегчает понимание сложных атомных и молекулярных спектров. Я напомню здесь главным образом, о работах Вигнера и Хунда, а также о глубоких математических исследованиях, описанных в общих чертах Вейлем и Ван-дер-Варденом. Для практических расчётов атомных спектров и некоторых других свойств атома оказался применимым статистический метод Томаса и Ферми. Ещё лучшие численные приближения получаются при использовании методов Хартри и Фока, которые до самого последнего времени применяют ся с большим успехом даже в случае очень сложных атомов. {118}
Теория молекул и химических связей была разработана Лондоном и Гейтлером и дальше развита Хундом, Милликеном, Слейтером и Паулингом. Экспериментальное разделение водорода на орто- и пароводород, осуществлённое Бонхоффером и Хартеком, явилось прекрасным подтверждением квантовой теории. Особенно интересной областью применения новой квантовой теории оказалась также теория сопряжённых сложных связей Хюккеля, которая позднее была развита в Англии Леннард-Джонсом, Коулсоном и Рушбруком. В равной мере успешным также было применение квантовой теории в теории твёрдых тел и жидкостей. Зоммерфельд и его школа развили электронную теорию металлов. Блохом и Пайерлсом более точно была изучена электропроводность, а ферромагнетизм был истолкован как связывание электронных спинов под действием обменных сил. Что квантовая теория будет играть решающую роль в объяснении явлений сверхпроводимости и сверхтекучести, не подлежит никакому сомнению; но математическое рассмотрение жидкости так сложно, что до вполне удовлетворительного исследования пройдёт ещё известное время. Конечно, квантовая теория является также основой для теории атомного ядра, развивающейся с начала тридцатых годов; особенно поучительно применение старых положений этой теории в последние годы к оболочечному строению атомного ядра.
Таким образом, в последние десятилетия квантовая теория применялась в самых различных областях: в астрофизике, химии, в физике ядра и технике, особенно атомной технике; вместе с этим она стала, наконец, как и всякая прежняя здоровая ветвь физики, орудием человеческого знания, которое, подобно всякому другому, может быть употреблено как для добра, так и во зло.
Но в одном пункте фундамент квантовой теории тоже нуждается ещё в упрочении, и здесь уже с начала тридцатых годов происходит дальнейшее углубление. Речь идёт о так называемой квантовой теории волновых полей. В основном уже из прежних исследований Эйнштейна и де Бройля было очевидно, что применение квантовой теории к волновым полям привело бы к объяснению понятия частиц, то есть к объяснению атомарной структуры материи; тем самым давно известная прерывность, заключающаяся как раз в атомарной структуре материи, {119} объяснилась бы как следствие планковского кванта действия. Данная идея тщательно была разработана Иорданом, Паули, Клейном и Вигнером около 1930 г. При этом, несмотря на некоторые значительные успехи, они натолкнулись, однако, на новые и глубокие трудности, которые даже и сегодня ещё не вполне разрешены. Дело в том, что частицы, получаемые путём квантования волнового уравнения, согласно самой внутренней структуре применяемой здесь математики, являются точечными и не занимают объёма в пространстве. Тут никаких трудностей не возникает до тех пор, пока речь идёт о свободных частицах, не взаимодействующих с другими. Но как только будет допущено взаимодействие, сразу же появляется необходимость предполагать силы с сингулярными свойствами, если хотят совместить требования принципа причинности и специальной теории относительности с существованием точечных частиц. Однако такие силы не приводят к разумным результатам и свидетельствуют о противоречиях в математическом формализме.
Ясная точка зрения на проблемы, которые должны быть здесь разрешены, выработана лишь в последние четыре года. При этом выяснилось, что названные трудности в общем можно обойти, по крайней мере в квантовой электродинамике. Томонага, Швингер и Фейнман развили очень действенные математические методы и с их помощью показали, что трудности в квантовой электродинамике в большей мере могут быть исключены путём перенормировки массы и заряда электронов. Но в общем теория элементарных частиц должна будет, вероятно, отказаться ещё от некоторых понятий, которые бессознательно заимствовала наша прежняя квантовая теория от классической физики. Речь идёт о причинности в том специальном смысле, что явление может вызывать прямые следствия только в своём непосредственном пространственном и временном соседстве. Современное положение в теории элементарных частиц приводит к мысли о том, что — по крайней мере в областях пространственного протяжения в 10 –13 см или в интервалах времени порядка 10–23 сек. — эта простая связь может быть заменена более общими, выходящими за данные рамки связями. Следовательно, мы должны считаться с отклонениями от принципа причинности также и в тех случаях, когда прежняя квантовая теория функционирует ещё причинно; {120} например, могут быть процессы, в которых временная последовательность того, что происходит, кажется обратной по сравнению с обычными процессами. Точно не установлено, что отклонения не могут иметь места также и в больших областях, поскольку речь идёт о процессах, при которых отдельным элементарным частицам будет передано очень много энергии. Дело в том, что такие процессы редки и экспериментально о них известно ещё очень мало.
Таким образом, в указанном пункте проходит в настоящее время, собственно, «передовая линия» квантовой теории. На этой линии общими усилиями трудятся физики самых различных стран. В области, только что упомянутой нами, важные работы опубликовали, например, в Мюнхене Бопп, в Швейцарии Паули и Штюкельберг, в Японии Томонага и Юкава, в Америке Швингер, Фейнман и Дайсон. Конец этого развития пока ещё не виден, но его направление известно. Несомненно, законченная теория элементарных частиц покажет, что существование этих частиц, их свойства и их взаимодействия вытекают из квантовой теории Планка. Различные элементарные частицы появляются благодаря квантованию системы «материи», подобно тому как стационарные состояния атома водорода являются следствием квантования уравнений движения электрона. Прерывность, которая наблюдается в природе при проникновении в очень маленькие области и которая выражается, например, в атомарной структуре материи, является, следовательно, вообще следствием квантовой теории. Нет никакого сомнения, что с дальнейшим развитием квантовой теории ещё глубже можно будет проникнуть в изучение теории познания.
Таким образом, зерно, посеянное Максом Планком, выросло за это время в огромное дерево, которое приносит всё новые и новые плоды, а его корни всё глубже проникают в почву человеческого знания. В заключение стоит представить себе мысленно всё развитие в целом, весь путь, который ведёт от формулы Планка к атомной физике и оттуда — в химию, астрономию, математику и атомную технику. В последние десятилетия нам очень часто говорили, что мышление и поиски смысла сами по себе ничего не дают. Лишь тот, говорят нам, может изменить и обогатить мир, кто приступает к нему с борьбой {121} и трудом, а не отвернувшийся от него мечтатель, предающийся абстрактным размышлениям. И если в будущем вам снова скажут об этом, — а ведь существует ещё немало людей, которые действительно так думают, — то вспомните о формуле, впервые написанной 50 лет назад, и подумайте обо всём том, что она дала миру.
| {122} |
Дорогие друзья!
Часто говорят, что наука является оредством связи между народами и служит их взаимопониманию. Вполне справедливо всегда подчёркивается, что наука интернациональна и что она направляет мышление человека на вопросы, которые близки многим народам и в решении которых могут в равной мере принимать участие учёные самых различных наций, рас и религий. Однако, говоря сейчас об этой важной роли науки, нельзя слишком упрощать данный вопрос. Мы должны обсудить и противоположное утверждение, которое ещё свежо в нашей памяти, — утверждение, что наука национальна, что мышление разных рас существенно различно, следовательно, различна и их наука. Далее, считалось, что наука должна была, прежде всего, служить своему собственному народу в способствовать укреплению его политической власти.. Во-первых, говорили сторонники этого взгляда, наука образует основу техники, а следовательно, основу всякого прогресса и военной мощи; во-вторых, задача чистой науки состоит в том, чтобы поддерживать то мировоззрение и ту веру, которые рассматривались как основа политической власти своего собственного народа. Какая же из этих точек зрения правильна и насколько убедительны аргументы, приводимые в пользу каждой из них?
1. Чтобы выяснить этот вопрос, нужно, прежде всего, знать, как собственно развивается наука, каким образом у человека возникает интерес к той или иной научной проблеме и как он сталкивается с людьми, которые, как и он, заинтересовались ею. Так как я хорошо знаю только свою специальную науку, то будет простительно, если я буду, прежде всего, говорить об атомной физике {123} и расскажу вам о моих занятиях в этой области в студенческие годы.
Когда я в 1920 г. окончил школу и поступил в Мюнхенский университет, положение молодёжи в то время очень напоминало настоящее. Поражение в первой мировой войне вызвало глубокое разочарование в тех идеалах, во имя которых велась проигранная война. Идеалы эти стали казаться бессодержательными, и мы сочли себя вправе самостоятельно искать ответ на вопрос о том, что в этом мире ценно и что не имеет никакой цены, не спрашивая об этом наших родителей и учителей. При этом наряду со многими другими ценностями мы как бы заново открыли науку. Изучив несколько популярных книг, я заинтересовался вопросом о природе атомов и захотел разобраться в тех необычайных утверждениях о пространстве и времени, которые выдвигались тогда теорией относительности. Я начал посещать лекции Зоммерфельда. впоследствии ставшего моим учителем, который ещё больше усилил во мне этот интерес и от которого в течение семестра я узнал о новом, более глубоком понимании атомов, развитом благодаря исследованиям Рентгена и Планка, Резерфорда и Бора. Я узнал, что датчанин Нильс Бор и англичанин Резерфорд представляли себе строение атома в виде миниатюрной планетарной системы и предполагали, что все химические свойства элементов когда-нибудь удастся вывести с помощью теории Бора из планетарных орбит электронов, чего, однако, в то время достигнуть ещё не удавалось. Этот последний пункт, естественно, заинтересовал меня больше всего, и каждая нсвая работа Бора придирчиво и страстно обсуждалась на семинарах в Мюнхене. Можете себе представить, что для меня значило приглашение Зоммерфельда поехать лётом 1921 г. вместе с ним в Гёттинген слушать цикл лекций Нильса Бора о его атомной теории, которые он собирался прочесть в этом самом университетском здании. Цикл лекций в Гёттингене, названный впоследствии «Фестивалем Бора», во многом определил моё отношение к науке и особенно к атомной физике.
Прежде всего, мы могли почувствовать в лекциях Бора всю силу мысли человека, который действительно глубоко овладел этими проблемами и понимал их так, как никто другой во всём мире. По некоторым пунктам я уже и раньше, в Мюнхене, имел определённое мнение, отличное от того, что говорил по этому поводу Бор в своих {124} докладах. Эти вопросы были основательно обсуждены с ним во время совместных прогулок в окрестностях Рона и Гейнберга.
Эти беседы произвели на меня сильное впечатление. Я тогда понял, что если кто-либо пытается выяснить строение атома, то совершенно безразлично, кто он — немец, датчанин или англичанин. Я усвоил также и нечто, быть может, ещё более важное: в науке всегда можно, в конце концов, решить, что правильно и что ложно; она имеет дело не с верой, мировоззрением или гипотезой, но, в конечном счёте, с теми или иными определёнными утверждениями, из которых одни правильны, другие неправильны, причём вопрос о том, что правильно и что неправильно, решают не вера, не происхождение, не расовая принадлежность, а сама природа или, если хотите, бог, но во всяком случае не люди.
Обогащённый всем этим, я вернулся в Мюнхен и под руководством Зоммерфельда продолжал заниматься своими экспериментами по исследованию строения атома. Сдав экзамен на учёную степень доктора, я поехал осенью 1924 г. в Копенгаген для того, чтобы на средства так называемого рокфеллеровского фонда работать у Бора. Здесь я вошёл в круг молодёжи самых различных национальностей — англичан, американцев, шведов, норвежцев, датчан и японцев. Все они хотели работать над одной и той же проблемой — атомной теорией Бора. Они почти всегда собирались вместе, подобно большой семье, чтобы отправиться на экскурсию, организовать игры, товарищеские беседы или заняться спортом. В кругу этих физиков-атомников я имел возможность по-настоящему узнать людей других национальностей и их образ мышления. Необходимость изучать иностранные языки и разговаривать на них послужила толчком для знакомства с другим образом жизни, с иностранной литературой и искусством, благодаря чему я стал лучше понимать и отношения внутри своей страны. Для меня становилось всё яснее, как мало значат национальные и расовые различия, когда общие усилия сосредоточиваются на трудной научной проблеме. Различие в образе мышления, которое так ясно сказывается в искусстве, казалось мне фактором, скорее обогащающим наши возможности, чем ослабляющим их.
Летом 1925 г. я поехал в Кембридж и там в колледже, в лаборатории русского физика Капицы, сделал {125} сообщение о своей тогдашней работе небольшому кружку теоретиков. Среди присутствующих находился необычайно талантливый, едва достигший 23 лет, студент, который взялся за мою проблему и в течение нескольких месяцев разработал законченную квантовую теорию атомной оболочки. Это был Дирак — человек с выдающимися математическими способностями. Его образ мышления значительно отличался от моего, его математические методы были изящнее и оригинальнее по сравнению с теми, которыми мы пользовались в Гёттингене. Однако, в конечном счёте, он пришёл в самых существенных пунктах к тем же результатам, к каким пришли здесь, в Гёттингене, Бор, Иордан и я; или, иначе говоря, наши результаты взаимно дополняли друг друга самым превосходным образом. Этот факт служит новым доказательством «объективности» науки и её независимости от языка, расы или веры учёного.
Гёттинген, наряду с Копенгагеном и Кембриджем, оставался центром этой интернациональной семьи физиков-атомников, работавших здесь под руководством Франка, Борна, Паули. В то время в Гёттингене учились многие из тех учёных, о которых вы теперь читаете в газетах в связи с атомной бомбой, например Оппенгеймер, Блэккет и Ферми.
Я привёл эти личные воспоминания только для того, чтобы показать вам на примере, какова в действительности интернациональная общность науки. Такая общность имела, конечно, место в течение столетий и во многих других отраслях науки; семья атомных физиков не является каким-то исключением. Можно было бы сослаться и на многие другие интернациональные группы учёных из истории науки, которые, преодолевая границы наций, были связаны общей работой.
Вспоминая о Лейбнице, годовщина которого отмечается в текущем году1, и об основании Академии наук, я мог бы указать на одну такую группу учёных, которые в XVII в. основали в Европе математическое естествознание. Я хотел бы привести несколько высказываний Дильтея, характеризующих ту эпоху:
«Среда тех немногих людей, которые посвятили свою жизнь этой новой науке, установились взаимоотношения, {126} не ограниченные национальными или языковыми различиями. Они образовали новую аристократию и сознавали это, подобно тому как в эпоху Ренессанса гуманисты и художники чувствовали себя такой аристократией. Латинский, а позднее французский языки сделали возможным лёгкое взаимопонимание, и эти языки стал» средством мировой научной литературы. Уже около середины XVII в. Париж стал центром совместной работы философов и естествоиспытателей. Гассенди, Мерсенн и Гоббс обменивались здесь своими идеями, и даже гордый затворник Декарт на время присоединился к этому кружку. Его присутствие оказало неизгладимое впечатление на Гоббса и позднее на Лейбница; именно здесь оба они прониклись духом математического естествознания. Позднее другим таким центром стал Лондон...»
Таким образом, можно видеть, что наука шла поэтому пути на протяжении всей истории и что «Республика учёных» всегда играла важную роль в жизни Европы. Казалось самоочевидным, что принадлежность к такому интернациональному кружку не лишает отдельного учёного возможности преданно служить своему народу и чувствовать себя представителем своего народа. Наоборот, такое расширение умственного кругозора часто заставляет нас особенно ценить лучшие стороны жизни своей собственной страны. Учёный начинает больше любить свою родину и сильнее чувствовать свою обязанность перед ней.
2. Теперь я должен перейти к вопросу о том, почему всё это научное сотрудничество, все эти истинно человеческие взаимоотношения, повидимому, имеют так мало значения, когда речь идёт о преодолении вражды и предотвращении войн.
Здесь, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что наука представляет собой только незначительную частицу общественной жизни и что только очень небольшая группа людей в каждой стране действительно занята наукой. Политику же определяют более значительные силы: движение широких масс народа, их экономическое положение, борьба за власть небольших привилегированных групп, поддерживаемых традицией. Эти силы до сих пор всегда подавляли тех немногих людей, которые были готовы обсудить спорные вопросы научным путём, то есть объективно, беспристрастно, по существу и в духе взаимного {127} понимания. Влияние науки на политику всегда было незначительно, и этот факт сам по себе вполне понятен. Однако он часто ставит учёного в такое положение, которое в известном смысле более трудно, чем положение любой другой группы людей. Наука благодаря своим практическим результатам оказывает очень большое влияние на жизнь народа. Благосостояние народа к политическая власть зависят от состояния науки, и учёный не может игнорировать эти практические результаты, даже если его собственные интересы в науке проистекают из другого, так сказать, более возвышенного источника. Таким образом, действия отдельного учёного часто оказывают гораздо большее влияние, чем ему хотелось бы, и он нередко вынужден решать в соответствии со своей совестью, что считать хорошим и что плохим. Когда разногласия между народами примирить невозможно, учёный вынужден, часто с болью в душе, делать выбор — отойти ли ему от своего народа или от друзей, с которыми он связан общей работой. Правда, в этом отношении положение в разных науках несколько различно. Врач, который просто лечит другого человека, безразлично какой нации, может более легко согласовать свою деятельность с требованиями государства и своей собственной совести, чем физик, открытия которого могут привести к производству орудий разрушения. Но в той или иной степени затруднение всегда остаётся. С одной стороны, государство обязывает науку служить прежде всего практическим потребностям своего собственного народа и, следовательно, помогать укреплению его собственной политической власти. С другой стороны, имеется обязанность учёного перед своей работой, которая связывает его с людьми других национальностей.
В течение последних десятилетий положение учёного по отношению к государству сильно изменилось. В первой мировой войне учёные были так тесно связаны со своими государствами, что академии зачастую исключали из своих рядов учёных других стран, выносили решения в свою пользу против интересов другой нации. Всё это едва ли имело место во время второй мировой войны. Международные связи учёных многих стран были настолько крепки, что на этой почве во многих странах возникали трения между ними и их собственным правительством. С одной стороны, учёные требовали беспристрастного и независимого от идеологии права оценивать {128} политику своего правительства. С другой стороны, в некоторых странах государство смотрело на интернациональные взаимосвязи учёных с глубоким недоверием так что иногда учёный считался узником своей собственной страны и его интернациональные связи трактовались как нечто аморальное. Несмотря на это, теперь стало почти обычным, что учёные, где только возможно, помогают своим коллегам, даже в том случае, если последние принадлежат враждебной стране. Это развитие означает, может быть, благоприятное усиление интернациональных взаимосвязей, но при этом необходимо позаботиться о том, чтобы оно не привело к опасной волне недоверия и вражды широких масс народа по отношению к учёному миру.
Подобные трудности имели место и в предшествующие столетия, когда люди науки, в противоположность представителям политической власти, защищали принцип терпимости и независимости от догм. Достаточно вспомнить Галилея и Джордано Бруно. Но, может быть, в наше время эти трудности приобретают ещё большее значение, чем раньше, вследствие тех практических успехов науки, которые могут непосредственно решать судьбу миллионов людей.
Здесь я подошёл к одной из самых мрачных сторон нашей современной жизни, которую требуется тщательно изучить для того, чтобы правильно действовать. Я имею в виду не только новый, недавно открытый источник энергии, который может привести к невообразимым разрушениям. Новые возможности воздействовать на природу угрожают нам во многих других областях. Правда, химические средства разрушения жизни не употреблялись, например, в прошедшей войне. Но и в биологии мы добились такого глубокого проникновения в процессы наследственности, в структуру и химизм больших белковых молекул, что стало вполне возможным искусственное возбуждение опаснейших заразных болезней и даже воздействие на биологическое развитие человека путём некоторого, заранее предопределённого нами разведения. Наконец, люди могут подвергаться психическим воздействиям, которые в случае, если они осуществляются на основе научных данных, могут привести к серьёзным душевным расстройствам большой массы народа. Создаётся впечатление, что наука, так сказать, широким фронтом {129} подходит к той области, в которой жизнь и смерть всего человечества самым ужасной образом могут оказаться в зависимости от небольшой группы людей. До сих пор журналистский сенсационный стиль, в котором газеты сообщали обо всём этом, мешал тому, чтобы люди осознали величайшую опасность, которая угрожает им в связи с дальнейшим неизбежным развитием науки. Задача науки состоит, пожалуй, как раз в том, чтобы пробудить в людях чувство того, насколько опасным стал этот мир, показать им, как важно, чтобы все люди, независимо от их национальности и идеологии, объединились для отражения этой опасности. Конечно, об этом гораздо легче говорить, чем делать, но несомненно, что больше нельзя уклоняться от решения этой задачи.
Но каждый отдельный учёный, однако, стоит перед горькой необходимостью решить наедине со своей совестью, что хорошо, или вернее даже, что менее вредно. Мы не можем игнорировать того факта, что большие массы народа, а также те власть имущие, кто ими управляет, часто поступают неразумно, под влиянием слепого предубеждения. Кто сообщает им научные знания, тот легко может попасть в положение, которое Шиллер выразил в следующих словах:
«Горе тем, кто дарит небесный факел вечно слепым; он им не светит, но может только сжечь и испепелить города и страды».
Может ли наука при таком положении действительно содействовать взаимопониманию народов? Она способна привести в действие громадные силы, большие, чем когда-либо имелись в распоряжении человека, но эти силы приведут к хаосу, если они не будут разумно регулироваться.
3. Тем самым я подошёл к подлинным задачам науки. Только что описанное мною развитие, при котором открытые человекам силы природы обращаются против него самого, вызывая колоссальные разрушения, несомненно связано с некоторыми духовными явлениями нашего времени; о них я сейчас и буду говорить.
Вернёмся на несколько столетий назад. В конце средних веков человечество установило, что кроме христианской действительности, центром которой является божественное откровение, есть ещё другая действительность, открываемая в материальном опыте, то есть «объективная» {130} действительность, воспринимаемая нами посредством чувств или экспериментов в процессе исследования природы. Однако при этом проникновении в новую область действительности некоторые основные формы мышления остались неизменными. Мир состоял из вещей, находящихся в пространстве н изменяющихся во времени в соответствин с причиной и действием. Кроме этого, существовала ещё духовная область, то есть действительность нашей собственной души, которая отражает внешний мир подобно более или менее правильному зеркалу. Хотя эта действительность нового времени, картина которой давалась естествознанием, и отличалась от христианской действительности, она, тем не менее, изображала божественный мировой порядок, в котором люди с их делами и поступками стояли на твёрдой почве и не сомневались относительно смысла своей жизни. Мир был бесконечен в пространстве и времени; в известной мере он заменял бога или благодаря своей бесконечности становился, по крайней мере, символом божественного.
Но и эта картина мира была отвергнута в нашем столетии. В той мере, в какой практическая деятельность выдвинулась на первый план в картине мира, основные формы мышления стали терять своё значение. Даже время и пространство стали предметом опыта и потеряли своё символическое значение. В науке всё более и более приходили к выводу, что наше понимание мира не может начинаться с некоторого определённого знания, что оно не может быть построено на каком-то незыблемом основании, но что всё знание, так сказать, парит над бездонной пропастью
Этому развитию в области науки, вероятно, соответствует в жизни человека всё возрастающее ощущение относительности всех ценностей; такое ощущение, возникшее несколько десятилетий назад, в конце концов может легко привести к скептицизму, с его вечным вопросом отчаяния — «зачем?». Так развивается «нигилизм», вера в ничто. С этой точки зрения жизнь представляется бессмысленной или, в лучшем случае, приключением, которое с нами случается независимо от наших действий. Наихудшей формой нигилизма, с которой мы встречаемся в настоящее время во многих частях мира, является иллюзионистский нигилизм, как назвал его недавно {131} Вейцзекер, — нигилизм, полный иллюзий и самообмана.
Характерной чертой любого нигилистического направления является отсутствие твёрдой общей основы, которая направляла бы в каждом случае деятельность личности. В жизни отдельного человека это проявляется в том, что человек теряет инстинктивное чувство правильного и ложного, иллюзорного и реального. В жизни народов это приводит к странным явлениям, когда огромные силы, собранные для достижения определённой цели, неожиданно изменяют своё направление и в своём разрушительном действии приводят к результатам, совершенно противоположным поставленной цели. При этом люди часто настолько бывают ослеплены ненавистью, что они с цинизмом наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая плечами.
Я уже сказал, что такое изменение воззрений людей, повидимому, стоит в некоторой связи с развитием научного мышления. Поэтому следует поставить вопрос: не утратила ли и наука свою регулирующую твёрдую основу, как её утратили другие области жизни? Необходимо совершенно определённо и ясно подчеркнуть, что об этом не может быть и речи. Наоборот, состояние современной науки является, вероятно, самым сильным из имеющихся в нашем распоряжении аргументов в пользу более оптимистических взглядов перед лицом великих мировых проблем.
Даже в тех областях науки, в которых, как я уже сказал, мы обнаружили, что наше знание «парит над бездонной пропастью», достигнуто кристально ясное и окончательное упорядочение явлений. Это упорядочение так ясно и обладает такой силой убеждения, что учёные самых различных народов и рас воспринимают его как несомненную основу всего дальнейшего мышлений и познания. Конечно, в науке также бывают ошибки, и может потребоваться много времени, чтобы обнаружить их и исправить. Но мы можем быть совершенно уверены, что, в конце концов, будет твёрдо установлено, что правильно и что ложно. Это решение не будет зависеть от веры, расы или происхождения учёного; оно будет определяться высшей силой и будет принято всеми людьми и на все времена. Если в политической жизни людей нельзя избежать постоянной переоценки ценностей, борьбы одних иллюзий и ложных идеалов с другими иллюзиями и {132} ложными идеалами, то в науке мы, в конце концов, всегда можем выяснить, что имеем дело либо с истинным, либо с ложным. Здесь имеется не зависящая от наших желаний высшая сила, которая решает и судит окончательно. Существо науки, по моему мнению, составляет область чистой науки, которая не связана с практическими применениями. В ней, если можно так выразиться, чистое мышление пытается познать скрытую гармонию мира. В этой сокровенной области, где наука и искусство едва ли могут разделяться, может быть, есть место и современному человечеству, которое найдёт здесь чистую истину, не затемнённую своей идеологией и своими желаниями.
Конечно, вы можете возразить, что эта область недоступна широким массам народа и что поэтому она может оказать незначительное влияние на его поведение. Но массы и прежде никогда не имели доступа к этой центральной области, и, может быть, теперь народ будет удовлетворён знанием того, что хотя эти ворота открыты и не для каждого, тем не менее по ту сторону ворот не может быть никакого обмана; там всё решает высшая сила, а не мы. В прежние времена люди по-разному говорили об этой центральной области; они употребляли понятия «смысл» или «бог», или прибегали к сравнению, звукам, картинам. Имеется много путей к этому центру и в наши дни, и наука — только один из них. Однако в настоящее время, может быть, вообще нет общепринятого языка, на котором мы могли бы понятно для всех говорить об этой области; поэтому-то многие о ней ничего не знают. Но от этого существо дела не меняется; мировой порядок, как и в прежние времена, может определяться только этой областью — через посредство тех людей, для которых открыт доступ в неё.
Итак, если наука должна способствовать взаимопониманию народов, то этого она может достичь не своим практическим значением, не благодеянием, оказываемым ею, например больным, и не страхом, которым она вынуждает признать политическую власть, но лишь проникновением в эту центральную область, благодаря чему упорядочивается мир в целом, может быть, просто вследствие того, что мир прекрасен. Может показаться преувеличением придавать такое значение современной науке. Но разрешите заметить, что, хотя мы и имеем {133} основание во многих отношениях завидовать предшествующим эпохам, однако в научных достижениях, в чистом познании мира наше время не уступает ни одной эпохе человеческой истории.
Что бы ни случилось, человечество сохранит во все последующие десятилетия живой интерес к познанию. Даже если этот интерес будет на некоторое время затемнён практическими результатами науки и борьбой за власть, тем не менее он должен, в конечном счёте, опять восторжествовать и связать воедино народы всех наций и рас. Люди будут счастливы во всех частях земного шара, когда они достигнут нового знания, и они будут благодарны тому человеку, который впервые открыл его.
Дорогие друзья, вы собрались здесь для того, чтобы в своём кругу содействовать взаимному пониманию народов. Нет лучшего пути осуществить это, чем стремление с непринуждённостью и непосредственностью молодости познакомиться с людьми других наций, с их мыслями и чувствами. Лучше всего вы осуществите это, если своими научными занятиями поможете распространению того серьёзного и неподкупного образа мышления, без которого невозможно никакое понимание, и если вы будете и вне пределов науки чувствовать и ценить те вещи, от которых, собственно, всё зависит и о которых так трудно говорить.
| {134} |
1 В основу русского перевода книги В. Гейзенберга положено это американское издание, вышедшее под незнанием „Philosophic Problems of Nuclear Science”; перевод сверен с 8-м немецким изданием: „Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft” (1949 г). Настоящее издание дополнено статьёй В. Гейзенберга „Пятьдесят лет квантовой теории”, опубликованной в журнале „Die Naturwissenschaften”, № 3, 1951 г.; перевод этой статьи с немецкого сделан А. И. Уемовым.
1 Речь, произнесённая на первом объединённом заседании съезда «Общества немецких естествоиспытателей и врачей» в Ганновере 17 сентября 1934 г.; впервые опубликована в „Naturwissenschaften” 1934, 22 Jahrg., Heft 40.
1 Доклад, прочитанный на заседании Саксонской академии наук 19 сентября 1932 г. (опубликован в Berichten der ath.-phys. Klasse, Bd. 85, 1933).
1 Рlatоnis. Rei publicae libri gesem, 1884, 516, с и d, стр. 204.
1 Рlatоnis. Gimaeus at critias, 1888. 38–39, стр. 342.
1 Тем самым. — Прим. ред.
1 По определению.— Прим. ред.
1 Лекция, прочитанная в Венском университете 27 ноября 1935 г.
1 Впервые опубликовано в журнале „Die Antika”, Bd. XIII.
1 Лекция, прочитанная в Будапеште 5 мая 1941 г.
1 Лекция, прочитанная в Лейпцигском университете 26 ноября 1941 г.
1 Общее образование. — Прим. ред.
1 Лекция, прочитанная в Высшей технической школе в Цюрихе 9 июля 1948 г.
1 Доклад, прочитанный 23 октября 1950 г. в Мюнхене на собрании немецких естествоиспытателей и врачей.
1 Речь, произнесённая перед студентами Гёттингенского университета 13 июля 1946 г.
1 Имеется в виду исполнившееся в 1946 г. трёхсотлетие со дня рождения Лейбница — Прим. ред.
Н. Ф. Овчинников. Предисловие ко второму изданию. Полвека спустя | III |
И. В. Кузнецов. Вернер Гейзенберг и его философские позиции в физике . | XXXI |
3 | |
20 | |
34 | |
47 | |
54 | |
72 | |
90 | |
105 | |
123 |