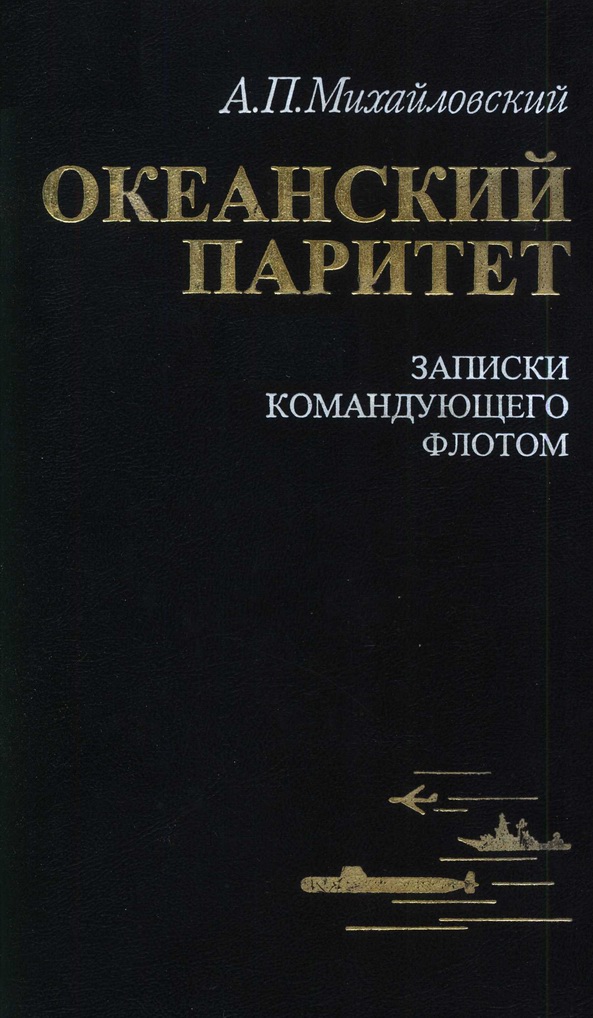
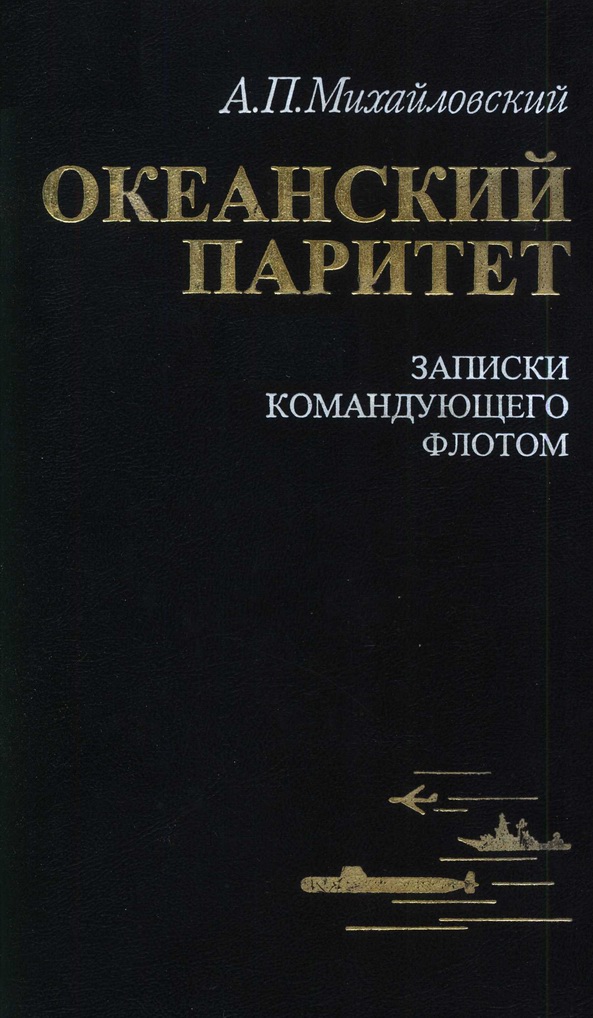

|
А.П.Михайловский ОКЕАНСКИЙ ЗАПИСКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
| {1} |
ББК 68.66
М 69
Герой Советского Союза адмирал А. П. Михайловский, автор «Вертикального всплытия», «Рабочей глубины» и «Адмиралтейской иглы» — рассказов-воспоминаний о жизни и службе на флоте, — в новой книге обращается к событиям 80-х годов минувшего столетия, когда он командовал Северным флотом.
Живая манера изложения делает «Записки» адмирала доступными не только морякам, но и широкому кругу читателей.
Издание осуществлено при поддержке
Федерального государственного унитарного предприятия
ЦНИИ «Электроприбор»,
Государственного научного центра Российской Федерации
|
ТП-2002-П-73 ISBN 5-02-028536-6 |
© А. П. Михайловский, 2002 © Издательство «Наука», 2002 |
| {2} |
|
Доблестным североморцам, |
«Холодная война» — так намеревался я назвать книгу о том периоде службы, когда, оказавшись на вершине своей военной карьеры, имел честь командовать Северным флотом в годы максимального развития его боевой мощи. Именно такое название я неосторожно пообещал в авторском обращении к читателям «Адмиралтейской иглы». Однако годы последующей работы заставили меня изменить заголовок книги.
Как известно, «холодной войной» именовали агрессивную политику империалистических держав, проводившуюся их руководителями против Советского Союза и других социалистических государств. Провозглашённая в марте 1946 года премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в американском городе Фултоне политика «холодной войны» была направлена на преднамеренное обострение международной напряжённости, на создание и поддержание угрозы возникновения новой «горячей» войны.
Формирование НАТО, окружение Советского Союза военными базами и океанскими группировками, рост военных расходов, гонка обычных и ядерных вооружений, подрывная деятельность и идеологические диверсии внутри социалистических и развивающихся стран, постоянная угроза и периодическая демонстрация применения силы в различных регионах мира, ядерный шантаж — основные составляющие политики «холодной войны».
Советский Союз в ту пору ни с кем не воевал. Он лишь противостоял агрессивным проискам на суше и на море, создавая силу против силы, укреплял Советскую Армию и Военно-Морской Флот. Всё, чем были заняты Вооружённые Силы нашей страны в те годы, никак нельзя назвать войной, пусть даже и «холодной». Тем более не укладывается в это определение деятельность крупнейшего оперативно-стратегического объединения на океанском атлантическом направлении, каковым является Северный флот. В кратчайший исторический срок наша страна, опираясь на достижения советской науки и социалистической экономики, сумела построить могучий {3} океанский ракетно-ядерный флот, ставший передовым стратегическим эшелоном Вооружённых Сил СССР.
И нам удавалось поддерживать стратегическое равновесие в Мировом океане.
Повесть о том, как жили и служили североморцы — мои товарищи по оружию — не о «холодной войне». Я хочу рассказать лишь о нескольких эпизодах, показать только малую частицу того огромного воинского труда, который не давал так называемым «ведущим» морским державам чувствовать себя хозяевами в океане.
Поэтому, следуя традиции репортажа из прошлого, не отступая от изначального замысла — говорить только о тех событиях, свидетелем и участником которых был лично, не претендуя на всестороннее разрешение поставленных проблем, я выношу на суд читателей эти «Записки».
Адмирал А. Михайловский
Санкт-Петербург, 2001 г.
| {4} |
Экспресс «Полярная стрела», погромыхивая колёсами на рельсовых стыках, всё дальше уносил меня от ярких огней Ленинграда в непроглядную темень декабрьской ночи. За окном спального вагона лишь изредка мелькают огоньки разъездов, скупо освещая косые струи мокрого снега, ползущего по стеклу. Погода — хуже не придумаешь. Аэропорт в Мурманске закрыт по метеоусловиям. Однако министр обороны потребовал отправляться в Североморск, к новому месту службы, не мешкая. Потому еду поездом. Так надёжнее и, честно говоря, приятнее.
В двухместном купе, где я пребываю в спокойном одиночестве, тепло и уютно. Верхний свет выключен. Лишь ночничок над головой освещает столик с дымящимся стаканом крепкого чая. Вагонные рессоры, покачивая, располагают к безмятежному отдыху. Но мне не спится: одолевают приятные и тревожные мысли о том, что служебный зигзаг, загнавший океанского подводника в «Маркизову лужу» и роскошь адмиралтейских интерьеров, завершился.
События последних дней развивались столь стремительно, что ни я, ни друзья и сослуживцы не успели даже осознать случившегося. В одночасье собрав чемоданчик, я укатил, даже не передав своих обязанностей преемнику, поскольку он ещё и назначен не был. Даже жена не смогла завершить семейные дела, чтобы уехать вместе со мной. Обещала, правда, появиться в Североморске до наступления Нового года — 1982-го.
Всякие попытки сослуживцев организовать ритуальные проводы с напутственными тостами — пресёк на корню. Только и успел, что посетить Смольный и Мариинский, с тем чтобы нанести официальные визиты Григорию Романову и Льву Зайкову. Впрочем, накануне отъезда старый приятель Юрий Сохацкий появился под вечер в Адмиралтействе, бубня о том, что если уж за пару лет в Ленинграде нам вместе ни разу толком выпить не удалось, то что говорить, когда впереди Север. {5}
Потом Юра извлёк из портфеля бутылку коньяка и решительно поставил её передо мной на стол. И хотя прощание с Ленинградом и вступление в новую должность с мирскими усладами не совместимо, — тут случай особый: «услада» была больше духовная.
Уединившись в комнате отдыха, мы посидели полчасика, воскресив в памяти какие-то забавные эпизоды из совместной подводной службы, — как-то сожжённые штаны Якова Криворучко, находкинские причалы или бакинские духаны, — осилить вдвоём одну бутылку так и не смогли.
— Слабунца назначили... Как же ты командовать будешь? — изрёк Юра Сохацкий, отодвигая недопитый коньяк.
Теперь, под перестук колёс, я почему-то вспомнил и этого «слабунца», и многие другие, казалось бы, плохо связанные между собой отрывочные суждения и лица. И, конечно же, был рад, что вот нашлось, оказывается, место для меня на любимом флоте.
Министр обороны, Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов, вручая мне три дня назад им же подписанный документ в красном сафьяновом переплёте, удостоверяющий, что «Предъявитель сего адмирал Михайловский Аркадий Петрович, «командующий Северным флотом», — сказал:
— Ваша задача — в мирное время поддерживать стратегический паритет в Атлантике и Арктике, а в случае войны — отсечь Европу от Америки.
Разволнуешься тут! Вся жизнь проносится перед глазами. Кажется совсем недавно грохот теплушек воинского эшелона, уносящего меня из детства в грозный 1941 год, навеки связал с флотом. Однако с той поры минуло 40 лет. Сколько воды утекло! Много всякого было. И рвотная пятибальная зыбь на Каспии, и лязг механизмов подачи боезапаса в орудийной башне черноморского крейсера «Красный Кавказ», и триумф точных залпов главного калибра балтийского эсминца «Вице-адмирал Дрозд», и горечь штурманской несостоятельности на борту порт-артурской «Щуки».
Разве можно забыть ужас океанского дыхания гигантской волны в Окинавском проливе или восторг сбывшейся «мечты идиота» на мостике «Малютки» в заливе Америка? Незабываемы впервые пережитые штормы, самостоятельные торпедные атаки, строгие и взыскательные подводные учителя. Одни только хождения по «большому кругу» через всю Россию чего стоят! Или океанский поход в Атлантику? А муки творчества над проблемами подводного мастерства? Или освоение физики и техники ядерных реакторов? А потом баллистические пуски и крылатые залпы...
Совершенно особое место в моей жизни заняли трансарктические походы, приполярные плавания, многократные {6} всплытия в полыньях и разводьях Ледовитого океана. Но главное — это «боевая служба», когда сотни подчинённых мне подводных экипажей проходили на рабочей глубине миллионы морских миль во всех океанах и многих морях планеты, неся караул по охране мирного и свободного труда народов Советского Союза.
Боевая служба научила многому, унося порою жизни десятков товарищей по оружию. Горькими пластами лежит на сердце память о них, потому что не сумел предостеречь, предотвратить, помочь. В то же время боевая служба вселяла уверенность, что в напряжённые годы холодной войны силы флота, заблаговременно и постоянно развёрнутые в оперативно важных районах океана, обладают грозным оружием, которое в руках профессионалов сработает именно там и тогда, когда этого потребует необходимость защиты независимости и интересов страны.
Последние годы, пока командовал Ленинградской военно-морской базой, прибавили опыта партийной, государственной и общественной работы на разных уровнях — вплоть до Верховного Совета республики. Эти годы позволили освоить практику реального взаимодействия с войсками и авиацией, а также различными структурами военно-промышленного комплекса. Такого рода служба заставила в полной мере почувствовать вкус самостоятельности и ответственности.
Теперь меня ждал новый участок длинного служебного флотского пути. Всё это — не только моя профессия, но и сама жизнь, о которой определённо можно сказать: удалась.
Мне везёт. Думал ли московский пацан, обтягивая стаксель-шкот на борту швертбота, бороздящего гладь Клязьменского водохранилища, что придётся ему командовать океанским флотом великой страны? Куда там! Даже командир атомного подводного ракетоносца, проламывающего рубкой ледяной покров полыньи в центральной Арктике, о подобном всплеске служебной карьеры не помышлял. А тут — поди ж ты — доверили не просто флот, но наиболее мощный, технически совершенный, самый молодой среди военных флотов Советского Союза. Гордиться надо и говорить спасибо судьбе.
Однако, почему именно на моей персоне сошлись взгляды высокого начальства? Ведь были же и другие кандидатуры. К примеру, вице-адмирал Владимир Кругляков уже шестой год служит в должности первого заместителя командующего Северным флотом. Прекрасный моряк, хороший организатор, опытный военачальник. Казалось бы, соблюдая принцип преемственности, именно ему следовало принять командование. Ан нет.
В чём тут загвоздка? Неужели в том, что Кругляков — в прошлом командир эскадры крупных надводных кораблей, в {7} то время как ныне главной ударной силой Северного флота являются атомные подводные лодки? Недаром, видимо, мои предшественники — адмиралы А.Чабаненко, В.Касатонов, Г.Егоров, В. Чернавин — имеют «подводную родословную». Впрочем, всеми уважаемый Семён Михайлович Лобов был надводником, что не мешало ему великолепно командовать флотом.
Откуда, однако, подобные мысли? Чего больше в них — здравого смысла или досужего умысла? Сам-то я после Ленинградской военно-морской базы, кто такой? Пора бы уж бывшему «оголтелому подводнику» прекратить несерьёзное деление и оценку морских офицеров по их профессиональной ориентации. Подлодки хотя и являются главной ударной силой, но надводные корабли в составе флота более многочисленны и задачи выполняют не менее серьёзные. Без них невозможно развитие и применение корабельной авиации и, следовательно, бесполезны надежды на господство в воздухе над морем. На одном подводном энтузиазме далеко не уедешь.
Впрочем, ведь не один Кругляков достоин внимания. Есть ещё такие великолепные командиры и давние мои сослуживцы, ныне начальники штабов Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, как вице-адмиралы Вадим Коробов, Рудольф Голосов, Константин Макаров. Все они — опытные подводники-атомщики, имеющие великолепную морскую выучку, прошедшие незаурядную школу командно-штабной работы. Любой из них — чем не командующий?.. Мал стаж в нынешней должности? Так что с того? Я вот начальником штаба флота вообще не был.
Да сколько их, преданных делу, прекрасно образованных и великолепно владеющих профессией моряков служит отчизне! Разве такие «зубры», как ныне действующие командующие атомными флотилиями вице-адмиралы Лев Матушкин или Евгений Чернов не достойны возглавить флот? К тому же все упомянутые моложе меня, что весьма существенно. Повезло в Ленинграде, где мои заместители и помощники оказались ещё старше. А вот в Североморске я буду не только старшим по званию, но, к сожалению, и самым старым среди сослуживцев. Ведь уже до шестидесяти совсем не далеко... В таком возрасте большинство моих предшественников заканчивало службу на Севере. А тут — на тебе!
Так что же повлияло на выбор? Долголетняя приверженность корабельной службе? Пренебрежение личными удобствами и материальными благами? Стремление к самостоятельности, умение брать на себя ответственность за результаты решения новых, неведомых, порой авантюрных, задач? Но всё это, пожалуй, чисто мои домыслы, или моё восприятие себя. Подобные качества хороши разве что для командира корабля, {8} в крайнем случае — дивизии. Однако они совершенно недостаточны, чтобы командовать флотом...
При моём назначении, естественно, первое слово было за Главкомом, который знал меня с давних пор. Министр же знал меня плохо, а если и знал, то с недавних пор. Само решение — по процедуре назначения — принимал Совет Министров СССР с одобрения Центрального Комитета КПСС, для которых флотская романтика — не основание.
Ну что ж! Думай не думай, а кадровых тайн никто мне не откроет и причин назначения объяснять не станет.
Чай давно остыл, я незаметно уснул, экспресс «Полярная стрела» уверенно мчал прямо на север. Но и во сне окутанные юношеской романтикой мысли о сбывшейся мечте и предстоящей сложной, но столь желанной работе не давали покоя.
Утром, если можно так назвать едва брезжущие сумерки заполярного полудня, проводник спального вагона предложил завтрак. Перекусив, я принялся уже более серьёзно осмысливать ситуацию. Проклятые вопросы, многократно решаемые в прошлом, — кто я теперь? соответствую ли? с чего начать? — будоражат с новой силой.
Первый вопрос наивен, но не так-то прост. Мне, разумеется, хорошо известно, что командующий флотом — должностное лицо, возглавляющее оперативно-стратегическое объединение Вооружённых Сил СССР на одном из океанских или морских театров военных действий: Северном, Тихоокеанском, Балтийском или Чёрном. Его штатная категория — адмирал флота, а в военное время — Адмирал Флота Советского Союза. В служебной иерархии он находится на одном уровне с командующим войсками фронта (в мирное время — военного округа), подчиняется Верховному Главнокомандующему через министра обороны и Главкома ВМФ, является прямым начальником всего личного состава флота, выполняет командные, дисциплинарные и административно-хозяйственные функции в отношении подчинённых объединений, соединений, кораблей, частей и учреждений. В соответствии с практикой военно-морской службы командующий наделён огромной властью, многочисленными правами, предусмотренными воинскими уставами, различными наставлениями, специальными положениями.
Однако единого документа, определяющего круг обязанностей и степень ответственности командующего флотом, как ни странно, не существует. В этом я имел возможность неоднократно убедиться за 8 лет службы в должностях командующего флотилией и командира Ленинградской ВМБ.
В своё время, тщательно и с удовлетворением изучая многочисленные, но совершенно конкретные служебные {9} обязанности (к примеру, командира корабля или соединения), изложенные в Боевом и Корабельном уставах, я уяснял, что и как нужно делать в море и в базе, в бою и в мирных условиях, при авариях и происшествиях, при постройке или ремонте корабля, а также в случае приёма и сдачи должности. Это удовлетворяло, поскольку в уставах всё расписано до мелочей. «Живи по уставу — завоюешь честь и славу», — гласил незамысловатый лозунг моей командирской молодости.
А теперь? Вот те на! В соответствии с требованиями Центрального Комитета КПСС, Правительства СССР, министра обороны и Главкома ВМФ, отражёнными в многочисленных постановлениях, директивах и приказах, я, как командующий флотом, отвечаю за всё! Да, отныне я головой отвечаю за боевую и мобилизационную готовность Северного флота, его боевую службу в Атлантике и Арктике, которую флот несёт в такие сложные времена, как эти годы «холодной войны». В моём ведении оперативная, боевая и мобилизационная подготовка сил и штабов, изучение и освоение оперативно-важных районов океана и прилегающих морей, оборудование возможного театра военных действий, развитие системы базирования, судоремонта, аэродромной сети. Я обязан обеспечить должную организацию корабельной службы, безопасность плавания, полётов, эксплуатацию оружия и техники, исправность кораблей, самолётов и береговых сооружений.
Мне надлежит заботиться о своевременном и полном обеспечении подчинённых соединений и частей всеми видами довольствия, о должном развитии социальной инфраструктуры гарнизонов, строительстве жилья, культурном и торговом обслуживании, о чистоте и порядке на улицах и площадях военных городков.
Наконец, важнейшим направлением моей будущей деятельности, а значит и предстоящей ответственности, являются люди — адмиралы и офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и матросы, рабочие и служащие, а также члены их семей. Я отвечаю за их обучение и воспитание, моральное состояние и воинскую дисциплину, здоровье и настроение. Именно мне предстоит заниматься подбором и расстановкой флотских кадров, продвигая вверх способных и достойных, наказывая ленивых или нерадивых. Последнее, честно говоря — самая несимпатичная обязанность комфлота.
Ну а в военное время, если уж такое выпадет на мою долю, придётся руководить подготовкой и ведением операций, организовывать взаимодействие и обеспечение, ликвидировать последствия ударов противника, восстанавливать боеготовность, пополнять боевые потери...
Вот так! Ни больше и ни меньше, поскольку единоначалие — важнейший принцип военного строительства и управления {10} в Вооружённых Силах СССР, при котором командиры и начальники различных степеней, наделённые всей полнотой исполнительной власти по отношению к подчинённым, несут полную личную ответственность за все стороны жизни и деятельности сил и войск.
На этом принципе я воспитывался, почитай, с детства, с лагеря на острове Валаам. Затем применял его многократно в различных, порой экстремальных, ситуациях. Привык. К тому же при упоминании о единоначалии многие знакомые политработники обычно с улыбкой добавляли: — «Конечно единоначалие, но ведь на партийной основе».
Фигура командующего флотом от века была уважаема среди моряков именно потому, что не каждый из них становился способным подняться на этот высокий пост. Даже отличному, просоленному всеми ветрами мореходу нужны для того особые качества. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И что лукавить, — конечно, и я, кадровый офицер, мечтал об адмиральской должности...
Ещё в Ленинграде, узнав о новом очередном назначении, сделал себе выписку из петровского «Устава морского», с тем чтобы, обращаясь во глубину веков, к истории Флота Российского, полнее осознать высоту того командирского мостика, на который занесла меня капризная судьба.
«Генерал-Адмирал, или Аншеф командующий над флотом, — гласит Устав, — презентует персону своего Государя. Ему должны быть все послушны в делах, к пользе государства касаемых. Ему подобает быть храбру, иметь квалитеты (сиречь качества) с добродеянием связанные. Ибо командующий не токмо твёрдыми указами людей в добрый порядок приводит, но паче образом своего житья вразумляет.
Его храбрость сочиняет всех храбрых, ревность — всех ревнительных. Его справедливость умножает послушание. Единым словом вышний командир, как душа в теле человека, без которой никакой уд двинуться не может.
Во власти адмиральской давать указы не токмо о какой над неприятелем экспедиции. Но и в своей команде, ежели что важное, должен делать на письме, а не на словах, дабы кто, что противно учинит, яснее обличён, а исполнитель указа оправдан быть мог.
В прочих делах командующий над флотом консилии иметь обязан, смотреть правосудия, удаляться от сребролюбия и похлебства. Ему надлежит к подчинённым быть яко отцу, пещися об их довольстве, жалобы их слушать и во оных правый суд иметь. Так же дела их накрепко смотреть, добрыя похвалить и награждать, а злыя наказывать.
Он должен репортовать о всём своему Государю и в Адмиралтейскую Коллегию, а за всё ответ держать». {11}
Вот ведь как умели выражать мысли встарь! Не дурнее нас были люди!
Тем временем косые струи мокрого снега за окном спального вагона сменились изморозью на толстом стекле. За ним угадывались контуры ландшафта, присыпанного добрым слоем снега. Декабрьская ночь казалась от этого чуточку светлее. Огни на станциях и разъездах искрились звёздными лучами в морозном воздухе. Выхваченные из темноты фрагменты древесных крон, покрытых инеем, напоминали мохнатых сказочных зверей. Наш экспресс стремительно приближался к полярному кругу.
Рассуждения на тему о различных сторонах предстоящей служебной деятельности оказались настолько злободневными, что прервать их смогло только чувство голода. Накинув поверх форменной рубашки легкомысленный вязаный джемпер, подаренный недавно женой, я двинулся в вагон-ресторан, но, войдя, остановился. Сказать, что в вагоне дым стоял коромыслом, было бы преувеличением. Однако шумная компания суровых на вид, бородатых рыбаков обострила внимание и заставила осмотреться.
За ближайшим столиком с батареей пивных бутылок уставилась на меня пребывающая в состоянии анабиоза небритая и мрачная личность, облачённая в потрёпанный свитер с расхлыстанным воротом.
— Дикарь Атлантики желает веселиться, — изрёк носитель свитера и, схватив непочатую бутылку пива, зубами сорвал с неё железную укупорку.
— Прошу, капитан! — двинул он бутылку к пустующему стулу за своим столом.
Вагон качнулся на перепутке, громыхнули колёса, а мой собеседник начал заваливаться на левый бок, но, к счастью, удержался за столешницу.
Оценив обстановку, я почёл за благо коротко кивнуть и, повернувшись кругом, удалиться. Возвратясь в купе, с минуту размышлял о том, что лет двадцать тому назад вполне способен был разделить компанию с подобным «дикарём Атлантики» и скоротать треть пути от Мурманска до Питера за столиком вагона-ресторана. А теперь? Пренебрёг, видите ли... Или растерял бойцовские качества? Дипломатические рауты периода ленинградской службы больше нравятся? Каких «квалитетов» тебе не хватает?
Ограничив потребности бутылкой боржоми и скромной снедью, которой жена снабдила в дорогу, я завалился на вагонный диванчик и принялся снова и снова размышлять о том, какие же именно конкретные качества должны быть присущи «аншеф командующему над флотом» в современных условиях. {12}
Вспомнил, как в далёком 1943 году купил на скромную получку курсанта-первокурсника для своей будущей личной библиотеки первую книжку. Ею оказались «Рассуждения по вопросам морской тактики» вице-адмирала С. О. Макарова, выдающегося русского моряка, флотоводца и учёного, ставшего кумиром моей флотской юности. Эту книгу я повсюду возил за собой. Неоднократно перечитывал её полностью и отрывками, будучи курсантом, затем лейтенантом, потом командиром корабля и, наконец, командующим атомной флотилией. Каждый раз находил в ней нечто новое, волнующее, интересное, полезное для нынешнего служебно-возрастного состояния. Не даром, видимо, огромная надпись «ПОМНИ ВОЙНУ!», принятая адмиралом девизом его трудов, красовалась в 60-х годах на 150-метровой отвесной гранитной скале возле дороги, ведущей в Малую Лопатку — место базирования первого отряда отечественных подводных атомоходов.
Перед отъездом я сунул макаровские «Рассуждения» в дорожный чемодан, а сейчас с удовольствием извлёк этот знакомый, потрёпанный томик с многочисленными пометками на полях, сделанными в разные годы. Устроившись поудобнее, принялся листать те странички, где Степан Осипович напрямую рассматривает «качества, которые желательны в командующем флотом». Таковыми, по мнению автора, являются: характер, ум, глазомер, морской глаз, познания, здоровье, справедливость.
Макаров очерчивает также «качества, которые должны иметь матросы», относя к ним: здоровье, выносливость, привычку к дисциплине, привычку к морю, смелость, познания. При этом адмирал отмечает, что все остальные должности на флоте требуют и тех и других качеств, ибо каждому приходится начальствовать над одними и подчиняться другим.
Листая «Рассуждения», дополняя их мыслями, почерпнутыми у сослуживцев, а также личными соображениями, я попытался нарисовать структуру качеств современного командующего флотом, с тем чтобы волей-неволей сопоставить их с особенностями собственной персоны. Увлёкся настолько, что даже набросал в блокноте некие заметки. Вот что получилось.
Адмирал Макаров, опираясь на высказывания различных военных авторитетов — Суворова, Наполеона, Нельсона, Жомини, Скобелева, — полагает, что первейшим качеством флотоводца является его характер, который господствует над умом. При этом человек идёт к определённой цели и имеет шансы её достигнуть. Когда же ум берёт верх над характером, то это ведёт к частой перемене намерений, предположений и направлений. Обширный ум склонен ежеминутно смотреть на вопрос с новой точки зрения. Если сила воли не в состоянии положить конец этим колебаниям, то неизбежно балансирование {13} между разными решениями или неприятие никакого, что и есть самое худшее. Вместо того чтобы приближаться к цели, нерешительность от неё всё более удаляет и, наконец, сбивает с толку.
Трудно не согласиться с адмиралом. Однако какими же именно чертами характера должен обладать командующий флотом? На этот вопрос прямого ответа в «Рассуждениях» нет. Попробую разобраться сам.
Характер человека, как совокупность духовных и психических свойств, определяет его отношение к окружающей действительности и проявляется в реальном поведении среди других людей. Черты характера возможно обозначить великим множеством прилагательных, таких, например, как мягкий или твёрдый, слабый или сильный, робкий или решительный, безвольный или волевой. Характер может быть спокойным, выдержанным или, наоборот, взбаломошным, грубым, буйным, дерзким. Упрямый человек значительно отличается от настойчивого, колеблющийся — от непреклонного, покладистый — от скандального, хладнокровный — от невыдержанного. Существенными чертами характера являются женственность или мужественность, доброта или жестокость, трусость или отвага.
Продолжать можно до бесконечности, тем более, что русский язык богат определениями, и нет, видимо, необходимости перечислять возможные словосочетания, соответствующие многочисленным чертам великого множества реальных людей. Меня ведь интересуют черты неординарного характера, которым должен, по-видимому, обладать командующий флотом.
Характер командующего — это его норов, склад души, совокупность свойств личности, черт психики, особенностей мышления. Он (характер) проявляется в отношении к складывающейся обстановке, собственным начальникам и подчинённым, реальному противнику, поставленным задачам, достигнутым результатам. Характер командующего определяется его конкретным поведением, иначе говоря, приказами и поступками, решениями и действиями.
Большинство известных мне командующих обладали, по личным наблюдениям, твёрдым, волевым, мужественным характером.
Твёрдость проявлялась в способности не кланяться обстоятельствам, не терять форму под давлением внешних воздействий, не поддаваться эмоциям, не менять без крайней надобности единожды принятого решения.
Воля командующего позволяет сознательно, перебирая альтернативы, принимать нестандартные решения и управлять собственным поведением, от переживания типа «мне {14} хотелось бы» до твёрдого — «я должен!». Воля заставляет преодолевать трудности, реализовывать решения, достигать цели.
Мужество командующего, предполагающее не мгновенный порыв, но длительное напряжение, устойчивые психические и физические усилия, необходимые для сохранения самообладания и выдержки в беде и борьбе, духовная крепость, спокойная смелость — способствуют успеху.
Очень хотелось бы обладать подобным характером. Всю жизнь занимался самовоспитанием, да и начальники мои совместно с подчинёнными руку приложили. Иногда получалось, порой срывался. Но что в итоге — судить не мне. Самооценка тут плохой помощник.
Ум флотоводца, по мнению адмирала Макарова, является вторым важнейшим личностным качеством, от которого зависит многое. Именно сочетание ума и характера делает человека военачальником. Однако я так и не нашёл на страницах книги Степана Осиповича Макарова его суждений о том, каким должен быть склад ума у командующего флотом.
Ум человека выражается, по моему мнению, способностью отражать окружающий мир, воспринимаемый через ощущения. Способность эта позволяет анализировать результаты полученного опыта, подвергать всё сомнению, рассуждать, делать выводы и проверять их на практике. Таким образом вырабатываются знания о тех объектах или процессах, их свойствах и связях, которые не могут быть получены путём непосредственного наблюдения.
На мой взгляд, ум (как общее понятие) складывается из рассудка и разума. При этом рассудок, оперируя готовыми, давно сложившимися знаниями, обычно выражает способность к размышлению, составлению и усвоению понятий, правил на уровне так называемого здравого смысла. С помощью рассудка возможно постигать истину без её логического обоснования, но с опорой на предшествующий опыт. Важнейшие инструменты рассудка — чутьё, проницательность, интуиция.
В то же время разум, или, как говорится, «царь в голове» (иными словами, высший уровень познавательной деятельности) проявляется в способности мыслить творчески, в соответствии с законами логики, порождать оригинальные идеи, новые знания, уникальные теории. Разум способен разрешать трудные проблемы, находить выходы из противоречивых ситуаций.
Для человека с преимущественно рассудочным складом ума характерно наличие огромного жизненного опыта, конкретного мышления, реальных критериев оценки действительности. Время на размышления у него, как правило, ограничено. Человек, обладающий здравым рассудком, зачастую не претендует на выдающиеся открытия, но совершает множество {15} вполне обоснованных поступков, полезных для себя и окружающих людей. Такой человек почти всегда доволен своим умом, но редко удовлетворён собственным общественным положением, желая лучшего.
В то же время творческая личность, порой способная на безрассудство и наплевательское отношение к общественному мнению, нередко порождает значительные, и даже гениальные идеи. Такой разум, опираясь на обширные знания, выработанные наукой, стремится к абстракции, поиску истины вне суждений здравого смысла. Этот поиск обычно не ограничен временем и пространством, рамками идеологии или религии. Настоящий разум редко бывает удовлетворён собственными знаниями.
Соотношение рассудка и разума в сознании человека, именуемое нередко складом ума, делает этот ум либо обыденным, либо оригинальным, т. е. либо рутинным, либо творческим. При этом мышление может оказаться предметным или абстрактным, словесным или образным, интуитивным или аналитическим.
По моим представлениям, склад ума командующего флотом, его рассудок и разум желательно иметь сбалансированным, предметным, прагматичным, реалистическим. Словом, доктором наук командующий флотом может и не быть, но соображать обязан.
И всё же «искра божья» в уме человека уж больно хороша. Адмирал Макаров оставил след в душах моряков, да и всех русских людей, не только тем, что геройски погиб на борту броненосца «Петропавловск», подорвавшись на вражеской мине при обороне Порт-Артура в русско-японской войне 1904–1905 годов. С.О. Макаров — наиболее талантливый и всесторонне образованный представитель русского флота своего времени. Он многого достиг в развитии теории корабля, его живучести и непотопляемости.
При жизни адмирал Макаров редко удовлетворялся достигнутым. Он даже недооценивал собственные знания, однако его разум порождал новые знания, ставшие достоянием военно-морской науки.
Кстати, познания, представляющие собой совокупность проверенных практикой результатов мышления, по мнению адмирала Макарова, занимают третье место в ряду приоритетов, определяющих качества командующего флотом. Знания накапливаются человеком всю жизнь. Особенно на флоте, где все моряки, от лейтенанта до адмирала, должны непрерывно и целеустремлённо учиться. Без этого флотская карьера неосуществима.
Познания военачальника, полагал Макаров, не должны подразумевать обширной учёности. Особенно глубоко следует {16} вникать в руководящие «правила». В то же время познания начальника на море должны быть иными, чем на сухом пути. А глазомер сухопутный недостаточен, чтобы ясно взвешивать обстоятельства, способные возникнуть в морском деле.
Мне трудно спорить с Макаровым, тем более что сам-то Степан Осипович являлся не только флотоводцем, но всесторонне образованным, талантливым человеком. Тем не менее, по моим представлениям, познания командующего флотом служат фундаментом в развитии его ума и укреплении характера. Высокий ум немыслим без обширных знаний, а решительный характер — без твёрдого усвоения проверенных опытом результатов собственного мышления.
Командующий современным флотом должен свободно ориентироваться в проблемах философии, знать историю Отечества, теорию государства и права, учения о войне и армии. Он должен уметь использовать выводы военной науки, знать принципы военного искусства, основы стратегии. Обязан в совершенстве владеть оперативным искусством и тактикой разнородных сил, хорошо понимать особенности ведения боевых действий однородными соединениями флота.
Непременной обязанностью командующего являются твёрдые знания средств и методов кораблевождения, устройства и боевого применения любых видов морского оружия, а также электронных средств связи, наблюдения и управления. Особо следует выделить вопросы эксплуатации ядерных, тепловых и электроэнергетических установок, устройства, живучести и непотопляемости кораблей.
Не должны ускользать из круга внимания командующего обстоятельства, касающиеся эксплуатации и боевого применения морской корабельной и базовой авиации.
Всё это невозможно без изучения основ, а зачастую и конкретных проблем таких научных дисциплин, как общая и ядерная физика, теоретическая механика, аэро-, гидро- и термодинамика, информатика, кибернетика, прикладная математика.
Да мало ли ещё областей человеческого познания, в которых могут проявляться интересы командующего! Диапазон чрезвычайно широк: от капитального строительства гидротехнических сооружений, до выращивания телят в военных совхозах. Ему необходимо разбираться во всех многочисленных военных и морских специальностях и специализациях. Именно широкая осведомлённость, эрудиция, должна, на мой взгляд, отличать человека, дерзнувшего взять на себя управление такой сложной системой, как военный флот.
А я? Соответствую ли? Ну, предположим, что познаний всяких накопил в жизни немало. Только за парту, не считая школы, садился шесть раз: «спецуха» — училище, Командирские {17} классы, академия, ядерный центр и опять академия. Однако главным источником знаний являлось самообразование, без которого никакая академия не поможет. Тем не менее только знаний для реальной деятельности мало. Надобно умение.
Основными умениями, которые определяют качество командующего флотом, адмирал Макаров полагал «глазомер» и «морской глаз». Глазомером обычно называют способность и навык человека, пусть не точно, зато быстро определять какую-либо величину (расстояние, направление, время, скорость, вес, объём), «на глаз», без измерения этой величины специальными инструментами либо приборами.
Генералисимус Суворов, который, собственно говоря, и ввёл понятие «глазомер» в состав качеств, потребных полководцу, подразумевал под ним умение ясно и быстро оценивать обстановку, своё положение относительно неприятеля, а также результаты воздействия по нему, не делая при этом из мухи слона, не подчиняясь воображению.
Адмирал Макаров, развивая мысли Суворова, отмечал, что командующий флотом должен иметь хороший «глазомер» и к тому же добрый «морской глаз». Под этим метким словосочетанием адмирал понимал не только умение на глаз оценить положение своего корабля или эскадры относительно чужих судов и берега, но ещё и способность управлять кораблём, видеть по первому взгляду его наружные недостатки, которые могут служить основанием для соображений о внутренних его качествах.
Макаров пишет, что лично знавал людей высокодаровитых, которые, однако, решительно не могли усвоить умение управлять кораблём, хотя впоследствии проявляли необыкновенные способности в технике или администрации. Однако существуют натуры, имеющие хороший «морской глаз», бесподобно управляющие кораблём, но совершенно лишённые военного «глазомера», иначе говоря, умения реально оценить обстановку, своё положение относительно неприятеля и принять соответствующее решение. Поэтому, полагает адмирал Макаров, и «глазомер», и «морской глаз» — качества, совершенно необходимые командующему флотом.
Я согласен с мнением Макарова, однако дополню, что постепенно, по мере развития ракетного оружия, ядерной энергетики, электронных средств, спутниковых систем, а также палубной авиации различного назначения, — флот неузнаваемо изменился. Размах океанской операции ныне достигает тысяч, а современного морского боя — сотен километров. В этих условиях не только командующий флотом, но зачастую и командиры кораблей не видят противника ни собственными глазами, ни с помощью электронных средств. Выручает {18} взаимодействие, когда наблюдают одни, стреляют другие, устанавливают результаты третьи, развивают успех четвёртые.
А командующий флотом, находясь глубоко под землёй, вдали ото всех морей, «видит» обстановку лишь на оперативных картах, планшетах боевых информационных постов, экранах автоматизированных рабочих мест офицеров-операторов своего командного пункта. Сотни кораблей и самолётов, своих и противника, изображаются там крохотными условными значками, сопряжёнными с векторами их движения.
Тем не менее суворовский «глазомер» и макаровский «морской глаз» существенно необходимы командующему флотом даже в подобных условиях. «Глазомер» позволяет единым взглядом охватить «поле боя», иначе говоря, колоссальный океанский простор. Помогает оценить положение взаимно проникающих, как бы накладывающихся друг на друга, группировок своих сил и сил противника. При этом важно видеть картину целиком, не отвлекаясь на детали. Иначе можно упустить необходимое, не заметить леса за деревьями, не верно оценить обстановку или принять несвоевременное решение.
В то же время с молодости отточенный добрый «морской глаз» не позволит оторваться от действительности, погрузиться в электронную абстракцию, позабыть о каждом конкретном корабле, его командире и экипаже. «Морской глаз» поможет организовать взаимодействие, обеспечить каждого, создать условия, оказать помощь.
Меня лично «морской глаз» никогда не подводил. А вот «глазомером», в масштабе океанского флота, я ещё не обладаю. Придётся учиться, что никогда не поздно. Необходимо практиковаться, накапливать опыт, оттачивать собственный оперативный глаз.
Есть в ряде качеств, желательных для командующего флотом, ещё одно, которое адмирал Макаров разместил почему-то на последнем месте. Это справедливость. Беспристрастное, непредвзятое отношение к людям. Главным образом к сослуживцам. Поскольку все, с кем общается командующий по службе на флоте, являются его подчинёнными. А это ведь многие десятки, а то и сотни тысяч самых различных людей.
Справедливость как морально-правовая категория требует от командующего оценки соответствия между служебными качествами человека и его должностным положением, между его правами и обязанностями, достижениями и поощрениями, проступками и наказаниями. При этом оценивать следует по реальным результатам деятельности человека, а вовсе не по его намерениям или поведению.
Адмирал Макаров полагал справедливым отдавать должное заслугам подчинённых, не приписывая полную славу за {19} успехи дела собственной персоне. Я тут с ним согласен полностью. Бытующая во флотских кругах присловка: «Хороши дела на корабле — молодец командир. Плохи дела — виноват старпом», — цинична и несправедлива. Всё обстоит как раз наоборот. Справедливость требует, чтобы ответственность за положение дел на флоте командующий брал на себя, а не сваливал на подчинённых.
За долгую флотскую службу мне приходилось множество раз поощрять и наказывать сослуживцев. При этом каждый раз испытываешь сложное чувство. Поощрять всегда в разной степени приятно. Наказывать, как правило, одинаково противно. Однако, надо — справедливость требует.
Особенно трудно бывает найти справедливое решение в отношении участников серьёзных аварий кораблей или оружия, приведших к тяжёлым последствиям. И всё же поощрению, на мой взгляд, подлежит тот командир, который безупречно выполнил поставленную задачу, а вовсе не тот, кто поставил корабль на грань катастрофы и потом героически выкарабкивался из сложной ситуации. Хотя я понимаю, что авария аварии рознь. Всё зависит от обстоятельств. Вот тут-то и не должно изменять комфлоту чувство справедливости.
Кроме того, отмечал адмирал Макаров, в обращении с подчинёнными от командующего требуется выдержка и жизненный такт. Какие могут быть возражения? Это справедливо. Полагаю, что если командир или командующий в сложной обстановке начинает повышать голос, ругаться, стучать кулаками, это прежде всего свидетельствует о его бессилии или растерянности. Криком, грозным выражением лица, тем более руганью, делу не поможешь.
Бывали и у меня подобные срывы. Потом сам страдал, но каждый раз убеждался, что если накричишь на человека, он начинает хуже соображать и работать. Попробуй наорать на боцмана, сидящего за горизонтальными рулями подлодки. Он тебе тут же загнёт неприемлемый дифферент. Рявкни на матроса — он обязательно не туда повернёт какой нибудь клапан.
Если начальник орёт, шумит (а ведь это можно сделать ещё и письменно, разразившись грозным приказом либо необъемным планом мероприятий по устранению недостатков) — это, как правило, свидетельствует, что он не видит выхода из сложной ситуации.
Поэтому я уже давно стараюсь в общении с подчинёнными соблюдать макаровский «жизненный такт», не проявлять, хотя бы внешне какого-либо раздражения, понимая, что это лишь усугубит обстановку и не поможет реально.
Словом, справедливости и жизненному такту в ряду необходимых качеств место не в конце, а где-нибудь сразу после «морского глаза». Замыкать этот ряд, по-видимому, должно {20} «здоровье командующего». Уж больно неоднозначно может проявляться подобный «квалитет».
В «Рассуждениях» адмирала Макарова нет указаний на то, каким именно здоровьем должен обладать командующий флотом. Видимо, хорошим. В крайнем случае — соответствующим. Однако в чём должно проявляться это соответствие — ясности нет.
Впрочем, у Степана Осиповича можно найти строчки о том, что Суворов, к примеру, был ростом мал, тощ, хил, дурно сложен и некрасив, но уже с первой войны получил аттестацию: «...быстр при рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности». Людям, которые от природы не наделены высокими физическими качествами, — полагает адмирал, — нет надобности опасаться за свою карьеру.
Всем морякам хорошо известно, что знаменитый адмирал Нельсон невыносимо страдал от морской болезни, к тому же потерял в боях один глаз и правую руку. Однако, эти обстоятельства не помешали ему, много лет спустя, командовать флотом, разгромить французов при Абукире, одержать блистательную победу в Трафальгарском морском сражении и стать национальным героем Англии.
Кроме того, мой собственный, непосредственный начальник — Главнокомандующий Сергей Георгиевич Горшков, который более четверти века управляет Военно-Морским Флотом СССР, — по своим физическим качествам далеко не Геркулес. Главное в нём — железный характер, несгибаемая воля и ясный ум.
Рассматривать здоровье как состояние тела, когда все жизненные отправления идут в полном порядке, а недуги отсутствуют, — слишком примитивно. Различают здоровье физическое, психическое, нравственное. Первое у лейтенанта, как правило, лучше, чем у адмирала. Зато психическое и нравственное — для командующего флотом несравненно важнее.
Предстоящая служба видится мне как непрерывное напряжение, череда нервных стрессов, вереница огорчений и срывов. Знаю об этом не понаслышке: пять лет командовал атомной флотилией, да и в Ленинграде за три года малость лиха хватил. А на флоте, да ещё на таком, как Северный, стрессовых ситуаций будет, думаю, раз в десять больше.
Главное в здоровье командующего — железные нервы и устойчивая сердечно-сосудистая система, чтобы кондрашка не хватил раньше времени. Впрочем, мне грех жаловаться. Многочисленные военно-врачебные комиссии вот уже 35 лет подряд пишут в своих заключениях: «Практически здоров. Годен к службе на подводных лодках, работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений, {21} компонентами ракетного топлива». Везёт конечно, но тем не менее.
А в то же время различные медицинские специалисты так и норовят оставить след в моих документах. Дескать, признаки ишемии сердечной мышцы у него имеются, и артериальное давление не стабильно, и левый глаз видит хуже правого, а в гастральной области полный набор «подводницких симптомчиков». Словом, «жизнь — опасная штука — от неё умирают». Однако любой из докторов остерегается выносить приговор, завершая диагноз осторожной фразой: «Годен по показаниям субъективного самочувствия». А мне, разумеется, болеть некогда. Поэтому всю ответственность за собственное здоровье принимаю на себя.
Конечно, командовать флотом предпочтительнее в сорок лет, нежели когда тебе ближе к шестидесяти. Но ничего не поделаешь: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж». Вот приеду в Североморск и для поддержания жизненного тонуса полезу в бассейн. И чтобы ежедневно километра полтора брасом отмахивать. Других-то удовольствий в этом городе не много. Ни тебе Мариинки или Капеллы, ни спектаклей Большого драматического, ни дипломатических раутов, к которым успел привыкнуть за годы ленинградской службы, в столице Северного флота не предвидится.
Ну что ж, спасибо макаровским «Размышлениям», которые позволили не только скоротать дальнюю дорогу, но и поразмышлять о собственной сущности. Это полезно перед вступлением в новую должность. А на вопрос «Соответствую ли?» ответит и покажет время...
Экспресс «Полярная стрела» приближался к пункту назначения. Вот уже прогрохотал Кольский мост. Пора собираться. Упрятав в чемодан записки, я полез в шинель, нахлобучил шапку, натянул перчатки, поскольку температура наружного воздуха перевалила за 15° мороза, и, распахнув дверь купе, окинул прощальным взглядом спальный вагон.
Перрон Мурманского вокзала залит ослепительно ярким светом единственной, но чрезвычайно мощной лампы, установленной на высочайшей ажурной мачте. Световой поток в несколько тысяч люменов вырывает из полярной ночи огромный круг, вмещающий подъездные пути, перрон, вокзал и привокзальную площадь. Такого великолепия я прежде не видывал в этих краях.
На перроне, в лучах яркого света, возле выхода из спального вагона, постукивал нога об ногу на крепком морозце внушительный военный моряк.
— Заместитель командующего флотом по тылу, старший морской начальник в городе Мурманске, вице-адмирал Петров, — представился он. {22}
А я тут же узнал в нём курсанта-первогодку Володю Петрова, принятого в училище имени Фрунзе в тот самый год, когда я впервые приступил там к обязанностям старшины курсантской роты. С тех пор наши служебные пути ни разу не пересекались. А теперь придётся служить вместе и всерьёз. Зам по тылу — фигура важнейшая.
— Ну что ж, Владимир Иванович, по машинам и ... вперёд!
Ещё через минуту пара чёрных волг рванула вслед за синей мигалкой ВАИ, оставляя за собой вихри снежной позёмки. Круг замкнулся. Я снова на Северном флоте.
| {23} |
Североморск. Низкорослые деревья городского парка, окутанные толстым слоем инея, светились в ночи, словно сказочные кристаллы. Уходящая к заливу улица Сафонова, казалось, покрыта белым ковром. От дома № 1 с приютившей меня служебной квартирой на седьмом этаже до штаба флота всего и езды-то минут пять. Однако и того хватило, чтобы полюбоваться городом, в котором предстоит жить. Впечатление такое, будто возвратился в родительский дом блудный сын.
Адмирал Владимир Николаевич Чернавин встретил радушно, однако без особых церемоний и обсуждения ситуации. Да и что обсуждать? Всего неделю назад мы виделись в Москве. Вместе ходили по коридорам Центрального Комитета партии, вдвоём были приняты министром обороны, а затем нанесли визит начальнику Генерального штаба Маршалу Советского Союза Н. В. Огаркову. Всё давным-давно обговорено. Наверно, поэтому адмирал предложил без промедления отправляться на аэродром, где нас уже ожидал самолёт, приготовленный для перелёта в Северодвинск.
— Завтра вернёмся, — сказал Чернавин, пояснив, что ему следует завершить дела председателя комиссии по государственной приёмке в состав флота головного тяжёлого ракетного подводного крейсера «ТК-208». А мне, дескать, полезно сразу же познакомиться с «Тайфуном», поскольку в скором времени придётся принимать этот и последующие корабли проекта 941 на базирование в губу Нерпичью, осваивать эксплуатацию, отправлять на боевую службу. Словом, придётся ставить систему «Тайфун» на ноги.
Ну что ж, я готов следовать в Северодвинск. Вот только поздороваюсь со старыми знакомыми, а отныне новыми сослуживцами — моим первым заместителем Владимиром Кругляковым, начальником штаба флота Вадимом Коробовым и членом Военного совета Николаем Усенко. Все они дружной ватагой ввалились в кабинет командующего.
На аэродроме Североморск-1, возле гостевого домика, отворачиваясь от позёмки, расхаживал человек в чёрной флотской {24} шинели, но с голубыми лампасами на брюках и с погонами генерал-лейтенанта авиации на плечах. У трапа, стоящего поодаль видавшего виды самолёта-салона Ан-24, маялся в строю экипаж.
— Если разрешите, я с вами, — обратился генерал к Чернавину. — Займусь ракетоносным полком, базирующимся на аэродроме Лахта, пока вы работаете в Северодвинске.
Получив согласие, генерал, представляясь, обернулся в мою сторону, и я немедленно опознал майора Виктора Потапова, слушателя авиационного факультета Военно-морской академии, учившегося там вместе со мной двадцать лет тому назад. Естественно, что добрые улыбки озарили обе физиономии, но субординация не позволяла распоясываться. Ограничились крепким рукопожатием.
— Самолёт и экипаж к полёту готовы, — вздёрнул ладонь к шапке стоящий у трапа подполковник. — Погода на Лахте в пределах допуска. «Добро» получено. Прошу разрешения запускать двигатели.
Чернавин кивнул, а через десять минут машина была уже в воздухе. Я с интересом разглядывал через иллюминатор простирающиеся внизу огни Североморска, затем Мурманска, пока наконец вся панорама не скрылась за слоем облаков. До аэродрома Лахта, что под Архангельском, всего и лёту часа полтора. Прапорщик-бортмеханик накрыл стол к чаю. Потом Чернавин попросил у адъютанта папку с документами и углубился в их изучение. А я тем временем принялся расспрашивать Потапова о годах службы, прошедших с тех пор, как наши пути разминулись.
Не скрою, что с академической поры я испытывал симпатию к этому невысокому, спортивного сложения офицеру, спокойному, уверенному в себе, ещё очень молодому, однако прошедшему хорошую школу в морской авиации. В свои 26 лет Виктор поступил в Академию, будучи командиром эскадрильи ракетоносцев Ту-16. После выпуска, как оказалось, в самые напряжённые годы «холодной войны», командовал полком, затем морской ракетоносной дивизией. В сороколетнем возрасте Виктор Павлович удостоился почётного звания «Заслуженный военный лётчик СССР». Потом учился в академии Генерального штаба. И вот в прошлом году назначен командующим военно-воздушными силами Северного флота, заместителем командующего Северным флотом по авиации и членом военного совета. Молодец Потапов! Приятно иметь такого сослуживца.
Уже через полчаса я уяснил, что ВВС Северного флота включает 12 авиационных полков, базирующихся на 15 аэродромах Кольского полуострова, а так же Архангельской и Вологодской областей и, кроме того, серьёзный тыл с несколькими {25} базами оружия. В составе ВВС около 400 летательных аппаратов, среди которых более половины тяжёлых самолётов океанской и дальней морской зоны. Остальные (в своём большинстве — вертолёты) способны работать с палуб кораблей или береговых аэродромов главным образом в ближней морской зоне.
— А в вашем личном распоряжении, товарищ командующий, — докладывал Потапов, — два борта: Ан-24 и Ан-26, а также пара вертолётов-салонов Ми-8. Летать вам теперь придётся больше, чем плавать.
За разговорами не заметили, что наш Ан-24 плавно коснулся бетонки и, пробежав по взлётно-посадочной полосе, вырулил на стоянку, где нас ожидал командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Юрий Воронов. А ещё через полтора часа он уже докладывал в своём штабе о состоянии дел в базе, затрагивая главным образом вопросы обеспечения программы военного кораблестроения.
Северное машиностроительное предприятие обещает ежегодно отдавать флоту не менее одного тяжёлого подводного крейсера типа «Тайфун», вкупе с крейсером проекта 949, вооружённым крылатыми ракетами «Гранит» и, как приложение, лодку-истребитель проекта 705. Кроме того, ленинградское Адмиралтейское объединение на своей сдаточной базе в Северодвинске собирается испытывать по две-три многоцелевых подлодки проекта 671ртм и 705. К тому же горьковский завод «Красное Сормово» намерен подкидывать туда же парочку атомоходов проекта 670м с крылатыми ракетами «Малахит». Если добавить к этому лодки, завершающие модернизацию или ремонт на предприятии «Звёздочка», то набирается солидный отряд из десятка весьма внушительных кораблей, которые в конце года, до ледостава, необходимо вывести из Белого моря в незамерзающие районы Баренцева.
Слушая Воронова, я думал о том, что десять атомоходов ежегодно пополняют состав Северного флота. Это великолепно, однако очень серьёзно. Всех их надо укомплектовать безупречно подготовленными офицерами и матросами, принять от заводов, развести по базам, обустроить, отработать до нужного уровня, с тем чтобы выпустить в океан и включить в систему боевой службы.
После доклада мы отправились на Севмашпредприятие, где я засвидетельствовал своё давнее почтение его директору, Григорию Лазаревичу Просянкину, а также осмотрел гигантские корпуса строящихся подводных крейсеров. Вскоре Чернавин уединился с директором, оставив меня с Вороновым на борту стоящего у достроечной стенки, но вполне готового, тяжёлого ракетного подводного крейсера стратегического {26} назначения «ТК-208». Его командир, капитан 1-го ранга Александр Ольховиков, свыше трёх часов водил нас по многочисленным отсекам обоих корпусов этого уникального корабля, задуманного группой конструкторов под руководством Сергея Никитича Ковалёва и овеществлённого рабочим коллективом северодвинского судостроительного гиганта.
С конструкцией подводного крейсера я познакомился ещё в Ленинграде, в «Рубине» у Игоря Дмитриевича Спасского. А теперь с восхищением рассматривал овеществлённые идеи, воплощённые в металл с умопомрачительной скоростью. Пока ходил по кораблю на борт прибыл генеральный конструктор. Я не мог отказать С. Н. Ковалёву в удовольствии ещё раз вместе с ним обойти отсеки. Потом, уединившись с ним во флагманской каюте, мы долго ещё вспоминали перипетии строительства и плаваний на подводных лодках, начиная с памятного нам обоим проекта 658. До самого вечера обсуждали мы и особенности подводного крейсера типа «Тайфун», проблемы его эксплуатации на флоте и возможности боевого применения этого и последующих кораблей.
Вечером состоялось собрание офицерского состава Северодвинского гарнизона. Адмирал Чернавин выступил с речью, в которой подвёл итоги деятельности военных моряков, указал на исключительную важность их работы и на абсолютную необходимость тесного взаимодействия с судостроителями для быстрого и качественного пополнения флота атомными подводными крейсерами третьего поколения. Он поблагодарил североморцев за службу и выразил надежду на то, что славные традиции наиболее мощного и технически совершенного флота Родины будут и впредь преумножаться. Затем представил собравшимся меня, как нового командующего флотом и пожелал успехов.
В ответном слове я старался быть предельно кратким. Сказал лишь, что очень ценю оказанное мне доверие и постараюсь приложить все силы, чтобы Северный флот развивался, а его боевая мощь возрастала. В заключение выразил надежду, что новая служба Владимира Николаевича Чернавина в Москве, на должности начальника Главного штаба, принесёт пользу всему Военно-Морскому Флоту, но в первую очередь — североморцам. Последняя фраза вызвала улыбку адмирала и аплодисменты зала.
От ужина, предложенного командиром Беломорской ВМБ, пришлось отказаться, поскольку позвонил из Лахты генерал Потапов и доложил, что погода начинает портиться. Он рекомендовал вылетать ночью, так как и днём в равной степени темно, однако промедление может отодвинуть перелёт на неопределённое время. Пришлось ужинать в воздухе. Зато ещё до полуночи благополучно приземлились в Североморске. {27}
Весь последующий день мотались по близлежащим гарнизонам. На катере пришли в Полярный, где командир эскадры подводных лодок контр-адмирал Василий Парамонов и командир дивизии кораблей охраны водного района контр-адмирал Борис Сычёв по очереди докладывали о состоянии дел, а затем совместно проводили гарнизонное офицерское собрание. Я слушал внимательно и приглядывался к обоим командирам, поскольку ранее наши служебные пути не пересекались.
Из Полярного машинами переехали в Гаджиево. Там нас встречал командующий флотилией ракетных подводных крейсеров вице-адмирал Лев Матушкин. Он — фигура особая, поскольку флотилия его — мощнейшее подводное объединение стратегического назначения. А сам Лев Алексеевич не только командующий, который вот уже около пяти лет твёрдо держит в руках управление этой мощью, но он ещё и по должности — член Военного совета флота. Я с интересом наблюдаю за службой этого симпатичного офицера с тех пор, как вместе плавали на дизельных лодках в Полярном.
Лет восемнадцать тому назад Лев принял под команду знакомый мне ракетоносец «К-33», из состава родимой «горбатой» дивизии, и первым привёл его к новому месту базирования в бухту Ягельная. Так на базе эскадры дизельных лодок начала зарождаться новая атомная флотилия. А Лев Алексеевич все эти годы беспрерывно служил в Ягельной, проходя этапы подводного пути от командира ракетоносца до командующего флотилией. Он рос вместе с флотилией, набирался опыта, непрерывно плавая и стреляя ракетами по «боевым полям» различных полигонов страны. Адмирал Чернавин поведал мне, по секрету, что недавно представил вице-адмирала Матушкина (за ряд сложных арктических плаваний и высокую боевую готовность ракетных подводных крейсеров) к званию Героя Советского Союза.
Побывали мы и в Видяево, где расположен штаб ещё одной эскадры подводных лодок контр-адмирала Геннадия Егорова. Он ещё более давний мой сослуживец. В Полярном был старшим помощником на «Б-77» в ту пору, когда я командовал этим кораблём. Вместе ходили в Атлантику. Ему же и уступил место на мостике, отъезжая в Академию.
Однако далее, в Западную Лицу, решили не ехать, поскольку на дислоцированной там Краснознамённой флотилии знаком каждый камень на берегу и любая железка внутри кораблей. Да и меня лично, как бывшего командующего этой флотилией, по мнению Чернавина, тамошние подводники знают словно облупленного.
Ныне флотилией командует весьма уважаемый мною вице-адмирал Евгений Чернов. С ним вместе бродили некогда в окрестностях банки Роколл, что северо-западнее Великобритании. {28} Потом он хорошо и долго служил командиром новейшей подлодки «К-38» — головной в серии многоцелевых атомоходов второго поколения, у меня на дивизии. Затем командовал этой дивизией на Краснознамённой флотилии, а позднее являлся там моим заместителем. Так что знаю я Евгения Дмитриевича великолепно. Самолично представлял Чернова к званию Героя. Надеюсь, что смогу в дальнейшем опираться на него не только как на подчинённого мне командующего, но, что важнее, как члена Военного совета флота.
Ну а в Гремиху добираться вообще слишком сложно. Аэродрома там нет. Даже для вертолёта ночью, при отсутствии надёжных ориентиров, трёхсоткилометровый путь может оказаться непреодолимым. Попасть в Гремиху, конечно, возможно, но по морю, кораблём, однако это долго и муторно. Отложим встречу до лучших времён. К тому же гремихинские подводники давно привыкли к тому, что начальство, особенно зимой, появляется у них редко.
В Гремихе стоит ещё одна флотилия подводных атомоходов. Её командующий, вице-адмирал Александр Устьянцев, по мнению Чернавина, вполне способен держать всех в ежовых рукавицах. Кулаки у него — словно полупудовые гири. Однако подводники уважают своего командующего, любовно именуя его «дядей Сашей». Этот дядя известен мне с той поры, когда служил на головном «подводном авианосце» проекта 675. Вместе в Обнинске учились. Лихой был старпом, а потом и командир. Александр Михайлович, как и его коллеги Чернов и Матушкин, тоже состоит ныне членом Военного совета флота. Значит, увидимся на первом же заседании.
Рассудив подобным образом, мы закончили объезд гарнизонов в Североморске на оперативной эскадре, где хозяйство своё представлял отличный моряк, опытный и вечно улыбающийся вице-адмирал Виталий Зуб. А вечером, на заключительном собрании офицеров Североморского гарнизона, как впрочем и на всех предыдущих, почти дословно повторился ритуал, когда новый начальник Главного штаба прощался с североморцами, а я заверял и его, и всех собравшихся в своём совершеннейшем почтении.
Вступление в должность завершилось на следующий день, когда адмирал Чернавин передал мне должностные пакеты с оперативными документами особой важности, а я убрал их в сейф, опечатал личной печатью и сдал под охрану. Потом пошли в кабинет, где пару минут посидели молча. Наконец Чернавин поднял трубку телефона правительственной связи и попросил соединить его с Главнокомандующим ВМФ Адмиралом Флота Советского Союза С. Г. Горшковым.
Доложив о том, что дела и обязанности командующего Северным флотом он сдал, Владимир Николаевич вздохнул и {29} протянул трубку мне. Приложив её к уху я услышал знакомый голос:
— Ну что? Приняли флот?.. Это хорошо. Вопросы какие-нибудь у вас имеются?.. Тем лучше. Тогда о вступлении в должность донесите шифром министру, а в копии мне. Понятно?.. Желаю успеха.
В тот же день мы провожали адмирала Чернавина к новому месту службы. На аэродроме свистел ветер, было холодно и темно, крутились вихри позёмки.
— Не думал, что будет так трудно расставаться с флотом, — сказал на прощание Владимир Николаевич, — ведь ровно 30 лет ему отдал. Смутно на душе.
Возвратившись в штаб, написав нужную шифровку и подписав загодя подготовленный приказ по флоту о вступлении в должность, я попросил своих заместителей работать по личным планам, сказав, что сегодня заниматься ничем не буду. Все доклады — завтра. Мне надо побыть одному, осмотреться, поразмышлять.
Находиться в одиночестве среди великолепия огромной представительской «главкомовской» квартиры оказалось невыносимо. Поэтому свой первый самостоятельный рабочий день я начал спозаранку, приехав в штаб флота к семи часам утра. Рабочий кабинет командующего Северным флотом, куда не без трепета душевного приходилось заходить в минувшие годы, представлял собой комнату внушительных размеров, стены которой были сплошь облицованы светлым деревом. Напротив дверей, ведущих в приёмную, рабочий стол с приставным столиком для собеседников. Рядом тумба с телефонами и пультом внутриштабной связи. Справа, возле окон, длинный стол для заседаний. Слева, вдоль глухой стены, мебельная стенка с полками и шкафчиками разного предназначения.
Мебель светлая, под стать стенам, на которых не было ничего лишнего. Разве что пара живописных северных пейзажей в простеньких рамах, да великолепное изображение Главкома Горшкова, сфотографированного на мостике авианесущего крейсера. А позади стола, возле вертящегося кресла комфлота, дверь в крошечную комнату отдыха. Чуть левее ещё одна малозаметная дверь, ведущая в коридорчик, из которого можно пройти на повседневный командирский пункт или в обеденный салон и таким образом ускользнуть из кабинета, минуя приёмную. Так уж придумал, видимо, адмирал В. А. Касатонов, поскольку именно при нём строилось новое здание штаба флота. А в целом — всё просто, скромно, чисто и совсем не похоже на дворцовое великолепие адмиралтейских интерьеров, оставленных в Ленинграде. {30}
Крутанувшись в кресле, я похлопал пустыми ящиками стола, осмотрел привычные и потому понятные средства связи, бросил недоумённый взгляд на стоящий в углу здоровенный, раскрашенный под орех стальной сейф. Потом нажал клавишу с литерой «НШ» на пульте внутриштабной связи.
— Слушаю вас, товарищ командующий. Коробов докладывает, — раздался в динамике голос начальника штаба флота.
«Ого! Уже на месте. Значит волнуется. Это хорошо», — подумал я, но вслух произнёс:
— Доброе утро Вадим Константинович. Зайдите. Обсудим план работы.
Через минуту вице-адмирал Коробов входил в кабинет. В минувшие годы я не раз встречался с этим офицером на различных сборах и совещаниях. Помню, даже повздорили однажды, разойдясь во мнениях относительно бойцовских качеств «стратегов», как непочтительные командиры многоцелевых подлодок именовали своих коллег, служивших на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. Впрочем, гораздо больше слышал о Вадиме Коробове хорошего. Однако вместе не только на корабле, но и в соединении, служить не довелось, хотя его подводная судьба — почти точная копия моей собственной.
Родился этот вологодский парнишка всего на пару лет позже меня. Во время войны вкалывал кочегаром на речном буксире, плавая по Двине. Потерял на этом год учёбы и был бесконечно рад, когда приняли его в Соловецкую школу юнг. Потом Ленинградское подготовительное, а затем и Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Но и там повстречаться нам не привелось, поскольку Вадим поступил в училище в сентябре 1946-го, а я через полгода уже «выпустился» и укатил в Порт-Артур.
Своевременно одев китель с лейтенантскими погонами и прицепив кортик, Вадим Коробов получил назначение штурманом на подводную лодку Северного флота. Через три года попал на Командирские классы. Потом служил старпомом на «Эске» и «Букахе», пока, наконец, в чине капитан-лейтенанта не принял под командование подводную лодку «С-146», проекта 613, переоборудованную в опытовую для отработки запуска крылатых ракет П-5. Таким образом, он оказался одним из первых подводных командиров-крылатчиков. Но уже в 1960 году капитан 2-го ранга Коробов, командуя опытовой подводной лодкой «Б-67», впервые в стране осуществил успешный запуск баллистической ракеты из-под воды.
Учёба в Академии привела Вадима Константиновича на мостик атомного ракетоносца «К-33» из состава нашей «горбатой» дивизии, уже передислоцированной в бухту Ягельную, в то время как я прочно закрепился на «крылатой» дивизии в {31} Западной Лице. Затем он служил начальником штаба, потом принял дивизию в Гаджиево и, наконец, получил назначение в Гремиху, на дивизию новейших подводных крейсеров проекта 6676 с межконтинентальными баллистическими ракетами. Именно там приобретался опыт применения грозного оружия и оттачивалось в морских походах мастерство, выводящее комдива в число видных военачальников. Поэтому не случайно, когда в 1974 году на базе дивизии в Гремихе формируется новая атомная флотилия, контр-адмирал Коробов возглавляет её штаб.
Через пару лет Вадиму Константиновичу посчастливилось провести с Северного на Тихоокеанский флот, южным путём, вокруг мыса Горн, тактическую группу, состоящую из ракетного подводного крейсера «К-171» капитана 1-го ранга Э. Ломова и охраняющей его многоцелевой подводной лодки «К-469», старшим на борту которой находился капитан 1-го ранга В. Соколов.
«К-469» входила в состав Краснознамённой флотилии, которой я в ту пору командовал и принимал непосредственное участие в подготовке этого похода. Поэтому был очень рад, узнав, что Коробов, находясь на борту стратегического крейсера «К-171», уверенно управлял тактической группой. Преодолев за 80 суток подводного плавания более 40 000 километров пути (что превышает длину экватора нашей планеты) корабли благополучно прибыли на Камчатку. Так закончилось боевое патрулирование, с любого участка маршрута которого «К-171» имел возможность и находился в готовности к нанесению удара полным комплектом своих ракет по назначенному комплексу целей.
За безупречное выполнение поставленной задачи в этом выдающемся плавании командир перехода контр-адмирал В. Коробов, старший политработник контр-адмирал Ю. Падорин, капитаны 1-го ранга Э. Ломов и В. Соколов, а также инженер-механики обоих атомоходов Ю. Таптунов и И. Петров были удостоены звания Героев Советского Союза. Другие члены экипажей были награждены орденами и медалями. А вскоре после этого события Вадим Коробов назначается командующим своей флотилией в Гремихе.
С той поры минуло 5 лет. Новый командующий получил солидный опыт управления крупным оперативным объединением и звание вице-адмирала в придачу. Поэтому не удивительно, что полгода назад вместо переведённого в Ленинград Валентина Поникаровского на должность начальника штаба Северного флота был назначен Вадим Коробов. А теперь — вот он стоит передо мной. Невысокий, как большинство истинных подводников, крепко сложенный, с хорошей улыбкой на круглом, без единой морщинки, чистом русском лице. {32}
Всё, что я знал о нём, пронеслось в мозгу за считанные секунды, пока здоровались и усаживались возле столика для собеседников. Теперь предстоит более серьёзное знакомство. По делу. А дело-то заключается в том, чтобы, оценив служебную обстановку, я смог быстрее врасти в новую должность. Об этом и сказал Коробову. На что тот предложил начать с заслушивания начальника разведки контр-адмирала Квятковского. Затем послушать начальника оперативного управления контр-адмирала Лебедько о состоянии и степени боевой готовности объединений и соединений. Ну а потом начальник штаба лично представит мне план боевой службы и доложит замысел заблаговременно спланированной первой операции флота.
Вадим Константинович рекомендовал также послушать вице-адмирала Круглякова о результатах недавно завершённого оперативного сбора и выразил надежду, что член Военного совета вице-адмирал Усенко расскажет о политико-моральном состоянии и воинской дисциплине личного состава флота.
— Работы хватит на весь день, — усмехнулся начальник штаба, — но объять необъятное всё равно не удастся.
Я подумал было, что это плохо, поскольку, на мой взгляд, любую сложную проблему, освободив её от частностей, возможно изложить за десять минут. Однако промолчал.
— Прошу разрешения пойти принять утренний доклад оперативной службы, — завершил нашу беседу Коробов. — К 10.00 прибуду к вам для дальнейшей работы.
Я кивнул и вскоре вновь остался в одиночестве. Но ненадолго. В дверном проёме показались, а затем в кабинет ввалились улыбающиеся знакомые фигуры Владимира Круглякова и Николая Усенко.
— Здравия желаю, товарищ командующий! — рявкнул один.
— Здравствуйте, Аркадий Петрович, — молвил другой.
Член Военного совета, начальник политического управления Северного флота вице-адмирал Николай Витальевич Усенко известен мне с той поры, когда мы вместе служили в Западной Лице: я — командиром «К-178», он — замполитом на «К-133», многоцелевой атомной подлодке проекта 627а. Кстати «К-133» совершила свой первый сверхдальний автономный поход в Атлантику, пройдя за экватор в тот самый год, когда мне довелось нырнуть под паковый лёд Арктики и вынырнуть на Камчатке.
На долю подводников «К-133» выпало тогда нелёгкое испытание. За много тысяч миль от базы, в центре Атлантики, возникла течь одного из парогенераторов. Резко ухудшилась {33} радиационная обстановка. Пришлось всплывать, вентилировать лодку и отыскивать текущую секцию, с тем чтобы отсечь её от общей системы теплообмена. Спокойствие и выдержка командира Георгия Слюсарева, сумевшего вместе с замполитом Николаем Усенко обеспечить высокий боевой дух и слаженную работу экипажа, достигли цели: серьёзная неисправность была устранена, здоровье людей сохранено, подводная лодка, выполнив задачу, благополучно возвратилась в базу. Не каждому дано пережить такое. Меня, например, Бог миловал.
А ещё через три года «К-133» участвовала в знаменитом групповом кругосветном плавании, проложившем путь атомоходам из Атлантики в Тихий океан через пролив Дрейка. Отрядом командовал Анатолий Сорокин, командиром «К-133» к тому времени был уже Лев Столяров, но замполит оставался прежний. Итоги этого похода, посвящённого XXIII съезду КПСС, широко известны. В числе удостоенных высоких наград Звезду Героя Советского Союза первым среди политработников атомного флота получил капитан 2-го ранга Николай Усенко.
Потом я как-то потерял его из виду, а позднее узнал, что Николая Витальевича, успешно окончившего Академию Генерального штаба, отправили на Тихоокеанский флот начальником политотдела оперативной эскадры.
Снова пришлось увидеться лишь по прошествию ряда лет, уже в Москве, куда я прибыл по поводу очередного перемещения по службе и когда в кабинете заместителя начальника политуправления ВМФ меня принял контр-адмирал Усенко. Ещё не раз довелось мне встречаться с ним, в том числе загорать вместе в одном из военных санаториев. Там Николай Витальевич подарил мне свою, только что изданную книгу под названием «Океанский максимум» (военные мемуары), где он увлекательно и лирично рассказывает не столько о себе, сколько о своих товарищах, беззаветно служивших Родине и Флоту.
Именно из этой книжки я почерпнул ускользавшие ранее подробности о том, как четырнадцатилетний пацан переживал войну в осаждённом Ленинграде, как пришёл по комсомольской путёвке на действующий Балтийский флот, служил «маслопупом» — учеником машиниста на учебном корабле «Комсомолец». Потом плавал на паруснике «Седов» боцманом бизань-мачты. Сразу после войны поступил в Ленинградское военно-морское политическое училище. Оттуда угодил в отдалённый гарнизон Северного флота. Запомнились короткие, но многочисленные выходы в штормовое Баренцево море на крошечных торпедных катерах... Позднее — учёба в Военно-политической академии имени Ленина в Москве, Северное {34} море, балтийская «дизелюха», где вырабатывалось важнейшее из умений замполита «настроиться на одну волну» с командиром и экипажем для пользы общего дела.
Особенный интерес вызвали у меня те главы «Океанского максимума», где Николай Витальевич рассказывает о службе на Тихоокеанской оперативной эскадре, рисует портрет командира эскадры контр-адмирала Владимира Круглякова, вспоминая при этом уроки океанского мастерства, преподанные этим опытнейшим моряком.
В ту пору Николай Усенко был всего лишь капитаном 2-го ранга. Однако подобное обстоятельство не помешало установлению деловых и даже товарищеских отношений между командиром эскадры и начальником политотдела. А сейчас оба вице-адмирала, уже не книжные, но совершенно реальные, сидят у меня в кабинете и рассказывают о флотских делах.
Первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Сергеевич Кругляков — фигура колоритная. Более пяти лет он по должности состоит членом военного совета флота. Впервые мы познакомились, когда оба учились на курсах руководящего состава ВМФ в нашей академии. Я пришёл туда с должности командующего атомной флотилией, он — командира Тихоокеанской оперативной эскадры.
Кругляков пользовался репутацией опытного моряка и военачальника, вся служба которого прошла в море. Творчески мыслящий тактик, умелый и опытный организатор боевой подготовки, он много и интересно рассказывал о службе на надводных кораблях, о дальних походах, о посещениях экзотических стран и встречах с видными государственными деятелями. Я слушал с удовольствием, поскольку сам-то в ту пору видывал заграницу разве что через перископ.
Не удивительно, что вскоре у нас сложились доверительные, даже дружеские отношения. Мне явно был симпатичен этот бывалый моряк с массивной фигурой боксёра-тяжеловеса, твёрдой, но чуть вразвалочку, походкой палубного офицера. По возрасту он был на пару лет моложе меня, но внешность делала его более солидным. Ходили слухи, что после окончания курсов Кругляков будет назначен первым заместителем командующего Северным флотом.
Однако случилось так, что перед самым выпуском адмирал Г. М. Егоров предложил эту должность мне. Владимир Сергеевич, разумеется, обиделся, смотался в Москву и сумел-таки перехватить инициативу. В результате я возвратился на свою флотилию, а Кругляков стал моим прямым начальником. Правда, справедливости ради, замечу, что он никогда ни словом, ни делом не позволил себе проявить обиду или неприязнь. Впрочем, и я не подавал для этого повода. {35}
Теперь ситуация повторилась, как говорят в Одессе, с точностью до наоборот. Его, видимо, тревожило обстоятельство, что вот уже пять лет прошло, но условия для дальнейшего продвижения не сложились ни при адмирале Г. М. Егорове, ни при адмирале В. Н. Чернавине. А тут ещё я свалился невесть откуда на его голову. Тем не менее обсуждать с Владимиром Сергеевичем эту ситуацию я не собирался. Надо служить вместе и желательно доверять друг другу.
Военная служба — штука серьёзная, а служебная удача — весьма переменчива. В моей личной практике не раз случалось так, что товарищ вдруг становился моим начальником, но при очередном повороте судьбы оказывался в подчинённых. Бывало и наоборот. Относиться к подобным перипетиям следует проще, принимая их как объективную неизбежность. Важно только, чтобы в любых обстоятельствах оставаться человеком. Ведь служим-то мы одному делу.
Вот такие, примерно, мысли вертелись у меня в голове, когда Николай Усенко и Владимир Кругляков рассказывали о своих делах и выражали надежду, что здоровый, дружный Военный совет, с его коллективным разумом, послужит твёрдой опорой для нового командующего флотом. Вскоре в кабинете вновь появился Коробов со своими офицерами. На длинном столе для заседаний они разложили всевозможные карты, схемы, таблицы. Началось заслушивание.
С начальником разведки флота контр-адмиралом Юрием Квятковским я познакомился впервые. Потому с особым интересом слушал, как этот офицер, с аккуратными, коротко подстриженными усами на круглом лице, спокойно и уверенно излагает в общем-то хорошо мне знакомые сведения о деятельности военно-морских сил США и НАТО в Атлантике и Арктике, а также о характере их возможного применения в случае войны. Квятковский говорил о том, что выход Советского флота в океан преподнесён американскими политиками своей общественности как свидетельство «советской военной угрозы», поскольку все интересы континентальной державы, каковой якобы является Советский Союз, в корне противоречат, дескать, интересам великой морской державы — Соединённым Штатам Америки. Военно-политическое руководство этого государства считает Атлантику главным океанским театром войны. Его стратегическое значение определяется тем, что именно здесь проходят жизненно важные коммуникации, по которым осуществляются перевозки различных видов сырья, в первую очередь нефти, нефтепродуктов и других стратегических грузов между Европой, Африкой, Ближним Востоком и Североамериканским континентом. На морские {36} пути Атлантики приходится две трети мирового грузооборота. Здесь одновременно совершают рейсы более половины судов торгового флота мира. К тому же война в Европе против СССР и других стран Варшавского договора, по мнению американских стратегов, невозможна без массового подвоза войск, вооружения и воинских грузов через Атлантический океан.
Военные действия, особенно в Северной Атлантике, по их мнению, примут широкий размах. Они будут вестись на море, под водой и в воздухе с применением как обычного, так и ядерного оружия. В них примут участие значительные доли военно-морских сил США, Великобритании, Канады, Франции, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов и Дании. К началу 80-х годов военно-морские силы НАТО в Атлантике насчитывают примерно 400 боевых кораблей различных классов, в том числе 8 ударных и многоцелевых авианосцев, а также свыше 1000 самолётов авианосной и базовой патрульной авиации. Кроме того, в составе стратегических ядерных сил НАТО находятся около 40 боеготовых атомных подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами. По крайней мере две трети этих грозных кораблей базируются в атлантических портах Америки, Великобритании, Испании и Франции. В головных частях своих ракет, нацеленных на нашу страну, они несут свыше 3500 ядерных зарядов.
Боевые действия военно-морских сил НАТО в Атлантике, направленные на завоевание господства в океане, будут включать прежде всего борьбу с силами флота СССР, установление морской блокады проливов с целью лишить нас возможности развернуть свои группировки в океане, недопустить их наращивания, преградить путь к берегу, базам, портам, обезопасить коммуникации. Все эти замыслы существовали не только в умах морских стратегов, но и отрабатывались на многочисленных учениях с фактическими действиями кораблей и самолётов, пусками ракет и десантированием частей морской пехоты.
Начальник разведки особо отметил то обстоятельство, что с началом холодной войны в стратегии противоборства США и СССР возросла роль Арктики. Связано это с зарождением ракетно-ядерных сил. Развитие Северного и Тихоокеанского флотов нашей страны, создание судостроительных заводов непосредственно в зоне ответственности флотов поставило проблему кратчайшего межтеатрового манёвра кораблями из Атлантики на Тихий океан. Словно кость поперёк горла стала для американцев эта наша возможность.
В тот период среди их военных кругов начала зарождаться так называемая «арктическая стратегия», основанная на близости американо-канадского побережья к советской территории и важнейшим промышленным центрам. Огромная протяжённость {37} береговой черты нашей страны в арктических морях, крайне редкие населённые пункты и трудности оборудования системы противовоздушной обороны давали надежду американской стратегической авиации, действующей через Северный полюс, на относительно безопасное проникновение в глубь территории Советского Союза.
Кроме того, используя свои военно-морские и воздушные базы в Арктике, американское командование рассчитывает создать морские рубежи, чтобы в случае войны закрыть выходы для сил Северного флота из Баренцева моря в Атлантику, а также из Чукотского и Берингова морей в Тихий океан, перерезать Северный морской путь. Развитие атомной энергетики сделало Северный Ледовитый океан доступным для подводных лодок. Таким образом, Арктика стала важнейшим потенциальным театром военных действий.
Указка в руке контр-адмирала Квятковского уверенно скользит по разведывательной карте, останавливаясь на подтушёванных синим цветом портах, базах, аэродромах, центрах управления, донных станциях системы подводного наблюдения, а также на развёрнутых в океане группировках сил. Картина складывается жутковатая. Впрочем, я давно привык к тому, что все разведчики обычно склонны преувеличивать как возможности противника, так и собственную осведомлённость. Страх на начальство нагоняют. Однако за это их не ругают. Наоборот, плохо бывает тому, кто преуменьшил опасность, недооценил ситуацию, опоздал с докладом.
В заключение Квятковский дал краткую характеристику моему визави по театру военных действий — американскому командующему Атлантическим флотом — Адмиралу Гарри Д. Трейну-II, одному из наиболее подготовленных, опытных и перспективных адмиралов американского флота.
Первичное офицерское звание присвоено Гарри Трейну в 1949 году. Личный боевой опыт приобретён им во время войны в Корее, когда служил на эсминце «Хаббард». В дальнейшем командовал эсминцем УРО «Конингхэм», подводной лодкой «Барбел», крейсерско-миноносной флотилией, авианосной ударной группой, 6-м флотом США на Средиземном море. В промежутках между командными должностями Трейн получил хороший опыт штабной работы. Он был помощником министра ВМС по административным вопросам, служил помощником начальника штаба 2-го флота, старшим помощником начальника штаба ВМС, затем возглавлял отдел анализа систем в штабе ВМС и, каконец, являлся начальником объединённого штаба при комитете начальников штабов.
Он был награждён четырьмя медалями «Почётного легиона», «Поощрительной медалью ВМС», медалями «За выдающиеся заслуги», «За отличную службу» и другими наградами. {38} Под его руководством проводятся многочисленные военно-морские учения и манёвры совместно с флотами Великобритании и других стран НАТО на Атлантике.
Вместе с тем адмирал Трейн был известен своими ярко выраженными антисоветскими настроениями и высказываниями. Он активно выступает за наращивание военных приготовлений США и рассматривает пребывание американских кораблей на Средиземном море как важнейший способ противодействия «советской военной угрозе» в этом регионе, оказания политического, а при необходимости и военного давления на страны Ближнего Востока. Вот какой незаурядной фигуре следовало противостоять. А ведь биография американца в чём-то очень похожа на мою... Хелло, Гарри!.. Весьма полезно осознать, с кем именно имеешь дело.
Поблагодарив Юрия Петровича Квятковского за чёткий доклад, я просил его и впредь информировать меня о состоянии сил вероятного противника в Атлантике и Арктике с периодичностью один раз в неделю, но детально, с анализом и выводами. Напомнил, что добывание сведений о месте и действиях противника — задача наблюдения. Разведка же эффективна только в том случае, когда способна определить, как супостат намерен действовать, вскрыть его замысел, проникнуть в будущее. Поэтому ежедневные изменения вяло текущей обстановки можно доводить до меня через начальника штаба флота. Однако о резких изменениях, требующих оперативного реагирования, следует докладывать мне лично или по средствам связи немедленно, в любое время суток.
На том и распрощались. Квятковский свернул в рулон свои карты и покинул кабинет, а его место возле длинного стола для заседаний занял начальник оперативного управления штаба флота контр-адмирал Владимир Лебедько.
Начопер известен мне значительно лучше, нежели начальник разведки. И не только потому, что Лебедько пришёл служить в штаб флота в ту пору, когда я ещё командовал «дружеской» дивизией в Западной Лице. Возможно, в большей степени из-за своей, скажем так, неординарной «подводной биографии». Владимир Георгиевич окончил училище подводного плавания в тот самый год, когда мне доверили «Малютку» в заливе Америка. Служил минёром, помощником и старпомом на подлодках Черноморского флота. С одной из них прошёл огромный путь, длившийся почти пять лет. Сначала по рекам и каналам, через всю Россию, с Чёрного моря — в Баренцево. Оттуда Северным морским путём прибыл на Камчатку, затем во Владивосток и, наконец, завершил свой большой круг в Индонезии. {39}
Этот последний, очень тяжёлый поход лодка выполнила под командованием Фёдора Воловика, который, собственно говоря, и рассказал мне некогда, как о походе, так и о своём старшем помощнике Владимире Лебедько, характеризуя его отличным офицером и опытным специалистом-подводником.
Затем Командирские классы и снова служба на дизельных, но уже ракетных лодках Северного флота. Здесь Лебедько становится командиром подводного ракетоносца. А после окончания Академии принимает у Вадима Коробова под своё командование атомоход «К-33», хорошо знакомый мне по службе на «горбатой» дивизии.
Казалось, что подводная карьера Владимира Георгиевича складывается великолепно. Уже через год Лебедько назначается заместителем командира дивизии. Но тут ему не повезло. Однажды, в ноябре 1969 года, находясь старшим на борту печально известной атомной подлодки «К-19», прозванной в своё время «Хиросимой», Лебедько нёс командирскую вахту, отпустив отдыхать молодого и недостаточно опытного командира В. А. Шабанова. Лодка отрабатывала задачи боевой подготовки в полигонах севернее Териберки. Экипаж по готовности № 2 собирался завтракать.
Однако случилось так, что в этой спокойной обстановке, на глубине 60 метров и скорости 5 узлов, при полном отсутствии каких-либо шумов на станциях звукоподводного наблюдения «К-19» столкнулась, как потом выяснилось, с затаившейся американской атомной подводной лодкой «Гэтоу», ведущей разведку в Баренцевом море. Только чудо да решительные действия экипажа, обеспечившего аварийное всплытие, помогли избежать катастрофы с обеих сторон.
Тем не менее, по возвращении в базу последовала серия строгих и нелицеприятных разборов происшествия. Всю вину за случившееся Владимир Лебедько взял на себя. Наверно поэтому, а также с учётом особой сложности условий гидроакустического наблюдения и коварного поведения американской лодки, стоящей без движения на стабилизаторе глубины, заместитель командира дивизии отделался лёгким испугом.
Впрочем, беда редко приходит в одиночку. На следующий год капитана 1-го ранга В. Г. Лебедько, находящегося старшим на борту всё того же В. А. Шабанова, снова настигла пренеприятнейшая ситуация. Подводная лодка, возвращаясь с моря в Кольский залив и следуя в надводном положении, ткнула носом рыболовецкий траулер, вывалившийся из густого тумана прямо по курсу атомохода. Удар, правда, оказался пустяковым, благодаря вовремя отработанной команде: «Обе турбины реверс!» (полный ход назад!). Однако начальственных воплей, граничащих с истерикой, довелось услышать немало, а службу {40} в плавсоставе командиру В. А. Шабанову и опекавшему его В. Г. Лебедько пришлось прекратить.
Зато началась другая, не менее серьёзная, штабная работа. В течение последующих десяти лет Владимир Георгиевич побывал заместителем и начальником отдела в оперативном управлении, служил оперативным дежурным, возглавлял управление боевой подготовки, пока, наконец, не стал заместителем начальника штаба флота по боевому управлению — начальником командного пункта флота. А в прошлом году контрадмирал Владимир Лебедько принял самую ответственную и хлопотливую штабную должность начальника оперативного управления.
На всех этапах своей службы в штабе Северного флота Владимир Георгиевич проявил себя беспокойным, неравнодушным, оригинально мыслящим, преданным военной профессии человеком, способным справляться с великим множеством сложных, а порой и весьма непредсказуемых обязанностей. Об этом в разные периоды рассказывали мне хорошо знакомые вице-адмиралы В. Г. Кичев и В. Н. Поникаровский. Да и нынешний начальник штаба флота Вадим Коробов уже успел высказать несколько слов о высоких профессиональных качествах Владимира Лебедько.
Вот такой «тёртый калач», разложив на длинном столе карты, таблицы и справки, докладывал о состоянии сил вверенного мне Северного флота. Он говорил о том, что флот представляет собою ныне уникальное оперативно-стратегическое объединение, включающее такие роды сил, как подводные лодки, надводные корабли, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска и морскую пехоту, соединения и части боевого, технического и тылового обеспечения.
Флот имеет любые типы оружия, присущие всем другим видам Вооружённых Сил, начиная от межконтинентальных баллистических ракет с ядерными зарядами, а также крылатых и зенитных, корабельных и авиационных ракет, кончая танками (в том числе и плавающими) бронетранспортёрами, автоматами и гранатомётами. Но кроме того, флот располагает только ему присущими типами оружия: морскими минами, торпедами и комбинированными мино-ракетно-торпедами, стреляющими из-под воды и в воду. Именно на Северном флоте, пожалуй впервые в мировой практике, внедрены подводно-воздушно-космические разведывательно-ударные комплексы.
Слабым местом Северного флота является фронт базирования, поскольку он мал: простирается всего на 400 километров вдоль Кольского побережья, включая пункты базирования, расположенные в заливах и бухтах Баренцева моря и, кроме того, порты Северодвинск и Архангельск на Беломорье. {41}
Зато операционная зона флота огромна. Она охватывает Северную и Центральную Атлантику, а также Ледовитый океан с прилегающими морями. На этом просторе ближайшими взаимодействующими соседями являются Ленинградский военный округ, Архангельская армия противовоздушной обороны, Воздушная армия дальней авиации, Балтийский флот в Северном море, Черноморский флот на Средиземном и даже Тихоокеанский флот в Чукотском море.
Завершив общую характеристику сил флота, начальник оперативного управления перешёл к детальному изложению состава и состояния каждого объединения или соединения, подчинённого непосредственно командующему флотом. Он докладывал, что главную ударную силу ныне представляют подводные лодки, сведённые в три флотилии, базирующиеся в губах Западная Лица, Ягельная и в Иокангском заливе, а также в две эскадры, дислоцированные в Ура-губе и Екатерининской гавани.
Всего в этих объединениях состоит четыре дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (46 вымпелов), три дивизии подводных лодок с крылатыми ракетами (35 вымпелов), четыре дивизии многоцелевых атомоходов (35 вымпелов) и шесть бригад дизельных субмарин (67 вымпелов). Количество подводных лодок на флоте перевалило за 180 и продолжает наростать. В будущем году ожидается поступление от промышленности (после постройки или модернизации) не менее 10 атомоходов. 65—70% от общего числа подлодок содержится в составе сил постоянной готовности, четверть из которых — всегда в море на боевой службе. Остальные 30–35% в резерве по уровню боевой подготовки экипажей, в ремонте или модернизации.
Крупные надводные корабли океанской зоны были объединены в оперативную эскадру трехбригадного состава, а также дивизию, состоящую из двух бригад и, кроме того, отдельную бригаду десантных сил. В их составе авианесущий крейсер «Киев» и такие красавцы третьего поколения, как хорошо знакомые мне атомный крейсер «Киров», эсминцы типа «Современный» и большие противолодочные корабли типа «Вице-адмирал Кулаков». Но всё же основную массу составляют крейсера, противолодочные и десантные корабли, а также эсминцы второго поколения. Вся эта армада базируется, к сожалению, только в Североморске и близлежащих бухтах Кольского залива.
В то же время кораблей ближней морской зоны несравнимо больше — до 150 вымпелов. В их составе малые ракетные, противолодочные, сторожевые корабли и тральщики. Они распределены по пунктам базирования вдоль Кольского побережья. Дивизия кораблей охраны водного района — в {42} Полярном, отдельные бригады — в Линнахамари, порту Владимир, Сайда-губе, губе Долгая Западная, Гремихе и Северодвинске.
Контр-адмирал Лебедько подробно характеризовал каждое соединение, пункт базирования, типы кораблей. Он отметил, что 60 % всех кораблей содержатся в постоянной готовности и что в ближайшие годы ожидается пополнение флота ещё одним авианесущим, двумя ракетными крейсерами, большим десантным кораблём, несколькими новейшими эсминцами и противолодочными кораблями.
Сосредоточивать моё внимание на состоянии военно-воздушных сил флота начальник оперативного управления не стал, учитывая, что пару дней назад генерал Потапов подробно доложил мне этот вопрос. Лебедько напомнил только, что ВВС флота включают ныне морскую ракетоносную авиационную дивизию трехполкового состава и, кроме того, ряд отдельных авиационных полков, среди которых пять противолодочных, два разведывательных, один транспортный, один специальный и, наконец, два полка корабельной авиации: штурмовой и вертолётный противолодочный.
В составе ВВС самолёты-ракетоносцы Ту-16, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, Бе-12, вертолёты Ми-14, Ми-8, разведчики Ту-95рц, Ту-16р, транспортные самолёты Ан-12, Ан-24, Ан-26, а также предназначенные для обеспечения испытаний оружия Ил-28 и, кроме того, палубные штурмовики с вертикальным взлётом ЯК-38 и корабельные вертолёты Ка-25, Ка-27. Всего 380 летательных аппаратов, из которых 90 % в строю и состоят в составе сил постоянной готовности.
Закончив доклад об авиации, начальник оперативного управления начал анализировать состояние береговых войск в составе которых находились: ракетные полки, артиллерийские дивизионы, морская пехота...
Начопер закончил свой изрядно затянувшийся доклад перечислением входящих в состав флота частей боевого, технического и тылового обеспечения, а также бригад и дивизионов вспомогательных судов.
— Итого в составе Северного флота, — резюмировал контр-адмирал Лебедько, — три флотилии, столько же эскадр, военно-воздушные силы, Беломорская ВМБ, шестнадцать дивизий, тридцать одна бригада, девятнадцать полков, шестнадцать отдельных дивизионов, двадцать три технические базы оружия...
Он перевёл дыхание, но опасаясь, что начальство может прервать этот поток числительных, продолжал:
— Боевых кораблей — 395, вспомогательных судов — 290, летательных аппаратов — 380. На флоте служат 120 000 военных {43} моряков, среди которых 160 адмиралов и генералов, 36 000 офицеров, 6000 офицеров авиации, 35 000 военных строителей и 85 000 рабочих и служащих.
— А если прибавить к ним кучу жён и детишек, — поднял вверх палец пришедший на помощь коллеге вице-адмирал Усенко, — то в круге нашего внимания окажется около полумиллиона человек. Учитывайте это, товарищ командующий, — обратился Николай Витальевич уже в мою сторону.
Поблагодарив Владимира Георгиевича Лебедько за обстоятельный доклад и взглянув на часы, я пригласил присутствующих отобедать вместе, с тем чтобы легче было выдержать тот поток информации, который собирается, по-видимому, обрушить на нас Вадим Константинович Коробов.
За обедом в маленьком уютном салончике присутствовало человек двенадцать. Помещение и порядки в нём были мне хорошо знакомы ещё по тем временам, когда я приезжал из Западной Лицы в Североморске, чтобы решать служебные проблемы. Попасть на приём к командующему флотом оказывалось не всегда возможно, зато пообедать с ним вместе — проще простого. Однако на этот раз особенность состояла в том, что я примостился не на левом фланге, как в прошлые годы, а уселся в кресло, стоящее во главе стола. Остальные офицеры стояли, ожидая приглашения.
— Кто в этом кресле сидит, — хитро улыбнулся Николай Усенко, — тот за всё и... отвечает.
— Вы хотели сказать, что тот за всё и платит? — парировал я. — Не возражаю, Николай Витальевич, но подождём до лучших времён. До Нового года, например. Прошу к столу.
Коробов сел слева от меня. Усенко — напротив него, справа. Рядом расположился Кругляков. Следом разместились остальные присутствующие. А в конце стола приютился оперативный дежурный действующей смены, который по обычаю столовался в салоне с тем, чтобы находиться всего в нескольких секундах хода от телефонов оперативного зала повседневного командного пункта.
Обедали не спеша, поддерживая неторопливый разговор. Служебные дела, даже впечатления, старались не затрагивать. Не принято. Подобная традиция заведена в салоне ещё со времён адмирала Лобова. Для разговоров предполагались темы искусства, спорта, литературы, истории, порою телевизионных, а то и семейных новостей. Я больше слушал, чем говорил, поскольку кают-компания, по-моему мнению, должна служить не столько харчевней, сколько местом неформального общения офицеров, благоприятной обстановки и моральной атмосферы.
Правда, Владимир Лебедько, оставаясь в круге проблем недавнего серьёзного доклада, пытался было вставить в разговор {44} несколько фраз о роли и месте Северного флота в стратегической ситуации на Атлантике, но вице-адмирал Коробов остановил его выразительным взглядом и стригущим жестом двух пальцев поперёк галстука. Этим напоминалась заповедь кают-компании: «Тому, кто за столом о службе молвит, — конец галстука обрезать безжалостно!»
Все заулыбались, но вице-адмирал Кругляков тут же предложил более цивилизованную, на его взгляд, меру. Надо, дескать, установить посреди стола специальную тарелочку. Тот, кому не терпится поболтать на служебные темы, пусть бросает в тарелку рубль и вещает сколько не лень. Рубль — купюра серьёзная. Весь расход на военторговский обед, ценою в 90 копеек, покрывает. Доход можно использовать на нужды кают-компании. Окружающие сдержанно гоготали, а Лебедько полез за кошельком, утверждая при этом, что за хорошую мысль рубля не жалко.
Однако всё приятное кончается быстро. Закончился и этот обед. А вскоре мы вновь оказались в кабинете возле длинного стола, на котором вице-адмирал Коробов разложил карту обстановки и планы боевой службы. Его доклад был предельно кратким, поскольку всё отражала карта, содержащая впечатляющую панораму того, чем ежечасно занят Северный флот. Я даже внутренне присвистнул от удовольствия при одном взгляде на подобное великолепие, но виду, разумеется, не подал.
Несколько десятков подводных лодок и надводных кораблей несли свою службу, находясь в Карском, Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях, возле Азор и Ньюфаундленда, Бермудских островов и побережья Испании, в водах Карибского моря и Гвинейского залива. Отдельная группировка североморских подводных лодок, переданная на время службы под управление Черноморскому флоту, действовала на Средиземном море. С аэродромов Кубы и Анголы вылетали в Атлантику наши тяжёлые самолёты-разведчики. Даже в Индийском океане рыскала на подходах к Персидскому заливу тактическая группа подводных атомоходов из Западной Лицы.
Все эти силы решали самые разнообразные задачи. Они осуществляли наблюдение за деятельностью иностранных судов и авиации в океане, выявляли коммуникации и их оборудование, изучали условия плавания и возможного использования оружия в вероятных районах боевых действий. Часть сил вела разведку американских авианосцев, осуществляя непосредственное слежение или передавая контакты с ними другому роду сил от рубежа к рубежу. Противолодочные силы занимались разведкой системы противолодочной войны, а также поиском подводных лодок иностранных государств. {45} Важную роль играла задача вскрытия и воспрещения разведывательной деятельности кораблей и самолётов стран НАТО.
Особый интерес вызвала у меня карта, которую Коробов вынул из особой папки, предварительно попросив всех присутствующих офицеров, кроме Круглякова и Усенко, выйти из кабинета. На этой карте были изображены районы и маршруты боевого патрулирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (рпк СН), в данное время находящихся в установленной готовности к нанесению (по приказу Верховного Главнокомандующего) ракетно-ядерных ударов по заранее спланированному комплексу объектов.
Далее начальник штаба отметил, что все эти действия, именуемые боевой службой, имеют целью поддержание высокой боевой готовности для предотвращения возможного внезапного нападения противника с моря. При необходимости существующая система повышения оперативных готовностей позволяет в установленные сроки наращивать количество кораблей, несущих службу в тех или иных оперативно важных районах океана.
Вице-адмирал Коробов говорил о том, что совокупность походов кораблей, полётов самолётов, действий групп и группировок сил Северного флота (на различных направлениях операционной зоны и даже за её пределами) представляет собою основную форму оперативного применения сил в мирное время. Подобная уникальная форма, присущая только Военно-Морскому Флоту, является составной частью стратегического развёртывания Вооружённых Сил СССР. При этом флот служит их передовым эшелоном в Атлантике. Таким образом боевая служба должна обеспечить благоприятные условия не только для своевременного развёртывания всех боеготовых сил Северного флота и решения основных задач в его первой, заблаговременно спланированной операции, но и для ведения стратегической операции группировкой Вооружённых Сил на Атлантическом океанском театре военных действий.
— Всего на 1982 год запланировано 200 походов на боевую службу, — подводил итоги начальник штаба, — среди них 60 походов рпк СН, 100 — других атомных и дизельных подводных лодок и 40 походов надводных кораблей. Кроме того, военно-воздушные силы флота по плану боевой службы совершат не менее 1600 самолёто- и вертолето-вылетов в море...
Вадим Константинович заверил меня, что утверждённый Главкомом план боевой службы является законом для флота, основой его повседневной деятельности. При этом штаб флота, понимая значение боевой службы, как высшей формы боевой готовности, прилагает максимум усилий для контроля, обеспечения и управления этим непрерывным процессом. {46}
После небольшого перерыва начальник штаба сменил декорацию, выложил передо мной толстенные красные папки, содержащие основные документы заблаговременно разработанного и периодически уточняемого плана первой операции флота. Он предупредил, что вникнуть в детали при первом докладе вряд ли представится возможным: слишком велик объём документов. Поэтому предложил ограничиться только докладом замысла операции. Я согласился, и Коробов коротко, но толково довёл до меня основные идеи, ведущие к достижению поставленной цели. Смущало только, что эти идеи принадлежат не мне, а моим предшественникам. Они, разумеется, не чужды моим представлениям о достижении успеха в возможной, к сожалению, войне на море. Однако древняя заповедь гласит: подвергай всё сомнению. Замысел — продукт личного творчества командующего.
Об этом я и сказал начальнику штаба, который взмолился и просил в ближайшее время ничего не менять, поскольку переработка плана первой операции — дело весьма серьёзное, требующее гигантской работы, в частности отдела оперативного планирования. Пришлось успокаивать Вадима Константиновича.
Потом мы ещё долго, до самого вечера, разговаривали о флоте и моряках, рассматривая многие стороны их службы и жизни. Обсуждали проблемы, узкие места, нерешённые вопросы. Кругляков, к примеру, упомянул, что на недавнем оперативном сборе совершенствовались далеко не блестящие знания «Основ», определяющих подготовку и ведение операций Вооружёнными Силами СССР. Проверялись практические и методические навыки командующих объединениями, командиров соединений, начальников штабов и политорганов в подготовке операций флотилий, эскадр и морских операций, в планировании и организации всех видов обеспечения. В целом первый заместитель командующего оценил всё же оперативную подготовку руководящего состава флота, как вполне удовлетворительную, но требующую совершенствования.
Я слушал, кивал головой и думал о том, что должен иметь собственное мнение об уровне оперативной подготовки, более того — обязан влиять на неё. Плохо, коли сбор прошёл без моего участия. Как же теперь раскручивать очередной учебный год? Мелькнула даже мысль: а не повторить ли это мероприятие, допустим, в иной форме?
Следует всё это обдумать. Ведь я сам неоднократно в прошлом высмеивал пресловутый принцип «новой метлы», которая поначалу всегда чисто метёт. Не гоже начинать с экстремальных поступков. Итак уж, кажется, огорчил Вадима Коробова своими скороспелыми рассуждениями относительно замысла первой операции флота. Кому, спрашивается, охота {47} делать «лишнюю» работу, когда в плане уже поставлена отметка «вып.»? Конечно, одними усилиями штаба тут не обойтись. Придётся задействовать всю огромную человеко-машинную систему, именуемую флотом, поскольку к возможной войне в равной степени необходимо готовить и технику, и людей.
О людях, славных североморцах, много и хорошо говорил Николай Усенко. Рассказывая про тяжелейший воинский труд военных моряков, упомянул всех — от матроса до адмирала. Он говорил о коммунистах и комсомольцах, составляющих основу личного состава Северного флота. Приводил примеры величайшего трудолюбия, выдержки, выносливости, а порою и настоящего героизма как отдельных людей, так и целых коллективов, составляющих экипаж корабля.
Наконец член военного совета дал краткую характеристику этому коллегиальному органу военного руководства. Усенко не без гордости назвал Совет дружным, сплочённым коллективом единомышленников, способных принципиально, на партийной основе, не только обсуждать, но иногда и решать важнейшие проблемы жизни флота.
Не обошёл Николай Витальевич и трудные вопросы аварийности, воинской и бытовой дисциплины, морали и нравственности, недостаточной обустроенности, хозяйственной безалаберности, ошибок в подборе и расстановке кадров... Однако не эти досадные проблемы, по мнению члена военного совета, определяют лицо флота. Главное в том, что Северный флот — надёжный оплот Родины, грозная сила, которую боятся и с которой вынуждены считаться заморские империалисты.
Разумеется, всё услышанное не являлось для меня откровением. Однако голова, словно чугунная, гудела от обилия информации, а масштабы предстоящей деятельности и количество случайных факторов, влияющих на успех, внушали определённое беспокойство. Придётся, засучив рукава, разбираться в мельчайших деталях всех видов подготовки сил и войск, командования и штабов, объединений и соединений, к той сложной, порой смертельно опасной работе, которая как раз и делает флот грозной силой. Нужно учиться управлять, обеспечивать, помогать, а в экстренных ситуациях действовать хладнокровно и без оглядки. А вкалывать, конечно, придётся, коли выбрал себе такую профессию.
| {48} |
Несколько последующих дней я осматривался, привыкал ко внутреннему распорядку в штабе флота, приглядывался к людям, меня окружающим. Ежедневно в 7.30 утра выходил из дома, где у подъезда уже пофыркивала двигателем чёрная «Волга», и ехал потихоньку вдоль улицы Сафонова к Приморской площади. Миновав гигантский монумент-памятник морякам-североморцам, защитникам Советского Заполярья, машина сворачивала направо и выезжала к причальному фронту. Там, у многочисленных плавучих причалов, стояли крупные океанские боевые корабли оперативной эскадры.
Возле проходной меня обычно встречал командир эскадры вице-адмирал Виталий Зуб. Я приглашал его в машину, и мы медленно ехали по белой от снега, ярко освещённой причальной стенке вдоль строя высоко поднятых, окрашенных в шаровой цвет форштвней. При этом сами корабли как бы растворялись в ночной тьме, обозначая своё присутствие лишь штаговыми огнями, палубным освещением, мерцающими иллюминаторами надстроек. А вокруг всё чисто, строго, внушительно. Красотища неописуемая. Словом, милая моему сердцу картина.
О том я и сказал однажды командиру эскадры. В ответ довольный Виталий Иванович, широко улыбаясь, принялся показывать, кто где стоит, перечислять названия кораблей и соединений. При этом он не только упоминал фамилии их командиров, но умудрялся давать каждому краткую характеристику.
Тем временем на кораблях начали готовиться к утреннему подъёму флагов. Над рейдом, в морозном ночном воздухе разливались звуки корабельных горнов, создающих неповторимую разноголосицу сигнала «Повестка». До подъёма флагов — 15 минут.
Машина выезжала с причального фронта и обычно останавливалась у восточных ворот, открывающих путь к штабу флота, как раз в то время, когда на клотиках мачт флагманских кораблей вспыхивали красные огни сигнала «Исполнительный» — приготовиться, через 5 минут подъём флага. {49}
Попрощавшись с командиром эскадры, оставив его возле своих кораблей, я трогался дальше, мысленно представляя, как в эти минуты на кораблях строятся по большому сбору экипажи, суетятся старпомы, выходят к людям отцы-командиры. Этот нехитрый, но знакомый с ранней юности ритуал не только пощипывал сердце — он оставлял ощущение вечности, фундаментальности, несокрушимости флота и его традиций: так было всегда, будет и впредь.
Автомобиль притормозил у парадного подъезда штаба флота. Поднявшись по ступеням на верхнюю площадку центрального входа, я обернулся, чтобы ещё раз бросить взгляд на разноцветные огни простирающегося вдали рейда. В ту же минуту погасли красные клотики, ударили корабельные склянки, раздались усиленные динамиками знакомые команды, запели горны, поползли вверх подсвеченные прожекторами флаги и гюйсы. Через минуту всё стихло, потухло, успокоилось. Я толкнул наружную дверь вестибюля внушительного здания и вслед за тем был оглушён громогласной командой. Это дежурный офицер по штабу флота подходил с рапортом.
— Вольно!
Рабочий день начался.
Первым среди должностных лиц, принимаемых ежедневно и обязательно, в кабинете появляется начальник гидрометеорологической обсерватории флота полковник Дмитрий Мамонов — мой старый знакомый. Вот уже двадцать лет подряд Дмитрий Антонович возглавляет эту весьма нужную всем морякам службу. Развернув синоптические карты, он докладывает о том, с какими условиями коварной северной погоды встретятся сегодня корабли в море и в базах. Затем характеризует особенности типов распространения звука в толще вод и, следовательно, условий единственно возможного в подводной среде звукоподводного наблюдения.
А я вспоминаю, как в минувшие годы под руководством полковника Мамонова была разработана и внедрена в практику методика специализированного гидрометеорологического обеспечения всех видов боевой подготовки сил флота с учётом факторов влияния среды на возможность и особенности применения любых видов морского оружия. Именно Мамонов руководил гидрометобеспечением первых походов атомных подлодок, в том числе и трёх моих личных нырков под лёд Центральной Арктики. Дмитрий Антонович пользуется всеобщим уважением.
Вслед за Мамоновым обычно появляется начальник канцелярии капитан 3-го ранга Виктор Таран, таща с собой несколько папок с кипой документов текущей переписки. Всё это нужно успеть проглядеть, определить исполнителей, расписать поручения, установить контроль. Противная эта работа, {50} однако совершенно необходимая, поскольку формирует то информационное поле, в котором существует командующий и работает штаб.
— Это поначалу так много, — успокоил Таран, — потом будет меньше.
Затем, видимо, оценив выражение моей физиономии, начальник канцелярии добавил:
— Да положите вы их в сейф, товарищ командующий. Пусть немного полежат документы, сок дадут. А на досуге разберётесь...
Пришлось объяснить офицеру, что поступать подобным образом не очень умно. Документы, лежащие мёртвым грузом в личном сейфе должностного лица, по существу заморожены. Доступа к ним нет, в то время как они, возможно, очень нужны другим офицерам. Держать документы в сейфе — значит сознательно тормозить то дело, которому служишь. У меня нет такого права. А канцелярия на то и существует, чтобы обеспечить доступ к документам всем, кому положено.
Повоспитывав начальника канцелярии подобным образом, я отдал ему ключи от сейфа и приказал убрать из кабинета это, стоящее в углу, раскрашенное под орех стальное чудо, дабы не оставалось впредь соблазна сунуть туда документы, а потом, к примеру, уйти на неделю в море. Ну а для личных нужд я попросил Тарана подобрать маленький стальной ящик и установить его в одной из секций мебельной стенки, замаскировав полированной дверцей.
Потом пришлось всё же заняться изучением документов. Однако ровно в 9.50 снова вызвал начальника канцелярии и возвратил ему все не только прочитанные, но и оставленные до лучших времён бумаги. Заметил при этом, что уважаемый капитан 3-го ранга, видимо, осознаёт, что ежели командующий — в штабе, то начальник канцелярии должен находиться неподалёку вне зависимости от времени суток. Выражение лица офицера свидетельствовало о достигнутом взаимопонимании.
Оставшись один, я с облегчением и удовольствием провёл ладонью по совершенно пустому столу. Не понимаю людей, у которых рабочий стол постоянно завален кипами нужных и не очень нужных бумаженций или иной макулатуры. Тем более недопустимо подобное для военачальника, который обязан смотреть значительно дальше собственного носа.
10.00 — время начальника штаба флота. К этому сроку Вадим Константинович уже принял утренние доклады оперативного дежурного, а также своих начальников управлений, отделов и служб. В назначенный час он появляется в моём кабинете и коротко, только по карте, докладывает текущую обстановку. Делает это вице-адмирал Коробов настолько {51} умело и чётко, что вопросов у меня, как правило, не появляется. Впрочем, может быть потому, что не сформировалось ещё собственное видение и не накопилась критическая масса знаний, способная вызвать взрыв сложившихся стереотипов. Тем не менее через 15—20 минут доклад окончен, обязательный утренний «ритуал» завершён, и я свободен в выборе дальнейшей деятельности.
Нажав кнопку на пульте внутриштабной связи, чтобы уточнить обстановку у адъютанта, я услышал обеспокоенное сообщение о том, что тут, дескать, куча народу, и потому решил выйти в приёмную сам. Распахнув дверь, обнаружил группу адмиралов и офицеров с портфелями и папками в руках. Сидевшие встали, стоящие обернулись в мою сторону.
— Что вы тут делаете, товарищи офицеры?
— Вопросов накопилось много, — ответил за всех начальник гарнизона города Североморска контр-адмирал Альберт Акатов.
— Задавать вопросы командующему вроде бы не принято, скорее, наоборот, — не удержался я и, оглянув собравшихся, добавил:
— А вы всё, что же, так и будете сидеть и ждать, пока я на вопросы Альберта Васильевича отвечаю?
— Мы не спешим, товарищ командующий, — вставил слово начальник управления кадров контр-адмирал Виктор Смарагдов.
— Подождём, — хмуро добавил стоящий рядом главный финансист флота генерал-майор Иван Бурнаев. Остальные молча переминались с ноги на ногу. А я думал о том, что всё это непорядок. Плохо, когда в приёмной толпа. Неужто я теперь разорваться должен? Какой же ты командующий, если не можешь рационально организовать собственную деятельность и работу подчинённых? Этак они меня в кабинетного сидельца превратят! Нужно срочно сочинить собственный распорядок дня. Расписать в нём ежедневные дела и периодическую деятельность. Отвести львиную долю времени работе на кораблях и в частях. Установить приёмные дни и предварительную запись, с назначением конкретного времени каждому посетителю. Вывесить этот распорядок в штабе и разослать его в соединения и части. Ну а сегодня придётся принимать и выслушивать людей, раз уж они собрались.
Первым я пригласил в кабинет генерала Бурнаева. Он, сколько помню, будто бы извечно возглавлял финансовую службу флота. Массивный, седой, немногословный генерал и на этот раз не стал пространно витийствовать. Лишь сухо и точно доложил параметры годового бюджета Северного флота. Один миллиард рублей, из которых 400 миллионов предназначено для содержания флота, 240 миллионов — на ремонт {52} кораблей, оружия и техники и, наконец, 360 миллионов — на капитальное строительство.
— Недостатка в деньгах флот не испытывает, — хмурился генерал, — тем более, что подавляющая часть бюджета — это безналичка, которая, как известно, является скорее формой учёта труда, чем реальным финансированием.
Потом Бурнаев сказал несколько слов о том, что бюджет требует строгости, дисциплины и экономии. Напомнил о роли командующего флотом в обеспечении подобных требований, поскольку только ему дано право подписывать финансовые документы. Рекомендовал отпущенное по плану осваивать полностью, иначе невостребованные суммы на следующий год будут исключены из бюджета.
На мой вопрос о том, почему маловат фонд судоремонта, генерал ответил, что дело не в деньгах, а в производственных мощностях судоремонтных предприятий. Сумеем, дескать, увеличить мощности — будут и деньги. В заключение он заверил, что все мои финансовые инициативы, в пределах бюджета и в рамках закона разумеется, будут поддержаны.
— А вот это, — наконец-то улыбнулся Бурнаев, доставая из кожаной папки скромный конвертик, — Ваше личное денежное довольствие за декабрь.
Взглянув на цифирь, помеченную карандашом, я присвистнул. Ого! Почти в полтора раза больше, чем получал в Ленинграде. Впрочем, много ли человеку надо? Пусть жена радуется. Всё это больше по её части.
Поблагодарив генерала Бурнаева за короткий, но обстоятельный доклад и с улыбкой напомнив ему, что деньги существуют для того, чтобы их тратить, а не экономить, я отпустил финансиста.
В тот день пришлось принять ещё человек пятнадцать, среди которых, кроме упомянутых, оказались такие серьёзные фигуры, как первый заместитель начальника штаба флота контр-адмирал Марс Искандеров, начальник медицинской службы генерал-майор Владимир Жеглов и заместитель командующего флотом по строительству генерал-майор Олег Аниканов. Последний подробно и серьёзно докладывал о той огромной работе по обустройству флота, которую делает Северовоенморстрой.
Этот коллектив военных строителей только в минувшем году возвёл на территории различных гарнизонов 25 новых специальных технических сооружений, среди которых хранилища оружия, цеха заводов, котельные и, наконец, здание учебного центра в Североморске. Построено 49 жилых домов на 2600 квартир общей площадью 125 800 квадратных метров. Освоено 360 миллионов рублей, в том числе 130 — на текущие строительные работы, 100 — на монтаж оборудования и ещё 130 — на ввод построенных объектов в эксплуатацию. {53}
Аниканов рассказал о тех трудностях, которые создают строителям сложные условия снежной и тёмной заполярной зимы. Говорил о гранитных массивах, поддающихся только взрывчатке или о вязких болотах, в которых тонут, не находя опоры, самые длинные сваи. Вспоминал годы, когда обустраивал Гремиху, будучи там начальником работ. Заверял, что военные строители, несмотря на трудности, со своими задачами всегда справлялись. Справятся и впредь.
Однако в конце концов генерал вдруг спросил, не хочу ли я привести в порядок свой служебный кабинет, расширить комнату отдыха, заменить деревянные панели на стенах.
— Мы сделаем это в два счёта и от души, — улыбался Олег Карпович.
Пришлось объяснить генералу, что начинать деятельность с собственного кабинета порядочному человеку не гоже. Затем пообещал ему весеннюю рекогносцировку всего побережья Кольского полуострова с целью определиться в генеральном направлении капитального строительства. На том и расстались, довольные друг другом. А к исходу дня у меня сложилось такое впечатление, будто все многочисленные посетители не столько решали конкретные вопросы, сколько вели разведку. Что, дескать, представляет собой новый командующий?
Это плохо. Значит моё ближайшее окружение испытывает недостаток информации и, следовательно, надлежит сделать выводы по результатам своих первых шагов и объявить эти выводы людям. Лучше всего провести заседание военного совета, на которое стоит пригласить весь руководящий состав флота. Выступить с докладом, поставить задачи... Равно как и послушать мнения по решению наболевших вопросов. Одним словом, пора произносить «тронную речь», выносить на суд подчинённых собственное кредо.
Однако дело это не простое, военный совет — не шутка и заседание следовало тщательно готовить. Но всё же провести его наметил не позже первой половины января. А до того весьма полезно обменяться мнениями с членами военного совета и в первую очередь со старейшим среди них — первым секретарём Мурманского обкома Владимиром Николаевичем Птицыным.
Он мой ровесник. В 1943 году, после школы, был призван в армию. Участвовал в боях Великой Отечественной, получил ранение. После войны окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. Работал мастером и главным инженером литейно-механического завода. Вот уже более двадцати лет живёт и трудится в Мурманске, куда его направила Ленинградская партийная организация. Он был здесь заведующим отделом и секретарём обкома КПСС, заместителем и председателем областного исполнительного комитета. {54}
Ну а последние десять лет член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР В. Н. Птицын возглавляет Мурманский обком. Он является первым лицом в области, но в то же время состоит членом военного совета Северного флота. Ему довелось долго и дружно работать совместно с такими уважаемыми моими предшественниками, как адмиралы С. М. Лобов, Г. М. Егоров, В. Н. Чернавин. Так что я для него — четвёртый.
Среди нынешних только Птицын уже входил в состав Военного совета флота в ту пору, когда я только ещё объявился на первом своём заседании, будучи назначенным командующим атомной флотилией. Уже тогда, не без участия Владимира Николаевича, коммунисты области избрали меня членом обкома партии. Таким образом, мы с Птицыным знакомы давно. Он всегда представлялся мне скромным, дружелюбным, может быть, излишне спокойным, но достаточно настойчивым, обаятельным, интеллигентным человеком. Как это я, делая первые служебные шаги, не удосужился до сих пор смотаться в Мурманск, чтобы засвидетельствовать своё почтение первому секретарю обкома? Непростительно!
Мурманская область почти целиком умещается на Кольском полуострове. С трёх сторон она омывается водами Баренцева и Белого морей. Лишь на западе имеет 300 километров сухопутной границы с Финляндией и около 100 — с Норвегией. Небольшой, всего 200-километровый южный участок, разделяющий Мурманскую область и Карелию, практически совпадает с Северным полярным кругом.
Природа здесь вполне соответствует представлениям о суровом заполярном крае. На побережье Баренцева моря неприступные гранитные скалы. Чуть дальше, в полосе 30–50 километров, простирается тундра, потом лесотундра и лишь в южных районах, возле Ковдозера и Кандалакшского залива начинается карельская тайга.
Зима приходит в сентябре и кончается в мае. Зато июнь, июль и август, когда зеленеет мох и распускается листва, освещаемая незаходящим оранжевым солнцем в распадках бурных речек и синих озёр, делают короткое заполярное лето прекрасным.
В недрах Кольского полуострова содержатся железные, медные, марганцевые, никелевые руды, а также фосфориты, апатиты и слюда. Пока освоена лишь западная часть полуострова, где в горнопромышленных очагах — городах Печенге, Никеле, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре — осуществляется добыча и обогащение горных пород.
Примерно посредине полуострова, среди суровых Хибинских гор, расположился Кировск, а неподалёку, у западных отрогов, — город Апатиты. Здесь живут и работают люди, снабжающие страну важнейшим минеральным удобрением, {55} прозванным в народе «камнем плодородия». Кроме того, в этом городе размещается Кольский филиал Академии наук СССР, ведущий изучение ресурсов области. Энергетической базой Кольского полуострова служат многочисленные гидроэлектростанции на реках Тулома, Ковда, Серебрянка и других. Здесь же работают Кислогубская приливо-отливная ГЭС, а также Кольская атомная электростанция.
Однако не единым богатством недр славится край. Главное его достояние — это рыба и другие морепродукты, которые моряки Мурмана промышляют не только в ближних водах, но в любых регионах Мирового океана, вплоть до южных широт Атлантики или даже у берегов Чили. А в центральных районах области культивируется оленеводство, работает зверосовхоз, производящий ценные породы норки, куницы, песца. Гордостью Кольских речек издавна является изумительная сёмга, с которой несравнима любая рыба. В последние годы начали развиваться молочные животноводческие и птицеводческие фермы. Правда, на привозных кормах. Однако это проще и дешевле, чем завозить готовое молоко, мясо, яйцо из центра страны.
На правом берегу обширного Кольского залива, всего в 50-ти километрах от выхода в Баренцево море, расположился самый крупный среди заполярных городов мира — административный центр области, город-порт Мурманск. Количество жителей здесь перевалило за 400 тысяч, что составляет почти половину населения области. Более чем на 20 километров, от устья рек Туломы и Колы, почти до самого Североморска, разместились на горных склонах кварталы вполне современных жилых домов с предприятиями социально-культурного назначения. А берег залива занят производственными сооружениями. Здесь и цеха крупнейшего в стране рыбообрабатывающего комбината с огромными холодильниками, и судоремонтные заводы с плавучими и стационарными доками, способными принимать океанские корабли, и портовые терминалы, предназначенные для обработки сухих, сыпучих и жидких грузов.
Порт Мурманск доступен для судов любого водоизмещения. Он не замерзает, работает круглый год, имеет грузооборот свыше 7 миллионов тонн, оборудован 17-ю глубоководными причалами, вполне современными погрузо-разгрузочными механизмами. Здесь базируется Мурманское морское арктическое пароходство с его атомными ледоколами, а также траловый и сельдяной рыбопромысловые флоты. Морской вокзал порта обслуживает в год до 700 тысяч пассажиров.
Мурманск — важнейший транспортный узел — исходный пункт Северного морского пути, начало океанских маршрутов во многие государства мира. Внутри страны железная дорога и автомобильная магистраль соединяют Мурманск с Ленинградом. {56} Аэропорт, расположенный неподалёку от города и способный принимать современные воздушные лайнеры, связывает его регулярными рейсами с Москвой, Ленинградом, Архангельском, Петрозаводском и аэропортом Лонгийр на Шпицбергене.
Не удивительно, что экономика области тесно увязана с горной промышленностью и гидроэлектроэнергетикой, морским транспортом и судоремонтом, рыболовством и рыбообработкой, капитальным строительством и промышленностью стройматериалов. Эта экономика обеспечивается очень высоким кадровым потенциалом специалистов.
Примерно об этом, впрочем, как и о многом другом, рассказывал мне Владимир Николаевич Птицын, когда на следующий день мы встретились с ним в Мурманске, в здании обкома КПСС. Он говорил, что жителям области крупно повезло в связи с тем, что на её территории базируется наиболее мощный и технически совершенный военный флот государства.
Именно благодаря присутствию Северного флота бурными темпами развиваются ядерная энергетика и судоремонтная промышленность, железнодорожные, автомобильные и воздушные транспортные системы, аэродромная сеть. Словно грибы растут новые города и населённые пункты городского типа, такие, например, как Заозерск, Гаджиево, Видяево, Островной, Гранитный, Туманный. Лет двадцать тому назад о них и слуху не было. Со временем все населённые пункты, разбросанные по берегам Кольского залива, по мнению Птицына сольются в единый Большой Мурманск.
Флот для области служит поставщиком квалифицированных кадров. Многие матросы и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры и даже адмиралы, завершив свою воинскую службу, остаются жить и работать в Мурманске, пополняя ряды рабочего класса и технической интеллигенции.
Мы расстались, довольные друг другом. Вышли вместе и попрощались уже на улице, возле подъезда здания обкома. Птицын пошёл пешком, благо жил неподалёку, а я поехал на вокзал встречать жену.
Экспресс «Полярная стрела» пришёл точно по расписанию, а небезызвестный спальный вагон остановился как раз возле того места, где в ожидании поезда мы обменивались впечатлениями о сегодняшнем посещении обкома с вице-адмиралом Петровым. Знакомый проводник распахнул дверь и стал рядом, а из вагона один за другим пошли солидные дяди в ондатровых шапках.
Наконец на перроне показалась улыбающаяся Нина. И тут же, с ловкостью, вызвавшей восхищение, Владимир Иванович опередил меня и перехватил чемодан, оттягивающий руку дамы. {57}
— Как это вам удалось столь быстро обменяться позывными? Вы же её ни разу не видели? — заметил я Петрову.
— Однако сразу узнал, — отреагировал Владимир Иванович. — По училищным временам. В ту пору курсанты живо интересовались тем, какая девушка у нашего старшины роты. Нина Николаевна ни капельки не изменилась.
Последняя фраза была адресована явно не мне, но, взглянув на просиявшую жену, я понял, что комплимент угодил точно в цель. Теперь, что бы ни случилось, заместитель командующего флотом по тылу будет ходить в её личных друзьях.
По дороге в Североморск Петров, сидя рядом с Ниной на заднем диванчике машины, рассказывал ей как хорошо живётся людям в Заполярье и что Северный — самый обеспеченный среди других флотов. Я слушал этот разговор, изредка бросая взгляд в зеркало заднего вида. По заслугам оценивал оптимизм и дипломатические способности своего заместителя, но всё же не мог избавиться от некоторого раздражения. Чего это он, прослуживший на Севере всего пару лет, объясняет про жизнь женщине, прошедшей почти тридцатилетний путь через многие заполярные гарнизоны?
До Североморска докатили с ветерком, благо дорога чудесная — широченное прямое полотно с твёрдым гравийно-битумным покрытием. Совсем не то, что в прежние времена, когда приходилось преодолевать извилины «тёщиного языка» по раздолбанному булыжнику. Однако, когда приехали и поднялись на седьмой этаж дома № 1 по улице Сафонова, радужное настроение жены сменилось озабоченным.
— Это что такое? Целых семь комнат? Зачем столько? Нам и двух хватит. Не хочу жить в такой квартире.
Пришлось объяснить, что это не квартира, а «главкомовская резиденция», предназначенная для приёма высоких гостей и сопровождающих лиц. Пожить здесь придётся временно. До тех пор, пока Владимир Чернавин не получит жильё в Москве, что не так-то просто даже для начальника Главного штаба ВМФ. Ну а когда он перевезёт в Москву свою семью, тогда и мы переместимся на третий этаж, в штатную квартиру комфлота. Но и тут выбора не будет, поскольку именно то помещение оборудовано всеми видами правительственной и засекреченной военной связи. Домашний кабинет в этом смысле не должен отличаться от служебного. Всё! Кончилась вольная жизнь мало кому нужного ленинградского наместника. Теперь я — человек подневольный. Накрепко привязан этими телефонами к Генеральному штабу, где бы ни находился: на службе, дома, на даче, в машине или на корабле.
Обстановку, как всегда, разрядил Петров, представив жене пожилого мичмана, переминающегося с ноги на ногу в приёмной. Вице-адмирал пояснил, что мичмана зовут Виктором {58} Ивановичем. Он является комендантом здания, всё знает, всё умеет и, вне сомнения, окажет Нине Николаевне любую помощь в налаживании быта. Мичман Максимов подтвердил адмиральские заявления скромным наклоном головы.
А когда проводили гостей и остались с женой в одиночестве, посредине огромных апартаментов, то принялись смеяться над превратностями судьбы.
— Снова мы с тобой, как в лейтенантские годы, вдвоём в казённом доме с единственным чемоданом одежонки, — говорила Нина.
— Оглянись вокруг, — урезонивал я жену, — ведь всё есть — и мебель, и посуда, и постели, и утварь кухонная. Даже книг — целый шкаф.
— Есть, да не про Вашу честь. Всё наше, начиная с детей и внуков, в Ленинграде осталось.
— Тем не менее новоселье отметить положено. Загляни-ка в холодильник.
Пройдя на кухню и распахнув дверцу одного из стоящих там белых шкафов, Нина всплеснула руками, но затем прихлопнула в ладоши. Холодильник был до отказа наполнен всякой всячиной. Ай да Максимов!
Новогодние торжества, в эпицентре которых состоялся праздничный бал в Североморском доме офицеров, остались позади. Вдохновителем и организатором всех новогодних мероприятий выступал Николай Усенко. Он же настоятельно просил «командующего флотом с супругой первой парой в туре вальса открыть бал». Уговорил-таки! Впрочем, в дальнейшем я вёл себя сдержанно. Зато Нина веселилась всласть, утанцовывая не только солидных капитанов 1-го ранга из штаба флота, но и юных капитан-лейтенантов, рискнувших ангажировать «высокопоставленную» даму. Соскучилась, наверно? В чопорном Ленинграде, на обкомовских приёмах или дипломатических раутах особенно не потанцуешь. А тут, в привычной и, надеюсь, любимой со студенческих времён среде морских офицеров, оттаяла душой. Ну и хорошо! Однако лично меня одолевали другие эмоции. Дело в том, что в один из последних дней уходящего года начальник канцелярии выложил передо мной телеграмму, в которой Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов оповещал главнокомандующих всех видов Вооружённых Сил, командующих войсками военных округов и флотами, начальников главных и центральных управлений Министерства обороны, а также командиров соединений и частей о том, что отныне во исполнение Постановления правительства СССР в командование Северным флотом вступил адмирал Михайловский А. П. {59}
Сама по себе телеграмма эта недоумения не вызывала. Обычная служебная информация. Однако хлынувший вслед и продолжавшийся несколько дней поток поздравлений, оформленных на специальных бланках, открытках или в письмах, поверг меня в изумление. Никогда не предполагал, что знакомые и малознакомые военачальники таким образом будут выражать своё удовлетворение состоявшимся назначением.
Обилие добрых пожеланий щекотало, разумеется, некие струнки в душе до тех пор, пока наконец не понял, что дело тут вовсе не в моей персоне, а в том ореоле уважения, которым окружён Северный флот в масштабе всех Вооружённых Сил страны. И всё же одно из писем, написанное от руки трудночитаемым почерком, привлекло внимание больше других, поскольку было подписано адмиралом А. Т. Чабаненко.
Вспоминая годы своего командования, Андрей Трофимович полагал, что кто-либо из его воспитанников-подводников 50-х годов обязательно станет, по прошествии лет, у руля Северного флота. Адмирал радовался, что не ошибся в своё время, открывая мне дорогу в океан. Он напоминал о том, что период командования флотом — всего лишь яркое мгновение в долгой и трудной судьбе моряка. Мгновение, доступное далеко не каждому, которое тем более следует устремить во благо другим, избравшим целью жизни служение морю и флоту. Адмирал Чабаненко выражал уверенность, что я именно так и буду поступать.
Честно говоря, письмо это вызвало чувство искренней благодарности к своему знаменитому предшественнику за нестандартное и столь доброе пожелание. Придётся оправдывать!
Вот с такими благими намерениями я появился на службе в первый рабочий день наступившего нового 1982 года. Мысль о важности скорейшего проведения основополагающего заседания Военного совета флота не давала покоя. Однако «тронная речь» пока ещё не складывалась. Наверно поэтому, освободившись от утреннего ритуала обязательных докладов и дел, я вызвал секретаря военного совета — капитана 2-го ранга Владимира Ермакова.
В недалёком прошлом Володя Ермаков, симпатичный, вежливый и доброжелательный капитан-лейтенант служил адъютантом у командующего флотом адмирала Г. М. Егорова. Именно от него (адъютанта) всем нам, прибывающим в штаб по различной надобности, удавалось получать первичную информацию о порядке работы, степени нагрузки, бюджете времени, очерёдности приёма и даже о самочувствии или настроении командующего. Задачу эту Ермаков выполнял деликатно, понимая и сочувствуя стремящимся попасть на доклад к командующему, либо наоборот — уклониться от такового. {60}
Ныне Владимир Ильич повзрослел, набрался служебного опыта и, видимо, поумнел, раз уж ему доверили такое серьёзное дело, как планирование работы, протоколирование заседаний и оформление решений столь важного органа, каковым является военный совет.
Я попросил Ермакова принести «Положение о военных советах», план работы и протоколы заседаний за прошедший год, а также дело с приказами командующего флотом. Надо серьёзно вникнуть в проблематику, уяснить достигнутое, понять особенности, поддержать традиции. Нельзя ничего ломать. Лучше развивать и совершенствовать. А для этого нужно знать.
Пришлось заново штудировать прописные истины о том, что военный совет — это коллегиальный орган военного руководства, предназначенный для обсуждения и, при необходимости, решения принципиальных вопросов военного строительства, организации боевых действий, управления, обеспечения и подготовки сил и войск.
На Северном флоте работает пять таких советов. Один при командующем флотом и, кроме того, свой военсовет на каждой из флотилий атомных подлодок, а также в военно-воздушных силах. Существование системы военных советов обусловлено большим масштабом и сложностью вопросов военного управления. В некоторых условиях коллективный разум совета может оказаться важнейшим подспорьем для единоличного решения командующего.
Всё это хорошо понимали наши предшественники. До сих пор сохранилась в памяти картина художника Александра Кившенко «Военный совет в Филях», где изображён фельдмаршал М. И. Кутузов, после Бородинского сражения собравший в крестьянской избе своих генералов, чтобы обсудить вопрос — давать ли сражение под Москвой или оставить город без боя? Выслушав мнения участников военсовета, Михаил Илларионович принял тогда не лёгкое решение — оставить Москву, но сохранить армию. Главнокомандующий взял всю ответственность за подобный шаг на себя, чем и подготовил последующий разгром войск Наполеона на реке Березина, а также изгнание неприятеля за пределы Родины.
В дальнейшем, с ростом масштабов войны и значимости военного дела для государства, в России стали создаваться постоянные, штатные военные советы при командующих войсками военных округов, флагманах флотов, комендантах военных крепостей.
После Октябрьской революции, в годы гражданской войны система военных советов получила новое развитие. Эти советы, в состав которых входили не только командиры и комиссары, но и представители местных парторганизаций, {61} именовались реввоенсоветами. Они обладали правами высшего органа руководства на своей территории, были уполномочены проводить мобилизацию людских и материальных ресурсов для нужд фронта, обеспечивали «революционный порядок» .
Годы Великой Отечественной войны наложили свой отпечаток на деятельность военных советов фронтов. Они отвечали перед ЦК ВКП(б) и Советским правительством за политико-моральное состояние, боевую готовность и боевые действия войск. В местностях, определяемых указами Верховного Совета СССР, военным советам фронтов передавались все функции органов государственной власти.
После войны деятельность военных советов, с учётом новых условий и задач, была перестроена в сторону укрепления единоначалия. Они стали совещательными органами при соответствующих командующих.
Следует отметить также, что постоянные военные советы совещательного характера издавна существуют в высших военных инстанциях почти всех иностранных государств.
В состав Военного совета, на котором отныне мне предстояло председательствовать, входили вице-адмиралы Н. Усенко, В. Кругляков, В. Коробов, В. Петров, Е. Чернов, Л. Матушкин, А. Устьянцев, генерал-лейтенант авиации В. Потапов и первый секретарь Мурманского обкома КПСС В. Птицын.
Сложившаяся за многие годы практика работы нашего военсовета, насколько я помню, предполагала, как правило, одно заседание в месяц, на котором рассматривалось не более двух важнейших вопросов.
Заседание проводилось в большом конференц-зале штаба флота, куда приглашались обычно практически все командиры соединений со своими замполитами, а то и командиры частей. Члены военного совета занимали места за столом президиума. Один из них по поручению председателя докладывал с трибуны «запланированную проблему». Затем следовало обсуждение с привлечением к ответу должностных лиц, допустивших послабление или оплошность в работе. Далее (при необходимости) принималось решение военного совета, которое впоследствии объявлялось приказом командующего флотом.
Заседание, начавшись после обеда, заканчивалось порою поздно вечером. Всё это напоминало, скорее, партсобрание и мало походило на «Военный совет в Филях».
В то же время именно на таких многолюдных заседаниях было возможно уловить реакцию аудитории, состоящей из весьма серьёзных флотских начальников.
Словом, такой порядок предстояло совершенствовать, несколько изменить стиль работы военного совета, не забывая при этом, что он — моя опора. Без сильного, дружного, {62} принципиального органа коллективного руководства успешно командовать флотом, по-видимому, невозможно.
Раздумья прервал Ермаков, выложив передо мной план работы военного совета Северного флота на 1982 год.
— Ого! Вы уже и это успели?
— Так точно, товарищ командующий. Тематика заседаний, распределённая по месяцам, согласована со всеми вашими заместителями. Можно утверждать.
Однако ставить подпись я воздержался: следовало вникнуть в существо «Плана». Да и обсудить его на первом же заседании не помешает.
Об этом я и сказал Ермакову. Потом поручил ему согласовать повестку с Усенко, Кругляковым и Коробовым. Затем, указав дату, отправил секретаря готовить первое заседание под моим председательством. А сам принялся набрасывать тезисы предстоящей «тронной речи».
Последующая круговерть событий прервала раздумья о стиле работы, заставила шевелиться. Дело в том, что пришла правительственная телеграмма, приглашающая меня в Москву на заседание депутатской комиссии по науке и технике Верховного Совета РСФСР. Только этого как раз и не хватало. Пришлось звонить Главкому.
— Пренебрегать общественными обязанностями не следует, — ответил Горшков, — не для того вас избрали. Завтра же и вылетайте. За пару дней с флотом, надеюсь, ничего не случится.
Помолчав секунду, Сергей Георгиевич добавил, но уже другим тоном:
— В Главный штаб заглянуть не забудьте. А то тут... некоторые... прибывают в Москву, но времени не находят, видите ли... Понятно?.. Ну то-то... До встречи.
Вечером, узнав о моих намерениях, жена заявила, что с удовольствием слетала бы в столицу.
— По Столешникову прошвырнусь, — улыбалась Нина, — пока ты там своими верховными делами занимаешься. Не сидеть же мне здесь одной?
Словом, на следующее утро мы были уже в воздухе. Флотский Ан-24 — совсем не то, что пассажирский лайнер. На нём до подмосковного аэродрома Астафьево лёту целых 5 часов. Зато комфорт. В креслах носового отсека, стоящих возле обширного стола, удобно работать с картами и документами. К тому же стол этот может оказаться вполне прилично сервированным к обеду. Ничто не мешает и вздремнуть, свободно вытянув под столом ноги.
В носовом отсеке мы с Ниной вдвоём. Она, прикрыв глаза, мечтает о чём-то хорошем, а я, под мерный, надсадный гул двигателей, развернув блокнот, мучаюсь над тезисами «тронной {63} речи». Остальные немногочисленные попутчики дремлют в креслах кормового отсека.
Примерно через час полёта из пилотской кабины вышел командир экипажа подполковник Борис Баранов. Я уже успел познакомиться с ним на аэродроме перед отлётом и уяснить, что по должности он — заместитель командира транспортного авиационного полка, базирующегося на аэродром Луостари. Однако во всех случаях, когда летит командующий флотом, генерал Потапов приказал Баранову лично пилотировать самолёт.
Развернув путевую карту, он показал мне маршрут полёта, запасные аэродромы, доложил погоду, высотный ветер и расчётное время посадки в Астафьево. Потом я ещё малость порасспрашивал лётчика о службе и жизни. Оказалось, что Борис Викторович не так давно летал на ракетоносце Ту-16, но потом переучивался.
— Габариты заставили, — улыбаясь заметил Баранов, — в кабину перестал влезать, а здесь просторнее.
Действительно, весу в моём «шеф-пилоте» было килограммов сто. Для лётчиков подобное — редкость.
Долетели без приключений. Служебный автомобиль и размещение в гостинице не составили проблем. Таким образом, под вечер я уже входил в кабинет Главнокомандующего Военно-Морским Флотом.
— Садитесь, — указал Сергей Георгиевич на стул возле стола для заседаний, — рассказывайте, как вас приняли на Северном флоте.
Коротко доложив о своих первых шагах, я поделился замыслом январского заседания военного совета флота и получил одобрение. Главком в свою очередь проинформировал меня о грядущем февральском оперативном сборе, который он собирается проводить, как всегда, в Ленинграде, на базе Военно-морской академии. Там, во время командно-штабной военной игры «Авангард-82», предполагалось (на картах и электронном тренажёре) отработать узловые вопросы управления силами флотов в июньском стратегическом учении Вооружённых Сил «Центр-82», которым будет руководить Маршал Советского Союза Д. Устинов.
— Я хочу, чтобы на конференции, перед игрой «Авангард-82», вы, Аркадий Петрович, сделали доклад на тему: — Горшков заглянул в рабочую тетрадь и, чётко выговаривая слова, произнёс: «Организация морского боя оперативного соединения разнородных сил флота, включающего корабли новых проектов третьего поколения, с авианосной ударной группой противника».
— Ну, как? — вопросительно взглянул на меня Сергей Георгиевич. {64}
Честно говоря, слегка растерявшись от неожиданности, я начал было ссылаться на малый срок командования флотом, однако был незамедлительно «приведён в меридиан».
— Вот так доктор наук! — приподнял брови Главком, — ну сколько можно пояснять, что сила разума всегда преодолевает недостаток опыта? Кому же ещё поручить этот доклад? На флотах такие корабли, как «Киров», «Современный», «Удалой» или, тем более, подводный крейсер 949-го проекта, в глаза не видывали. А вы ими со стапелей занимаетесь. Извольте подготовить доклад!
Словом, покинул я главкомовский кабинет, осознав абсолютную неизбежность своего выступления на предстоящей конференции. Был, разумеется, и другой, более серьёзный, результат этого рабочего визита. Я укрепился в решении сразу же после игры «Авангард-82» провести у себя на флоте дополнительный, внеплановый оперативный сбор для реальной отработки способов управления силами при ведении боевых действий. Другого пути, чтобы достойно подготовиться к участию в стратегическом учении «Центр-82», я не видел. Придётся озадачить Коробова и вместе с ним — штаб флота.
Весь последующий день заняли дела депутатской комиссии. Однако вечером удалось всё же побывать на спектакле Московского академического театра имени Маяковского «Леди Макбет Мценского уезда» с великолепной Натальей Гундаревой в заглавной роли.
Ну а утром наш Ан-24 уже гудел на высоте 6000 метров, взяв курс на север. Я читал какой-то московский журнал, но минут за 20 до посадки, когда стрелка высотомера опустилась за отметку 1000 метров, начал беспокоиться.
Ночная тьма за бортом усугубилась плотной облачностью и, видимо, обильным снегом. Судя по нескольким последовательным кренам, самолёт выполнял предпосадочную «коробочку», маневрируя над Полярным для захода на Североморск. Однако яркие огни города, обычно прекрасно видные в хорошую погоду, на этот раз не просматривались. Стрелка высотомера всё увереннее сползала влево. Высота уже всего 300 метров, но сквозь стёкла иллюминаторов не видно ни зги. Нина мирно дремала в кресле напротив, когда послышался характерный стук выпускаемого шасси. Садимся.
Наконец включились бортовые фары, а через несколько секунд самолёт пересёк линию аэродромных прожекторов. Чёрная муть за бортом сменилась ослепительной белизной. Затем касание, прыжок, пробежка, торможение. При этом даже признаков бетона я так и не разглядел. Сели как в молоко. Взлётно-посадочная полоса затянута плотной снежной позёмкой. Видимость нулевая.
С души отлегло, когда самолёт начал медленно выруливать на стоянку. Пока Нина отстёгивала привязной ремень, в отсеке {65} появился подполковник Баранов. Лицо его было покрыто багровыми пятнами, а со лба по щекам и шее струйками бежал пот, стекая за шиворот кожаной куртки.
— Совершил посадку на аэродроме Североморск-1, — козырнул подполковник, — разрешите получить замечания?
— Какие тут могут быть замечания, Борис Викторович, коли мы на твёрдой земле. Благодарю за полёт. Судя по всему, посадка далась нелегко?
— Бывает и хуже, товарищ командующий. Здесь радиопривод великолепный.
— Ну тогда отдыхайте.
— Нам ещё в Луостари перелететь нужно. Если выпустят, — ответил Баранов, — это недалеко, по-соседству. Там жёны и детишки ждут.
— Счастливо. Желаю успеха, — завершил я разговор и с удовольствием пожал здоровенную, всё ещё влажную пятерню, которая так мягко прижала к земле стремительно несущуюся тяжёлую машину.
Большой конференц-зал штаба флота гудел от обилия адмиралов и офицеров. На военный совет приглашены все без исключения командиры соединений со своими заместителями, начальники штабов, управлений, отделов и служб, командиры частей и выборочно командиры кораблей. Разместить в зале большее количество людей, к сожалению, не представлялось возможным.
Члены военного совета уже заняли свои места за столом президиума. Звучит команда:
— Товарищи офицеры! — это меня встречает вице-адмирал Кругляков.
Шум в зале стихает. Все встают. А я поднимаюсь на трибуну для давно задуманной «тронной речи». Я начал свой доклад с мысли о том, что североморцы, успешно завершив учебный год, вступили в Новый — 1982-й, в конце которого страна будет торжественно отмечать 60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Я говорю о том, что история не знает иного государства, которое бы в столь кратчайший исторический срок создало колоссальный промышленный потенциал и непобедимую Армию, сделало так много для развития наций и народностей, укрепляя их дружбу и сотрудничество, обеспечивая условия для мирного, созидательного труда. Именно для достижения длительного мира во всём мире наша страна построила мощный Военно-Морской флот, несущий ныне службу в Мировом океане.
Подчёркиваю, что наши задачи приходится решать в особо сложных условиях. Американские империалисты и их {66} союзники по НАТО усиленно толкают мир на путь конфронтации, опасного балансирования на грани войны. Невиданный размах приобретает антисоветская пропаганда. Усиливается напряжённость в различных регионах земного шара. Разжигаются военные конфликты. Сказать, что международное положение ныне сложное и острое, — сказать слишком мало: оно внушает тревогу, «холодная война» приобретает особо опасные формы.
Далее я говорил о том, что высшей формой готовности флота к решению поставленных задач стала его боевая служба во многих океанах и морях. Боевая служба — это гордость флота. Срыв похода на боевую службу, досрочное возвращение корабля — позор не только его командира и экипажа, но всего флота. Мы должны наращивать количество сил на боевой службе, расширять районы своего присутствия в океане, повышать эффективность действий. Обязаны совершенствовать своё оперативное искусство и тактику, уделять внимание взаимодействию разнородных сил, организовывать их всестороннее обеспечение.
Основой для этого является планомерная и целеустремлённая боевая подготовка. Нам предстоит провести не менее 50 зачётных учений соединений, принять около 1000 курсовых задач, выполнить 80 ракетных, 500 артиллерийских и столько же торпедных стрельб, 600 противолодочных задач, 60 минных постановок.
Морская авиация намерена совершить более 4000 самолёто- и вертолето-вылетов на боевую подготовку. За всем этим кроется колоссальный труд личного состава флота. Он невозможен без идейной убеждённости в правоте своего дела, полной самоотдачи и высочайшей воинской дисциплины.
Завершив общие вопросы, я принялся излагать конкретные задачи, стоящие перед родами сил флота, сосредоточивая внимание на том, чего следует добиться в текущем году. В самом сокращённом виде мои требования выглядели следующим образом.
Подводным ракетным крейсерам стратегического назначения необходимо переходить от хорошо освоенного, длительного плавания в арктических морях, к всемерному повышению ракетной готовности при нахождении подо льдом с последующей активной отработкой применения своего главного оружия из околополюсных районов. Кроме того, надо научиться (при необходимости) осуществлять запуск ракет даже при стоянке в базе, прямо от причала, всего одной боевой сменой личного состава.
Многоцелевым атомным подводным лодкам — совершенствовать приёмы обеспечения боевой устойчивости ракетных крейсеров. Повышать надёжность обнаружения, длительность {67} и скрытность слежения за иностранными подводными лодками, достоверность целеуказания носителям крылатых ракет по соединениям крупных надводных кораблей противника. Отрабатывать торпедные атаки отрядов кораблей и конвоев тактической группой подводных лодок с применением дальноходных торпед. Освоить стрельбу дальноходной торпедой со специальным зарядом по портам и другим гидротехническим сооружениям.
Подводным лодкам с крылатыми ракетами — научиться действовать тактическими группами в составе противоавианосного соединения. Добиваться поражения надводных кораблей противника с предельных дальностей, при комплексном использовании различных источников целеуказания. Освоить тактику действий новейшего атомного подводного крейсера проекта 949 и способы применения его комплекса противокорабельных крылатых ракет большой дальности «Гранит».
Надводным кораблям важнейшей задачей своей подготовки считать организацию противовоздушного боя. Переходить от самообороны одиночного корабля к противовоздушной обороне соединения и прикрытию других сил флота от ударов с воздуха. Совершенствовать тактику действий кораблей новых проектов третьего поколения. Быть готовыми нести длительную боевую службу отрядами кораблей на Средиземном и в Карибском морях.
Морским десантным силам, совместно с морской пехотой, отрабатывать бой за высадку в фиордах. Уметь высаживать войска и технику на причалы портов и на необорудованное труднодоступное побережье. Морской пехоте учиться решать задачи на берегу в условиях бездорожья, в горной местности и в заполярной тундре.
Силам противовоздушной обороны флота, совместно с войсками Архангельской армии ПВО, совершенствовать прикрытие кораблей и подводных лодок в пределах Баренцева моря. Освоить прикрытие боевых порядков морской ракетоносной авиации новыми истребителями МиГ-31 на полный тактический радиус их действия в Норвежском море.
Морской ракетоносной авиации отработать тактику массированных ракетных ударов по соединениям надводных кораблей противника составом авиационной дивизии с нескольких направлений и прикрытием каждой ударной группы эскадрильей радиоэлектронной борьбы, действующей в боевом порядке полка. Приступить к переучиванию части экипажей на новые самолёты-ракетоносцы Ту-22м3.
Противолодочной авиации совершенствовать вскрытие и освещение подводной обстановки на обширных пространствах Баренцева и Норвежского морей в кратчайший срок, с {68} установлением длительного слежения за каждой обнаруженной подводной лодкой. Уметь передавать контакт другим силам. Приступить к массированному применению вертолётов-амфибий Ми-14пл в составе оперативного соединения разнородных противолодочных сил.
Корабельной авиации освоить действия с палуб кораблей в любых погодных условиях. Выходы кораблей в море без вертолётов на борту запретить. Продолжать накапливать опыт полётов палубных штурмовиков ЯК-38. Освоить технику и тактику новых серийных корабельных вертолётов Ка-27 при их массированном применении с палубы авианесущего крейсера «Киев» для поиска подводных лодок. Полагать, что за корабельной авиацией — будущее, а её лётчики — гордость флота.
Соединениям, частям и службам тыла осваивать способы технического и тылового обеспечения надводных кораблей и подводных лодок в морских районах, у кромки льда и в пунктах рассредоточения. Развивать систему маневренного базирования и судоремонта. Прекратить непомерное отвлечение личного состава кораблей на нужды их обеспечения.
Оперативным штабам переходить от изучения новых «Основ подготовки и ведения операций Вооружённых Сил СССР» к отработке на практике реального управления силами в ходе первой и последующих операций флота. Особое внимание уделять оперативному обеспечению действий сил, в первую очередь разведке и радиоэлектронной борьбе.
Поставив таким образом задачи и предъявив требования, я рассказал затем собравшемуся командному составу о предстоящем участии Северного флота в крупном стратегическом учении под руководством министра обороны. На этом учении впервые придётся практически отрабатывать взаимодействие с другими видами Вооружённых Сил в соответствии с «Основами». Учение «Центр-82» явится экзаменом для нашего флота. К нему следует тщательно готовиться.
В качестве одной из мер такой подготовки следовало бы провести во второй половине февраля пятидневный сбор на тему: «Управление силами в операции флота». На сбор привлечь в командование и оперативный состав штабов флота, флотилий, эскадр, ВВС и тыла, которые будут работать на своих командных пунктах. Кроме того, задействовать всю систему связи флота и несколько кораблей обозначения, находящихся в базах или в море на боевой подготовке. В составе штаба руководства сбором необходимо создать группу наращивания обстановки во главе с первым заместителем начальника штаба флота контр-адмиралом Искандеровым. Группе заблаговременно разработать перечень эпизодов и вводных, подлежащих отработке. Вызов участников в Североморск {69} произвести только один раз, для разбора всего мероприятия.
На этом я и завершил свою речь. Не очень-то «тронной» она получилась. Скорее обыденной и, видимо, скучноватой.
Вопросов не последовало. Я объявил заседание закрытым. Офицеры расходились, оживлённо разговаривая, ну а членов военного совета пришлось пригласить в кабинет, чтобы обменяться мнениями. Вадим Константинович Коробов пожаловался на дефицит времени. Дескать, к игре «Авангард-82» ещё как следует не подготовились, а тут следом новое серьёзное мероприятие.
А когда, завершив дело и отпустив сослуживцев, я направился проводить первого секретаря обкома Птицына, Владимир Николаевич, прощаясь, весьма радушно пожелал успехов мне и флоту. Ну что ж, спасибо. С души отлегло. Формальности исполнены. Вхождение в должность, по-видимому, завершено. Пора браться за конкретные дела.
| {70} |
Ничего более конкретного для подготовки к собственному докладу на предстоящей конференции в Ленинграде, нежели детальный осмотр новых кораблей, мне придумать не удалось. Поэтому несколько дней пришлось потратить на то, чтобы заново — «от киля до клотика» — облазить в общем-то знакомый атомный ракетный крейсер «Киров», эскадренный миноносец «Современный» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
Их командиры — Александр Ковальчук, Герман Лыженков и Леонтий Кулик — известные мне ещё по годам строительства на ленинградских верфях, рассказывали о периодах минувших государственных испытаний и последующей боевой подготовке. Поделились впечатлениями от мореходных качеств и боевых возможностей своих кораблей. Характеризовали достигнутый уровень слаженности экипажей. Посетовали на трудности и недостатки, недоделки и недоработки. Картину завершили многочисленные беседы с корабельными офицерами, мичманами и матросами.
В целом проделанной работой я остался доволен, хотя и понимал, что более полное представление о надводных кораблях третьего поколения сумею получить лишь в том случае, если выйду на каждом из них в море, решая тактические задачи и выполняя боевые упражнения. Честно говоря, чем сидеть в штабе, мучаясь над потоком руководящих бумаг, куда как приятней работать на кораблях. Здесь само железо ошеломляет размерами, боевая техника впечатляет возможностями...
Наверное поэтому я побывал также на авианесущем крейсере «Киев», который новым уже не назовёшь, но для меня лично этот корабль пока ещё «вещь в себе». Познакомился с недавно назначенным командиром единственного на Северном флоте авианосца, капитаном 2-го ранга Геннадием Ясницким и, кроме того, с командиром отдельного штурмового авиационного полка, предназначенного для работы с палубы «Киева», полковником Николаем Едушем. Наблюдал полёты штурмовиков ЯК-38 прямо на Североморском рейде. А на следующий {71} день в торжественной обстановке, перед строем экипажа, на широченной полётной палубе я вручил командиру «Киева» вымпел министра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть. Этой награды крейсер был удостоен по итогам долгой и трудной боевой службы на Средиземном море в минувшем году.
Однако главным объектом моего внимания среди новейших кораблей флота оказалась всё же подводная лодка проекта 949, иначе говоря — атомный подводный крейсер, вооружённый противокорабельными крылатыми ракетами большой дальности «Гранит». «Грозой авианосцев» именуют этот атомоход всезнающие американцы. Для того чтобы детально познакомиться с ним — пока единственным в своём роде атомоходом, принятым в состав флота всего четыре месяца тому назад, — пришлось съездить в Западную Лицу.
Естественно, что посещение Краснознамённой флотилии, с которой связаны 17 самых ярких лет моей жизни, вызвало особые эмоции. Здесь я прошёл путь от командира корабля до командующего крупнейшим объединением и познал «подводный олимп» до мелочей. Приятно было видеть, как за четыре года моего отсутствия разросся гарнизон, как мой родимый посёлок Заозёрный превратился во вполне приличный город Заозерск.
Ещё более приятно сознавать, что флотилия непрерывно пополняется новыми и новейшими атомными подводными лодками. Множится её боевой потенциал, наращиваются оперативные возможности, развивается опыт эксплуатации и ремонта, улучшаются условия жизни и быта подводников. Кораблей первого поколения на флотилии уже не осталось, хотя все они в строю и успешно несут службу, но в других объединениях и гарнизонах. Так, вслед за «горбатой» дивизией, положившей начало братской флотилии в Гаджиево, ушла в Гремиху «дружеская». Все подводные лодки 675-го проекта, вместе с «конкурирующей» дивизией, переданы в Ура-Губскую эскадру.
Однако, несмотря на подобные перемены, Краснознамённая флотилия по-прежнему состоит из четырёх дивизий атомоходов, среди которых — старейшая, но полностью перевооружённая «крылатая» дивизия контр-адмирала Егора Томко, включающая лодки проекта 670-м с подводным стартом противокорабельных ракет «Малахит». Сюда как раз и пришёл недавно новейший подводный крейсер «К-525» проекта 949, положив тем самым начало дальнейшему повышению боевой мощи «крылатой» дивизии (как противоавианосного соединения).
Рядом с «крылатой» соседствует «новая» дивизия контрадмирала Виктора Ясеновенко, набирающая силу за счёт {72} многоцелевых ракето-торпедных подлодок проекта 671рт и ртм. Именно они должны обеспечить охрану и оборону подводных ракетных крейсеров, а также длительное слежение за авианосцами противника с выдачей целеуказаний нашим дальнобойным противокорабельным крылатым ракетам.
Особое место в ряду соединений флотилии занимает «новейшая» дивизия контр-адмирала Виктора Волкова. В её составе пока только «подводные истребители» проекта 705. В ближайшем будущем ожидается пополнение сверхсовременными малошумными «Барракудами» и «Барсами», что сделает дивизию мощным противолодочным соединением, способным конкурировать с любыми мировыми аналогами.
Наконец, гордостью флотилии, но и предметом её несметных забот, является вновь организуемая дивизия тяжёлых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Тайфун». Командиром дивизии назначен контр-адмирал Юрий Пивнев, который вместе со штабом мечется между Северодвинском, где до лета застрял головной крейсер «ТК-208», и Нерпечьей, где развёрнуто грандиозное строительство пункта базирования для крейсеров проекта 941.
О состоянии дел на флотилии не без гордости докладывал нынешний командующий вице-адмирал Евгений Чернов, к которому, честно говоря, я всегда относился с нескрываемой симпатией. Евгений Дмитриевич в своей службе следует за мной впритык, отставая всего на пять лет, как в возрасте, так и в сроках окончания училища, Классов, Академии. Подводник от Бога, военачальник от природы — он долго и хорошо командовал головной лодкой проекта 671, знаменитой «К-38».
Резкий, настойчивый, упрямый Чернов. Он много и упорно занимался торпедной и противолодочной подготовкой подчинённых командиров, отрабатывая стремительность и скрытность атаки, сочетая дерзость и благоразумие в действиях.
Чернов впервые в истории флота перевёл северным путём на Тихий океан подводную лодку второго поколения, попутно осуществляя всплытия во льдах этого корабля с единственным, ничем не защищённым гребным винтом. Тем самым он опроверг скептические мнения многих подводников, в том числе мои собственные, о ледовых возможностях новых атомоходов. Ну а в перерывах между походами Евгений Дмитриевич активно занимался созданием учебной базы, являясь идеологом и непосредственным строителем тренажёра «Удар», а также «кабинета шумности» в учебном центре флотилии.
Учитывая подобные обстоятельства я, в своё время, не задумываясь, представил комдива к званию контр-адмирала. Чуть позже пригласил его стать моим заместителем, на что Чернов, взбрыкнув пару раз, ответил согласием. Ну а в {73} последний год своего командования Краснознамённой флотилией я не без гордости подписал представление на контр-адмирала Чернова за очередной выдающийся арктический поход к званию Героя Советского Союза, что было утверждено верховной инстанцией.
С тех пор Евгений Дмитриевич поднакопил служебного опыта, стал полноценным командующим, получил очередное звание, пользуется непререкаемым авторитетом в среде подводников. Ну что ж! Это хорошо, когда такое крупнейшее объединение флота, как Краснознамённая флотилия, находится в надёжных руках.
Мы с Черновым объехали все памятные места гарнизона, прежде чем остановились у «нулевого» корня причальной стенки Большой Лопатки. В моё время этот корень только начинал строиться, а сейчас от него далеко в бухту простирается серьёзнейшее инженерное сооружение, именуемое тяжёлым плавучим причалом с автономной энергетикой. Возле него в гордом одиночестве стоит диковинная подводная лодка, похожая на большую плоскую рыбину. Это и есть «К-525».
Соразмерная с причалом, она не кажется огромной, несмотря на своё водоизмещение в 12 500 тонн, что вполне сопоставимо с крейсером «Александр Невский». А в погружённом состоянии «К-525» «весит» 22 500 тонн. Это почти вплотную приближает её к крупнейшему кораблю флота — атомному крейсеру «Киров».
Двухвальная энергетическая установка (мощностью 100 000 лошадиных сил!) позволяет лодке неограниченное время нестись под водой со скоростью более 30 узлов. От такой не сумеет ускользнуть ни одна вражина. Сходство с акулохвостым скатом придаёт ей небывалая ширина корпуса, достигающая 18 метров, что вдвое превышает привычные размеры обычных атомоходов. В сочетании со 140-метровой длиной и невысокой плоской рубкой этот заглублённый в воду почти на 10 метров корабль внешне не вызывает ни эстетического восхищения изысканной архитектурой, ни трепетного ужаса перед небывалой мощью. Однако это и есть «гроза авианосцев» — головной советский атомный подводный крейсер проекта 949.
По причалу, около чёрного борта, разгуливает командир «крылатой» дивизии контр-адмирал Егор Томко, а на палубе лодки, возле трапа, ведущего на пирс, вытянулась в струну фигура её командира, с которым ранее мне встречаться не привелось. Прямо под ногами офицера, за толстой резиной, покрывающей зализанные обводы корпуса, в наклонных стартовых контейнерах содержится целый полк летательных аппаратов — 24 сверхзвуковых, полностью автономных крылатых ракет «Гранит», обладающих многовариантным профилем {74} полёта. Каждая из них, стартуя из-под воды способна достать и поразить вражеский авианосец с расстояния свыше 500 километров.
Целеуказание при стрельбе крылатыми ракетами обеспечивается от космических аппаратов, самолётов разведывательной авиации и многоцелевых атомных подлодок, непосредственно следящих за соединениями кораблей противника. Для этого подводный крейсер-ракетоносец оборудован всплывающей антенной, которая позволяет принимать радиосообщения, целеуказания и сигналы спутниковой навигации, находясь на большой глубине и подо льдом. Электронная совместимость, при том не препятствует организации массированных ударов, допуская стрельбу несколькими десятками ракет в каждом залпе, одновременно с различных кораблей, в том числе и надводных. Это очень важно при управлении силами в бою противоавианосного разнородного соединения.
Командир «К-525» капитан 1-го ранга Анатолий Илюшкин, с которым я познакомился уже на палубе подводного ракетоносца, встретил уставным рапортом, а потом увлёк в недра корабля и долго водил по всем этажам его девяти отсеков, не только демонстрируя небывалую силищу главной энергетической установки с её реакторами и турбинами, но и показывая великолепный гидроакустический комплекс, штурманское вооружение или, к примеру, электронную боевую управляющую систему. При этом в любом помещении командир представлял мне своих подчинённых, давая краткую характеристику почти каждому из доброй сотни членов экипажа. Было видно, что люди гордятся своим кораблём, его мощью, техническим совершенством и, особенно, теми великолепными условиями обитаемости, которые создали для подводников конструкторы «Рубина». Заключительный осмотр спортивного зала, искусно размещённого в отсеке атомохода, плавательного бассейна, солярия, сауны и, наконец, зоны отдыха с живой зеленью, щебечущими птичками и светомузыкой окончательно в том меня убедили. Не удивительно, что, проведя на борту «К-525» несколько часов и потратив их на изучение конструктивных особенностей и боевых возможностей этого подводного крейсера, я сумел возвратиться в Североморск лишь далеко за полночь, с тем чтобы с утра приступить к повседневным делам.
Заместитель командующего флотом по боевой подготовке контр-адмирал Вилен Рябов в то утро первым вошёл в мой кабинет. Внешне он выглядел этаким увальнем и жгучим брюнетом, привлекавшим нешуточное внимание многих североморских дам. Обычно я слушал его доклады по вечерам, при {75} утверждении плана боевой подготовки флота на следующие сутки. Однако на этот раз обстоятельства вынуждали озадачить Вилена Петровича как можно раньше.
Именно ему — по должности отвечающему за совершенствование тактики разнородных сил и стоящему во главе управления боевой подготовки флота — я решил поручить подбор материалов для моего доклада на предстоящем оперативном сборе в Военно-морской академии.
Вилен Рябов относился к той славной когорте московских «спецов», которые в годы войны прошли нелёгкий путь с младшей ротой, через Ачинск и Куйбышев, до стен училища имени Фрунзе в Ленинграде. Будучи сыном комиссара времён гражданской войны, он даже имя своё получил, по тогдашней моде — от слияния инициалов и начальных букв фамилии вождя Октябрьской революции.
Как и все изначально героические ребята, Вилен с окончанием училища подался в подводники. Со временем стал командиром уникальной подлодки «С-99», проекта 617, с диковинной парогазовой турбиной, работающей на перекиси водорода. Впервые в отечественном судостроении на этом корабле удалось достигнуть подводную скорость свыше 20 узлов, что во многом определило гидродинамические качества будущих атомных подлодок. Однако во время очередных испытаний на Балтийском море в районе Либавы, при запуске турбины на глубине 80 метров, в пятом отсеке произошёл взрыв. Вероятно, рванула перекись в системе генерации парогазовой смеси.
Потеряв ход, лодка начала стремительно проваливаться на предельную глубину с огромным дифферентом на корму. Только мгновенная реакция командира, капитана 3-го ранга Рябова, подавшего команду на аварийное продувание главного балласта, спасла положение. Задержавшись на глубине 120 метров, «С-99» начала всплывать, пока наконец не вылетела на поверхность в огромном воздушном пузыре, задрав нос сверх всякой меры.
Осмотрелись. Пятый отсек и две смежные цистерны главного балласта потеряли герметичность и оказались затопленными, а дифферент на корму всё возрастал. Несмотря на это экипажу удалось запустить дизельгенератор и компрессоры. Поддувая периодически кормовые цистерны и следуя под электромоторами, лодка самостоятельно возвратилась в Либаву лишь через 8 часов после аварии. Там удалось подцепить корму краном и, приподняв её, выпустить из концевого отсека трёх моряков, отрезанных взрывом от остального экипажа. Не дай Бог пережить подобное!
Неизбежная в таких случаях грозная комиссия сделала вывод, что капитан 3-го ранга Рябов и его экипаж, осуществляя борьбу за живучесть своего корабля, действовали быстро {76} и решительно, состояние подводной лодки оценили правильно, принятыми мерами сумели сохранить продольную остойчивость, не допустили опрокидывания и привели к причалу. Однако в подводной службе при схожих обстоятельствах полагается делать паузу.
Впоследствии Вилен Петрович окончил Академию, но службу продолжал в основном на московских просторах, проживая в приличной квартире на улице Герцена, неподалёку от театра имени Маяковского. В Боевой подготовке ВМФ (у адмирала Бондаренко) Вилен курировал направление подводных лодок. В те годы он частенько появлялся в Западной Лице у меня на флотилии в качестве проверяющего. Выглядел солидным, вальяжным. Требовал с подводников строго, но глупостей при этом не допускал и неприятностей командующему не подкидывал. По-видимому полагал, что портить отношения с бывшим старшиной собственной курсантской роты ни к чему, да и непорядочно.
Однако случилось так, что по ВМФ прокатилась организационная реформа. В результате управление боевой подготовки (УБП) вывели из состава штаба флота и сделали самостоятельным органом. При этом начальника управления повысили в статусе до заместителя командующего флотом со штатной категорией вице-адмирала. Подобная реорганизация привела в соответствие структуру органов управления ВМФ со структурой других видов Вооружённых Сил и военных округов, однако создала на первых порах определённые трудности с управлением подчинёнными силами.
Действительно: боевую службу в одном и том же море планирует штаб, боевую подготовку — УБП, а управляет и теми, и другими кораблями — командный пункт. Как бы подобная реорганизация не привела к неразберихе, взаимным помехам, а то и вовсе недопустимым столкновениям кораблей и, особенно, подводных лодок. Баренцево море становится совсем маленьким для такого количества сил Северного флота, которое присутствует там ежечасно.
Естественно, что вице-адмиральская должность привлекла внимание многих, в том числе и Вилена Рябова, рискнувшего променять спокойное московское житьё на флотское лихо. Назначение состоялось не без поддержки Москвы. Однако от этого УБП самостоятельным органом ещё не стало, а проблемы взаимодействия со штабом флота лишь усугубились.
К моменту моего назначения в подчинении Вилена Петровича находилось несколько отделов. Среди них — отдел планирования боевой и тактической подготовки; боевой подготовки ракетных подводных крейсеров стратегического назначения; подготовки многоцелевых подводных лодок; подготовки надводных кораблей и, наконец, физической подготовки {77} и спорта. Кроме того, в прямом ведении заместителя командующего флотом находится великолепный учебный центр в Североморске и спортивный клуб. Тем не менее, по моим представлениям и в соответствии с новым статусом, место ему не в отделах своего управления, а в море. Надо делать из этого увальня общефлотского военачальника, способного руководить тактическими учениями любой сложности, а если потребуется, то и управлять оперативным соединением разнородных сил в морском бою.
Ну а пока даже моё предложение подготовить материалы для доклада на тему: «Организация морского боя оперативного соединения разнородных сил флота, включающего корабли новых проектов третьего поколения, с авианосной ударной группой противника» Рябов встретил с некоторым недоумением.
— Не готовы мы к подобной работе, товарищ командующий, — аргументировал свою позицию Вилен, — лучше поручить её оперативному управлению. Там ребята посерьёзнее, чем мои офицеры, которые редко поднимаются выше уровня курсовых задач.
Оказалось к тому же, что Вилен Петрович ещё не удосужился вплотную познакомиться с «грозой авианосцев» — подводным крейсером проекта 949, что, впрочем, обещал немедленно поправить. Однако играть в футбол, гоняя тему доклада от одного управления к другому, я не собирался. Пришлось садиться вместе с Рябовым и набрасывать тезисы предстоящего доклада.
— Чего тут сложного-то? — убеждал я собеседника. Сначала следует оценить ударные и оборонительные возможности авианосной группы противника, её задачу, боевой порядок, возможные районы маневрирования, замысел и способы действий, сильные и слабые стороны. Затем не вредно уяснить цель предстоящего боя и возникающие при этом задачи своих сил, с учётом особенностей района ожидаемых действий. Лишь потом можно подбирать состав разнородного соединения, способного достигнуть цели в бою с грозным противником. При оценке состава и состояния своих сил важно подчеркнуть возросшие боевые возможности новых кораблей третьего поколения, обратив внимание на особенности их взаимодействия, как между собой, так и с другими, традиционными силами флота.
Сил у нас, слава Богу, хватает. Сложнее выработать приемлемый замысел их применения. Для этого следует определить направление главного удара, в соответствии с которым распределить силы по группам и задачам, учитывая при этом основную проблему предстоящего боя — обеспечение точного и своевременного целеуказания крылатым ракетам. Группы {78} построить в ордера. Ордера свести в боевой порядок. Определить последовательность ударов, способы массированного применения оружия, организацию связи, управления и обеспечения. Выполнить всё это нужно в нескольких вариантах. Для каждого просчитать успешность действий и возможные потери своих сил. Затем можно оценить ожидаемую эффективность, выбрать приемлемые варианты и принять решение на бой.
Делая всю эту работу надо помнить, что бой с авианосной группой может возникнуть из положения слежения, когда ещё в мирное время наши силы имеют возможность длительно сопровождать противника, находясь внутри его боевых порядков, в непосредственной близости от авианосца. Здесь решающую роль могут сыграть эсминцы проекта 956 типа «Современный», способные внезапным и неотразимым ударом крылатых ракет «Москит» (американцы называют их «Солнечный ожог»), в сочетании с ураганным огнём корабельной артиллерии, в считанные минуты развалить на куски любой авианосец. Конечно, ближайшая судьба такого «Современного» не завидна. Однако развить успех и нанести соединению противника решительное поражение помогут многоцелевые атомные подлодки ударами своих торпед и крылатых ракет малой дальности.
Другой вид боя возникает в том случае, когда противоборствующие соединения стремятся навстречу друг другу в условиях уже начавшейся войны. Такой бой называется встречным. Главную роль в нём будут играть подводные крейсера проекта 949 с ракетами «Гранит» и морская ракетоносная авиация. Остальные силы будут развивать успех. При этом надводные ракетные корабли целесообразно вводить в бой лишь при условии надёжного их прикрытия силами ПВО. В любом случае следует стремиться к упреждению противника в ударах и манёвре.
— Понятно? — вопрошал я контр-адмирала Рябова и демонстрировал ему только что набросанные варианты замысла.
— Нарисуйте две схемы. На одной изобразите бой из положения слежения. На другой — встречный бой. И пусть Вас не смущает, что сегодня у нас реально лишь один подводный крейсер проекта 949 и всего пара эсминцев типа «Современный» — завтра их будет много.
Вилен Петрович улыбался, морщил лоб и чесал затылок, запустив пятерню в великолепную шапку слегка вьющихся чёрных волос. Временами он что-то записывал в свою рабочую тетрадь и делал пометки на предложенных ему эскизах. Ну а когда услышал, что времени у него мало — всего неделя — и что бумагой дело не ограничится, поскольку уже этой весной ему придётся планировать и организовывать подобный {79} «бой» в море, а возможно, и управлять им... Рябов собрал все наши картинки и записки и пулей вылетел из кабинета.
Через час всё управление боевой подготовки уже «стояло на ушах», да и другие подразделения штаба флота гудели от посыпавшихся на них многочисленных вопросов и просьб о согласовании. Об этом мне рассказал заглянувший «на минуточку» начальник политотдела штаба и управлений флота контр-адмирал Фёдор Осипов.
Должность у этого симпатичного человека, призванного непрерывно общаться с элитой мозгового центра флота, ох уж какая непростая. Она требует деликатности, рассудительности, коммуникабельности и широкого военно-технического кругозора. В то же время Фёдор Иванович, насколько я успел заметить, способен при случае, не лукавя сказать в глаза любому штабному интеллектуалу нелицеприятные слова, но только по-справедливости.
— Гудит штаб, — докладывал Осипов, — не столько от напряжения, сколько от неожиданности гудит. Руку почувствовали. Это хорошо. Не сомневайтесь, товарищ командующий. Мы поддержим!
Оставшись в одиночестве, я ещё долго размышлял о влиянии штаба и других органов управления на судьбу командующего. Эти органы — моя опора. Всё, чем занят штаб, — служит для обеспечения и упрощения процесса принятия весьма нелёгких порой решений, с последующим проведением их в жизнь. А я обязан изучать и понимать смысл работы штаба, комплектовать его достойными людьми, знать, кто на что способен. Иначе штаб не станет замечать меня... и не видать нам удачи, как своих ушей!
Решение осмотреть все помещения штаба флота, познакомиться с людьми прямо на их рабочих местах, созрело как бы само собой. Разумеется, ещё в годы академического образования мне довелось усвоить прописную истину о том, что штаб — основной орган управления силами и войсками во время войны, а также их обучения, воспитания, строительства и применения в мирное время.
После окончания Академии дважды пришлось возглавлять «мозговой центр». Сначала на «крылатой» дивизии, потом на атомной флотилии, посвятив этому делу более семи лет службы. Командуя флотилией и Ленинградской ВМБ, я на практике ощутил, сколь серьёзной является важнейшая задача любого штаба — сбор, изучение, обработка и оценка данных обстановки. Именно штаб выполняет оперативно-тактические расчёты и готовит предложения командующему для принятия решения. Потом в соответствии с этим решением, штаб планирует боевые {80} действия, доводит задачи до подчинённых сил, осуществляет контроль за их подготовкой и выполнением, организует и поддерживает взаимодействие, обеспечение и управление силами.
На штаб возложена обязанность поддержания надёжной связи с подчинёнными, систематической информации вышестоящих и взаимодействующих штабов, своевременного представления установленных донесений. В то же время штаб отвечает за скрытие от противника процессов управления, сохранение в тайне замыслов и планов командования. Кроме того, этот орган управляет отмобилизованием, формированием и переформированием соединений и частей, ведёт учёт личного состава, наличия и состояния кораблей и самолётов, оружия и техники, а также боевых потерь.
В мирное время главной задачей штаба является поддержание и повышение боевой и мобилизационной готовности. Он организует боевую службу и боевое дежурство, корабельную службу и службу войск, оперативную, боевую и специальную подготовку. Штаб отвечает за соблюдение оперативного режима, безопасности мореплавания и полётов, учебных ракетных, торпедных и артиллерийских стрельб.
Для выполнения этих многочисленных функций штаб флота имеет соответствующую структуру, включающую различные управления, отделы, группы и службы. Свою работу он выполняет на основе решений командующего и распоряжений вышестоящего штаба. Только начальник штаба, будучи первым заместителем командующего, наделён правом от его имени отдавать распоряжения подчинённым силам, используя известную формулу: «Командующий флотом приказал...»
Куда ж мне без штаба? Без него я — нуль! Не удивительно, что тут же поделился своим замыслом детального знакомства с организацией и обустройством этого основного органа управления, пригласив к себе вице-адмирала Коробова. Тот воспринял идею с энтузиазмом и выразил готовность провести меня по всем этажам двух внушительных зданий, занимаемых штабом флота, представить людей, доложить об их делах.
Однако, поразмыслив, я отклонил благородный порыв, сказав, что намерен заниматься не только управлениями или отделами, но и частями специального назначения, подчинёнными штабу. Всё это потребует нескольких суток напряжённой работы, и мне не хотелось бы отвлекать Вадима Константиновича от его ежедневных и весьма хлопотных обязанностей.
В то же время я грешным делом подумал, что присутствие прямого начальника будет давить на офицеров штаба, не позволит мне почувствовать ту моральную атмосферу, которая весьма существенно влияет на слаженность в работе любого воинского коллектива. Но говорить об этом Коробову не стал. {81}
На том и порешили, ограничившись составлением расписания, согласно которому я намерен появляться в управлениях и отделах. Ещё раз предупредив, что моё посещение — не смотр и не проверка, а всего лишь первое знакомство, попросил Вадима Константиновича заблаговременно оповестить о том всех участников и в тот же день принялся за дело.
Начал, как водится, с разведки и в обусловленный час появился возле кабинета контр-адмирала Квятковского. Тот встретил, представился, а потом один на один доложил мне самое сокровенное о составе, состоянии и деятельности этого таинственного «ведомства летучей мыши». Попутно выяснилось, что Юрий Петрович является однокашником такого хорошего известного сослуживца, как Евгений Чернов. Следовательно, начальник разведки флота моложе меня всего на пять лет. К тому же он — «родственник» по изначальному ремеслу, иначе говоря, происходит из среды подводников. После училища плавал штурманом, потом командовал дизельной подлодкой в Гремихе, являлся даже обладателем переходящего приза Главкома ВМФ за лучшую торпедную стрельбу. Поступая в Академию, мечтал о подводной атомной карьере.
Но капризная судьба подставила ножку излишне молодому слушателю, загнав его во вновь создаваемую учебную группу подготовки специалистов для военно-морской разведки. С тех пор вот уже более 17-ти лет Юрий Квятковский верно служит этой профессии, сначала в Москве, в разведуправлении Главного штаба, а после окончания «Генеральской академии» — на Северном флоте.
— Не надоело? — осведомился я.
— Пока здоровье и возраст позволяют, работаю с удовольствием, — ответствовал контр-адмирал. И мне всё больше нравился этот немногословный, спокойный, рассудительный человек.
По завершении нашего разговора Квятковский пригласил и представил своего заместителя, совсем уж молодого, но достаточно самоуверенного капитана 2-го ранга Владлена Смирнова. Вместе обошли помещения отдела планирования и организации разведки, где я познакомился с его офицерами. Побывал в информационно-аналитическом центре капитана 1-го ранга Бариса Локтионова и центре особого назначения, который возглавляет капитан 1-го ранга Борис Булыненков.
Центр «осназ» — это серьёзная организация, объединяющая несколько разведывательных частей. Среди них два морских радиоотряда, радиотехнический отряд, а также гордость флота — бригада разведывательных кораблей. Кроме того, Квятковский располагает «спецназом», иначе говоря, отрядом специального назначения, которым командует известный ас {82} этого дела капитан 1-го ранга Геннадий Захаров. Картину дополняют два разведывательных авиационных полка на самолётах Ту-95рц и Ту-16р, возглавляемых полковниками Виктором Рубаном и Владимиром Григорьевым.
Я долго вникал в организацию, предназначение и методы работы частей разведки флота. Уяснил разницу между интеллектуалами-осназовцами и головорезами-спецназовцами, понимая, что те и другие служат общему делу. Они — «глаза и уши» флота, без которых мне и шагу не ступить. С интересом воспринимал информацию о том, что морские трудяги — разведывательные корабли — вечно околачиваются в оперативно-важных районах океана, либо возле военно-морских баз вероятного противника. В прошлом году, к примеру, корабли бригады совершили 13 походов, оставив за кормой 125 800 морских миль, что в 6 раз превышает длину земного экватора. Они добыли несметное количество оперативной и привезли домой столько же фундаментальной информации.
Пришлось выразить сожаление, что части разведки раскиданы подальше от Североморска. Объехать и осмотреть их в одночасье не представляется возможным. Тем не менее обещал Квятковскому со временем побывать в каждой из них, что и выполнил вскоре. На сём и расстались, по-видимому довольные друг другом.
Очередной ход конём я сделал в сторону оперативного управления, где уже известный читателю контр-адмирал Владимир Лебедько, вместе со своим заместителем капитаном 1-го ранга Леонидом Лобановым долго водили меня из помещения в помещение, показывая, как обустроены офицеры отделов: оперативного планирования, боевой готовности и оперативной подготовки. Обособленно, под ключом, сидят операторы, занимающиеся применением ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. И это правильно. Чем меньше знают о планах подводников даже офицеры собственного управления — тем лучше для подводников.
Представляя людей и оборудование их рабочих мест, Владимир Георгиевич непрерывно комментировал разнообразные служебные обязанности — свои и своих подчинённых, конечно же, сформулировав главную функцию оперативного управления как заблаговременное и непосредственное планирование боевого применения сил. Действительно, начопер со своими подчинёнными осуществляет контроль за состоянием боевого состава флота. Он следит за выполнением объединениями и соединениями установленных норм содержания сил в постоянной готовности, представляет командованию предложения для повышения уровней готовности, координирует необходимую при этом деятельность других органов управления, осуществляет связь с институтами, конструкторскими {83} бюро, судостроительными и судоремонтными предприятиями по вопросам поддержания норм боеготовности.
Боевой службой, дежурством и уровнем оперативного режима ведает тоже оперативное управление. Именно здесь на основе требований Главкома ВМФ и решений командующего флотом разрабатываются общие планы этих важнейших форм оперативного применения сил в мирное время, а также планируются меры по оперативному оборудованию возможного театра военных действий. Здесь же пишутся боевые распоряжения и составляются детальные планы любого выхода на боевую службу каждой подводной лодки или отряда надводных кораблей. А ведь таких походов в год около двухсот! За всеми нужен строгий контроль при подготовке и выполнении поставленных задач.
Особое место в работе операторов занимает координирование деятельности корабельных соединений и технических баз при работах (погрузках, выгрузках, транспортировках) с ядерным оружием, а также при обеспечении испытаний этого грозного оружия на Новоземельском полигоне.
Подобной, крайне ответственной работой Северный флот занимается, естественно, не в одиночку, а в тесном контакте с оперативными органами штабов Ленинградского военного и Северо-Западного пограничного округов, Архангельской и Новосибирской армий ПВО, Воздушной армии Дальней авиации и Кольской группировки войск предупреждения о ракетном нападении. Кроме того, взаимодействие организуется с Мурманским и Архангельским морскими пароходствами, Траловым и Сельдяным флотами, управлением Северного морского пути и оперативными органами Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Ленинградской ВМБ.
Специальный отдел в оперативном управлении занят планированием и организацией оперативной подготовки. Здесь готовятся мероприятия, проводимые на основе указаний и под руководством командующего флотом или его заместителей. Отдел пишет доклады, осуществляет анализ результатов проводимых учений, разрабатывает новые формы и способы оперативного применения и обеспечения сил флота. Именно здесь готовятся материалы, а то и проекты новых оперативных и боевых документов, всевозможных руководств и наставлений, издаваемых центральными органами ВМФ. Военно-научная и историческая группы оперативного управления не только выполняют присущую им работу, но и руководят этими направлениями деятельности в объединениях и соединениях флота.
Большую долю своего труда Владимир Лебедько отдаёт непосредственному управлению силами, поскольку расчёты боевых смен системы командных пунктов флота комплектуются {84} различными офицерами штаба, в том числе и его операторами.
В недалёком прошлом Владимир Георгиевич служил заместителем начальника штаба по боевому управлению — начальником командного пункта флота. Он не понаслышке знает, сколь сложна, ответственна и хлопотна работа оперативного дежурного. Она требует специальной подготовки всей боевой смены. Этой подготовке и контролю за её уровнем начальник оперативного управления уделяет неослабленное личное внимание.
Объём работы штаба флота в целом и оперативного управления в частности — огромен. Без разрешения проблем автоматизации такой работы — не обойтись. Поэтому в составе оперативного управления существуют группа автоматизации и вычислительный центр. Мне, однако, не показалось удачным и правильным размещение дорогостоящей вычислительной техники в подвалах здания штаба. Очевидно, для флотского информационно-вычислительного центра надо будет строить отдельное здание.
От предложения осмотреть защищённый командный пункт, расположенный в горной выработке под близлежащей гранитной скалой, я на сей раз отказался из-за недостатка времени. Однако пообещал начоперу сделать это на предстоящей февральской штабной тренировке, когда смогу пристально взглянуть не только на электронную командную систему боевого управления, но главным образом на то, как работают люди, с тем чтобы лично включиться в отлаженный годами процесс управления силами флота, а возможно, и повлиять на него, приспосабливая к собственному оперативному кругозору.
Поняв, что моё пребывание в управлении подходит к концу, Владимир Георгиевич рассказал напоследок несколько забавных эпизодов, когда начальство, затрудняясь с решением какой-либо непонятной ситуации, к примеру, опознания стратосферного оптического явления или поиска полувельможных перчаток, затерявшихся в дебрях Аэрофлота, — направляло вопрос не иначе, как в оперативное управление.
По мнению начопера, такие офицеры-операторы как Е. Коваленко, О. Герасимов, А. Сорокин, В. Щеглов, А. Черний и многие другие, им названные, обладают не только высокой подготовкой, отменным трудолюбием, физической выносливостью, быстрой реакцией или преданностью делу, но и профессиональной изобретательностью, позволяющей выкрутиться из положения, казалось бы, безысходного. Далеко не каждый офицер, назначенный в штаб, способен стать полноценным офицером-оператором. Однако тех, кто сумел, по мнению контр-адмирала Лебедько, следует замечать, ценить, воспитывать и выдвигать по службе. В этом я полностью согласен с {85} Владимиром Георгиевичем. Похоже, что в его лице я приобрёл если и не единомышленника, то уж во всяком случае — энтузиаста своего дела.
Несколько последующих дней я продолжал изучать штаб. Побывал в организационно-мобилизационном управлении, где его начальник и мой давний знакомый контр-адмирал Иван Галустов доложил мобплан и показал тот огромный объём работы, которую необходимо проделать, начиная с получения мобилизационной телеграммы и кончая боевым слаживанием выведенных из консервации кораблей или вновь сформированных частей, для того чтобы боевая мощь флота существенно возросла.
Иван Хачатурович давно служит в штабе, отличается знанием дела и вызывает симпатию чертами характера, заставляющими этого сына солнечной Армении лучшую часть жизни отдавать флоту на службе в суровом Заполярьи. К тому же обстановка и состояние дел в мобилизационном, организационно-штатном и в отделе подготовки и комплектования подопечного Галустову управления не вызывает тревоги, поскольку хорошо отлажены.
Пожелав успехов главному мобилизатору и его офицерам, я отправился в управление связи. Впрочем, начальник связи флота контр-адмирал Иван Ерофицкии предложил сразу же посетить части, расположенные неподалёку от Североморска. Мы осмотрели передающий радиоцентр «Кортик», приёмный радиоцентр «Бухта», побывали в отдельном морском полку связи. Всё это оказалось весьма полезным для меня, поскольку к стыду своему в таких частях я ранее не бывал и лишь умозрительно представлял себе, каким огромным, технически совершенным хозяйством обладают флотские связисты.
Встреча с Ерофицким закончилась на строительной площадке, где рядом со штабом флота сооружался объект «Памир» — высотное здание, предназначенное для размещения комплекса автоматизированной связи. Там же Иван Николаевич предполагал с комфортом расположить вверенное ему управление. Не удивительно, что тут же посыпались нескончаемые просьбы и многочисленные жалобы на нерасторопность военных строителей. Они, дескать, не понимают значения связи и её роли в управлении силами, снижают темпы, затягивают сроки создания объекта, столь нужного флоту.
Пришлось вспомнить школу С. Г. Горшкова и объяснить контр-адмиралу, что объекты связи строит её начальник, лишь используя руки военных строителей. Рассмотрев проблему, я, конечно, постараюсь оказать помощь на своём уровне. Однако это не означает, что тут же брошусь решать за Ерофицкого наболевшие вопросы. А вот за срыв сроков ввода {86} «Памира» с него же и спрошу!.. Отрезвление наступило мгновенно.
Ещё одним крупным структурным подразделением, не входящим непосредственно в состав штаба флота, но подчинённым его начальнику, являлось радиотехническое управление во главе с контр-адмиралом Борисом Новым. Он возглавлял систему зрительного и технического наблюдения как на берегу, так и на кораблях.
Радиолокационные станции и гидроакустические комплексы составляют предмет главной его заботы. Без наблюдения невозможны ни поиск, ни слежение. Наблюдение — основа любой тактики.
Особое место в структуре штаба занимает служба радиоэлектронной борьбы. Понятие о том, что представляет собой такая борьба, окончательно ещё не устоялось. Однако оно весьма злободневно, поскольку объём радиоэлектронных устройств, применяемых в любых видах техники противоборствующих флотов, стремительно возрастает. Как работать в море, в воздухе и на берегу, не создавая помех собственным средствам и в то же время оказывая электронное противодействие супостату? Подобные проблемы находят разрешение в деятельности начальника службы, видного флотского интеллектуала, контр-адмирала Роберта Готовчица. Его работа во многом похожа на поиск кошки в тёмной комнате, когда там её нет. Однако подопечный Роберту Владимировичу — отдельный полк радиоэлектронной борьбы — вполне реальная сила. Да и других, самых разнообразных средств на флоте предостаточно.
Ещё одна служба, находящаяся в подчинении начальника штаба флота и, пожалуй, самая крупная — гидрографическая. Её начальник, контр-адмирал Константин Коротаев, хорошо понимает, что без прогноза погоды, без комплекта морских карт, с неисправными штурманскими приборами при потухших маяках и молчащих радионавигационных системах не выйдет в море ни один корабль. Поэтому Константин Михайлович подробно докладывает мне о том, чем занимаются подчинённые ему Североморский, Иоканьгский и Архангельский районы, а также Печенгский, Беломорский и Новоземельский участки гидрографической службы. Именно они совместно с отдельным гидроотрядом (при обеспечении дивизиона гидрографических судов) делают всё для того, чтобы корабли Северного флота (да и других судовладельцев) безопасно плавали.
Особое место среди подчинённых Коротаеву частей занимает Арктическая гидрографическая экспедиция. Она выполняет огромную работу по изучению Северного Ледовитого океана, обеспечивает боевую службу ракетных подводных {87} крейсеров стратегического назначения в арктических районах.
Ну а без прогнозов Гидрометеорологической обсерватории флота, возглавляемой полковником Дмитрием Мамоновым, вообще ни один моряк обойтись не может.
Знакомство со штабом флота я завершил встречами с начальниками отделов противовоздушной обороны контр-адмиралом Юрием Можаровым, противолодочной борьбы капитаном 1-го ранга Александром Троицким, береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты генерал-майором Валерианом Ивановым и главным штурманом флота контр-адмиралом Юрием Жегловым. Они представили мне сослуживцев, поведали о наболевшем...
Кроме того, имел беседу с начальником отдела, организующим скрытую связь и управление, отвечающим за соблюдение режима секретности не только в штабе, но и в соединениях флота, капитаном 1-го ранга Владимиром Сумароковым. Вместе обошли помещения шифровальных машин, посетили секретное делопроизводство, библиотеку и архив.
Ну, а в конце дня, после осмотра подразделений комендатуры штаба, обеспечивающих его охрану, транспортные и другие материальные нужды, побывал в штабном гараже, на дивизионе штабных катеров и, наконец, познакомился со всеобщим любимцем — оркестром штаба Северного флота. Не скрою, что голова гудела от обилия сведений, фамилий, впечатлений и проблем.
Всем этим я вскоре поделился с вице-адмиралом Коробовым, на долю которого выпал такой нелёгкий жребий, пообещал понимание и всяческую помощь.
В ответ Вадим Константинович долго рассказывал, как сам осваивал систему, именуемую штабом флота, и что до сих пор не может похвастаться совершенством. Его, например, очень волнует оперативная ёмкость командного пункта, который не без труда справляется с сотней объектов (подводных лодок и надводных кораблей), развёрнутых в море. А что делать, если их количество перевалит за три сотни?
Мы рассуждали о том, что флот стремительно наращивает свой состав, особенно за счёт атомных подлодок и других кораблей океанской зоны, в соответствии с чем должны возрастать возможности системы управления силами. Нужно, по-видимому, находить разумный баланс между жёсткой централизацией и децентрализованным управлением. Целесообразно всячески развивать командные пункты флотилий и эскадр, а также автоматизировать процессы управления. Вспоминали о тех усилиях, которые, в былые времена, прилагали к разрешению этой проблемы такие известные нам адмиралы, как Анатолий Рассохо, Георгий Егоров, Николай Баранов, {88} Георгий Исай, Василий Кичёв, Владимир Чернавин, Валентин Поникаровский. Теперь эту лямку приходится тянуть Вадиму Коробову. Но ведь не в одиночку же?
Ныне штаб флота обладает мозговой элитой в лице опытнейших офицеров. А с учётом обеспечивающего, обслуживающего, охраняющего и технического персонала численность непосредственных помощников Коробова давно перевалила за тысячу.
Завершили мы нашу беседу набросав план мероприятий по обустройству штаба, среди которых значились: окончание возведения комплекса «Памир»; начало строительства здания для информационно-вычислительного центра и нового повседневного командного пункта; сооружение крытых наземных переходов между всеми зданиями штаба; локализация режимной территории красивой металлической оградой; оборудование нескольких гостевых служебных кабинетов для приезжающих московских начальников; ремонт конференц-зала и, наконец, создание в штабе достойной военторговской столовой, способной прокормить его многочисленное население.
Вечером того же дня я пригласил генерала Аниканова и поручил проработать план, доведя его до уровня исполнительного документа. Олег Карпович покряхтел, но заверил, что всё будет выполнено без задержек, в приемлемые сроки, при минимальных затратах и с высоким качеством. Потом, подумав немного, он попросил меня посмотреть, как обустроено управление капитального строительства (иначе говоря УКС), которое также является одним из важных органов флотского руководства. Именно там большая группа квалифицированных военных инженеров во главе с полковником Владимиром Шатохиным занимается заказом проектов сооружений, потребных флоту, закупкой оборудования для них, контролем за проведением строительных работ и за соответствием качества вводимых объектов предъявляемым нормам и требованиям.
— Это Ваш орган! — убеждал меня генерал.
Пришлось ехать, хотя я и понимал, что на флоте много ещё всевозможных органов управления, не входящих в состав штаба. К ним прежде всего относится политическое управление, а также управление кадров. Затем огромный тыл флота с такими «китами», как техническое управление (ТУ), управление ракетно-артиллерийского вооружения (УРАВ) и минно-торпедное управление (МТУ). Потом следует отдел подготовки мичманов, старшин и матросов с его учебными отрядами и школами, отдел устройства службы, отдел военных сообщений. Особое место занимает подчинённый непосредственно командующему флотом отдел эксплуатации и хранения специального оружия с его ядерно-техническими базами. Вплотную {89} к ним примыкают органы управления других ведомств, обслуживающих флот. Среди них военная прокуратура, трибунал и, наконец, отдел военной контрразведки при уполномоченном КГБ СССР по Северному флоту. Однако нельзя объять необъятное. С налёта мне всего этого не осмыслить, тем более, что февраль на носу, а других дел по горло. Придётся оставить до лучших времён.
Любому северянину хорошо знакома и по-своему дорога дата — 22 января, когда после долгих месяцев полярной ночи из-за окрестных сопок впервые выглядывает багровое солнце. Всего несколько минут, да и то если позволит облачность, порадует людей своим ласковым присутствием дневное светило. Тем не менее каждый знает, что отныне продолжительность светлого времени начинает возрастать, сначала медленно, потом всё быстрее, пока, наконец, не превратится в сплошной полярный день.
Первому солнышку рады все североморцы, но я в особенности, поскольку 22 января — ещё и день рождения жены. Этот восход за долгие годы жизни в Заполярье, мы с Ниной старались встречать вместе. Вот и на сей раз, отложив штабные дела, приехал на улицу Сафонова, чтобы сквозь окна служебной квартиры, с высоты седьмого этажа полюбоваться незабываемой картиной. Позволил себе даже чокнуться хрустальной рюмкой с именинницей, как раз в тот момент, когда верхний край огромного багрового диска сверкнул над краем сопки со стороны Мурманска. Потом отобедали вместе.
— Прошлый раз мы с тобой зимнее солнышко встречали в Западной Лице, — говорила жена, — мне тогда пятьдесят исполнилось. А сегодня, поди ж ты, пятьдесят пять уже. Как быстро годы летят!
— Какие наши годы? Давай-ка лучше ещё по рюмочке за всё, что прожито не зря.
Последующая неделя промчалась вихрем. Так же, впрочем, как и первые февральские дни в Ленинграде. Туда участники сбора — североморцы — прибыли двумя флотскими самолётами. Прошлогодний трагический опыт тихоокеанских товарищей научил многому. А лично я зарубил на носу: не летать в одном самолёте со своими заместителями! Дело тут не в личной безопасности, но в боеготовности флота. Исключение составил лишь генерал-лейтенант авиации Виктор Потапов, который в любом полёте со мной. Впрочем, Кругляков остался «на хозяйстве» в Североморске, так что старшим на борту второго самолёта был Коробов, вместе с Усенко.
Проект военно-научного доклада, разработанный управлением боевой подготовки согласно указанному замыслу, оказался весьма тяжеловесным, излишне объёмистым, чересчур детализированным. Перестарался Рябов! Пришлось даже в {90} полёте корпеть над текстом, чтобы убрать подробности, но сохранить идеи и уложиться в регламент. Возможно поэтому моё выступление на тему: «Организация морского боя оперативного соединения разнородных сил флота, включающего корабли новых проектов третьего поколения, с авианосной ударной группой противника» вызвало живой интерес участников конференции и одобрение начальства.
Впрочем, Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков, в присущей ему манере, не преминул потребовать от меня разработки и проведения (уже в апреле), тактического учения с обозначенными силами на затронутую тему, с тем чтобы воплотить понравившиеся идеи не на бумаге, а в море. Подобное для меня неожиданностью, конечно, не явилось, но вызвало оживление в зале. А в перерыве заседания командующий Тихоокеанским флотом адмирал Владимир Сидоров даже хлопнул меня по плечу:
— Ну как, Аркадий? Убедился, что инициатива наказуема?
— Лучше, Володя, делать по-своему. Иначе тебе навяжут чужое решение, — не удержался я, что кажется понравилось собеседнику.
Развернувшаяся вслед за конференцией командно-штабная военная игра «Авангард-82» ещё раз продемонстрировала, что С. Г. Горшков верен своему правилу — доводить обучаемых до полного изнеможения. Работая над вариантами замысла разыгрываемой операции, я мучился, чувствуя, что уровень подготовки вице-адмирала Коробова и остальных, привезённых в Ленинград, офицеров — не выше моего собственного. С командующим не спорят, соглашаются, мало что предлагают. Хорошего тут мало.
Выкрутился, конечно. Даже решение на операцию доложил Главкому вроде бы неплохо. Однако при этом искренне завидовал своему преемнику вице-адмиралу Владимиру Самойлову, совсем недавно вступившему в должность командира Ленинградской ВМБ. Он через час уедет вместе с Горшковым в какой-нибудь институт или на завод, а мне сидеть тут, в Академии, и страдать до утра над устранением недостатков собственного решения.
Впрочем, любое мероприятие хорошо уже тем, что обязательно кончается в установленный срок. Завершилась и военная игра «Авангард-82». Вскоре оба наших самолёта благополучно приземлились на аэродроме Североморск-1. А ещё через несколько дней, осмотревшись и проверив готовность, я закрутил собственный оперативный сбор на тему: «Управление силами в операции флота». Как же иначе? Постановление военного совета надо исполнять!
Сбор проходил в форме комплексной штабной тренировки со средствами связи и с привлечением всей системы {91} командных пунктов объединений и соединений флота. Известно, что основой управления является решение командующего. Поэтому в основу тренировки было положено решение, принятое мною и утверждённое Главкомом на игре «Авангард-82». Контр-адмирал Искандеров лишь наращивал обстановку по конкретным эпизодам путём выдачи соответствующих вводных. Вице-адмирал Коробов управлял силами с основного КП в скале. Вице-адмирал Кругляков находился в готовности принять управление на запасном КП в Нерпичьей. Командующие объединениями, командиры соединений и несколько специально выделенных командиров кораблей работали на своих штатных командных пунктах. Оперативный состав штаба флота и штабов объединений выполнял свои прямые функции.
Ну а я за те пять суток, пока длилась тренировка, умудрился объехать и облететь всю систему, чтобы в деталях представить себе особенности процесса управления флотом. Начал, разумеется, с упрятанного в толщу гранитного массива основного командного пункта, где в сопровождении его начальника, контр-адмирала Александра Евдокименко, обошёл и осмотрел все оперативные и технические помещения. Там работает множество людей как штатных, так и привлечённых из состава штаба и других органов управления. Для придания стройности системе и строгости при выполнении функциональных обязанностей весь личный состав командного пункта распределён по различным центрам, группам, направлениям, пунктам и постам.
Основу КП составляет центр боевого управления, включающий группу командования, группу общего оперативного планирования, группу планирования огневого и ядерного поражения. Имеются направления, определяющие боевое применение морских стратегических ядерных сил, а также сил! общего назначения, как в океанской, так и в ближней морской зоне. Постоянно функционирует пункт боевого управления, состоящий из поста оперативного дежурства и поста; контроля за приведением сил в боевую готовность. Работают пункты управления разведкой, противовоздушной обороной, радиоэлектронной борьбы, наблюдением, связью, мобилизацией и формированием, конвойной службой, воинскими сообщениями, береговыми войсками и, наконец, навигационно-гидрографическим обеспечением.
Кроме того, в составе КП флота имеется информационно-вычислительный центр, занимающийся сбором, обработкой, распределением и отображением информации. В его структуре группа общей оперативной обстановки, группа автоматизированной обработки информации, а также главный боевой информационный пост, наглядно отображающий текущее состояние и положение сил. {92}
Основу электронного оборудования КП составляет недавно принятая на вооружение командная система боевого управления (КСБУ) морскими стратегическими ядерными силами. Автоматизированные рабочие места офицеров-операторов КСБУ мерцают зелёными экранами в полутьме главного оперативного зала, располагаясь в полукаре возле постамента, на котором поочерёдно несут свою нелёгкую службу оперативные дежурные — заместители начальника штаба флота по боевому управлению контр-адмиралы А. Евдокименко, Ю. Колашников, К. Смирнов, а также капитаны 1-го ранга В. Гончарук и М. Тхагаспов.
Здесь же оборудовано специальное помещение, отделённое застеклённой стенкой от основного оперативного зала. Это помещение для группы командования, где находится и мой рабочий стол — обыкновенный письменный с десятком всевозможных телефонных аппаратов. Рядом стол для заседаний. За ним обычно работает начальник штаба Коробов, член Военного совета Усенко, начопер Лебедько, зам командующего по авиации Потапов, зам командующего по тылу Петров и ещё пара офицеров-операторов для ведения важнейших записей и рабочей карты.
Разумеется, что под скалой, словно в корпусе гигантской подводной лодки, сосредоточена ещё уйма всяческого персонала: техники-электронщики, связисты, шифровальщики, секретчики, химики, энергетики, охрана. Все они, как муравьи, суетятся, бегают туда-сюда, выполняют видимую, но не очень понятную мне работу. Впрочем, чтобы в деталях с ними разбираться, существует начальник КП контр-адмирал Евдокименко. А для меня командный пункт — лишь инструмент, с помощью которого должен «видеть» обстановку в океане от полюса до экватора и управлять действиями развёрнутых там сил флота.
Оказалось, что в этом инструменте не всегда всё в порядке. Даже на пятые сутки тренировки, когда детали обычно хорошо притираются к механизму, возвратясь из поездок по соединениям я наблюдал на многих пунктах управления почти одну и ту же картину. Вокруг широкого стола с картой обстановки толпится десяток офицеров, из-за спин которых не то что обстановку, но и карту не разглядишь. Хмурый вид, небритые подбородки, красные от бессонницы глаза. Все три смены расчёта, проявляя служебное рвение, работают без отдыха, не подменяя друг друга.
Откуда подобное недомыслие? Ведь любому моряку хорошо известно, что держать экипаж по готовности № 1 можно лишь несколько часов кряду. В дальнейшем всё равно придётся объявлять готовность № 2 и нести службу повахтенно, боевыми сменами. К тому же и графика на оперативных картах {93} ведётся не цветными карандашами, как положено, а почему-то обычным чёрным.
— Мы потом фломастерами всё разрисуем, — мнётся начальник пункта управления, — не сомневайтесь, товарищ командующий. Будет, как в мраморе!
Пришлось объяснять, что мне нужна обстановка, но не «мрамор», и не «потом», а сейчас. Оперативную карту не следует расценивать как всего лишь совокупность условных знаков, сокращённых надписей и координатной сетки. Она, являясь произведением военного искусства, необходима не столько автору-оператору, сколько потребителю отображаемой информации — командующему. Всё, что делается на пункте управления, — для него. Любую пометку на оперативной карте нужно изображать так, чтобы командующий мог прочесть и понять нарисованное с расстояния, допускающего одновременное видение деталей и обозрение всего поля карты. Иначе за деревьями можно не заметить леса. Словом, пришлось выражать неудовольствие работой некоторых операторов и порядком на пунктах управления.
Потом, для разрядки, я рассказал офицерам, как ещё в юные годы, будучи лейтенантом-штурманом на «Щуке», навострился вести боевую прокладку при торпедной атаке «вверх ногами», иначе говоря, так, чтобы мой командир Иван Князьков мог видеть её не отходя от перископа. В те времена подобное ухищрение приводило командира в восторг, а мне явно прибавляло авторитета. Возможно поэтому приобрёл я со временем право читать нудные нотации уважаемым штабным специалистам. Ну а когда заметил, что на усталых, небритых физиономиях появились улыбки, то взял цветные карандаши и разрисовал один из эпизодов в приемлемом для моих глаз масштабе. Потом поставил рядом свою подпись, время и дату. Нельзя же в самом деле твердить, что всё плохо, не показывая, как нужно, чтобы стало хорошо.
Чуть позже свои впечатления я высказал контр-адмиралу Евдокименко, а затем и вице-адмиралу Коробову.
— Не беда, — отреагировал Вадим Константинович, — мы всё это поправим. Хорошо, что заварили такую кашу. Вы присматриваетесь к штабу, а мы привыкаем к вашим требованиям. Это нормально.
Для разбора комплексной штабной тренировки её основные участники были собраны в Североморске. Накануне начальник штаба предложил мне вариант итогового доклада с подробной оценкой работы всех элементов системы управления флотом. Однако я попросил Коробова самому выступить с этим докладом, чтобы в заключительном слове на разборе мне можно было сосредоточить внимание лишь на проблемах и требованиях. Так и поступили. {94}
Разбор занял не более двух часов, прошёл организованно и, на мой взгляд, поучительно. Я говорил о том, что задача штаба флота состоит в совершенствовании системы командных пунктов всех сил и войск, участвующих в операции флота. Нужно развивать эту систему, добиваться, чтобы командных пунктов — основных и запасных, стационарных и подвижных, защищённых и рассредоточенных — было множество.
Для повышения боевой устойчивости системы управления следует шире практиковать использование подвижных КП: морских (корабельных), воздушных (самолётных) и наземных (автомобильных). Особое внимание уделять рациональному распределению личного состава штабов и других органов управления по командным пунктам. Обеспечить несение службы на них как минимум двумя боевыми сменами. Предусмотреть возможность перемещения оперативного состава с пункта на пункт морским, воздушным и наземным путём. Наращивать оборудование множества командных пунктов современными средствами связи и автоматизации. Добиваться возможной взаимозамены любого КП.
Длительное управление с одного и того же командного пункта — смерти подобно. Система управления должна стать подвижной в пространстве, во времени и в своих функциях, сочетать принцип жёсткой централизации с возможной и оправданной децентрализацией. Необходимо практиковать периодическую смену командных пунктов, систематическую передачу функций управления с основных на запасные и обратно. Очень важно добиваться, чтобы любой командный пункт в системе был готов принять на себя управление силами на ступень выше собственного уровня. Готовность системы управления обязана быть выше боевой готовности сил и войск, для чего её следует проверять заблаговременно и как можно чаще. Службу на командных пунктах следует приравнять по статусу к боевому дежурству кораблей и авиационных частей. В этом главная забота начальников штабов объединений и соединений. Хотелось бы видеть командно-штабные тренировки, подобные нынешней, не исключением, а правилом нашей работы.
В заключение, поблагодарив офицеров за проявленное усердие и трудолюбие, по примеру незабвенного адмирала С. М. Лобова, я разрешил следующие двое суток предоставить всем участникам тренировки для отдыха, что и было отмечено бурными аплодисментами присутствующих.
Так закончилось первое мероприятие оперативной подготовки, проведённое мною на Северном флоте. Однако вскоре в моём кабинете опять появился контр-адмирал Осипов. {95}
— Гудит штаб! — уверял Фёдор Иванович, — от удивления и удовольствия гудит. Особенно по поводу этих двух выходных.
Слушая милейшего политработника я улыбался, однако думал о том, что вот почти два месяца прошло, как принял флот, но даже не удосужился хоть раз выйти в море. Это плохо! Ехал в Североморск и, честно говоря, мечтал, что сразу же, пусть ненадолго, но выйду на борту того же «Кирова» или, на худой конец, крейсера «Александр Невский». Вот тебе и вышел! Как же так получилось? Штабом увлёкся? Берег засасывает или комфорт собственного кабинета? Ведь не для штабной работы меня на флот прислали. Надо поправлять. Какой уж тут отдых!
| {96} |
Утренний разговор с Главнокомандующим оказался необычным. Звоня ежедневно в Москву, я, как правило, ограничивался лишь короткими докладами об отсутствии происшествий и проблем не только потому, что это соответствовало действительности, но и поскольку накрепко запомнил уроки самостоятельности, преподанные мне Сергеем Георгиевичем ещё в Ленинграде. Однако на сей раз решил поделиться более пространными впечатлениями о комплексной штабной тренировке, проведённой на флоте в развитие игры «Авангард-82» и в порядке подготовки к учению «Центр-82». Горшков выслушал не перебивая, но оживился лишь когда я доложил ему о своём намерении в марте—апреле почаще бывать в море на различных кораблях флота.
— Это вы правильно решили, — отреагировал он. — Реально действуют, ищут и следят, атакуют и поражают противника всё-таки корабли в море, а вовсе не командные пункты, упрятанные под землёй. Успех куётся в море! По-моему, вы это усвоили давно.
— Так точно.
— Имейте в виду, что в конце апреля я намерен побывать у вас на флоте. Надеюсь вы покажете мне, на что способны в морском бою корабли третьего поколения. Сколько, кстати, у вас таких?
— Пока шесть: «Киров», два эсминца «Современный» и «Отчаянный», два БПК «Удалой» и «Кулаков», а также подводный крейсер проекта 949.
— Ну, вот. Для первого раза вполне достаточно.
Далее Главком заговорил о том, что моё присутствие на конкретных кораблях не должно давить на психику и сковывать инициативу подчинённых. Однако такое присутствие не может вызывать безразличие у остальных сил флота. Для этого следует всегда иметь с собой походный штаб, способный следить за обстановкой, обобщать наблюдения, делать выводы, доводить замечания и указания до всех командиров и командующих. Не следует забывать о соблюдении заместительства {97} и поддержании надёжной связи со своим командным пунктом на берегу, а также с Главкомом и Генеральным штабом. Иначе выход командующего флотом в море рискует превратиться из работы в баловство.
В ответ я высказался в том смысле, что не намерен терять времени и что на этой же неделе начну плавать.
— А вот это у вас вряд ли получится, — раздалась в трубке удивившая меня реплика, — на неделе, точнее 18 февраля, вам надлежит быть в Москве.
— Передо мной, на столе, — продолжал Горшков, а я чувствовал, как он улыбается в трубку, — лежит выписка из Указа о награждении большой группы североморцев. Среди них вице-адмирал Матушкин, которому присвоено звание Героя Советского Союза. Поздравьте его и захватите с собой в Москву, где министр обороны намерен вручить ему Золотую Звезду, а заодно и Вам — орден Ленина.
«Вот это да! — носились мысли, — второй орден Ленина... Но ведь не за флот? Здесь ещё ничего сделать не успел. Значит за Ленинградскую базу?» Однако я молчал, а Главком, сделав паузу, поручил мне забрать из Москвы «мешок с наградами» и уже в Североморске вручить их сослуживцам 23 февраля, в ознаменование 64-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота. Рекомендовал осмотреться после праздников и уж потом приступить к осуществлению своих замыслов.
Мне оставалось только поблагодарить Сергея Георгиевича за заботу о североморцах, сказать, что расцениваю личную награду как аванс и заверить, что внимание Родины послужит делу дальнейшего укрепления флота. Думал, что на этом разговор закончится, однако услышал ещё одну поразившую меня мысль.
— Имейте в виду, — говорил Горшков,— что любой военачальник, представляя подчинённых к наградам и званиям, тем самым лишний раз напоминает высшему руководству о собственной персоне. За каждой вашей личной наградой — успехи бывших и нынешних подчинённых. Вот их и следует благодарить, а не меня... Ну, до встречи в Москве.
Вскоре я поделился содержанием утреннего разговора с Кругляковым, Коробовым и Усенко. Вместе определили замысел предстоящих выходов в море. Предполагалось посетить пункты базирования, в которых ранее мне бывать не приходилось. Таких, например, как Порт-Владимир, где стоит бригада кораблей охраны водного района Мотовского залива. Или гарнизон Гранитный, куда базируется бригада малых ракетных кораблей и катеров. Другого пути, кроме как морем, в эти гарнизоны нет.
Совершенно обязательно побывать в Гремихе. Правда, я заходил туда последний раз, находясь на борту «СКР-72», {98} после ракетной стрельбы на Белом море. Однако пересел на крейсер «Мурманск» и в тот же день, вместе с Главкомом, в обществе Брежнева и Косыгина, прибыл в Североморск. Было это лет пятнадцать тому назад. А теперь в Гремихе базируется целая флотилия подводных атомоходов и бригада кораблей охраны водного района Святоносского залива. Но я до сих пор побывать у них, видите ли, не удосужился.
Вместе с тем главным содержанием своих выходов в море я полагал участие в боевых упражнениях кораблей, мало мне знакомых. К примеру, надо бы выйти для выполнения стрельбы баллистическими ракетами на одном из подводных крейсеров стратегического назначения. Неплохо посмотреть, как организован противовоздушный бой соединения надводных кораблей оперативной эскадры. Наконец, совершенно обязательно организовать в апреле комплексную боевую подготовку сил флота, включающую действия подводных лодок, кораблей эскадры, малых ракетных кораблей и катеров, а также морской авиации с целью отработать элементы тактического учения, заказанного Главкомом.
Определились с заместительством. Как и всегда, для решения повседневных вопросов старшим в Североморске остаётся вице-адмирал Кругляков. Начальник штаба флота Коробов займётся своим прямым делом. Его первый заместитель контр-адмирал Марс Искандеров возглавит мой походный штаб. В море пойдут: первый зам начальника политуправления контр-адмирал Валерий Поливанов, главный штурман флота контр-адмирал Юрий Жеглов, заместитель начальника связи флота капитан 1-го ранга Борис Голин и генерал-майор Олег Аниканов. Остальные офицеры, численность которых следует сократить до минимума, — по усмотрению Искандерова. Кроме того, я высказал желание видеть рядом с собой на борту крейсера контр-адмирала Вилена Рябова.
— К чему он там? — заволновался Коробов, — пусть сидит в управлении и планирует БП.
Пришлось объяснять, что заместитель командующего флотом по боевой подготовке — не планировщик. Для этой работы в его управлении есть прекрасные специалисты — капитаны 1-го ранга Владимир Бешкарев и Борис Бух, трудом которых обеспечивается безопасная работа в Баренцевом море огромной массы кораблей. А мне хотелось бы сделать Рябова главным тактическим координатором на флоте, способным организовать и лично руководить разнородным боем, противолодочными, минными и противоминными действиями. Ведь именно для этого введена подобная должность на всех флотах. Пусть ходит в море, для начала вместе со мной.
Начальник штаба, поморщившись, согласился, но всё же пообещал, что к 22 февраля подготовит предложения к плану {99} моей работы в море. А Николай Витальевич Усенко высказал пожелание быть на учении вместе со мной на борту крейсера. На том и порешили.
Подполковник Борис Баранов легко посадил свой Ан-24 на бетонку Астафьевского аэродрома. В самолёте, не считая экипажа, нас всего пятеро: вице-адмирал Лев Матушкин с женой Людмилой, старший лейтенант Игорь Боев, мой адъютант, и я с Ниной. В полёте женщины щебетали о чём-то своём, сидя за отдельным столиком. Адъютант кемарил, устроившись в кресле кормового отсека. А мы с Матушкиным тихо беседовали под мерный гул моторов о проблемах повышения боевой устойчивости подчинённых ему ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
В общем-то я видел, что Льву сегодня не до серьёзных разговоров. Его буквально распирало чувство удовлетворённости тем, что 35 лет службы в ВМФ, из которых 30 — на подводных лодках, завершились столь блистательной наградой. Не каждому дано испытать подобное. К тому же — великолепный пример для сослуживцев и подчинённых. Действительно, ведь не за деньги служим! Общественное внимание и уважение — важнейшая мотивация в нелёгком воинском труде. Подводном — в особенности. Тем не менее я не развивал эту тему, полагая, что говорить «гоп!» следует не ранее, чем Золотая Звезда увенчает парадную тужурку Льва Алексеевича. Всякое бывает.
Но опасения оказались напрасными. Точно в назначенный срок член Политбюро ЦК КПСС министр обороны Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, как сообщали газеты, по поручению Президиума Верховного Совета вручил группе советских военачальников награды СССР. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза — генерал армии В. И. Петров и вице-адмирал Л. А. Матушкин, Героя Социалистического Труда — генерал армии И. М. Третьяк и генерал-полковник В. Н. Дутов. Ордена СССР вручены — Маршалу Советского Союза Н. В. Огаркову, генералам армии А. А. Епишеву, В. И. Варенникову, Е. Ф. Ивановскому, В. Ф. Толубко, маршалу авиации П. С. Кутахову, адмиралам И. М. Капитанцу и А. П. Михайловскому, генерал-полковникам И. М. Волошину, И. М. Голушко, А. Г. Горному, А. У. Константинову, А. Д. Лизичеву, Л. М. Леонову, М. Д. Попкову, С. И. Постникову, В. И. Сивенок.
Министр передал нам поздравления товарища Л. И. Брежнева и пожелания новых успехов в деле укрепления оборонного могущества Отчизны. Потом он попросил разрешения от нашего имени заверить партию, правительство и весь советский народ в том, что Советская Армия и Военно-Морской Флот всегда были, есть и будут верными стражами его мирного {100} труда, оплотом всеобщего мира. А я тем временем думал, что подобные, пусть формальные, минуты всё же украшают жизнь, делают осмысленным напряжённый, порою опасный, но благородный труд русского воинства.
Только на обратном пути, уже в воздухе, когда бортмеханик накрыл стол, а Лев Матушкин водрузил на нём бутылку первосортного коньяка, позволил себе расслабиться и пригласить к столу присутствующих дам. До возвращения в Североморск успели даже вздремнуть. Только старший лейтенант Игорь Боев, сидя в кормовом отсеке самолёта, как зеницу ока берёг увесистый «мешок с орденами» для североморцев. Ордена были вручены на торжественном собрании, посвящённом 64-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота 23 февраля в Североморском Доме офицеров.
Настроение у всех праздничное, приподнятое. У меня тоже. Шутка ли — именно в этот февральский день 1942 года, с винтовкой-трёхлинейкой в руках, я присягал на верность Красному знамени и Советскому государству. С той поры минуло 40 лет, но я по-прежнему в строю, а вместо трёхлинейки в моих руках небывалая, умопомрочительная, ракетно-ядерная мощь. Пользоваться столь грозной силой, чтобы поддерживать мир во всём мире, следует умело, осторожно, рассудительно, одним словом — профессионально. «Есть такая профессия — Родину защищать», — сказал однажды известный герой великолепного фильма. Конечно есть! Вон сколько их сидит в этом зале — людей благородной профессии!
С докладом выступил начальник штаба флота вице-адмирал В. Коробов. Он рассказал, как в ответ на ленинский призыв «Социалистическое отечество в опасности!» в Красную армию пришли тысячи добровольцев — отряды красногвардейцев, части молодой Красной армии и моряки Балтийского флота... И среди этих тысяч воевал, тогда ещё двадцатилетний, мой будущий отец. Таким образом, ныне я не только служу Отечеству, но воистину продолжаю отцовское дело.
Современному поколению первые шаги нашей армии нередко видятся в романтическом свете — развевающаяся бурка Чапаева, летящая по степным просторам пулемётная тачанка. Всё это было. Но были и неимоверные трудности. Были полки, обутые в лапти. И одна винтовка на троих. И голодный паёк. И сыпной тиф. Но были потом — сброшенные в море белогвардейцы, дымящиеся корабли интервентов, бесславно покидающие наши воды. Всё это было потому, что даже убитый красноармеец (как говорил некогда прекрасный писатель) прежде чем упасть, делал шаг вперёд.
Об этом нельзя забывать! Наши отцы передали нынешнему поколению защитников Родины эстафету великой Победы, {101} добытой кровью и потом, невиданным героизмом всего советского народа в Великой Отечественной войне.
Вице-адмирал Коробов рассказывал о тех людях, чьим трудом создан океанский, ракетно-ядерный щит Отечества. Он приводил многочисленные примеры морского мастерства, великолепного мужества, неподражаемого героизма. Он называл конкретные имена, фамилии, звания... И вот государственные награды. Они заслуженные. Процедура вручения заняла минут сорок.
В заключение я пожелал награждённым и всем присутствующим доброго здоровья и больших успехов в деле укрепления боевой готовности, развития и совершенствования нашего славного Краснознамённого Северного флота. Потом гимн, марш и торжественный вынос боевых знамён в сопровождении почётного караула.
После перерыва состоялся большой праздничный концерт, устроенный силами художественной самодеятельности Мурманского Дома культуры и техники имени С.М. Кирова. Концерт завершился великолепным выступлением ансамбля песни и пляски Северного флота. Ну а когда затихли аплодисменты и публика принялась расходиться, ко мне подошёл Николай Витальевич Усенко.
— Больше плановых мероприятий не предвидится, — сказал он, — у каждого вечером свой праздник. Поэтому мы с Галиной Сергеевной приглашаем вас, Аркадий Петрович, вместе с Ниной Николаевной, к нам домой, в гости. Посидим, вспомним наше житьё-бытьё в Западной Лице и, конечно, поднимем рюмки.
На пятый причал, где ошвартован сторожевой корабль «Жаркий», я приехал вместе с вице-адмиралом Кругляковым. Возле трапа, на юте, маячит фигура командира. Походный штаб уже на борту. Формальности завершены. Все вопросы оговорены.
— Счастливого плавания, товарищ командующий! — улыбается Владимир Сергеевич и тут же вполголоса:
— В Гремихе у меня зять служит, капитан 2-го ранга Богданов. Вы попытайте начальство, как он там? Если что, я прижму.
Короткое рукопожатие, и вот я уже на трапе. Звучит привычная команда: «Смирно!». Ползёт вверх по фалу трёхзвёздный флаг. Ют у сторожевика низкий, почти вровень с причалом. Карабкаться не приходится, можно идти с достоинством, чтобы в конце выслушать чёткие фразы рапорта:
— Товарищ командующий флотом! Сторожевой корабль «Жаркий» к походу готов! Командир корабля капитан 2-го ранга Стефанович. {102}
— Вольно. Здравствуйте, Валерий Алексеевич!
— Здравия желаю, товарищ адмирал! Прошу разрешения сниматься со швартовых и следовать по плану?
— Добро.
Устроившись на крыле мостика я с интересом наблюдал, как работает баковая команда, как ползёт в сторону от причала корма и корабль, набирая ход назад, всё дальше уходит в бухту. Но вот за кормой вскипает бурун и сторожевик, уваливаясь вправо, устремляется вперёд, в обход зловредной банки, словно бельмо на глазу торчащей посреди губы Ваенга на подходах к североморским причалам.
Февральский норд-ост — штука не сладкая. Этот ветер прохватывает сквозь шинель, особенно когда «Жаркий» набирает ход. Пришлось уйти в ходовую рубку. Там тепло и всё прекрасно видно. Кроме того, замполит приволок непродуваемую походную шубу с подстёжкой из бараньего меха и таким же воротником. Облачившись соответственно и повесив на грудь бинокль, рискнул снова выйти на крыло мостика, поскольку «Жаркий» проходил вдоль строя крейсеров «Киев» и «Киров», стоящих на бочках североморского рейда.
Привычным распевом звучит сигнал «Захождение», а я почему-то вспоминаю его малопочтительную трактовку, услышанную ещё в лейтенантские годы, когда подводники, кроме ручного свистка, других музыкальных инструментов не имели.
— Начальство иде-ет!.. Начальство иде-ет!.. Начальство иде-е-е-ет! — поют крейсерские горнисты, извлекая от фразы к фразе всё более высокие звуки из своих горнов.
— Фиг!.. С ним! — отвечает им двумя предельно короткими нотками после моей отмашки нахальный сторожевик.
Напряжение спадает. Вахтенные офицеры опускают ладони, вздёрнутые к козырькам фуражек. Личный состав, ставший к борту для воинского приветствия, расходится по работам и заведованиям. А я внутренне изумляюсь собственному цинизму. Откуда подобная блажь? Всю жизнь страдал почтением к ритуалам корабельной службы. И вот — на тебе.
Тем временем «Жаркий» уже прошмыгнул мимо острова Сальный, что расположен посреди Кольского залива, и вышел на Кольский ведущий створ. Рассматривая в бинокль, а то и с помощью корабельного визира, знакомые берега, я, к удивлению своему, заметил, что внимание моё привлекают не столько убелённые снежными сединами, суровые, но красивые окрестные горы, сколько всяческие морские огрехи и береговые неполадки.
Вон слева по курсу Кислогубский деревянный причал Полярнинского морвокзала. Совсем плохой стал, брёвна торчат в разные стороны, того и гляди развалится. Надо бы поручить {103} морской инженерной службе продумать реконструкцию, а ещё лучше соорудить здесь новую железобетонную стенку, поставить грузовой кран, обновить подходной створ. Хозяина нет в Полярном. Спросить не с кого.
А справа, в глубине Тюва-губы, сгрудились средние десантные корабли. Стройного порядка на них не заметно. И цвет бортов какой-то неестественный. Неужто ржавые? Совсем не похожи на тех красавцев-собратьев, что стоят в Североморске под окнами штаба флота. Придётся сказать об этом комбригу Святашову — пусть повертится Пётр Григорьевич. А при случае и заглянуть в эту забытую всеми Тюва-губу будет не лишним. Да и Круглякову напомнить о ней не помешает.
Или вот топает навстречу облезлый сейнер. Нет чтобы придерживаться своей стороны фарватера. Совсем близко прётся к линии створа, служащего осью раздела полос встречного движения. Не избежать напоминания командиру дивизии ОВР'а контр-адмиралу Сычёву, что именно он отвечает за порядок и безопасность движения в Кольском заливе... Впрочем, тут же из Переймы вылетел ОВР'овский катер и ринулся наперерез рыбаку. Сейчас он поставит нарушителя в нужную полосу. Поторопился я, видимо, упрекнуть Бориса Константиновича.
Впереди открылся остров Седловатый со своим знаменитым зелёным огнём. А у огня, смотри-ка ты, никак крыша покосилась? Надо будет поближе ознакомиться с состоянием средств навигационного ограждения по всему маршруту нашего похода, чтобы потом поделиться впечатлениями с начальником гидрографической службы контр-адмиралом Коротаевым. За любым делом стоят люди. Пусть не забывает об этом уважаемый Константин Михайлович.
«Занудой становлюсь с годами? Нету никакой во мне романтики!» — такие невесёлые мысли приходили после каждого наблюдения. Тем не менее романтика начала проявляться сразу же после того, как «Жаркий» миновал створ острова Торос с мысом Летинский и, таким образом, вышел из Кольского залива на акваторию так называемого Кильдинского плёса, известного коварной толчеёй и сулоями, то бишь беспорядочным волнением, возникающим вследствие взаимодействия крутых волн со взбросами и водоворотами, идущих с разных направлений.
«Жаркий» пару раз тряхнуло так, что я невольно вспомнил, как четверть века тому назад в этих самых местах накрыла меня шальная волна на мостике «Б-77». О чём и рассказал командиру.
— Корабли проекта 1135 обладают прекрасными мореходными качествами, — ответствовал капитан 2-го ранга Стефанович, — они свободно выдерживают океанское волнение, а не только сулои Кильдинского плёса. {104}
«Ишь ты, — подумал я, оценивая командирскую самоуверенность. — Посмотрим, какой из тебя морячина». Однако вслух произнёс:
— Ну, раз так, то полный вперёд и курс на Гремиху.
Когда миновали плоскую громаду острова Кильдин, волнение, естественно, не улеглось, хотя и упорядочилось. Море стало седым от пены, срываемой ветром с вершин волн, лупивших в левую скулу корабля. «Жаркий» взлетал на водяную гору и с размаху врезался форштевнем в очередную, отчего фонтаны воды вздымались выше палубы, а ветер-«мордотык» доносил брызги до стёкол ходовой рубки.
Вскоре я пригласил старпома и обошёл с ним вместе внутренние помещения корабля. Посмотрел, как несётся вахта в постах наблюдения и связи, насколько обеспечена готовность оружия. Заглянул на камбуз. Побывал в машинном отделении. Любовался газотурбинной установкой, позволяющей этому кораблю (водоизмещением в 3000 тонн) развивать скорость свыше 30 узлов и плавать без дозаправки топливом не менее 4000 миль. Везде, куда заходил, удалось поговорить с офицерами и матросами. А их на корабле немало — почти 200 человек.
Остался доволен добрым порядком в помещениях и тем, что зелёных физиономий с мучительными признаками морской болезни оказалось не так уж много. Наверное, поэтому, возвратясь в ходовую рубку, предложил командиру повертеться, иными словами, показать мне мореходные качества корабля на различных ходах и курсовых углах по отношению к фронту волны. Капитан 2-го ранга Стефанович сказал: «Есть!», объявил готовность № 1, предупредил экипаж о начале маневрирования в режиме штормовых испытаний и поставил машинные телергафы в положение «оба вперёд, полный». Потом принялся вытворять со своим кораблём различные выкрутасы. Продолжалось всё это не менее двух часов и закончилось лишь потому, что наступила ночь, а я удовлетворил своё законное любопытство.
— Благодарю вас, Валерий Алексеевич. Можете объявить экипажу, что командующий флотом доволен уровнем его морской подготовки, — сказал я командиру, после того как выслушал впечатления офицеров своего походного штаба. — Сбавляйте ход и следуйте по плану с расчётом прибыть на Иоканьгский рейд с рассветом.
Длинный и узкий полуостров Святой Нос, с одноимённым мысом в своей вершине, простирается от Кольского побережья в Баренцево море на 20 километров и образует этаким полукружьем Святоносский залив. Если подойти близко, то на мысу можно заметить кресты, поставленные некогда русскими поморами в память о погибших братьях-мореплавателях. {105} Отсюда и название происходит, если учесть, что слово «нос» на местном наречии означает «мыс». Неподалёку от мыса расположен крохотный военный городок, включающий радиомаяк, мощный группо-проблесковый световой маяк, а также посты зрительного и радиотехнического наблюдения со своей энергетикой и жизнеобеспечением.
У основания полуострова в залив впадает речка Иоканьга. А вдоль Кольского берега простирается гряда Иоканьгских островов, образуя тем самым приглубый и удобный Иоканьгский рейд. На рейд ведут два судовых хода, доступных крупным кораблям. «Западный» — между островом Чаичий и побережьем. «Большие ворота» — между островами Сальный и Медвежий. Оба прохода, как и сам рейд, оборудованы светящимися створами мощных красных огней.
На Кольском побережье, прикрытом с моря самым крупным островом Витте, примостился посёлок Гремиха, служивший некогда опорным пунктом для поморов, выходящих из Белого моря в Баренцево. Этот край оторван от «большой земли», поскольку сухого пути сюда нет. Даже аэродрома приличного не имеется. Разве что бетонная площадка, способная одновременно принять лишь пару флотских винтокрылых машин. Таким образом, нынешнее многотысячное население гарнизона имеет возможность пользоваться только пароходом, испытывая на 400-километровом пути до Мурманска все прелести морской экзотики, только что продемонстрированной всем, кто находился на борту «Жаркого».
Название Гремиха говорит само за себя. Сильнейшие ветры гремят зачастую в тех местах. А если дует с юго-востока, вдоль своеобразной трубы, образуемой берегом и архипелагом, то на Иоканьгском рейде гуляет волна, которая рвёт не только швартовы, но и стальные бридели причалов. Именно поэтому не так давно между берегом и островом Витте завершили отсыпку мощного волнореза. Сильное волнение удалось купировать. Однако появилась новая напасть — рейд начал замерзать в зимнее время. А причальные бридели по-прежнему рвёт иногда, но уже не волной, а льдом.
В годы войны тут зародилась Иоканьгская военно-морская база, прикрывающая подходы союзных конвоев к горлу Белого моря. Это оперативно-тактическое объединение постепенно развивалось, пополняясь новыми кораблями и даже подводными лодками. Именно сюда в 1956 году чуть не загремел и я на борту «С-269», вместе с Ягринским дивизионом, после завершения большого круга через всю Россию. Однако Бог и комбриг Владимир Петрович Цветко рассудили иначе. Пришлось пересесть на «Б-77» и следовать в Полярный.
Чуть позже Иоканьгской ВМБ командовал мой хороший товарищ по учёбе в Академии Виктор Бабий. Сюда он попал {106} сразу же после выпуска. Здесь, вместе со званием контр-адмирала, получил свой первый инфаркт, заставивший променять суровую заполярную героику на мягкий комфорт академической кафедры. Не удивительно, что я немало слыхивал его рассказов о том, что такое Гремиха. Запомнил накрепко! Да и сам впоследствии месяца полтора прожил в этих местах, готовя к походу на Средиземное море небезызвестную «К-27». На ней и ушёл.
А ныне рядом с Гремихой вырос вполне современный городок Островной. Построены казармы, здания штаба, учебного центра, Дом офицеров. Сооружён замечательный памятник экипажу Всеволода Бессонова. Вдоль побережья вытянулся причальный фронт, способный принимать и обеспечивать всем необходимым ракетные подводные крейсера стратегического назначения. Здесь базируется самая молодая на Северном флоте флотилия атомоходов.
К одному из таких причалов лихо ошвартовался «Жаркий». На причале, во главе с вице-адмиралом Александром Устьянцевым, построилось местное руководство — начальник штаба флотилии контр-адмирал Владимир Логинов, заместитель командующего контр-адмирал Эдуард Балтин и член Военного совета, начальник политотдела флотилии, контр-адмирал Анатолий Визаулин. Привычный ритуал встречи. Оглушительные команды, чёткие рапорты, внимательные взгляды, крепкие рукопожатия и, наконец, разрешение расслабиться.
Чуть поодаль стоят командиры соединений. «Дальнобойной» дивизией подводных крейсеров с межконтинентальными баллистическими ракетами командует контр-адмирал Юрий Белов. «Дружеская» дивизия, которой в своё время я имел удовольствие командовать в Западной Лице, ныне полностью укомплектована многоцелевыми атомными подлодками проекта 671 и передислоцирована в Гремиху. Её командир, контрадмирал Виктор Горев, известен мне с той поры, когда служил старпомом на одной из лодок дивизии и мастерски крутил «солнце» на гимнастическом турнике. А рядом с ним такой же худощавый и подтянутый контр-адмирал Леонид Жданов, командир «коренной» дивизии, изначально основанной в Гремихе на базе бригады дизельных подлодок, куда постепенно передавались из Западной Лицы атомоходы проекта 627а. Адмиральский строй без особого смущения завершал командир бригады кораблей охраны водного района капитан 2-го ранга Игорь Полицинский.
Весь последующий день мы посвятили знакомству с флотилией и гарнизоном. Объехали причалы, на одном из которых я спустился в люк подводного крейсера, поскольку на этих кораблях проекта 6676 ранее бывать не доводилось. Прошёл по отсекам, но чего-либо незнакомого или непонятного {107} там не увидел. Лодка, как лодка, очень даже симпатичная. На остальные вообще не полез — они знакомы до винтиков. Зато побывал на одном из тральщиков. Ещё раз убедился в том, что смотреть железо в базе — не интересно. Лучше выйти в море и оценить экипаж в деле — куда полезнее.
Детальному знакомству с гарнизоном очень способствовал контр-адмирал Поливанов, входивший в состав походного штаба. Валерий Тимофеевич в своё время служил начальником политотдела «коренной» дивизии, великолепно владел обстановкой и мог сосредоточить моё внимание на тех злачных местах, куда вице-адмирал Устьянцев везти командующего не решался.
Посмотрели даже гарнизонную реликвию — так называемый «Домик Аниканова» — облезлую хибару, в которой жил некогда Олег Карпович, будучи начальником строительного управления, когда обустраивал Гремиху. Пришли к обоюдному заключению, что инфраструктура гарнизона, даже отдельно взятого Островного, всё ещё значительно отстаёт от таких флотских городов, как Заозерск или Гаджиево, не говоря уже о Североморске. Следует уделять Гремихе гораздо больше внимания, что генерал Аниканов и принял к неукоснительному исполнению.
Остаток дня потратил на то, чтобы выслушать служебные доклады должностных лиц о состоянии боевой и технической готовности, о ходе боевой службы и боевой подготовки, о материальной обеспеченности и капитальном строительстве в гарнизоне, наконец, об уровне воинской дисциплины и партийно-политической работы.
Особый интерес вызывали некоторые предложения вице-адмирала Устьянцева и контр-адмирала Белова, основанные на некотором опыте и направленные на повышение боевой устойчивости подводных крейсеров. На флотилии впервые в истории отечественного атомного флота была выполнена покладка подводного крейсера на грунт и длительное пребывание в таком положении. В перспективе рассматривались тактические приёмы боевого патрулирования с периодической покладкой крейсера на грунт или постановкой на подводный якорь при максимальном обесшумливании энергетической установки.
Инициатива всегда заслуживает пристального внимания и поддержки. Поэтому я одобрил предложения, однако потребовал от подводников научиться не только обесшумливать собственные действия, но и стрелять ракетами с грунта или при стоянке на подводном якоре. Возникающие при этом проблемы остойчивости и плавучести следует сначала разрешить теоретически и только потом двигаться от учения к учению методом последовательных приближений. Но не будем торопиться. {108} Если не в этом, так в следующем году надо довести дело до практической стрельбы.
«Жаркий» покинул Иоканьгский рейд лишь глубокой ночью и двинулся в обратный путь. Командир получил приказание с рассветом быть на подходах к острову Большой Олений. Попутная волна на сей раз донимала не столь жестоко. Удалось даже не только обсудить с офицерами походного штаба результаты визита в Гремиху, набросать контуры основных мер по улучшению дел на флотилии, но и выспаться.
Остров Большой Олений прикрывает с востока подходы к узкой и не очень длинной губе, носящей экзотическое название Порчниха. Между островом и побережьем несколько удобных мест для якорной стоянки. А в самой Порчнихе, великолепно укрытой ото всех ветров, имеется бревенчатый корень, к которому цепями прикована ржавая секция старенького плавучего причала. Лоция свидетельствует, что Порчниха не замерзает круглый год, а глубины позволяют заходить в губу кораблям с осадкой до десяти метров.
Однако лезть туда на борту сторожевика я для первого раза не решился. «Жаркий» стал на якорь на внешнем рейде, неподалёку от мыса Скала. Спустили катер, который и доставил к причалу в Порчнихе адмиральский десант. Компанию мне составили Искандеров, Аниканов, Поливанов и Жеглов.
Рядом с корнем причала оказался сарай с законсервированным дизель-генератором и ёмкость для солярки. А вокруг, за версту, ни одной живой души. Вот, собственно, и всё. Смотреть противно! Однако Олег Карпович тут же вытащил из портфеля красочный планшет-раскладушку и принялся излагать идею создания в Порчнихе обустроенного пункта маневренного базирования подводных атомоходов.
Идея эта давно носится в воздухе. Я помню её со времён адмирала Г. М. Егорова. Однако усилия для её осуществления здесь придётся приложить немалые. Конечно, вырубить в гранитном хребте побережья с помощью взрывов нужную полку для причального фронта не так уж трудно. Однако дальнейшее строительство — без подвоза материалов сухим путём и без электроэнергии, необходимой для работы кранов, бетономешалок и других строительных механизмов, — вряд ли возможно. Впрочем, до посёлка Туманный, куда подходит ближайшая автодорога, 35 километров. А до Серебрянской гидроэлектростанции, откуда возможно провести линию электропередач, и того меньше — всего 30.
Оценив ситуацию, я немедленно поддержал размечтавшегося генерала, но выразил надежду, что уважаемые строители, не мешкая, перейдут от красочных картинок к реальным делам. Уже нынешней весной следует ревизовать существующий корень причала, отремонтировать его, а ещё лучше — {109} заменить на железобетонный. К обновлённому корню поставить нормальный трёхсекционный плавучий причал, способный принять любой атомоход, в том числе и подводный крейсер стратегического назначения. В таком виде Порчниха уже может стать великолепным полигоном для выполнения подводными крейсерами практических стрельб баллистическими ракетами из надводного положения, стоя у причала с выведенной из действия энергетической установкой и остановленным навигационным комплексом. Надеюсь, все понимают, насколько это важно.
В дальнейшем следует поэтапно пробивать сюда автодорогу, сооружать линию электропередач, расширять причальный фронт, доводя его до трёх-четырёх причалов, что позволит разместить в Порчнихе дивизию атомоходов. Сначала, разумеется, для маневренного базирования, а в недалёком будущем (чем чёрт не шутит!) возможно помечтать и о постоянном. Однако для этого совершенно необходимо всё, что делается в Порчнихе, отдать в одни надёжные руки. Допустим — в руки командующего Гаджиевской флотилией вице-адмирала Льва Матушкина, подчинив ему Порчниху со всеми её потрахами и проблемами.
Потом поручил Искандерову готовить директиву, в которой отразить не только сроки и этапы строительных работ, но и вопросы организации в районе Порчнихи должного оперативного режима, системы наблюдения и связи, охраны и обороны, тылового и технического обеспечения. Олегу Карповичу рекомендовал, не затягивая дела, связаться с Матушкиным и определиться с планом первоочередных мероприятий, которые должны позволить уже нынешней осенью выполнить первую ракетную стрельбу от причала. Я из него выжму эту Порчниху!
Ну а главному штурману флота, контр-адмиралу Юрию Жеглову, предложил оценить соответствие существующих средств навигационных ограждений рейда Большой Олений и губы Порчниха их будущему предназначению. Подводный крейсер — не строительная баржа с буксиром. Любой риск здесь недопустим. Известно также, что ошибка в несколько дуговых секунд при рассчете геодезического пеленга на дальности стрельбы в несколько тысяч километров может привести к недопустимому отклонению боевой части от точки прицеливания. Необходимо обеспечить атомоходу, стоящему у причала, возможность точного определения поправки курсо-указания, для ввода её в ракетный комплекс непосредственно перед стрельбой. Пусть поморщит лоб Юрий Иванович вместе с главным гидрографом Константином Коротаевым.
Находившись по гранитным валунам чуть не по колено в снегу, мы возвратились на борт «Жаркого» усталые, но довольные. {110} Впереди последний этап похода — от острова Большой Олений до входа в губу Долгая Западная. Здесь я вместе с Жегловым пересяду на катер и уйду в пункт базирования бригады ракетных катеров. «Гарнизон Гранитный» — так называется это место — великолепно укрыт в глубине длинной и узкой губы. Никогда прежде мне бывать там не доводилось. «Жаркий» после того возвратится в Североморск, благо Кольский залив совсем уже рядом, а мы с Юрием Ивановичем доберёмся домой на ракетном катере.
Командир бригады капитан 1-го ранга Александр Гринько подлетел к борту «Жаркого» на быстроходном посыльном катере, когда корабль лёг в дрейф, укрывшись от волнения за мысом Чёрный. Перепрыгнув с приспущенного трапа на дрожащую палубу катера, не дожидаясь его швартовки, я подал тем самым дурной пример, известный на флоте под лаконичной формулой: «Так делать нельзя!». Однако контр-адмирал Жеглов тут же самоотверженно последовал за своим командующим. Впрочем, всё обошлось. Катер, взревев дизелями, прямо от трапа ринулся вперёд, вдоль борта «Жаркого», с мостика которого распевно играл горнист:
— Начальство иде-е-е-ет!..
Тьфу, чёрт! Привязалась дурь. Никак не выбросить её из головы. Впрочем тут же распрямился, согнувшись было под напором ветра. Ухватясь рукою за леер, поднял другую вверх для «отмашки» — трёх чётких жестов из стороны в сторону, заменяющих возглас: «Вольно!». Естественно, что тут же получил в ответ с борта «Жаркого» две короткие ехидные нотки исполнительного сигнала. На том и успокоился. Тем более что катер уже проскочил мыс Долгий и теперь спокойно бежал по гладкой, как зеркало, поверхности воды среди гранитных берегов.
Минут через сорок я уже слушал доклад капитана 1-го ранга Гринько в штабе бригады. Соединение это включало два дивизиона ракетных катеров хорошо знакомого мне проекта 205 и дивизион малых ракетных кораблей проекта 1234, с которыми ранее иметь дело не приходилось. В Гранитном для них имеется всё необходимое: ремонтные мастерские и плавучий док, база оружия и топливный склад, электростанция и котельная, казарма и столовая, клуб и баня. Есть и проблемы, к сожалению, не малые. Тут же, на острове, посреди губы Долгая Западная, в неказистых, но приличных домах живут семьи катерников. И не жалуются.
Осмотр гарнизона продолжался не более двух часов, после чего, возвратясь в штаб, я приказал поднять по тревоге дежурный ракетный катер и, указав на карте точку, поставил задачу: выйти на перехват воображаемого противника, находясь в готовности, нанести по нему условный ракетный удар. {111} Дежурным оказался «Р-82» проекта 205у во главе с командиром, капитаном 3-го ранга Михаилом Радченко. В тот момент, когда мы подходили к причалу, экипаж уже готовил катер экстренно к бою и походу, прогревал дизеля.
— Комбригу оставаться на берегу, — сказал я, заметив что Гринько устремился к трапу, — мы вернёмся через несколько часов, но, видимо, уже затемно. Приготовьте к тому времени малый ракетный корабль, чтобы отвезти меня в Североморск.
— «Туча» пойдёт, товарищ командующий.
— Хорошо, пусть будет «Туча».
Дежурный ракетный катер «Р-82» был ошвартован носом на выход, чтобы можно было дать ход вперёд прямо от причала. Командир Радченко так и поступил, следуя посреди губы скоростью 24 узла. Но когда катер выскочил на Кильдинский плёс, врубил все три дизеля на самый полный ход. Репитер лага показывал 42 узла, а натянутый на мою голову шлем с наушниками и ларингофонами не спасал от рёва дизелей, свиста ветра и солёных брызг моря, хотя и позволял хорошо слышать, что говорит командир.
Впрочем, так продолжалось недолго. Как только выскочили за Кильдин, волнение перевалило за 5 баллов. Катер бросало и с треском лупило днищем о водяную гору. Казалось, будто судёнышко вот-вот развалится. Радченко ухитрялся маневрировать, взбираясь на волну под углом к её фронту, но вскоре взмолился и попросил разрешения сбавить ход.
— Действуйте в соответствии с поставленной задачей и хорошей морской практикой, — ответил я командиру, — но соблюдайте при этом нормы, определяемые мореходными качествами вашего корабля.
К тому времени я окончательно промок, продрог, ощущал медный вкус во рту, сосало под ложечкой. Можно было, конечно, спуститься с открытого ходового мостика в рубку. Но там, у прокладочного стола, мучился зелёный, словно лист салата, главный штурман флота. Рыжеватые волосы Юрия Ивановича только усиливали печальное сходство. Да и не гоже мне уходить вниз. Коли взялся за этот катерный гуж — не говори, что не дюж.
Так продолжалось часа полтора, пока «Р-82» выходил в назначенную точку. Море безобразничало, и я спросил Радченко, сможет ли он при таком волнении использовать своё оружие.
— Применение крылатых ракет «Термит», — ответил командир, — ограничено состоянием моря до 5 баллов. Сейчас, по-видимому, больше. Стабилизаторы качки садятся на концевики, и стрельба не возможна. Однако всё дело в пеленге на объект удара. Вот посмотрите. {112}
Радченко уменьшил ход и развернул катер таким образом, что качка сделалась не такой стремительной, стала более спокойной, контейнеры с ракетами перестало заливать.
— В этом направлении стрельба возможна, — махнул рукой командир в сторону форштевня, — но для того придётся сделать манёвр «шишка забегай» — сменить позицию, чтобы вывести противника на желательный пеленг стрельбы. Разрешите приступить?
«Лихой мужик!» — подумал я, глядя на отблеск безудержной решимости в глазах командира, но вслух сказал:
— Довольно, Михаил Кузьмич. Скажите экипажу спасибо и следуйте в базу.
— Есть! — сверкнул белозубой улыбкой Радченко и тут же ткнул все три телеграфа на полный вперёд.
Минут через пятнадцать, стабилизировав курс, ход и приноровившись к волне, командир протянул мне хорошо упакованный брикет.
— Бортовой паёк, — сказал он, — время ужина. Здесь шоколад и галеты.
— Какой уж тут шоколад, — не удержался я, — впору тараньку грызть.
— И это можно! — обрадовался командир, вытягивая из-за голенища пару рыбин. Вскоре, улыбаясь, мы рвали зубами эту прокопчённую соль. Помогает!
А в Гранитном нас ожидал комбриг Гринько и приготовленный к походу малый ракетный корабль «Туча». У трапа переминался с ноги на ногу его командир, капитан 2-го ранга Владимир Филиппов. Крейсерской строевой выучкой тут и не пахло.
— Может быть, останетесь? Переночуете у нас? Баньку сварганим по высшему разряду! — заносил «хвост» комбриг, — на моём веку... чтобы командующий флотом... в такую погоду...
— Уймитесь Александр Александрович! — отрезвил я комбрига, — некогда мне. Но имейте в виду, что в Гранитном постараюсь бывать почаще. А пока — готовьтесь. В апреле всей бригадой будете участвовать в комплексной боевой подготовке, отрабатывать организацию морского боя разнородных сил против отряда кораблей «противника». Вот там и посмотрим, что умеют ваши катерники.
На переходе в Североморск у меня хватило времени, чтобы осмотреть корабль и уяснить, что «Туча» соответствует проекту 1234. Его водоизмещение, мощность дизелей, дальность плавания — вдвое превышают подобные параметры катеров проекта 205, но позволяют сохранить вполне приличную скорость до 35 узлов, а главное — нести шесть крылатых ракет «Малахит», не идущих в сравнение с банальными «Термитами». {113}
Капитан 2-го ранга Филиппов с удовольствием расписывал мне боевые качества своего детища. Этот кораблик способен поражать противника на дальности свыше 100 километров. Мореходность у «Тучи», судя по личным ощущениям, вполне приличная. Совсем не та, что у проекта 205. Катера типа «Р-82» хороши разве что для Финского залива. В крайнем случае — для Балтики или Адриатики. Но в нашем Баренцевом желательны более серьёзные корабли. Ну хотя бы вроде этой «Тучи».
В Североморск пришли за полночь. Ошвартовались к тому же, пятому, причалу, где, заложив руки за спину, расхаживал вице-адмирал Кругляков.
— О ваших впечатлениях мы знаем, — сказал он, — Искандеров доложил. Директива относительно Порчнихи готовится, а телеграмма по флоту уже написана. Можем представить её на подпись, если заедете в штаб.
— Спасибо, Владимир Сергеевич. Поздно уже. Отдыхать пора. До завтра.
Переезд с причала к дому на улицу Сафонова занял всего несколько минут. Поднявшись на седьмой этаж, я открыл квартирную дверь собственным ключом. Однако жена, несмотря на поздний час, ещё не ложилась. Ждала. Усенко ей, видите ли, позвонил. Сказал, что приду, хотя и поздно, но всё же сегодня.
— Садись чай пить, — сказала Нина, — не надоело по морям болтаться? Вспомни сколько тебе лет. А может быть, рюмочку выпьешь?
Через полчаса я уже спал как убитый.
| {114} |
Март — месяц грядущего равноденствия, когда продолжительность светлого времени суток постепенно уравнивается с длиною тёмной ночи. Днём в ясную погоду можно любоваться ослепительной белизной окружающих сопок или удивительной синевой незамерзающих речек. А ночью бывает тоже глаз не оторвать от изумительной красоты сполохов северного сияния, охватившего половину неба.
Два первых дня наступившего месяца ушли на то, чтобы осмыслить итоги предыдущего, разобраться с накопившимися делами, выслушать доклады своих заместителей с предложениями по основным мероприятиям на март. Главное среди них — это задуманная комплексная боевая подготовка разнородных сил флота, когда в конце месяца подводные лодки, ракетные корабли и катера, а также морская разведывательная и ракетоносная авиация будут искать и атаковывать отряд боевых кораблей «противника» во главе с крейсером «Александр Невский». В свою очередь атакуемый отряд должен оказывать противодействие нападающим силам, применяя для этого противолодочную авиацию и корабли непосредственного охранения. В ходе комплексной боевой подготовки будут выполняться торпедные, ракетные и зенитные стрельбы практическим оружием.
Моё место — на борту крейсера «Александр Невский». Походный штаб возглавит контр-адмирал Рябов. Ему же поручена разработка детального плана предстоящего учения и сопутствующих боевых упражнений. Кроме того, в соответствии с моим замыслом, по результатам экзамена в море Вилен Петрович должен быть допущен к самостоятельному руководству подобными мероприятиями в дальнейшем. Услыхав подобное, Рябов, как обычно, запустил пятерню в шикарную шевелюру и убежал будоражить подчинённое ему управление боевой подготовки. А я, заглянув в приёмную, убедился, что там по-прежнему толпятся старшие и высшие офицеры.
Видимо, мои заместители недорабатывают. Ведь именно они должны брать на себя повседневные, рутинные вопросы, {115} возникающие у офицеров штаба и других органов управления. Наверно, так?
— Что надо сделать, чтобы в приёмной не толпился народ? — спросил я вскоре у капитана 2-го ранга Ермакова, принёсшего для утверждения повестку мартовского заседания военного совета.
— Сменить адъютанта, — не задумываясь ответил Владимир Ильич.
Ишь ты, как всё просто, оказывается. А ведь, пожалуй, он в чём-то прав. Старший лейтенант Игорь Боев, доставшийся мне в адъютанты «по наследству», слишком молод, симпатичен и легковесен, чтобы управлять потоком серьёзных, озабоченных делами офицеров, своевременно направляя их в нужное русло. Чуть позже, пригласив к себе начальника управления кадров контр-адмирала Смарагдова, поставил ему задачу — подобрать нового адъютанта с нужными качествами, но при этом Боева не обижать и помочь ему определиться в дальнейшей службе.
В ответ Виктор Васильевич доложил о недавно полученной директиве, согласно которой вводится новая должность — офицера для особых поручений командующего флотом, со штатной категорией капитана 1-го ранга. На вопрос начальника управления кадров о том, какими качествами должен обладать человек, предназначенный для подобной работы, я, честно говоря, ответить не смог. Интуитивно понимал, конечно, что порученец — не чета адъютанту. Первому скорее пристало быть хорошим моряком, нежели опытным канцеляристом. Он должен обладать достаточной волей и организаторскими способностями, чтобы выполнять таинственные «особые» поручения командующего. Словом, рекомендовал Смарагдову подобрать порученца из числа молодых командиров кораблей, не лишая его при этом перспективы в службе, например возможности поступления в Академию.
Между тем среди подобных дел и делишек меня всё-таки угнетала мысль, что предпринятый недавно штурманский поход на «Жарком» вдоль своего побережья без решения каких-либо тактических задач — нельзя рассматривать иначе как баловство, желание встряхнуться, возобновить утерянное было чувство моря. Успех моего дела, конечно же, куётся там — в море. Но ведь не на борту сторожевика или тем более ракетного катера? Главной ударной силой флота были и остаются атомные подводные лодки, среди которых особое место занимают ракетные подводные крейсера стратегического назначения. На одном из таких крейсеров нужно выйти в море в ближайшее время. Это тем более важно, что последний раз лично стрелял баллистическими ракетами с борта «К-178» целых девятнадцать лет тому назад. Да и ракеты те — {116} Р-13 — можно увидеть ныне разве что в музее. Отстал? Ничего, поправим!
Одолеваемый подобными мыслями, я посвятил часть своего служебного времени изучению современного состояния давней проблемы: «флот против берега», столь образно изложенной Адмиралом Флота Советского Союза С. Г. Горшковым в его труде «Морская мощь государства». Этот томик с дарственной надписью Сергея Георгиевича как зеницу ока храню среди книг личной библиотеки.
Задачу действий сухопутных войск потивоборствующих сторон, по мнению нашего Главкома, можно было бы условно выразить формулой «солдат против солдата». В то же время для флота всегда стояла исторически оправданная двуединая задача — «флот против флота и флот против берега», когда силы флота действовали не только против вражеских кораблей в море, но против прибрежных территорий противника и развёрнутых там группировок сухопутных войск. Традиционной формой действий флота против берега являлось подавление войск противника на приморских флангах огнём корабельной авиации и артиллерии с последующей высадкой морских десантов для овладения территорией.
Однако изобретение баллистических ракет с ядерными зарядами, оснащение ими подводных лодок значительно расширили сферу применения сил флота против берега. Современный флот способен не только наносить удары по прибрежным флангам войск, но уничтожать важнейшие объекты на всей заморской территории любого государства. В связи с этим действия флота против берега приобрели принципиально новое значение в войне. Они составляют ныне важную часть военной стратегии, способны влиять не только на ход, но и на исход войны. Именно поэтому атомные ракетные подводные крейсера, как в нашей стране, так и за рубежом, отнесены к силам стратегического назначения, тогда как все остальные корабли остаются силами общего назначения.
Готовность к поражению стратегически важных наземных объектов на заморских территориях противника — одна из главных задач Вооружённых сил нашего государства. Способность решить эту задачу путём нанесения упреждающего, ответно-встречного или, на худой конец, ответного удара-возмездия определяет так называемый стратегический паритет со странами, обладающими ядерным оружием. Поддержание подобного паритета на должном уровне как раз и делает возможным длительный, устойчивый мир на нашей планете. Об этом не раз заявлялось с высоких трибун партийных съездов, где я имел честь присутствовать.
Возможность поддержания паритета или в крайнем случае решения упомянутой задачи сокрушающим ударом {117} обеспечена наличием в составе Вооружённых Сил Советского Союза ядерной триады: ракетных войск стратегического назначения (РВСН), авиационных стратегических ядерных сил (АСЯС) и морских стратегических ядерных сил (МСЯС). Последние в сравнении с остальными компонентами триады обладают феноменальной боевой устойчивостью. Благодаря принципу свободы мореплавания только Военно-Морской Флот может ещё в мирное время и в короткие сроки сосредоточить значительную боевую силу в оперативно-важных районах океанов и морей, откуда морское оружие способно с большой точностью поражать войска и объекты на территории практически любого государства. При этом силы флота остаются, как правило, недосягаемыми для оружия сухопутных войск.
Подводные лодки с баллистическими ракетами, постоянно развёрнутые в океане, являются наиболее скрытным, устойчивым, дешёвым и безопасным для государства компонентом ядерной триады. Видимо поэтому «удельный вес» морских стратегических ядерных сил в подобной триаде большинства держав, обладающих ею, из года в год растёт и к концу века может достигнуть 70—75%.
В Советском Военно-Морском Флоте существуют две группировки морских стратегических ядерных сил. Первая из них создана на Северном флоте для действий в акваториях Атлантики и Арктики. Вторая — на Тихом океане. Не удивительно, что Атлантическая группировка должна служить предметом моих неустанных забот. Между тем я хорошо сознаю, что опыт всей моей предшествующей службы, за исключением короткого периода командования подводным ракетоносцем «К-178», был связан с применением сил общего назначения. Пришло время навёрстывать упущенное.
Рассуждения на тему о роли и месте ракетных подводных крейсеров в системе Вооружённых Сил СССР интересны разве что слушателям Военно-морской академии. «Зачем это нужно?» и «что делать?» — для меня не проблема. Задачи давно поставлены и хорошо уяснены. В то же время вопрос «как делать?» — заслуживает пристального внимания. Речь идёт о способах действий, которых всегда великое множество. Каждый способ обладает свойственной ему эффективностью, в свою очередь зависящей от условий обстановки. Это обстоятельство ещё более увеличивает вариативность способов. А опыта мало. Одним словом, учиться надо! В том числе у собственных подчинённых.
Наиболее сведущими специалистами в области создания и применения группировки морских стратегических ядерных сил являлись на Северном флоте, конечно же, вице-адмиралы Вадим Коробов и Лев Матушкин. Оба они долгое время {118} командовали подводными ракетоносцами и их соединениями. Знают дело, как говорится, изнутри. Первый, находясь в должности начальника штаба флота, видимо, уже успел приобщиться к оперативной стороне проблемы. Второй, управляя флотилией стратегического назначения, в совершенстве владеет тактикой и техническими вопросами применения ракетного оружия. Чем не учителя?
Вадим Константинович — рядом, под боком. Поэтому, обложившись картами и документами, мы уединились с начальником штаба, чтобы не спеша разобраться с вопросами оперативного применения группировки и обеспечения её боевой устойчивости. Ну а со Львом Алексеевичем, надеюсь, сумею поработать через несколько дней, прямо у него на флотилии, когда прибуду в Гаджиево, чтобы оттуда выйти в море на борту ракетного подводного крейсера. Благо подвернулся таковой (под номером «К-219»), готовящийся к выполнению плановой учебной ракетной стрельбы.
Свой разговор с Коробовым мы начали с общеизвестных истин. Поражение стратегически важных объектов на заморской территории противника, с одобрения военно-политического руководства нашей страны, возможно осуществить путём проведения операции стратегических ядерных сил под непосредственным управлением Верховного Главнокомандующего, который принимает решение на операцию и отдаёт приказ на первый ядерный удар. Приказ этот (в виде сигналов боевого управления) передаётся с помощью так называемого «ядерного чемоданчика» — иначе говоря, портативного связного кодирующего устройства, постоянно носимого специальным офицером вблизи от места пребывания Верховного. Вполне естественно, что при этом предусмотрено дублирование как подобных устройств, так и каналов связи.
Успех операции обеспечивается длительной, заблаговременной подготовкой и тщательным планированием с учётом множества вариантов решения задачи. Этим постоянно занимается Генеральный штаб, который загодя определяет, а при необходимости уточняет перечень и координаты объектов, подлежащих поражению. Назначает очерёдность и степень поражения каждого объекта. Устанавливает долю участия, ресурс боеприпасов и распределение комплексов целей между компонентами ядерной триады, а также вопросы их взаимодействия друг с другом. Генеральный штаб вводит в действие и периодически видоизменяет систему сигналов боевого управления. После получения сигнала-приказа от Верховного Главнокомандующего центральный командный пункт доводит сигналы боевого управления до исполнителей. Для этого создана и установлена в войсках и на флотах многоступенчатая автоматизированная командная система боевого управления. {119}
Идеологом всего комплекса подобных нелёгких вопросов в Генеральном штабе являлся генерал армии Сергей Ахромеев, который около шести лет работал там начальником Главного оперативного управления, а затем первым заместителем у Маршала Н. В. Огаркова. Кроме своей роли в управлении ядерными силами, Сергей Фёдорович интересен мне тем, что в 1940 году мы вместе поступали в Московскую военно-морскую спецшколу. Только он после девятого класса был зачислен в 1-ю роту, а я после седьмого — в 3-ю. Вместе и комсоргами стали в своих подразделениях.
Уже в 1941 году Сергей был принят в Военно-морское училище имени Фрунзе, где ему удалось закончить всего один курс. Ну а потом Астраханское пехотное училище и годы боёв на четырёх фронтах. После войны служил в войсках, окончил две академии: Бронетанковую и Генерального штаба. Теперь он обеспечивает управление ядерной триадой государства. Сергей Фёдорович в обращении строг, суховат, немногословен, но по-прежнему хорошо относится к флоту и морякам. В этом я имел удовольствие убедиться во время нескольких коротких бесед перед назначением на нынешнюю свою должность.
Ну а боевыми действиями морских стратегических ядерных сил лично руководит Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Как он это делает, я имел возможность наблюдать, сидя за спиной Главкома на его командном пункте в период учения «Центр-78», куда был привлечён с должности командира ЛенВМБ на роль начальника Атлантического направления в «играющем штабе» Северо-Западной стратегической группировки Вооружённых Сил.
Именно Главком (с помощью своего Главного штаба) определяет состав Атлантической и Тихоокеанской группировок морских стратегических ядерных сил, потребных для поражения выделенных Военно-Морскому Флоту объектов, а также количество и тип атомоходов стратегического назначения, предназначенных в резерв Верховного Главнокомандующего. Главком устанавливает зоны патрулирования в океанах и морях, количество находящихся на боевой службе подводных крейсеров, нужную степень обеспечения их боевой устойчивости в каждой из таких зон.
Главный штаб при этом разрабатывает порядок применения крейсерами своего оружия, способы доведения, опознания и исполнения установленных сигналов боевого управления. Среди них весьма важным является сигнал о назначении комплекса целей, иными словами, — государства или континента, по которому осуществляется прицеливание. Другой сигнал — о снятии всех ступеней предохранения с ядерных боеприпасов. Наконец, последним передаётся сигнал — {120} приказ о пуске ракет в кратчайший срок либо в назначенное время. По внешним признакам эти боевые сигналы совершенно невозможно различить во множестве других сигналов, идущих в эфир: ложных, учебных, контрольных, тренировочных, практических, а то и вовсе никак не связанных с применением какого-либо оружия.
Важной функцией Главного штаба является изготовление, строжайший учёт и рассылка на флоты необходимого комплекта так называемых перфолент, содержащих в закодированном виде параметры конкретных объектов, необходимые для расчёта полётного задания каждой ракеты. Только в том случае, когда перфолента введена в приборы управления ракетным оружием, возможна его предстартовая подготовка. Заранее «прочесть» перфоленту невозможно. Таким образом, командир стреляющего ракетоносца не имеет ни малейшего представления о том, куда полетят его ракеты. Об этом знают только Главком и те немногие специалисты из Главного штаба, которые заняты разработкой полётных заданий.
А я, к стыду своему, ни одной перфоленты в глаза не видывал. В своё время нас учили рассчитывать геодезический пеленг и дальность стрельбы вручную, с помощью формул сферической тригонометрии, уравнений баллистики и некоторых технических приспособлений. В этом и признался Коробову. Начальник штаба тут же позвонил в оперативное управление, откуда притащили учебную перфоленту. Повертев её перед носом, я подумал о том, что никогда бы в жизни не догадался, какую диковину держу в руках, если бы не комментарий знающего человека. Ну а затем мы с Вадимом Константиновичем углубились в осмысление собственной роли и прямых обязанностей при выполнении задачи нанесения противнику сокрушительного удара из-под воды.
Для создания группировки морских стратегических ядерных сил на Северном флоте предназначены пять дивизий подводных крейсеров с баллистическими ракетами. В целях непосредственного охранения крейсеров выделяется необходимое количество многоцелевых атомных подлодок. Кроме того, привлекается система ядерно-технических и ракетно-технических баз, а также части связи вкупе с командной системой боевого управления.
Две трети общего количества ракетоносцев всегда загружены ракетами и находятся в постоянной готовности к действию. Часть из них постоянно в море, на боевой службе. Другая часть — на боевом дежурстве. Остальные заняты повседневными делами в базах. Группировка, развёрнутая в море, может быть усилена за счёт боевого дежурства или сил наращивания. Однако и находящиеся в базах крейсера постоянной готовности в экстремальной обстановке должны быть способны {121} пустить свои ракеты прямо от причалов. Подобное требование высказывал мне министр обороны Маршал Д. Ф. Устинов, когда напутствовал в должность. Однако как обеспечить подобные пуски организационно и технически, министр не разъяснил, рекомендовал подумать.
Флотская жизнь любого подводного ракетоносца обеспечена, как правило, двумя экипажами и расписана по так называемым большим и малым циклам. Подобный цикл, к примеру, включает следующие этапы:
выход в море на боевое патрулирование с первым экипажем;
возвращение и передачу ракетоносца второму экипажу;
межпоходовый ремонт;
выход в море на боевую подготовку;
снова выход на боевое патрулирование, но уже со вторым экипажем.
С возвращением цикл повторяется.
После нескольких подобных малых циклов планируется большой, включающий заводской ремонт, а то и модернизацию с полной выгрузкой всех ракет, что в свою очередь требует значительного времени на боевую подготовку и ввод крейсера в состав сил постоянной готовности. Эффективность службы подводных ракетоносцев определяется специальным показателем — коэфициентом оперативного использования, выражающим соотношение времени полезного пребывания в районе боевого патрулирования ко времени, необходимому для восстановления боеготовности в базах и полигонах боевой подготовки.
Соблюдение нужных пропорций, установленных норм, строгих правил подводной службы, борьба за повышение эффективности морских стратегических ядерных сил — головная боль штаба флота, в особенности оперативного управления, и уж, конечно, — область пристального внимания командующего.
Группировка ракетных подводных крейсеров флота, развёрнутая в море, обычно состоит из нескольких эшелонов. Передовой эшелон, как правило, патрулирует в Атлантике, неподалёку от побережья противника. Действия крейсеров этого эшелона должны обеспечить подлётное время ракет к объектам поражения, не превышающее работного времени системы противоракетной обороны. Удар первого эшелона неотразим. Однако обеспечить его боевую устойчивость до удара крайне трудно. Даже в мирное время за каждым подводным крейсером, выходящим в Атлантику, американские противолодочные силы пытаются установить длительное слежение. В некоторых случаях им это удаётся. О чём (ко всеобщей нашей досаде) мне уже пару раз весьма убедительно докладывал {122} контр-адмирал Квятковский. Правда, упомянутые эпизоды слежения относились к подлодкам проекта 675 — кораблям первого поколения, не имеющим отношения к борьбе флота против берега и прозванным за повышенную шумность «ревущими коровами».
Именно поэтому основной эшелон подводных крейсеров, несущих межконтинентальные ракеты, надёжно упрятан в морях, примыкающих к нашему побережью. Здесь легко прикрыть его от возможных ударов подводных лодок и противолодочных самолётов противника, которые, конечно же, будут всячески стремиться к нанесению максимального ущерба нашим стратегическим ракетоносцам в безъядерный период войны, до выпуска ими своих ракет. Однако сделать это, находясь в зоне подавляющего превосходства наших сил, противнику будет крайне трудно.
Ещё более надёжно должен быть упрятан и прикрыт (например, подо льдами арктических морей) эшелон ракетных крейсеров резерва Верховного Главнокомандующего. Этот эшелон как раз и предназначен для восполнения потерь морских стратегических ядерных сил в безъядерный период войны, а также для решения других, внезапно возникающих задач.
Мы с Коробовым долго рассматривали карты с маршрутами и районами боевых действий подводных крейсеров различных эшелонов. Комментировали ситуацию, пока наконец не пришли к обоюдному заключению, что маршрутов и районов у нас недостаточно. Необходимо изыскивать новые, неожиданные маршруты, осваивать другие, нестандартные районы, где ранее плавать не приходилось. Часть из них, образно говоря, следует заложить в неприкосаемый запас, для того чтобы варьировать ситуацию, если «клюнет жареный петух».
Боевые действия вверенной мне группировки будут представлять собой совокупность согласованных по объектам и времени их поражения ракетно-ядерных ударов подводных крейсеров, наносимых из назначенных районов или с маршрутов боевого патрулирования в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, по сигналам боевого управления Генштаба. Эти действия характеризуются решительностью целей, глобальным размахом, предельной напряжённостью и скоротечностью.
В то же время они требуют заблаговременной подготовки, тщательного планирования, всестороннего обеспечения, многовариантных решений на развёртывание, переразвертывание и поддержание группировки в боеготовном состоянии как в мирное время, так и в течение всего периода безъядерной войны. {123}
Задачами подобных боевых действий могут быть:
уничтожение пусковых установок с ракетами, ядерных складов и других стратегических средств нападения, размещённых в глубине территории противника;
поражение группировок его войск, систем противовоздушной и противоракетной обороны, центров управления орбитальными группировками космических аппаратов;
разрушение промышленных и административных центров, портов, аэродромов, плотин, мостов, других транспортных систем, а также объектов государственного и военного управления.
На первый взгляд, такие задачи выглядят всего лишь как перечисление объектов. Однако для того чтобы ювелирным хирургическим ударом уничтожить, к примеру, шахтную пусковую ракетную установку противника, нужна совсем иная точность попадания, количество и мощность боеприпасов, вид подрыва, нежели при поражении крупной и рассредоточенной группировки войск. Задачи тут совершенно различные. Впрочем, пусть голова болит у специалистов Генерального и Главного штабов, поскольку именно они нацеливают ракеты нашего Северного флота.
Тем не менее группировкой подводных крейсеров на Атлантике и в Арктике непосредственно управляю всё-таки я — командующий Северным флотом. Именно я обязан установить маршруты, районы и сроки патрулирования, порядок развёртывания и наращивания как сил боевой службы, так и группировки в целом. Обязан организовать её взаимодействие с остальными силами флота, обеспечить всем необходимым.
В моём ведении находится решение вопросов своевременной замены ракетоносцев в составе группировки, обеспечение их пакетами с боевыми распоряжениями, нужными комплектами перфолент и непосредственное управление действиями каждого из них. Кроме того, мне надлежит определить состав и способы действий сил непосредственного охранения ракетоносцев, обеспечить их боевую устойчивость, прикрыть от возможных ударов противника действиями своих противолодочных сил, истребительной авиацией, а также минными рубежами. Я должен заблаговременно организовать уничтожение вражеских сил противолодочной войны в море и в базах.
И всё же главнейшей среди моих обязанностей остаётся доведение сигналов боевого управления до каждого подводного крейсера. Сделать это не так-то просто, но необходимо, причём в кратчайший срок.
Словом, обязанностей — выше головы! Как делать всё это наилучшим образом — вот в чём вопрос. Череп раскалывается {124} от обилия проблем. Впрочем, в штабе флота на то и служат специалисты-операторы, чтобы разбираться и докладывать нужные предложения. Однако мне следует, по-видимому, не только опираться на их опыт и знания, не только чувствовать в них единомышленников, но и держать этот контингент в руках, воспитывать, обогащать собственными идеями, а при необходимости и заменять, учитывая особую важность проблемы действий флота против берега. О том мы и договорились вскоре с Вадимом Константиновичем Коробовым.
Губа Сайда вдаётся в западный берег Кольского залива, образуя прекрасную, закрытую от любого волнения акваторию, пригодную для базирования нескольких соединений самых крупных подводных атомоходов. Именно здесь, на берегу одной из бухт, носящих название Ягельная, разместилось Гаджиево — современный, весьма благоустроенный посёлок городского типа. Своё название он получил в память о прославленном подводнике времён Великой Отечественной войны Герое Советского Союза Магомеде Гаджиеве. А теперь здесь живут моряки самого крупного в Советском Флоте объединения атомоходов стратегического назначения.
Добираться из Североморска в Гаджиево проще всего по гладкой поверхности Кольского залива. Быстроходный катер проскочит разделяющие 15 миль за какие-нибудь полчаса. Можно, конечно, доехать и автомобилем. Пока я служил в Ленинграде, здесь построили автодорогу, соединяющую Мурманск с Полярным, а затем и с Гаджиево. Однако ехать придётся часа два вокруг всего залива через единственный Кольский мост. Лучше катером! Тем более что с воды порядок в базе наблюдать куда сподручнее, чем из окна автомобиля, несущегося по сухому пути.
Так я и поступил, отправившись в Гаджиево на посыльном катере, которым управлял один из старейших североморцев — мичман Петров. Лет ему, наверное, около шестидесяти, но он ещё очень крепок, мастер своего дела отменный. Именно он привозил в Полярный адмирала Чабаненко в ту тору, когда я, в чине капитана 3-го ранга, кувыркался там на своей «Б-77», пытаясь избавиться от приклеенного было ярлыка «тихоокеанской замухрышки», с тем чтобы выдержать испытание на гордое звание «североморец». Надо будет повнимательнее присмотреться к мичману Петрову, продлить ему службу сколько возможно, а верность избранному делу поставить в пример всем военным морякам.
Тем временем катер выскочил за Сальный, миновал островок Брандвахта и подходы к Полярному, обогнул маяк Седловатый и устремился в узкое длинное Сайдогубское горло. {125} Пройдя боновое заграждение, прикрывающее вход в базу, мичман Петров повернул влево на 90°, вошёл в бухту Ягельная и, сбавив ход по моей просьбе, двинулся не спеша вдоль открывающейся панорамы причального фронта, где возле многочисленных плавучих причалов стояли длинные чёрные корпуса грозных атомоходов.
Наблюдая эту милую сердцу картину, я думал о том, что всего за двадцать с небольшим лет в Ягельной построен великолепный пункт базирования, обладающий всем необходимым. В тот же срок дислоцированное здесь соединение постепенно превратилось в отдельную дивизию, потом в эскадру и, наконец, было переформировано во флотилию атомных ракетных подводных крейсеров. Все корабли, входящие ныне в её состав, построены Северным машиностроительным предприятием, в Северодвинске, по проектам генерального конструктора «Рубина» С. Н. Ковалёва. В прошлом году, ко всеобщему нашему удовлетворению, Сергей Никитич за выдающиеся достижения в области кораблестроения избран действительным членом Академии наук СССР.
Немало труда на разных этапах развития этого прославленного объединения вложили в него такие известные североморцы и мои сослуживцы, как Сергей Хомчик, Георгий Егоров, Василий Кичев, Георгий Неволин, Владимир Чернавин, Юрий Сысоев, Лев Матушкин.
Мичман Петров прибавил ходу, взял нужный курс, прицелился и подлетел к причалу, но своевременно погасил инерцию, отработав машинами полный назад таким образом, что сходня легла прямо на палубу, а белые швартовые концы плотно прижали всё ещё рычащий катер к причальным кранцам. Через несколько секунд всё стихло. А я, пожав заскорузлую пятерню бывалового моряка и ещё раз отметив в душе его лихую швартовку, пошёл навстречу широко улыбающемуся Льву Алексеевичу.
Так начался день, проведённый на флотилии и потраченный на то, чтобы подробно ознакомиться с её составом, состоянием, базированием, проблемами оперативного применения и тактикой действий. Как водится, выслушал длинный официальный доклад командующего. Поближе познакомился с его заместителями контр-адмиралами Гарри Лойкканеном и Евгением Зембовским. Последний, будучи начальником штаба флотилии, много интересного рассказал о системе управления подводными ракетоносцами и практике их цикличного использования. В заключение член военного совета, начальник политотдела флотилии контр-адмирал Валентин Важенин весьма образно поведал мне о людях, владеющих столь грозным оружием, их службе, жизни, настроениях, проблемах быта. В целом я остался доволен боевым настроем и полной {126} уверенностью в том, что флотилия Льва Матушкина боеспособна и готова выполнять все поставленные ей задачи. Эту уверенность с разных позиций высказывали мои собеседники.
Затем удалось побывать на всех трёх дивизиях подводных ракетоносцев, входящих ныне в состав флотилии. Старейшая среди этих соединений — моя родная «горбатая» дивизия, где некогда (ещё в Западной Лице) начинал я свою атомную службу, командуя ракетоносцем «К-178». Ныне дивизия полностью перевооружилась. Атомоходов проекта 658 в её составе уже не осталось. Только подводные крейсера проекта 667бд и несколько 667а несут основное бремя боевой службы. Командует «горбатой» дивизией контр-адмирал Иван Литвинов — опытный, знающий своё дело подводник.
Здесь же, в Ягельной, базируется ещё одно соединение. Для него в традициях шутливо-образных прозвищ вполне подошло бы наименование «передовая» дивизия. Дело в том, что в её составе только корабли проекта 667а, имеющие на вооружении баллистические ракеты средней дальности. Своё боевое патрулирование эти подводные крейсера вынуждены выполнять в Атлантике, представляя собой передовой эшелон группировки морских стратегических ядерных сил. Этой «передовой» дивизией командует весьма молодой контр-адмирал Василий Порошин.
Однако гордостью флотилии является дивизия, представляющая собой основной эшелон группировки. Базируется она не в Ягельной, а на отлёте, в губе Оленья, что неподалёку от Полярного. Вместе с тем хорошая автодорога связывает пункт базирования в Оленьей с Гаджиевским гарнизоном. В составе «основной» дивизии несколько новейших подводных ракетоносцев проекта 667бдр, количество которых возрастает из года в год. Каждый такой корабль, несущий 16 ракет большой дальности, с разделяющимися и разлетающимися веером ядерными боеголовками, обладает несравнимо большими боевыми возможностями по сравнению с проектом 667а. Образно говоря, один такой «БДР» способен заменить целую дивизию «А». Командует «основной» дивизией один из видных подводников, пользующихся непререкаемым авторитетом в своём деле, контр-адмирал Юрий Фёдоров.
Личное общение с командирами соединений помогло мне убедиться в том, насколько правильно понимают они свою роль и место в сложной многоступенчатой структуре системы управления группировкой морских стратегических ядерных сил. Ведь именно командир соединения отвечает за соблюдение цикличности использования каждого ракетоносца, чередование периодов его патрулирования и ремонта, комплектование и смену экипажей, их подготовку на кораблях и в учебных {127} центрах. Комдив вместе со своим штабом руководит непосредственной подготовкой каждого подводного крейсера к боевому походу. В соответствии с указаниями штаба флота он выдаёт или заменяет на своих кораблях пакеты боевого управления и перфоленты, необходимые для выполнения задач боевой службы.
Командир соединения непосредственно обучает командиров подводных крейсеров правилам боевого патрулирования и боевого дежурства. Он отвечает за тактику действий своих ракетоносцев при уклонении от нежелательных встреч с посторонними кораблями, судами и тем более иностранными подводными лодками. Он обязан научить командиров тому, как следует выполнять проверку отсутствия слежения за собой со стороны противолодочных сил противника, как уклониться от слежения, ежели таковое всё-таки будет установлено. Важнейшим в тактике подводного ракетоносца является активная самооборона с применением торпедного оружия против нападающей вражеской субмарины.
В любом случае командир дивизии должен быть уверен, что командир ракетоносца и его экипаж способны осуществить точное определение единого времени, координат своего корабля и поправок курсоуказания, столь необходимых для ракетной стрельбы. Комдив обязан лично убедиться, что командир знает и соблюдает правила связи, своевременного приёма и безошибочного разбора сигналов боевого управления. Наконец, вершиной процесса, которым руководит командир соединения, являются практические пуски ракет с последующим контролем точности попадания в назначенную точку прицеливания.
Контр-адмирал Фёдоров делился со мной опытом подлёдного плавания крейсеров проекта 667бдр в Арктике. Он говорил о том, что длительные походы подо льдом, в том числе и к Северному полюсу, стали для ракетоносцев обычным делом. Однако плавать — это одно, а выполнять боевое патрулирование под ледяным панцирем, находясь в соответствующей ракетной готовности, — совсем другое дело. Применять ракетное оружие из-подо льда мы, дескать, ещё и не пробовали. Наверное поэтому моё предложение о том, чтобы уже в текущем году организовать исследовательский подлёдный поход на полную автономность с несением боевой службы в советском, канадском и американском секторах Северного Ледовитого океана, Юрий Александрович встретил с энтузиазмом. Наметили даже подводный крейсер — «К-211» проекта 667бдр, который в сентябре может быть подготовлен к подобному походу. Вот только с каким экипажем пойдёт «К-211» — ясности пока не было. Пришлось поручить вице-адмиралу Матушкину, не торопясь, тщательно взвесить обстоятельства, {128} детально проработать и всесторонне обосновать необходимые предложения.
Ну а контр-адмирал Литвинов получил более конкретную задачу: организовать ракетную стрельбу из арктического района с подрывом льда торпедами, всплытием ракетоносца в образовавшейся полынье и пуском практических ракет для поражения назначенной точки прицеливания на одном из боевых полей. Тут же было принято решение готовить к такому мероприятию подводный крейсер «К-92» проекта 667бд с экипажем капитана 1-го ранга Виктора Патрушева. Правда, когда я предложил Литвинову в те же сроки стрельнуть ещё и от причала в Порчнихе, Иван Никитович начал чесать в затылке, поскольку задача оказалась больно уж неожиданной. Однако Матушкин тут же перехватил инициативу, заявив, что костьми ляжет, но с помощью генерала Аниканова подготовит Порчниху, а из контр-адмирала Литвинова выжмет подводный крейсер 667бд, допустим «К-421», с тем чтобы выполнить и эту, очень важную для флотилии стрельбу.
Наконец, на долю контр-адмирала Порошина выпала совсем уж неотвратимая задача — выпустить в море подводный крейсер «К-219» с экипажем капитана 1-го ранга Александра Онучина для выполнения ракетной стрельбы. Правда, стрелять ему придётся не из суровой Арктики или экзотической Порчнихи, а всего лишь из привычного учебного района огневых позиций, нарезанного в акватории Баренцева моря. При этом руководить стрельбой намерен лично вице-адмирал Матушкин с командного пункта флота в Североморске. На борту у Онучина выйдет в море командующий флотом. А Василию Александровичу (в соответствии с участью комдива) придётся безропотно сидеть в Гаджиево, ожидая сообщения о величине отклонения точки падения ракеты от заданной точки прицеливания. Конечно, Онучин покажет то, чему его научили, но отклонение это может существенно повлиять на авторитет командира дивизии и итоговую оценку соединения в целом.
Остаток дня посвятили осмотру плавучего завода, выполняющего межпоходовый ремонт атомоходов. Побывали на гигантской стройке подскального дока — укрытия ремонтирующихся кораблей. Обошли ракетно-техническую базу, обеспечивающую хранение, приготовление и подачу баллистических ракет на носители. Завершили работу посещением строящегося штаба и учебного центра флотилии, великолепного плавательного бассейна, детского городка и давно уже функционирующего Дома офицеров с шикарным зимним садом в фойе. Осматривая гарнизон, я отмечал: хоть Гаджиево и отстаёт лет на десять от любимого мною Заозерска, однако то, что уже сделано, не хуже, а порою лучше, чем на Краснознамённой флотилии в Западной Лице. Впрочем, уравниловки быть не {129} должно. Достижения одних всегда являются стимулом для других. Эту банальную истину я усвоил ещё на мостике «Малютки» в заливе Америка.
Итак, основное представление о том, как должна функционировать группировка морских стратегических ядерных сил, я, кажется, получил. Остаётся посмотреть, что представляет собой удар из-под воды на практике. Тем не менее на сегодня — хватит с меня. А завтра — в море.
Длинное чёрное веретено корпуса ракетного подводного крейсера стратегического назначения «К-219» вытянулось вдоль одного из причалов в бухте Ягельная. Ближе к округлому носу корабля высится боевая рубка с закреплёнными на ней и торчащими, словно крылья в стороны, горизонтальными рулями. За рубкой простирается в корму, чуть приподнятая над корпусом, плоская ракетная палуба. Под ней упрятаны 16 ракетных шахт, прикрытых мощными герметичными крышками. В каждой шахте содержится одноступенчатая баллистическая ракета Р-27у с жидкостным реактивным двигателем и независимым ампульным хранением ракетного топлива и потребного для горения окислителя. Такая ракета способна закинуть боевую часть, состоящую из трёх разделяющихся блоков, на дальность в несколько тысяч километров. У ракеты в шахте №4 ядерная боеголовка заменена на практическую, в инертном снаряжении, иначе говоря, с «песочком», предназначенным лишь для того, чтобы сохранить весовые и баллистические характеристики при стрельбе по боевому полю, расположенному в Таймырской тундре, неподалёку от Норильска.
«К-219» построен по проекту 667а в Северодвинске и принят в состав Северного флота в феврале 1972-го. Через три года корабль модернизирован по проекту 667ау под усовершенствованную ракету. К сожалению, на этом корабле в 1979 году на боевой службе произошла авария, грозившая пожаром, а то и взрывом. Однако экипаж справился с ситуацией, сумел предотвратить тяжёлые последствия и без людских потерь привёл свой подводный крейсер в базу. Ещё через год корабль капитально отремонтировали. Вот уже десять лет «К-219» верно служит флоту, израсходовав лишь треть своего жизненного ресурса и совершив за этот срок десять походов на боевое патрулирование в Атлантику. Таким образом, можно считать этот корабль одним из современных экземпляров хорошо послужившего второго поколения атомоходов.
Обо всём этом мне рассказал вице-адмирал Матушкин по пути на причал, где нас ожидал готовый к походу ракетоносец. Разумеется, мне были известны условия выполнения предстоящего боевого упражнения с фактическим пуском ракеты в {130} инертном снаряжении. Ещё в Североморске я подписал обязательный в таких случаях приказ командующего флотом о допуске «К-219» к ракетной стрельбе, с объявлением организации и установлением ответственности руководителя, исполнителей и контролёров. А в штабе у Матушкина рассмотрел подробный план боевого упражнения, содержащий несколько этапов. Таких, например, как скрытный переход крейсера в полигон боевой подготовки, преодоление специально созданного противолодочного рубежа, занятие района огневых позиций и боевое патрулирование в нём, передача и приём сигналов боевого управления, пуск ракеты в кратчайший срок после сигнала и, наконец, послезалповое маневрирование с последующим возвращением в базу. План, честно говоря, тривиальный, не содержащий полёта тактической фантазии. Можно было бы придумать задачу и потруднее. Однако вмешиваться, путать карты я для первого раза не стал.
Шинель и тужурку пришлось оставить на корне причала, в домике контрольного дозиметрического поста. Там же облачился в тёмно-синюю, до боли привычную маркированную одежду службы радиационной безопасности. Поверх натянул непродуваемый реглан с бараньей подстёжкой и в таком виде сошёл на причал. У чёрного борта ракетоносца толпились провожающие офицеры штаба «передовой» дивизии во главе с контр-адмиралом Порошиным. На палубе атомохода, возле сходни, высился командир, капитан 1-го ранга Александр Онучин, одетый в меховую куртку с чёрным непромокаемым чехлом и кирзовые сапоги. Командирскую голову украшала потрёпанная каракулевая шапка с позеленевшим «крабом». Экипаж уже стоял по местам, готовый сниматься со швартовов.
Усевшись на какую-то приступочку в ограждении рубки и завернувшись плотнее в свой реглан, я получил возможность наблюдать из-за спины командира за манёврами корабля в гавани. Швартовы приняты на борт. Сходня сдёрнута на причал. Вскипела вода за кормой от первых оборотов винтов. Атомоход медленно пополз назад, уходя в бухту. Офицеры, оставшиеся на берегу, следуя примеру Льва Матушкина, вздёрнули ладони под козырёк, да так и стояли до тех тор, пока округлый нос ракетоносца не ушёл за срез торца причала. Потом два юрких рейдовых буксирчика помогли развернуть это огромное неповоротливое веретено носом на выход из бухты. Командир дал ход вперёд обеими турбинами, и подводный крейсер, медленно набирая скорость, устремился рекомендованным курсом в назначенную точку погружения.
В открытом море, на хорошем ходу, атомоход уже не казался мне таким огромным и неповоротливым. Он великолепно слушался руля, хорошо шёл на волну, иногда прошивая её насквозь, но высокий мостик над рубкой не заливало. После {131} погружения и дифферентовки я убедился, что корабли проекта 667а великолепно управляются под водой. Лодка как лодка. Да и не такая уж она громадная. Подводное водоизмещение всего 11 500 тонн, что в четыре раза меньше, чем у тяжёлого подводного крейсера типа «Тайфун». Удовольствие объездить это последнее, феноменальное творение Сергея Никитича Ковалёва у меня ещё впереди. А пока надо посидеть в центральном посту у Онучина, понаблюдать за работой расчёта главного командного пункта.
Центральный пост мне понравился тем, что удобен, просторен и расположен выше проходной палубы третьего отсека. Члены экипажа, не имеющие прямого отношения к управлению кораблём, сюда не заглядывают. Перископ находится в боевой рубке, а здесь, посреди центрального поста, лишь удобное командирское кресло. По правому борту, у носовой переборки, пульт управления движением с помощью вертикального и горизонтального рулей. Чуть правее — рабочее место командира электромеханической боевой части (БЧ-5), оборудованное средствами внутрикорабельной связи и машинными телеграфами. Рядом с ним — пульт управления погружением и всплытием.
А слева, в носу, огромный экран боевой информационно-управляющей системы. Рядом с командирским креслом, но левее его — пульт управления ракетным оружием. Здесь царствует командир ракетной боевой части (БЧ-2). В отдельных выгородках размещены штурманская и гидроакустическая рубки. Конечно, и прежде мне доводилось бывать на подводных крейсерах проекта 667а, но в порядке экскурсии, в базе, на мероприятиях «Кумжа», когда Главком показывал новую технику руководящему составу флотов. А в море, где всё можно увидеть в действии, на таком корабле я впервые. Тем не менее всё понятно, привычно, доступно. Впрочем, после комплексно-автоматизированных «подводных истребителей» проекта 705 рациональной компоновкой центрального поста меня не удивишь.
Окончательно освоившись, как водится, пригласил замполита, чтобы пройтись с ним по отсекам. В первом осмотрел торпедные аппараты, из которых два сверху, а четыре под ними. Кроме того, имелись запасные торпеды на стеллажах. Всего 22 самоходных подводных снаряда несёт этот корабль. Есть чем сразить нападающую вражескую субмарину. Второй отсек — аккумуляторный и жилой. Каюты здесь вполне приличные. Койки аккуратно заправлены. Отдыхающих не видно, хотя готовность № 2 объявлена давно. В третьем отсеке (под центральным постом) прошли, особо не задерживаясь, и вышли в четвёртый отсек, где между толстенных стволов ракетных шахт, казалось, можно было заблудиться. Пятый {132} отсек — такой же, ракетный. В шестом расположены дизель-генераторы. А вот в седьмом — сердце корабля — пара ядерных реакторов. Вкупе с двумя главными турбозубчатыми агрегатами, мощностью по 20 000 лошадинных сил каждый, они обеспечивают возможность подводному атомоходу двигаться неограниченное время со скоростью» 25 узлов на глубине чуть меньше 400 метров. Турбины размещены в восьмом и девятом отсеках. А последний, десятый, — электротехнический.
В каждом из отсеков замполит представлял мне офицеров и мичманов, старшин и матросов. А их немало. Экипаж состоит из 120 военных моряков, среди которых 32 офицера. Стоя у действующих механизмов или сидя за своими пультами, симпатичные подводники с удовольствием и старанием консультировали меня относительно того или иного устройства, прибора, системы. А подводный ракетоносец тем временем следовал на глубине 120 метров, скоростью 16 узлов в исходный район, избранный для начала форсирования противолодочного рубежа.
По пути отобедали в кают-кампании, куда офицеры, сбросив синие спецовки, явились в кремовых форменных рубашках с погонами. Сразу стало видно, кто есть кто. Хотя на подводном корабле это ни к чему — побеждают либо гибнут вместе, невзирая на воинские звания. За столом о службе или тем более о предстоящей задаче стараются не говорить. Однако всему своё время.
Заняв исходную позицию, капитан 1-го ранга Онучин выполнил гидроакустическую разведку, пробежав по всему диапазону глубин и выявив слой скачка скорости звука. Уйдя под этот слой, командир объявил готовность № 1, режим «тишина». Потом пошёл, крадучись, мало шумной скоростью. Временами он делал неожиданные повороты, проверяя отсутствие слежения за собой. Вскорости обнаружил работу гидролокаторов, но, совершив нужный манёвр, довольно успешно уклонился от поисково-ударной группы кораблей «противника». Потом уверенно взял курс в назначенный район огневых позиций.
Однако я не очень-то обольщался, понимая что поисково-ударную группу, развёрнутую на рубеже, обозначают три малых противолодочных корабля проекта 1124 из Полярнинской дивизии ОВРа. Поисковая производительность у них — никудышная. К тому же абсолютное превосходство в дальности обнаружения позволяет атомной подлодке легко уклониться. Более грозным противником является «вражеская» дизель-аккумуляторная субмарина. Однако что именно она слышала и делала на рубеже — мы узнаем только по возвращении в базу. Так же, впрочем, как и о результатах действий пары противолодочных самолётов Ил-38, осуществляющих поиск {133} подводного ракетоносца с помощью магнитометров и уточняющих его маневрирование путём постановки перехватывающих барьеров радиогидроакустических буёв. Послепоходовый анализ установит истину. А мне впредь следует нацелить контр-адмирала Рябова на организацию более эффективного противодействия подводным ракетоносцам. На то и нужна комплексная боевая подготовка, чтобы в нужное время сосредоточить значительные силы на отработке основных задач флота.
Тем временем «К-219» закончил форсирование противолодочного рубежа, занял назначенный ему район огневых позиций, донёс о том на командный пункт флота и приступил к боевому патрулированию. Приём информации от управляющего КП осуществлялся по установленной программе связи, путём периодической постановки всплывающего буксируемого антенного устройства. Штурманы уточняли место корабля и поправку системы курсоуказания всеми доступными способами. Специалисты радиотехнической службы производили сверку системы единого времени по маркерным сигналам. Ракетчики ещё и ещё раз проверяли блокировку боевых ракет, состояние практической ракеты в шахте № 4, готовность пульта управления ракетным оружием к действию.
Так продолжалось несколько часов, пока наконец с КП флота не поступила команда перейти на непрерывный режим связи, после чего буксируемая антенна больше не убиралась. Вскоре командир корабля принял доклад связистов о получении сигнала боевого управления. Сигнал, разумеется, учебный, поскольку боеголовка ракеты в шахте № 4 никакой разблокировки не требует. Однако шифровальщик и замполит, независимо друг от друга, делают своё дело и, убедившись в правильности разбора сигнала, с разрешения и под наблюдением командира корабля устанавливают кодовую величину на свой барабан блокирующего устройства. Напряжение возрастает. Подводный ракетоносец готовится к всплытию на стартовую глубину. А я сижу за спиной у Онучина с секундомером в руках.
Наконец, как щелчек по нервам, доклад о приёме второго сигнала. Та же короткая процедура его разбора.
— Получен приказ на применение ракетного оружия в учебных целях, — оборачивается в мою сторону командир.
— Действуйте по плану.
— Боевая тревога, ракетная атака! Точное московское время ... часов ... минут. Боцман! Всплывать на стартовую глубину.
— Точность места в установленных пределах. Поправка курсоуказания введена в навигационный комплекс, — слышится голос штурмана из его рубки. {134}
— Ракетный комплекс к предстартовой подготовке готов! — докладывает командир БЧ-2.
— Боевая информационно-управляющая система к стрельбе готова! — вторит ему начальник радиотехнической службы.
Всё завершает доклад командира БЧ-5 о готовности корабельных систем, обслуживающих ракетный комплекс и обеспечивающих его гарантированным электропитанием. А командир ракетоносца тем временем достаёт из специальной шкатулки перфокарту с полётным заданием для практической ракеты и передаёт её сидящему за пультом управления ракетным оружием командиру БЧ-2.
— Ввести перфокарту. Набрать залп на шахту № 4.
— Штурман! Боевой курс ... градусов.
— Боцман! Держать стартовую глубину.
— Начать предстартовую подготовку! — следуют одна за другой привычные команды — Секундомеры... товсь ... Ноль!
Взгляда на мой секундомер оказалось достаточно, чтобы убедиться, что времени для принятия решения на ракетную стрельбу Онучину потребовалось не более трёх минут. С этого момента процессы необратимы, а ракетоносец не имеет права менять боевой курс и стартовую глубину, даже если в него пойдут вражеские торпеды.
Предстартовая подготовка, проходящая в автоматическом режиме, тянется мучительно долго. Хотя мой секундомер отстукал всего семь минут. Наконец долгожданный доклад.
— Окончена предстартовая подготовка. Есть окончательный наддув баков. Готов к открытию крышки шахты № 4.
— Открыть крышку! — выдыхает командир, оглядываясь на меня.
— К старту готов! — чуть позже отвечает ему командир БЧ-2.
Онучин оборачивается ко мне, но я глазами и лёгким движением ладони, лежащей на колене, показываю: «Действуй, не сомневаясь».
— Старт разрешаю! — громогласно провозглашает командир, а управляющий стрельбой жмёт на заветную кнопку и начинает отсчёт времени.
Примерно через 25 секунд следует лёгкий толчок и торжествующий возглас:
— Есть старт из шахты № 4!
Затем корабельные устройства и системы приводятся в исходное положение, а ракетоносец полным ходом убегает из точки, откуда столь громогласно заявил о себе на весь мир. В буквальном смысле заявил, поскольку в Пентагоне уже знают об этом пуске, а мой заокеанский коллега адмирал Гарри Трейн в очередной раз чешет затылок и, по-видимому, бормочет про себя нелицеприятные слова. Так и я поступаю {135} частенько в схожих обстоятельствах. Ничего не поделаешь — паритет!
Для экипажа «К-219» всё позади. Крейсер всплыл, донёс на КП флота о выполнении поставленной задачи и следует потихоньку в базу. Александр Онучин понятия не имеет пока о том, что приключилось с его ракетой. Да и я лишь мысленно представляю себе, как на поверхности пустынного моря вспухает огромный водяной пузырь, перерастающий в кипящий бурун, из которого в клубах пара вылезает громадина, весом в 14 тонн. Уже через секунду она уходит ввысь, оставляя за собой ослепительный факел, и вскоре исчезает в облаках. Такую картину мне не раз приходилось наблюдать с борта надводного корабля на различных показных учениях.
Я представляю себе, как космические аппараты орбитальной группировки наших и американских войск предупреждения о ракетном нападении засекут взлетающую ракету и поведут её до окончания работы двигателей первой ступени. Но и дальше по двум засечкам баллистической траектории вполне возможно с достаточной точностью определить область падения и успокоиться — туда, дескать, полетела, куда было объявлено в международном оповещении.
Между тем на боевом поле, что простирается в Таймырской тундре, звукометрическая аппаратура уже засекла с трёх направлений район падения. Туда, если позволяет погода и видимость, вскоре вылетят вертолёты. Они определят точные, хотя и относительные (полигонные), координаты точки падения. Кто стрелял, куда прицеливался, какие отклонения получились в результате — полигонщикам не ведомо. Только потом, уже в штабе флота, относительные полигонные координаты точки падения по специальной методике будут пересчитаны в географические. Величина отклонения от точки прицеливания, оценённая по специальной пятибалльной шкале, определит успех командира и экипажа ракетоносца.
О том, что дело обстоит вполне благополучно, я догадался лишь тогда, когда капитан 1-го ранга Онучин подвёл свой ракетоносец к причалу в бухте Ягельная. С причала сиял лучезарной улыбкой Лев Матушкин. В ответ на мой вопрошающий взгляд с мостика Лев выразительным жестом поднял вверх большой палец, а потом растопырил пятерню.
— Благодарю Вас, Александр Васильевич, — сказал я Онучину, прощаясь у трапа, перед тем как сойти на причал, — желаю успехов!
Служу Советскому Союзу! — последовал незамедлительный ответ.
| {136} |
Те несколько мартовских дней, что оказались свободными до начала задуманной комплексной боевой подготовки разнородных сил флота, я потратил на внутриштабные дела. Провёл, к примеру, очередное заседание Военного совета, где в качестве основного вопроса был рассмотрен комплекс мер, необходимых для того, чтобы достойно подготовиться к итоговой проверке флота в зимнем периоде текущего учебного года. Проверку эту собирается учинить нам лично Главком с большой группой офицеров Главного штаба. Ничего не скажешь — серьёзный экзамен, а для меня к тому же — первый в нынешней должности. Впрочем, лично от меня не так уж много зависит. Проверять-то будут моих многочисленных подчинённых, которые что умеют, то и покажут. Учили их и воспитывали мои знаменитые предшественники, порою по двадцать-тридцать лет кряду, а не какие-то там полгода. Тем не менее и я руку приложить обязан. И прежде всего на заседании военного совета надо рассмотреть многочисленные кадровые вопросы. А куда денешься? Не даром говорят, что главный кадровик на флоте — командующий. Было приятно слышать, что все члены военного совета единодушно одобряют намерение представить первого заместителя начальника штаба флота Марса Искандерова к званию вице-адмирала, а заместителя командующего флотом по строительству Олега Аниканова — к званию генерал-лейтенанта. Кроме того, Главком попросил отпустить с флота в Москву контр-адмирала Юрия Воронова, с тем чтобы назначить его начальником управления кадров ВМФ. Вместо Воронова командиром Беломорской ВМБ решили поставить контр-адмирала Владимира Мочалова, отобрав таким образом у вице-адмирала Чернова его начальника штаба. Правда, Евгений Дмитриевич не сопротивлялся, однако тут же предложил назначить к нему в штаб контр-адмирала Юрия Патрушева, служившего командиром «конкурирующей» дивизии. На том и порешили.
Разумеется, что эти и другие представления и перестановки были заранее тщательно продуманы. С главными фигурантами {137} успел побеседовать лично, других поручил заботам начальника управления кадров контр-адмирала Виктора Смарагдова. Потому сразу после заседания Военного совета подписал все заблаговременно подготовленные кадровые документы. Затем, пользуясь случаем, выслушал доклад Смарагдова о том, что тот выполнил моё указание и подобрал соответствующие кандидатуры на должности старшего адъютанта и офицера для особых поручений командующего флотом. Это мои личные помощники. Рассматривать их кандидатуры на военном совете нет необходимости.
Адъютантом Смарагдов предложил назначить капитан-лейтенанта Алексея Гордеева. По образованию он гидрограф, а по опыту работы — кадровик. Служит в одном из отделов управления кадров флота. Отличается пунктуальностью, исполнительностью, настойчивостью, независимостью. Готов служить верно и долго, поскольку достаточно молод. Тем более что нынешнее воинское звание получил недавно, а впереди маячит штатная категория капитана 3-го ранга. К тому же и на вид не плох, хотя и не красавчик.
Ну а на должность порученца, по мнению Смарагдова, вполне возможно было бы рассмотреть капитана 3-го ранга Анатолия Хандогина. По изначальной специальности он минёр. Однако вот уже несколько лет командует единственным на флоте минным заградителем. Этот вполне приличный и довольно крупный надводный корабль служит, кроме того, плавучим командным пунктом Полярнинской дивизии ОВРа. Хандогин характеризуется как неплохой моряк, обладающий достаточным опытом корабельной службы, но в штабах ранее не работал, а нынешнюю должность перерос. Проживает вместе с семьёй в Полярном. Квартиры в Североморске, естественно, не имеет. Внешний вид вполне соответствует служебному уровню.
Оба офицера мне понравились, когда познакомился с ними поближе, поскольку один взгляд на человека и пять минут разговора значат порою больше, чем самая подробная аттестация. Впрочем, ни один из них даже приблизительно не представлял, чем придётся заниматься в новой должности. Пришлось долго объяснять Гордееву, что главной его задачей будет организация службы в приёмной командующего. Он обязан на практике убеждать всех стремящихся на приём, что сидеть и часами выжидать своей очереди не только глупо, но и вредно для собственной деятельности. Посетители должны быть уверены, что командующий обязательно примет каждого в назначенный срок, а адъютант оповестит их о том заблаговременно, пригласит когда нужно, не подведёт, не забудет, не обманет, не нагрубит...
Перечень записавшихся на приём следует докладывать мне накануне, вместе с осмысленной тематикой предстоящих {138} разговоров. Для этого Гордееву придётся овладеть терминологией практически всех многочисленных флотских специальностей. Адъютант должен быть эрудитом и в экстремальных ситуациях обязан действовать по обстоятельствам. А я обязуюсь держать Алексея Ивановича в курсе своих служебных, да и личных, намерений, предстоящих поездок и встреч. Кроме того, адъютант командующего является старшим в группе адъютантов-мичманов, состоящих при других высших офицерах флота.
Этих мичманов следует так учить и воспитывать, чтобы знали дело и помнили, что существуют они не для разноса чая или утюжки начальственных брюк. Максимально высвобождать время занятых людей, стремящихся к ещё более занятому руководителю, — вот цель, ради которой стоит потрудиться. Плохо, ежели в приёмной командующего будет пусто, а в приёмной начальника штаба, к примеру, — густо. Должна функционировать система, за разработку которой старший адъютант Алексей Гордеев в ответе. В заключение я рассказал собеседнику о стиле работы моего прежнего адъютанта ленинградского периода службы — мичмана Андрея Лаврика. Оба остались довольны.
Обязанности офицера для особых поручений куда сложнее: ему придётся детально изучать флот, его соединения и гарнизоны, поскольку надо не только знать в лицо всех командующих объединениями, командиров соединений, их заместителей и начальников штабов, но и уметь быстро организовать их связь со мной, где бы я ни находился: в штабе, дома, на корабле или в автомобиле. Я намерен включать Анатолия Хандогина в состав походного штаба при выходах в море. Он должен сопровождать меня при посещении гарнизонов, записывать и брать на контроль отданные мною распоряжения, информировать об истечении сроков их выполнения. При этом Анатолию Ивановичу важно не превратиться в фискала, не нажить личных врагов среди североморцев. Порученцу придётся осваивать и обязанности, присущие адъютанту, с тем чтобы заменять друг друга при необходимости. Ну а дальше — жизнь покажет, чем именно придётся заниматься офицеру для особых поручений.
Словом, оба новых помощника мне понравились, и потому они вскоре приступили к исполнению своих обязанностей. А я до конца недели успел провести ещё одно важное совещание, где рассмотрел комплекс мер, повышающих эффективность действий подводных лодок в Северном Ледовитом океане. К подобному разговору штаб давно готовился. Были заранее приглашены сотрудники ряда военных институтов, офицеры Главного управления навигации и океанографии, специалисты объединений, соединений и управлений флота. Совместно {139} обосновали меры, необходимые для повышения точности определения координат места и поправок курсоуказания при плавании подо льдом, улучшения возможностей связи и наблюдения. Однако главными явились меры по техническому обеспечению ракетных стрельб подводных крейсеров из высоких широт, из положения лёжа на грунте или стоя на подводном якоре, а также от причалов в пунктах базирования.
На следующий день я поручил Коробову и Лебедько приступить к разработке плана похода подводного крейсера «К-211» на полную автономность, с маршрутом и районами боевого патрулирования во всех секторах Арктического бассейна и в условиях полярной ночи. При этом необходимо предусмотреть специальные мероприятия для выявления реальной степени ракетной готовности крейсера. Кроме того, штабу флота следует подготовить моё письменное распоряжение вице-адмиралу Матушкину, раз уж он сам напросился, о подготовке практических ракетных стрельб подводных крейсеров «К-92» и «К-421». Первый должен стрелять из Арктики после пролома льда или подрыва его торпедами. Второй — от причала в Порчнихе.
В заключение начальник штаба флота напомнил мне, что в настоящее время в Арктике находится многоцелевая атомная подводная лодка «К-524» проекта 671ртм, у которой четыре торпеды специально подготовлены для подрыва льда.
— Может быть, проведём эксперимент? — вопросительно взглянул на меня Коробов. — Когда-то нужно начинать?
Пришлось звонить вице-адмиралу Чернову, дабы убедиться в том, что командир «К-524», капитан 1-го ранга Русанов готов к подобному применению своего оружия.
— Вне всякого сомнения! — ответствовал Евгений Дмитриевич.
— Тогда дайте радио Русанову, — обернулся я к начальнику штаба флота. — Сообщите ему, что командующий флотом разрешил по обстановке подорвать лёд торпедами в приполюсном районе и всплыть. О выполнении донести.
Вадим Константинович поспешил удалиться, а я с удовольствием подумал, что муторная неделя наконец-то завершена. Завтра воскресенье. Можно будет съездить с Ниной на Щук-озеро, на лыжах побегать. Мартовская погода больно уж к тому располагает. В баньке веником себя похлестать не вредно. Благодать да и только! Тем более что со вторника — снова в море.
«Александр Невский» относился к той славной плеяде артиллерийских крейсеров, на которых с юных лет воспитывалось нынешнее поколение военных моряков, взявших в руки {140} куда более грозное оружие и вставших на мостики самых современных кораблей. Служба на крейсерах всегда считалась эталоном корабельной жизни. Образцом — заложенным в основу действующего Корабельного устава. Великолепную крейсерскую школу прошли оба наших Главкома: адмиралы Николай Кузнецов и Сергей Горшков. Не потому ли и я, несмотря на неистовое подводное прошлое, отношусь к крейсерам весьма уважительно?
На Северном флоте осталось всего два крейсера проекта 68бис — «Мурманск», поставленный на ремонт в прошлом году, и «Александр Невский», отремонтированный недавно. Корабль этот служит флоту около тридцати лет. Он на пару годов старше моей любимой «Б-77», позволившей в своё время заглянуть в океан. Но та уже давно в укромной бухточке Кольского побережья ожидает своей очереди для разделки на металлолом. А этот красавец-крейсер стоит под парами на Североморском рейде и ждёт подхода катера командующего флотом, с тем чтобы принять его на борт и выйти в море во главе отряда кораблей.
Конечно, артиллерия крейсера, включающая 4 орудийные башни главного калибра (152 мм) и 6 спаренных установок универсального калибра (100 мм), представляет собой грозную силу разве что при огневой поддержке высадки морских десантов. Противокорабельных крылатых ракет он не имеет и потому в единоборстве с ракетными кораблями проигрывает. Даже зенитных ракетных комплексов на «Невском» не установлено. А 16 спаренных зенитных автоматов 37-миллиметрового калибра способны обеспечить лишь самооборону корабля от низколетящих и малоскоростных средств воздушного нападения. Противолодочное вооружение вообще отсутствует, если не считать двух пятитрубных палубных торпедных аппаратов, предназначенных главным образом для поражения надводного противника.
Вместе с тем две заново отремонтированные котлотурбинные энергетические установки (суммарной мощностью 120 000 лошадинных сил) позволяют этому гиганту (водоизмещением около 17 000 тонн) двигаться со скоростью свыше 30 узлов. Запасы мазута обеспечивают дальность плавания до 7000 миль. В автономном походе корабль может находиться 30 суток. Всё это как раз и позволяет надеяться, что «Александр Невский» ещё с десяток лет можно будет использовать во главе отрядов кораблей огневой поддержки десантов, а также в процессе боевой подготовки для обозначения быстроходных надводных сил «противника».
Рядом со мной в катере находится внушительная группа высших офицеров. Среди них мой заместитель по боевой подготовке Вилен Рябов, начальник противовоздушной обороны {141} флота Юрий Можаров, главный штурман Юрий Жеглов, начальник минно-торпедного управления Геннадий Емелин и начальник связи флота Иван Ерофицкий. Замыкает группу вновь назначенный офицер для особых поручений Анатолий Хандогин. Остальные офицеры походного штаба разместились на крейсере заблаговременно. У трапа нас встречает командир корабля капитан 1-го ранга Анатолий Жахалов вместе с командиром бригады капитаном 1-го ранга Владимиром Баранником. Последнему поручено управлять отрядом боевых кораблей во главе с крейсером «Александр Невский» на предстоящих учениях.
Корабли этого отряда, среди которых большие противолодочные «Адмирал Нахимов», «Адмирал Исаченков», «Маршал Тимошенко», а также эсминцы «Современный», «Огневой» и «Несокрушимый», уже развёрнуты на выходе из Кольского залива в ожидании подхода крейсера, чтобы занять свои места в походном ордере. Действия отряда будут поддерживать противолодочные самолёты Ил-38 полковника Александра Матанцева с аэродрома Североморск-1, а также противолодочные вертолёты Ми-14пл полковника Ивана Мандрыка, действующие с оперативного аэродрома на острове Кильдин.
Ну а «противоборствующая» сторона уже развернула в море, на позициях, простирающихся вдоль всего Кольского побережья от Рыбачьего до Святого Носа, десятка полтора подводных лодок. Здесь и дизельные, и атомные — как торпедные, так и вооружённые крылатыми ракетами. Последним неподалёку от Гремихи затаился в своём районе подводный крейсер «К-525». Его командир, капитан 1-го ранга Анатолий Ильюшкин на этом учении будет впервые атаковать «противника» крылатыми ракетами большой дальности «Гранит», а кроме того, получит должную практику в выполнении торпедных атак. Мне бы, честно говоря, интереснее быть у него в центральном посту, чем торчать на мостике «Александра Невского». Но увы, обстановка обязывает, поскольку теперь-то я хорошо понимаю, что кругозор подводника хотя и окрашен радужным ореолом славы, но всё же ограничен дальностью видимости его перископа.
Кроме того, вышла в море и действует в районе северо-западнее Рыбачьего корабельная ударная группа в составе ракетных крейсеров «Киров» и «Адмирал Зазуля» с охранением. Возглавляет группу вице-адмирал Виталий Зуб, который постарается развить успех подводных лодок и нанести нашему отряду окончательное «поражение». А в губе Долгая Западная притаились до времени ударные группы ракетных катеров и малых ракетных кораблей. Они по команде с берега и под управлением комбрига Александра Гринько будут выскакивать «на укол», чтобы атаковать «Александр Невский» своими {142} ракетами. При этом все ракетные залпы, разумеется, условные, однако с последующей фактической стрельбой по мишенным позициям, заблаговременно развёрнутым в море.
Воздушную разведку в интересах ракетоносных кораблей будут осуществлять самолёты Ту-95рц полковника Виктора Рубана, взлетающие с аэродрома Кипелово, что под Вологдой. Ну а решающий удар с воздуха по отряду кораблей во главе с крейсером «Александр Невский» обозначит морская ракетоносная авиационная дивизия генерал-майора Владимира Дейнеки в составе двух полков самолётов Ту-16, взлетающих с аэродромов Оленья и Североморск-3. Всё должно завершиться противовоздушным боем, когда корабли охранения, обороняя крейсер, будут поражать огнём своих ракетных зенитных комплексов «Волна» средства воздушного нападения «противника», обозначаемые полётом ракет-мишеней РМ-6 и РМ-15, запускаемых с подводных лодок и ракетных катеров.
Подобную картину я представлял себе лишь умозрительно, с помощью красочного плана, который вывесил контр-адмирал Рябов на задней стенке оперативной рубки, где был развёрнут флагманский командный пункт. Отсюда, с высоты почти 25 метров, весьма удобно наблюдать за морем и воздухом. Однако горизонт пока чист. Лишь режут воду острыми форштевнями корабли охранения на своих курсовых углах и заданных дистанциях. Погода великолепная, море не более трёх баллов, видимость полная. Одним словом, благодать!
Я понимал, разумеется, что предпринятый выход в море не имеет оперативного замысла и даже не представляет собой двустороннего тактического учения. Это всего лишь комплексная боевая подготовка, главная цель которой — создание наилучших условий для тренировок боевых расчётов подводных лодок, групп надводных кораблей и авиационных частей. Именно поэтому отряд во главе с крейсером «Александр Невский» за трое суток похода трижды прошёлся зигзагом от Рыбачьего до Святого Носа туда и обратно. На первых галсах лодки выполняли тренировочные «пузырные» атаки. Затем, по приказанию, перешли к зачётным, со стрельбой практическими торпедами. Не менее сорока этих быстроходных подводных снарядов юркнуло под килем крейсера или по крайней мере вблизи от него.
Командир Жахалов уверенно управлял своим кораблём, а комбриг Баранник — всем отрядом. Контр-адмирал Рябов совместно с другими офицерами походного штаба оперативно осуществлял экспресс-анализ выполненных боевых упражнений, своевременно оценивал обстановку и предлагал варианты возможных действий. Мне оставалось лишь переживать за то, как ходят торпеды, сочувствовать подводникам и вспоминать {143} ощущения собственной командирской юности. Столь милой моему сердцу картины я не наблюдал давно. Тем не менее временами «Александр Невский» выходил из своего ордера и сходил с маршрута, с тем чтобы перейти в другой район. Пристроившись там к кораблю руководителя ракетными стрельбами вице-адмирала Чернова, мы получали возможность наблюдать подводные пуски крылатых ракет. Так я впервые увидел, как сделала «горку» и ушла за горизонт, оставляя за собой густой белый след, ракета «Гранит», выпущенная подводным крейсером «К-525».
Заключительный удар морской ракетоносной авиационной дивизии (двумя полками с двух направлений) остался бы зрительно не воспринятым, поскольку слишком велики дальности отцепки и пуска ракет. Поэтому ещё в Североморске мы с генерал-лейтенантом Потаповым приняли решение обозначить подход авиационных ракет к кораблям путём пролёта над ними самих ракетоносцев, по эскадрилье с каждого направления. А сейчас тяжёлые самолёты Ту-16 с рёвом промчались над нашими мачтами на высоте всего 200 метров, предоставив тем самым великолепную возможность для тренировки контуров ПВО всех кораблей.
Наиболее захватывающим зрелищем для меня лично оказался финальный противовоздушный бой. Для этого подводные лодки проекта 675 и группа торпедных катеров в назначенное время запустили две ракеты-мишени РМ-6 и две РМ-15 с расчётом одновременного их подхода с разных направлений к отряду кораблей. Такие воздушные мишени — обычные крылатые ракеты, но в инертном снаряжении и с отключёнными трактами вертикального наведения. Их можно и нужно фактически сбивать зенитными ракетными комплексами кораблей, осуществляющих коллективную противовоздушную оборону своего соединения. Здесь всё видно воочию. Видно, как летит крылатая ракета-мишень, как наперехват ей устремляется зенитная ракета с одного из кораблей. Видно, как взрывается и падает в воду подбитая крылатка. Видно, если зенитный пуск не достиг успеха.
Первую РМ-6 единственным пуском своей «Волны» свалил «Адмирал Исаченков». Подлетающую следом РМ-15 отправил на дно «Смышлёный». А вот со второй РМ-6 пришлось повозиться. Стрелявший по ней «Несокрушимый» промазал. Повторным пуском «Маршал Тимошенко» поджёг мишень, но не сбил. Охваченная пламенем, оставляя за собой шлейф чёрного дыма, крылатка продолжала нестись прямо на крейсер. Хорошего мало, если эта бочка горящего керосина свалится тебе на палубу!.. Проблему разрешил огонь носовой батареи зенитных автоматов крейсера. Горящая уродина развалилась на части и рухнула в воду всего в двух кабельтовых справа по {144} борту у «Александра Невского». Последнюю мишень РМ-15 между тем под шумок добил «Огневой».
Возвратился я в Североморск в хорошем настроении. Запоминающейся и поучительной оказалась эта комплексная боевая подготовка разнородных сил. Тем более что прошла она, как говорится, без сучка и задоринки, без происшествий с людьми и поломок техники. Даже торпеды ни одной не утопили, что, к сожалению, частенько случается у подводников. О том я и говорил через несколько дней на разборе мероприятия, выражая своё удовлетворение действиями всех категорий своих сослуживцев. Особо отметил контр-адмирала Рябова, которого по результатам похода я официально допустил к самостоятельному руководству всеми видами боевых упражнений.
Вместе с тем счёл необходимым обратить внимание присутствующих на то обстоятельство, что работали они в упрощённых условиях, при хорошей погоде, у своих берегов, где нет помех для связи и навигации. Подводные лодки действовали только одиночно, каждая в отведённом ей безопасном районе. Торпедные атаки на предельных дистанциях с применением дальноходных торпед не практиковались. Ракетные пуски производились лишь одиночными ракетами по неподвижным мишеням. Залповая стрельба разнотипными ракетами (да ещё и с разных носителей) не отрабатывалась. Действия тактических групп подводных лодок с крылатыми ракетами даже не планировались.
Подготовка соединений надводных кораблей к противовоздушному бою требует совершенствования, а противолодочная на этом учении и вовсе не проверялась. Морская ракетоносная авиационная дивизия двухполкового состава выглядит слабоватой в действиях против авианосной ударной группы. В то же время базирующийся на Лахту отдельный ракетоносный авиационный полк почему-то не использовался и должной тренировки не получил. Словом, на будущее работы хоть отбавляй! В апреле нам предстоит куда более серьёзный экзамен. Всеобщую разрядку вызвало появление в конференц-зале оперативного дежурного капитана 1-го ранга Тхагапсова, который выложил передо мной бланк телеграммы, где сообщалось, что подводная лодка «К-524», подорвав лёд торпедами, благополучно всплыла на Северном полюсе. С этим под аплодисменты собравшихся я и поздравил командующего Краснознамённой флотилией Евгения Дмитриевича Чернова.
Благодушное настроение, вызванное удачно сложившейся боевой подготовкой в море, пропало ровно через сутки после разбора, когда пришло сообщение о том, что 31 марта вместе {145} с членом Военного совета, вице-адмиралом Усенко мне надлежит прибыть в Москву на коллегию Министерства обороны.
— Будет рассматриваться вопрос о состоянии дисциплины в Вооружённых Силах СССР, — сказал Главком при очередном телефонном разговоре. — Отнеситесь к этому серьёзно и подготовьтесь основательно...
Вот так штука! Этого мне как раз и не хватало... Никогда не бывал на коллегии. Даже не знаю толком, что это за структура. Однако понимаю — вызывают туда не для развлечения. Надо быть подкованным теоретически и готовым к ответу. Придётся писать короткую объективную и самокритичную справку-доклад о состоянии воинской дисциплины на Северном флоте.
А какая она — эта дисциплина? Пока данная проблема меня не беспокоила, я о ней, честно говоря, всерьёз не задумывался. Непростительная ошибка? Разумеется, поскольку опыт предшествующей службы весьма убедительно свидетельствует, что все неприятности, начиная от мелких происшествий и кончая крупными авариями, зависят от состояния воинской дисциплины. Пришлось усаживаться вместе с членом военного совета за один стол и уточнять многое, что ранее как-то ускользало от внимания.
Разобрался, например, в том, что коллегия — совещательный орган Министерства обороны, вырабатывающий предложения по проблемам строительства Вооружённых Сил, их боевой и мобилизационной готовности, политической подготовки и воинской дисциплины, подбору, расстановке и воспитанию кадров. Председателем коллегии является министр Д. Ф. Устинов, а членами — начальник Генерального штаба Н. В. Огарков, все остальные заместители министра и А. А. Епишев, начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Члены коллегии утверждаются Советом Министров СССР. Главное политическое управление работает на правах отдела ЦК КПСС. Решения коллегии проводятся в жизнь приказами министра обороны. Словом, коллегия — нечто вроде нашего военного совета. Но не совсем, поскольку существует ещё и Главный Военный совет, однако не в Министерстве обороны, а при Совете Обороны СССР. Уяснять особенности и различия в деятельности подобных структур мне предстоит на практике. Тем не менее «на зуб» коллегии лучше не попадаться.
На всякий случай мы обменялись с Николаем Витальевичем своими, давно сложившимися представлениями о том, что высокий уровень воинской дисциплины является одним из важнейших условий боеготовности и боеспособности флота. Именно дисциплина сплачивает экипажи кораблей, повышает их боевой порыв, умножает боевые возможности, обеспечивает {146} чёткое, непрерывное управление и, в конце концов, приносит победу над врагом.
Особенно важна строжайшая дисциплина в борьбе за живучесть корабля, при его огневом поражении со стороны противника или в других форс-мажорных обстоятельствах, приносимых морем. «Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек!» — говорится в Корабельном уставе. Это жёсткое правило записано кровью. Всем нам памятен трагический эпизод, когда попытка всего лишь одного человека выскочить из горящего торпедного отсека подводной лодки «Ленинский комсомол» привела к немедленному переносу огня в жилой отсек и гибели трети всего экипажа. Суворовская присловка: «Сам погибай, но товарища выручай» — давно стала непреложной традицией Армии и Флота.
Дисциплина обязывает каждого из нас свято чтить военную присягу, строго соблюдать законы и уставы, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, добросовестно изучать военное дело, беречь военную технику и имущество, хранить военную и государственную тайну, уважительно относиться к командирам и начальникам, сослуживцам и подчинённым, достойно вести себя вне корабля, на берегу, не допускать самому и удерживать других от нарушения общественного порядка.
Да мало ли какие ещё требования может предъявить воинская дисциплина. Однако её важнейшая особенность — безоговорочное повиновение каждого своим командирам и начальникам. «Приказ командира — закон для подчинённого. Он должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок», — гласит устав. И привыкать к мысли: «Не щадить живота своего!», «Погибнуть с честью!», «Не жалеть своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга перед Родиной и Народом!» — все мы обязаны загодя.
Вот какие больно уж непростые требования предъявляет воинская дисциплина к качествам людей, избравших профессию защитников Отечества. Эти требования носят правовой характер. Они закреплены в Конституции СССР, других законах, военной присяге и в уставах, утверждённых Президиумом Верховного Совета и потому имеющих законную силу. Требования одинаковы для всех, однако люди на флоте служат самые разные. Они отличаются друг от друга по возрасту, национальной принадлежности, профессиональным навыкам, уровню образования, складу ума, состоянию здоровья, чертам характера, моральным устоям, вредным привычкам, особенностям психики и темперамента.
Различна и мотивация в службе. Многие, особенно офицеры, добровольно и сознательно посвящают свою жизнь флоту. Другие — работают по найму, заключив контракт. {147} Третьи — призваны на срочную службу в соответствии с законом.
Естественно, что реальный уровень воинской дисциплины далеко не всегда соответствует идеальным требованиям. Встречается в среде военных моряков грубость и глупость, беспечность и лень, пьянство и хулиганство. Всё это проявляется в череде мелких и крупных дисциплинарных проступков, иногда в виде воинских или общеуголовных преступлений. Ничего не поделаешь, поскольку состояние воинской дисциплины — зеркало дисциплины в обществе. Проблемами остаются неисполнительность, халатность, разгильдяйство, очковтирательство, неуставные взаимоотношения. Случаются иногда нарушения правил плавания, полётов, борьбы за живучесть, караульной службы, эксплуатации техники и оружия. Однако самыми тяжёлыми проявлениями низкого уровня воинской дисциплины являются аварии, а то и катастрофы кораблей и самолётов.
Вместе с Усенко мы рассмотрели статистику, отражающую количество и характер грубых проступков, происшествий и преступлений на флоте в текущем году. Ничего особенного не обнаружили. Тенденция вроде бы положительная. Во всяком случае дела обстоят не хуже, чем в предшествующие годы. Однако этого мало. Уровень дисциплины следует непрерывно повышать, иначе он может рухнуть однажды, проявив себя в виде какого-либо зловредного нарыва. Уровень этот — дело тонкое. Его трудно измерить статистикой. Нужны качественные оценки, гуманитарный подход, своеобразное искусство.
Мы сообща оценивали эффективность известных направлений работы по укреплению дисциплины. Таких, например, как поддержание уставного порядка на кораблях и частях, поощрение требовательности и заботливости командиров, уважение личного достоинства подчинённых, соблюдение правил ношения военной формы одежды, выполнение корабельных правил и ритуалов.
В борьбе за укрепление дисциплины очень важно умело сочетать убеждение с принуждением. Не даром говорят на флоте: «Не понимаешь — объясним, не умеешь — научим, не хочешь — заставим!». Впрочем, принуждение — одна из самых несимпатичных обязанностей командира. Повиновение должно быть осознанной необходимостью, основанной не на животном страхе или больших деньгах, но на гражданской совести и воинской чести.
Однако главным, наиболее эффективным направлением является, конечно же, идейно-воспитательная работа по усвоению личным составом высоких моральных принципов. Человек человеку друг, товарищ и брат. Не убей, не укради, не лги, {148} не прелюбодействуй, не пьянствуй — все эти заповеди Христовы, очищенные от конфессиональной риторики, и поныне служат путеводными вехами любому порядочному человеку. Вместе с тем социалистическая мораль и воинская дисциплина — отнюдь не синонимы. Для последней весьма важно воспитание у воинов таких высоких боевых качеств, как ненависть к врагам Отечества, верность присяге и знамени, смелость и решительность, хитрость и сметливость, сострадание к поверженным, презрение к опасности, готовность к самопожертвованию ради общего дела.
Я был согласен с известным мнением, что организаторами и руководителями работы по укреплению воинской дисциплины являются командиры всех степеней во главе с командующим. Именно командир отвечает за состояние дисциплины у себя на корабле или в соединении, а командующий — на флоте. Именно он должен уметь объективно оценивать это состояние во вверенном ему воинском коллективе. Притом не обольщаться, не полагать, что все вокруг живут и думают одинаково. Надо знать людей изнутри, чувствовать пульс жизни, наблюдать тенденции, принимать своевременные меры. На то и единоначалие! Серьёзная и трудная эта работа. Однако в ней, по заверению Николая Усенко, у командиров имеются верные помощники — политработники и политорганы.
Николай Витальевич принялся с жаром повествовать о том, какую серьёзную работу проводят флотские политорганы. Их много. На политическое управление флота замыкается 95 политотделов, созданных в объединениях и соединениях. Они организуют идеологическую и партийно-политическую работу среди всего личного состава флота, распространяют политическую информацию, ведают военной печатью и культурно-просветительными учреждениями, укрепляют воинскую и партийную дисциплину, заботятся о повышении авторитета командиров всех степеней. С помощью политорганов обобщается и пропагандируется передовой опыт, изучаются настроения и запросы военных моряков, ведётся работа среди членов их семей, поддерживается связь с местными органами власти. В случае войны, в том числе и холодной, политорганы обязаны проводить контрпропаганду в отношении информационных усилий противника и спецпропаганду, направленную на его деморализацию.
Усенко рассказывал мне, что политорганы возглавляются опытнейшими профессиональными политработниками с академическим образованием, прошедшими все ступени флотской службы. Такими, например, как контр-адмирал Валентин Важенин — член Военного совета флотилии подводных крейсеров стратегического назначения, или генерал-майор Михаил {149} Прокудин — в той же роли проходящий службу в военно-воздушных силах флота.
Первый из них отслужил срочную матросом-подводником. После окончания политического училища прошёл все низовые должности, начиная с секретаря комсомольской организации крейсера. Служил замполитом на подводных лодках. Сначала на «Б-4» у Рюрика Кетова, с которым вместе прошёл сквозь Атлантику во время Карибского кризиса. Потом на «К-137» у Вадима Березовского участвовал в освоении этого первого в нашем флоте подводного крейсера стратегического назначения. Работал начальником политотдела соединения, инспектором Главного политуправления. У Валентина Васильевича — спокойного, вдумчивого, симпатичного человека всегда всё получается.
Второй — длинную офицерскую службу прошёл в авиации ВМФ. Умеет строить деловые профессиональные отношения с различными категориями лётчиков, техников, политработников. Обладает великолепными организаторскими способностями, направляя их на разрешение множества проблем в авиагарнизонах. Всей своей деятельностью Михаил Васильевич заслужил высокий авторитет. А теперь этот авторитет работает на общее дело.
Усенко увлёкся. Он живо и хорошо говорил о многих своих сослуживцах. Не преминул, однако, сказать, что встречаются, дескать, и среди политработников зануды, начётчики, формалисты и лентяи. А где их нет? Впрочем, на то и политуправление, чтобы приводить в норму, а при необходимости устранять из политработы неподходящих людей. Есть и такие, кто по недомыслию пытается конфликтовать с командирами. Его, к примеру, очень беспокоят сложившиеся взаимоотношения начальника политотдела Краснознамённой флотилии Вячеслава Сергадеева с командующим Евгением Черновым. Не ладят они. Это плохо. Надо разбираться и поправлять.
А я тем временем думал, что вот ведь до сих пор даже не удосужился детально познакомиться с политическим управлением Северного флота. Как же так? Штаб флота лично обошёл. С каждым офицером-оператором за руку поздоровался. Со многими поговорить успел. А для офицеров-политработников времени не нашлось? Это плохо. Политические органы весьма важны при управлении флотом. Кроме того, они — органы власти партийной. Будут поддерживать командующего лишь постольку, поскольку он сам представляет собой эту власть, опирается на неё и умеет защищать. О том я и сказал члену Военного совета к обоюдному удовольствию. Потом, мучимый совестью, попросил показать, как обустроено возглавляемое им политическое управление. {150}
Вместе прошли в смежное здание штаба флота, где на втором этаже нас встречал первый заместитель начальника политуправления контр-адмирал Поливанов. С ним я уже успел хорошо познакомиться, главным образом во время совместных походов на кораблях и посещений гарнизонов. Опытный, знающий, доброжелательный человек, большую часть службы отдавший Северному флоту, Валерий Поливанов плавал замполитом на дизельных и атомных подлодках. Умудрился окончить Военно-морское политическое училище, исторический факультет Ленинградского университета и Военно-политическую академию. Работал начальником политотдела дивизии атомоходов в Гремихе, где пережил трагедию радиационного удара, унёсшего жизни нескольких членов экипажа памятной мне подводной лодки «К-27» с жидким металлом в реакторах. Служил инспектором политуправления ВМФ в Москве, откуда частенько наведывался в Западную Лицу, где мы, собственно говоря, и познакомились.
Валерий Тимофеевич доложил структуру политуправления. Рассказал коротко о деятельности его подразделений. Среди них важнейшими являются отдел организационно-партийной работы, отдел пропаганды и агитации, отдел боевой службы. Кроме того, функционируют отделы комсомольской работы, партполитработы среди строительных частей, технических средств пропаганды, спецпропаганды и, наконец, отдел кадров политсостава. Непосредственно политуправлению подчинены издательство и редакция газеты «На страже Заполярья», Дом офицеров флота, ансамбль песни и пляски, а также драматический театр Северного флота. При политуправлении создана партийная комиссия для рассмотрения персональных дел флотских коммунистов.
Народу в политуправлении не так уж и много. Вместе с вольнонаёмными служащими не более семидесяти человек. Тем не менее основные фигуры были мне представлены.
Пребывание в политуправлении завершилось осмотром предмета гордости контр-адмирала Поливанова. Таковым оказался небольшой, но очень удобный, уютный и великолепно оформленный, собственный конференц-зал. Молодцы полит-управленцы! Заботиться о их благоустройстве, по-видимому, не надо: они сами хоть кого обустроят.
Именно в этом зале я высказал мысль, что лично мне всегда везло на замполитов. Среди них прекрасной души человек Саша Пеняев, поддержавший меня в годы лейтенантского становления на «Щ-121». Или великолепный Владимир Лёвушкин, с которым впервые пришлось пройти сквозь всю Атлантику. Один только Сергей Варгин, сумевший обеспечить высокий подъём духа экипажа подводного ракетоносца «К-178» в подлёдном нырке на Камчатку, чего стоит! А ведь таких и в {151} дальнейшей службе много было. Николай Дьяконский, например, или Сергей Бевз, возглавлявший политорганы Краснознамённой флотилии.
— Ещё неизвестно, кому повезло больше, — улыбнулся Усенко, — симпатия — дело взаимное.
На том я и распрощался с офицерами политуправления. А через пару дней мы с членом военного совета не без волнения входили в зал заседаний коллегии Министерства обороны. Нагрудные карманы тужурок у каждого из нас таили в себе справки-доклады о состоянии воинской дисциплины на Северном флоте. Естественно, что цифры и качественные оценки в обоих докладах полностью совпадали. Дальнейшее зависело только от красноречия докладчика.
Коллегия началась с выступления генерала армии А. А. Епишева, нарисовавшего общую картину того, как должно и не должно быть. Потом на трибуну начали выдёргивать из зала различных военачальников, которые, опираясь на факты, подвергали себя нелицеприятной критике, но в конце концов заверяли, что поправят дело. Ну а когда посыпание пеплом собственных голов, по-видимому, надоело, слово взял Маршал Д. Ф. Устинов. Он говорил о допущенных авиационных катастрофах, тяжёлых авариях иной техники, о пожарах и взрывах, о фактах дезертирства, стрельбы в караулах и других нетерпимых проявлениях так называемой годковщины. Министр сурово критиковал военачальников, допустивших упущения в работе по предупреждению и искоренению негативных явлений в подчинённых войсках.
Особенно досталось командующему войсками Среднеазиатского военного округа генерал-полковнику Дмитрию Язову. Мы сидели рядом, изредка обменивались репликами, поскольку Дмитрий Тимофеевич, будучи ещё генерал-майором, не раз появлялся в Западной Лице. Его сын служил штурманом на одной из лодок дивизии Фёдора Воловика. Тогда и познакомились. А теперь министр раза три поднимал генерал-полковника. Тот стоял молча, но я видел, как наливается кровью генеральская шея.
— Всю службу вверх стремился, однако не думал, что столь тяжёлой окажется участь командующего, — мрачно заключил Язов после очередного подъёма, — стараешься, стараешься, надеешься, что будет по-людски, а тут — на тебе! Имей это в виду, Аркадий. У тебя всё ещё впереди.
Впрочем волнения оказались напрасными. Коллегия вскоре завершилась. О Северном флоте, к моему вящему удовольствию, никто и не вспомнил. Справка-доклад о состоянии воинской дисциплины оказалась невостребованной. Экзамена не получилось. Тем лучше! Будем считать, что пронесло. Однако уже в самолёте я высказал Николаю Усенко мысль о том, {152} что коллегия заставила всех нас встряхнуться, а меня лично побудила к тому, чтобы вникнуть ещё в одну, совсем не романтическую, но весьма серьёзную сторону деятельности — познакомиться с интересными людьми, осмотреться. Впереди — не столько привычный аэродром, сколько огромный флот с нескончаемой чередой обыденных забот и животрепещущих проблем.
| {153} |
О противовоздушной обороне сил флота контр-адмирал Юрий Можаров докладывал с энтузиазмом, разложив передо мной план предстоящего командно-штабного учения под условным наименованием «Сфера-82».
Я, разумеется, хорошо понимал, что надёжная ПВО — составная часть действий, обеспечивающих боевую устойчивость группировки морских стратегических ядерных сил. Без должного прикрытия от ударов с воздуха немыслимо применение любых соединений надводных кораблей, затруднено использование морской ракетоносной и противолодочной авиации. Господство в воздухе над морем является одним из главных условий успешного проведения операций флота. Насколько серьёзна эта проблема, имел возможность недавно убедиться лично, наблюдая с борта крейсера «Александр Невский» эпизоды учебного противовоздушного боя отряда кораблей. Проблема ПВО сил флота выходит за пределы череды обыденных забот и требует серьёзного внимания.
Организация ПВО, как известно, предполагает широкое применение воздушных, корабельных и наземных технических средств наблюдения за воздухом. Необходимы также различные каналы связи для взаимного оповещения участников обороны о воздушном нападении. Помогают способы радиоэлектронной борьбы, затрудняющие действия воздушного противника и отвлекающие его удары на ложные объекты. Однако основу ПВО составляют береговые и корабельные зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, а также базовая и палубная истребительная авиация.
Любой надводный корабль имеет трехкоординатные радиолокаторы, средства связи, радиоэлектронной борьбы и ог невые комплексы для поражения воздушного противника. 7 нас на флоте это в основном хорошо послужившие «Волна» «Оса-М» или, на худой конец, «Стрела» для малых кораблей и катеров. Вместе с тем на кораблях третьего поколения уже установлены вполне современные многоканальные зенитные ракетные комплексы. Такие, например, как ЗРК «Форт» на {154} крейсере «Киров» или ЗРК «Ураган» на эсминцах типа «Современный».
К сожалению, промышленность затянула с поставками новых ЗРК «Кинжал», предназначенных для вооружения ими больших противолодочных кораблей типа «Удалой». Так и плавают до сих пор эти великолепные корабли без должной самообороны от средств воздушного нападения вероятного противника. Головотяпство потрясающее! Тем важнее организовать их ПВО силами других кораблей, прикрыть истребителями.
Легко сказать «прикрыть». А чем? Собственной истребительной авиацией флот пока не располагает. Так же, впрочем, как и самолётами для дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей. Парадокс феноменальный! В войну половину всех самолётов морской авиации составляли истребители. А тут — на тебе! Нету, видите ли, собственных!.. Правда, таковые имеются в составе Архангельской отдельной армии ПВО, с которой Северный флот обязан взаимодействовать. С командующим этой армией генерал-полковником Юрием Царьковым я познакомился недавно на коллегии в Министерстве обороны и договорился о сотрудничестве.
Что ж. Коли нет у меня истребителей, тем важнее организовать взаимодействие силы ПВО флота и истребителей войск ПВО армии в так называемых морских районах, где радиолокационное поле наращивается за счёт выдвижения в море кораблей радиолокационного дозора, а управление истребительной авиацией осуществляется с кораблей, имеющих специально оборудованные посты ПВО.
Такие посты, их техника и личный состав имеют возможность вызывать истребители для прикрытия кораблей. Они осуществляют непрерывное оповещение своих сил о воздушном противнике, выдают целеуказание и производят наведение на него истребительной авиации. Эти посты в противовоздушных боях управляют действиями истребителей, организуют взаимодействие между ними и зенитными огневыми средствами кораблей.
Если же учесть при этом, что в воздухе одновременно могут находиться не только летательные аппараты противника, но и свои самолёты или вертолёты, то становится ясным, сколь непроста подобная работа, требующая высокой квалификации и постоянной тренировки.
— Дураков сюда не назначают, — улыбается контр-адмирал Можаров, рассказывая мне, что подготовка по ПВО на флоте организована им по принципу «солёного огурца».
Сущность способа в том, что свежий, абсолютно зелёный огурец, опущенный в бочку с рассолом рано или поздно станет солёным. Надо только создать для него в этой бочке питательную среду. Вот так и для ПВО. {155}
Именно поэтому на флоте корабельным распорядком предусмотрены ежедневные «часы ПВО», когда боевые расчёты, освобождаясь от любых других обязанностей, занимаются на собственной технике или на тренажёрах в учебном центре. Однако наиболее эффективной формой подготовки являются еженедельные «дни ПВО», когда все надводные корабли в море, на рейдах или у причалов тренируются в отражении воздушных ударов «противника». При этом реальными воздушными целями служат самолёты, специально выделяемые ВВС флота, или армейские истребители. В особых случаях при выполнении зенитных ракетных стрельб «противника» обозначают крылатые ракеты-мишени, запускаемые с кораблей. В такие дни тренируются не только силы флота, но и зенитные ракетные войска совместно с истребительной авиацией Североморского корпуса ПВО.
Подобная организация, по мнению контр-адмирала Можарова, позволила впервые в Вооружённых Силах СССР осуществить перехват крылатых ракет и уничтожение их истребительной авиацией над водной поверхностью до подлёта к берегу. Кроме того, зенитные ракетные войска на Кольском полуострове получили возможность при отражении атак средств воздушного нападения с морских направлений проводить боевую подготовку с фактическими пусками зенитных ракет непосредственно из мест дислокации. Прежде для этого наземным зенитным ракетчикам приходилось выезжать за тысячи километров на специальный полигон в глубь страны.
Начальник ПВО, Юрий Иванович Можаров — опытный моряк, в прошлом командир артиллерийского крейсера, а теперь незаурядный знаток своей нынешней специальности, — очень уж восторженно оценивает достигнутое. Неужели не видит, что подготовка сил флота по ПВО носит тактический характер? Проводится она главным образом в масштабе корабельного соединения, ведущего противовоздушний бой. Крупных мероприятий оперативного масштаба в области противовоздушной обороны на флоте не затевалось уже давно. Очевидно, пробел этот как раз и должен быть ликвидирован путём проведения учения «Сфера-82», включённого в годовой план, но задуманного, к сожалению, не мной.
Тема учения выглядела примерно так: «Управление ВВС и ПВО флота при ведении боевых действий в Баренцевом море против группировки сил противника, наносящей удары с воздуха по кораблям и пунктам базирования Северного флота». Замыслом учения предусматривалось развернуть в Баренцевом море корабельную группировку сил оперативной эскадры вице-адмирала Зуба. Прикрыть эту группировку от ударов с воздуха в морском районе совместными усилиями флота и Североморского корпуса ПВО генерал-майора Морина. {156} Военно-воздушным силам флота генерал-лейтенанта Потапова, действуя поочерёдно на стороне «красных» и «синих», поддерживать корабельную группировку противолодочными самолётами и палубными штурмовиками. Затем, «перекрасившись», нанести по группировке удар силами морской ракетоносной авиационной дивизии генерал-майора Дейнеки.
С окончанием противовоздушных боёв в море надо было полным составом морской авиации обозначить удары по всем пунктам базирования флота от Линнахамари до Гремихи. При этом подлёт крылатых ракет показать пролётом самолётов над объектами ударов на малых высотах. Отражение ударов осуществлять силами и средствами ПВО флота во взаимодействии с зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией корпуса ПВО. Перехват воздушных целей истребителями выполнять фактически, а поражение, — разумеется, условно. На заключительном учении организовать ряд боевых упражнений с фактическим поражением крылатых ракет-мишеней огневыми средствами кораблей и войск ПВО.
Руководителем учения «Сфера-82» решением Главнокомандующего ВМФ определён командующий Северным флотом. Все необходимые документы разработаны. Предварительные задачи участникам поставлены. Подготовка сил и средств не вызывает сомнений и находится под контролем. Многолетнее сотрудничество контр-адмирала Можарова и генерал-майора Морина внушает уверенность в успехе. Согласующая виза командующего Архангельской армией ПВО генерал-полковника Царькова получена. Приемлемый срок проведения учения — период с 5 по 11 апреля. Долгосрочный метеопрогноз благоприятный.
— К учению готовы! — бодро докладывает Можаров.
Однако меня мучают сомнения. Возможно, что начальник ПВО флота действительно подготовился основательно. Но я не готов!.. Главным образом морально... Пришлось пригласить своих заместителей, а также вице-адмирала Зуба, генералов Потапова и Морина. Выслушал каждого. Разобрался в деталях тактических эпизодов. Убедился в отсутствии элементов авантюризма и соблюдении мер безопасности. Поручил Коробову организовать проверку всех участвующих сил и войск. При этом я понимал, что комфлоту не гоже превращаться в зануду. Но пусть простят меня сослуживцы — учениями подобного масштаба мне придётся руководить впервые в жизни.
Скрепя сердце подписал нужные документы и сразу же уехал с генерал-лейтенантом Потаповым на его основной командный пункт в скале, откуда Виктор Павлович собирается управлять всеми действиями морской авиации на предстоящем учении. Познакомиться с системой управления военно-воздушными силами флота нужно заблаговременно, поскольку {157} уже решил, что во время учения «Сфера-82» моё место в основном на командном пункте Североморского корпуса ПВО. Потапов показал своё в общем-то немудрёное хозяйство, продемонстрировал работу каналов связи с авиационными гарнизонами, пунктами управления полётами и даже с парой самолётов Ил-38, находящихся в воздухе. Одним словом, я успокоился. А на следующее утро вместе с Можаровым отправился на командный пункт корпуса ПВО к генералу Морину.
Североморский корпус является самым крупным и наиболее боеспособным объединением Архангельской отдельной армии ПВО. Позиции зенитных ракетных войск и аэродромы истребительной авиации корпуса раскиданы по всему Кольскому полуострову, а штаб и основной командный пункт расположены в городе Североморске, неподалёку от штаба флота. Именно этому корпусу директивой Генерального штаба поставлена задача прикрытия сил и объектов Северного флота. Разумеется, в рамках отведённого на эту задачу ресурса сил и в пределах морской зоны, определяемой тактическим радиусом истребительной авиации.
К сожалению, этот ресурс маловат, а радиус едва перекрывает акваторию Баренцева моря. Однако из собственных штанов, как говорится, не выпрыгнешь. Но думать о том, что прикрыть противовоздушную наготу, растянув «штаны» хотя бы на северную зону Норвежского и Гренландского морей, — это уже моя забота. А способы есть! О них следует поразмышлять.
Командир корпуса генерал-майор авиации Анатолий Прохорович Морин — весьма симпатичный, рыжеватый блондин внушительного телосложения, встретил как положено. Он хотя и носит армейскую форму одежды с голубыми лампасами на брюках, однако почитает свою «морскую» задачу одной из главнейших.
— На то у меня и фамилия соответствующая, — улыбается генерал.
Основной командный пункт Североморского корпуса ПВО представляет собою сложное инженерное сооружение — по существу пятиэтажное здание, построенное глубоко под землёй и прикрытое гигантским гранитным массивом. Это сооружение сопряжено с антенными полями передающего и приёмного радиоцентров. Здесь постоянно несётся боевое дежурство сменным расчётом. При угрозе нарушения государственной границы в воздушном пространстве или при переводе в высшие степени боевой готовности сюда прибывает командир корпуса со своим штабом. В состав полного боевого расчёта основного командного пункта ПВО кроме его командира входят начальники родов войск, отделов, служб и направлений. Основными фигурами тут являются начальник оперативного {158} отдела, начальник разведки и начальники направлений на соединения и части истребительной авиации, зенитных ракетных войск, а также взаимодействующих войск и сил, в том числе сил ПВО флота.
Особую роль на КП корпуса играет разведывательно-информационный центр, который принимает воздушную обстановку от собственных радиотехнических войск, а также от соседей — взаимодействующих сил, в том числе от кораблей радиолокационного дозора, развёрнутых в море.
Этот же центр распространяет полученную информацию для отображения на электронных планшетах операторов направлений. В качестве резервного сооружён единый зональный планшет из матового стекла, размерами во всю стену, где воздушная обстановка наносится вручную солдатами-планшетистами.
Генерал Морин не без гордости говорил, что его командный пункт одним из первых в Вооружённых Силах СССР комплексно автоматизирован. Благодаря этому командир корпуса получил возможность принимать решения и ставить задачи подчинённым войскам и силам практически в реальном масштабе времени. А операторы-направленцы, исполняя волю командира, непосредственно со своих рабочих мест в автоматизированном режиме выдают целеуказания соединениям зенитных ракетных войск и ставят задачи частям истребительной авиации.
Оперативная ёмкость командного пункта позволяет обрабатывать до ста групповых или одиночных воздушных целей, одновременно находящихся в пределах радиолокационного поля корпуса. Однако работы для дальнейшего увеличения оперативной ёмкости, по заверению генерала, проводятся непрерывно.
Через пару дней начальник штаба флота доложил, что группировка кораблей (во главе с авианесущим крейсером «Киев» под флагом вице-адмирала Зуба) заняла своё место в центре Баренцева моря. Поразмыслив, оценив реальную обстановку, я принял решение начать учение «Сфера-82» и приказал передать сигнал о переводе участвующих сил ВВС и ПВО в боевую готовность «полная». С этой минуты тяжёлый маховик человеко-машинной системы, именуемой флотом, начал раскручиваться, стремительно набирая обороты. Казалось, что остановить его мне уже не под силу. Особенно остро почувствовал, что «заднего хода не будет», когда все три полка морской ракетоносной авиации ушли в воздух со своих аэродромов, а истребители ПВО вылетели для прикрытия кораблей.
Последовательно перемещаясь с командного пункта флота, где оставался вице-адмирал Коробов, на командные пункты генерала Потапова, а затем и генерала Морина, я получил {159} возможность наблюдать за тем, как над просторами Баренцева моря развёртывается пусть учебное, но грандиозное противовоздушное сражение.
Дух захватывало, когда количество ярких точек на экранах, мерцающих в полутьме оперативного зала, перевалило за три сотни. Такого множества самолётов, одновременно находящихся в воздухе, мне ранее видывать не приходилось. Осмыслить и тем более описать эту стремительно развивающуюся картину возможно лишь в спокойной обстановке, после тщательного анализа. А пока — только нервы, натянутые словно струны.
Впрочем, все динамичные процессы неминуемо стремятся к финалу. Завершилось, исчерпав лётный ресурс, и учение «Сфера-82». Статистика свидетельствует, что в ходе учения было выполнено 336 самолёто-вылетов, общим налётом 1266 часов. Обнаружена 61 групповая воздушная цель. Перехвачено и обстреляно 240 средств воздушного нападения, что составляет 90% от обнаруженных. Отражено 3 массированных удара авиации «противника» по кораблям и береговым объектам. Фактически сбито надводной поверхностью 12 крылатых ракет-мишеней. При этом, ко всеобщему нашему удовольствию, ни единой предпосылки к лётному происшествию. Нет отказов техники в огневых комплексах и средствах наблюдения. Славно поработали североморцы! Все они — лётчики, моряки, воины противовоздушной обороны — заслуживают величайшего уважения за собранность и усердие, воинскую доблесть и профессиональное мастерство.
Вместе с тем учение «Сфера-82» оставило некое горькое ощущение неудовлетворённости тем, что лично я вряд ли смогу оперативно повлиять на ход и исход подобного сражения. Слишком скоротечны процессы воздушного нападения и его противовоздушного отражения. Слишком малы резервы, находящиеся в моём распоряжении. А кому нужен командующий, который не имеет резерва сил и средств? За чей счёт следует создавать подобный резерв? Или все проблемы должна решить заблаговременно и фундаментально построенная система ПВО?
Конечно, взаимодействие Северного флота и Архангельской армии хорошо отлажено. Система сработает, как говорится, без моего участия. Однако где гарантия, что континентальная армия ПВО обеспечит все потребности океанского флота? Хватит ли ресурса истребительной авиации, выделяемой для прикрытия всех стоящих передо мной задач? Почему мал тактический радиус армейских истребителей? Куда подевались собственные флотские истребительные полки?
Очевидно, надо обеспечить истребительную авиацию оперативными аэродромами в океане. Неплохо бы использовать {160} для этого ледовые или островные площадки. Однако наилучшим, подвижным, вездесущим аэродромом для морской авиации является, разумеется, авианосец. Когда, наконец, будет построен наш первый полноценный авианесущий корабль, чертежи которого с гордостью демонстрировал мне Василий Аникеев из Невского ПКБ? Где эти хвалёные палубные Су-27 и МиГ-29, о которых так увлекательно рассказывал в Ленинграде начальник института генерал Минаков?
Одним словом, проблем, связанных с противовоздушной обороной сил флота, — хоть пруд пруди. Всем нам сам Бог велел искать пути их разрешения в теории и практике оперативного искусства и военного строительства. Подобные мысли, правда облечённые в более пространную форму, я высказал вскоре на разборе учения «Сфера-82», отметив, что оно оказалось весьма полезным и поучительным в деле совершенствования системы управления ВВС и ПВО флота при ведении боевых действий. А потом, предельно сконцентрировав впечатления о проведённом мероприятии, поделился ими при очередном докладе по телефону с Главнокомандующим ВМФ.
Сергей Георгиевич хмыкнул в ответ, но потом совершенно неожиданно принялся упрекать меня в необоснованном пессимизме.
— Как это так, не можете повлиять? — говорил Горшков. — Не только можете, но и обязаны!.. Вы полагаете, что мне неизвестны проблемы ПВО? Конечно, отразить состоявшийся воздушный удар весьма трудно. Кто же спорит? Однако важнее недопустить таковой, упредить противника, подавить его аэродромы, утопить авианосцы до подъёма палубной авиации, разгромить группировку носителей средств воздушного нападения. Понятно? На то Вы и оперативный начальник. Имейте в виду, что лучшим видом обороны является нападение. Уяснили?.. Ну то-то.
Затем Главком подтвердил своё намерение в конце апреля прибыть на Северный флот, с тем чтобы выйти в море на борту крейсера «Киров» и посмотреть обещанный «бой с авианосцем». А я, подумав, что Горшков, как всегда, прав, принялся осмысливать реальные меры, которые ещё успею предпринять в оставшиеся две недели, чтобы достойно выдержать надвигающийся экзамен. Нападать, так нападать!
Впрочем, прежде чем нападать, военная наука рекомендует разобраться — на кого и зачем? Следует уяснить цель и задачи предстоящей драки, оценить противника и собственные силы, обдумать приёмы действий и способы достижения цели, взвесить степень риска и цену успеха. Давно прошли, к сожалению, те счастливые времена, когда на просторах Фурманного переулка, в кругу для петушиных боёв, под улюлюканье малолетних соратников, зажмурив глаза и неистово {161} размахивая кулаками, я мог броситься вперёд, чтобы «стыкнуться» с Юркой Головяшкой или другим каким-нибудь Джондуаном. Тогда всё кончалось кровавыми соплями или вырванными пуговицами, а противники в обнимку покидали ристалище. Теперь — гораздо серьёзнее, поскольку передо мной не Фурманный переулок, но Атлантический океан. Словом, не уверен — не нападай!
Для приобретения уверенности решил, как водится, послушать компетентных лиц. Начал с контр-адмирала Квятковского. Очень быстро, с помощью Юрия Петровича, восстановил в памяти уроки второй мировой войны. Её опыт наглядно демонстрировал, как в ходе вооружённой борьбы на море артиллерийские линейные корабли, утратив былое превосходство, уступили пальму первенства авианосцам — ещё более крупным и неуклюжим надводным кораблям, но способным нести на себе боевые самолёты.
Во время этой войны такими государствами, как США, Великобритания и Япония, было построено и опробовано в боях около двухсот различных авианосцев: тяжёлых и лёгких, ударных и противолодочных, конвойных и десантных. Однако после войны авианосцы получили дальнейшее развитие главным образом в США, где в связи с ядерным вооружением палубной авиации они были признаны главной ударной силой флота.
Постепенно начала проявляться тенденция к сокращению количества и специализаций авианосцев. Они становились универсальными, всё более мощными, но менее многочисленными. Так, например, современный американский многоцелевой авианосец «Нимитц», вступивший в состав Атлантического флота в 1976 году, имеет водоизмещение 95 000 тонн. Его экипаж (вместе с лётчиками) достигает 6000 человек. Атомная энергетическая установка, мощностью 280 000 лошадиных сил, позволяет этой громадине двигаться неограниченное время со скоростью 30 узлов.
Полётная палуба, размерами 330 × 77 метров, оборудованная подпалубными паровыми катапультами и тормозной гидравлической системой аэрофинишеров, обеспечивает взлёт и посадку в короткие сроки до 100 самолётов, представляющих «Авиационное крыло». Так американцы называют основное тактическое соединение военной авиации, способное самостоятельно решать боевые задачи. «Крыло» состоит обычно из нескольких однородных эскадрилий, штаба, служб и подразделений материального и аэродромного обеспечения.
«Авиационное крыло», базирующееся на «Нимитц», является его главной ударной силой и включает самолёты различного предназначения. Среди них обычно может быть 12 штурмовиков «Интрудер», 36 лёгких штурмовиков «Корcap», {162} 24 истребителя «Томкэт», 12 противолодочных самолётов «Викинг». Кроме того, в комплект «Авиакрыла» входят, как правило, по 4 самолёта дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей «Хокай» и разведчика «Виджилент». Столько же самолётов радиопротиводействия и самолётов заправщиков на базе «Интрудер».
В зависимости от конкретной предстоящей задачи состав «Авиационного крыла», принятого на борт авианосца, может варьироваться по соотношению самолётов ударного и оборонительного предназначения при сохранении их общего количества.
В составе Атлантического флота ВМС США имеется 8 авианосцев. Наиболее современные «Нимитц» и «Эйзенхауэр» обладают атомной энергетикой. Остальные — с обычными паросиловыми установками. При этом «Америка» и «Кеннеди» вступили в строй в конце 60-х годов. «Форрестол», «Саратога», «Индепенденс» построены в середине 50-х, а «Корал Си» спущен на воду за год до моего выпуска из училища и плавает, таким образом, уже дольше. Из них 2–3 корабля адмирал Гарри Трейн вынужден был постоянно содержать в ремонте, модернизации или на боевой подготовке у своего восточного побережья.
Остальные распределены между основными оперативными объединениями Атлантического флота. Таковыми являются 2-й и 6-й флоты. Операционная зона 2-го флота простирается в Атлантике от берегов Америки до побережья Европы и от Арктики до Антарктиды. Силы базируются на Бостон, Ньюпорт, Норфолк, Чарлстон, Мейпорт. Командует 2-м флотом вице-адмирал Томас Биглей. В его распоряжении обычно находится 4 авианосца, которые могут действовать в составе двух авианосных соединений. Одно из них, предназначенное для блокирования нашего флота в Норвежском, Гренландском и Северном морях, представляет собой 1-й эшелон авианосных сил. Другое — для прикрытия своих коммуникаций в Атлантике, является 2-м эшелоном.
6-й флот находится на Средиземном море и считается основной ударной силой НАТО на Южно-Европейском театре военных действий. В состав флота обычно включают 2 авианосца, способных действовать как в едином соединении, так и раздельными авианосными группами. Своих баз на Средиземном море американцы не имеют, поэтому силы базируются на такие порты союзных государств, как Барселона, Валенсия, Пирей, Салоники. Командует 6-м флотом вице-адмирал Вильям Смейлл. В случае необходимости его авианосная группировка всегда может быть усилена за счёт ввода в Средиземное море авианосцев 2-го флота из Атлантики. Не исключён также обмен авианосными соединениями между Атлантическим и {163} Тихоокеанским флотами США. Кроме того, в Бискайском заливе, Иберийской зоне, на Северном и Средиземном морях могли быть задействованы французские и английские авианосцы.
Военное руководство государств Северо-Атлантического блока (НАТО), созданного, как известно, в самый разгар холодной войны, рассматривает американские авианосные силы как главный компонент воздушной мощи в океане, являющийся к тому же стратегическим ядерным резервом. Задачи авианосных сил — завоевание господства на море и в воздухе в оперативно-важных районах, уничтожение группировок кораблей противника, разрушение его береговых объектов, обеспечение амфибийно-десантных действий, защита своих морских коммуникаций.
Эти задачи, как правило, предполагалось решать авианосными соединениями, каждое из которых представляет собой оперативное (иначе говоря, временное) формирование, состоящее из двух-трёх авианосных групп и отряда кораблей снабжения. В зависимости от обстановки авианосное соединение может действовать как в едином боевом порядке, так и отдельными группами на значительном удалении друг от друга, но под единым командованием.
В состав такого соединения обычно включаются 2–3 авианосца, 20–30 кораблей охраны (ракетные крейсера, эсминцы, фрегаты), 2–4 атомные подлодки и до 10 кораблей снабжения. Основа боевой мощи подобного соединения — палубная авиация, насчитывающая до 300 самолётов, среди которых половину составляют штурмовики, а вторую половину — истребители, противолодочные и обеспечивающие самолёты. Соединение, пополняясь топливом и боеприпасами в море, способно действовать в течение 50–80 суток, совершая ежесуточные перемещения до 1000 км и нанося сокрушительные удары на глубину свыше 1500 км.
Авианосные группы в соответствии с решаемой задачей могут быть ударными (АУГ), многоцелевыми (АМГ) или противолодочными (АПУГ). Каждая группа включает, как правило, один авианосец, до 10 кораблей охранения и 1–2 атомные подлодки. «Авиакрыло», базирующееся на авианосец, формируется заблаговременно, исходя из предназначения группы.
Распространённый способ применения палубной авиации — подъём штурмовиков на удар при маневрировании авианосной группы в открытом морском районе. Не исключён также взлёт самолётов с авианосца, укрывшегося в фиорде, шхерах, вблизи островов. Кроме того, известны случаи подъёма авиации из районов, находящихся вне досягаемости сил противника, с посадкой самолётов на сухопутные аэродромы стран-союзников для последующих действий. {164}
Каждая авианосная группа, как и соединение в целом, имеет мощную комплексную, автономную оборону, осуществляемую силами палубной истребительной и противолодочной авиации, а также огневыми средствами кораблей охраны. Разумеется, что при этом истребители, противолодочные и обеспечивающие самолёты должны посменно находиться в воздухе весь период, пока авианосец в море.
Глубина противолодочной обороны обычно достигает 200 миль, а перехват самолётов противника палубными истребителями обеспечен на дальности до 600 километров. Усиление обороны авианосного соединения возможно за счёт организации его взаимодействия с базовой авиацией, континентальной ПВО, системами дальнего воздушного (АВАКС) и дальнего подводного наблюдения (СОСУС). Одним словом, авианосцы — крепкие орешки, которые не каждому по зубам. Прорваться к борту подобного корабля, донести своё оружие до его палубы — не так-то просто.
Американские авианосные соединения, представляя собой ярко выраженный агрессивный потенциал, регулярно появляются в «горячих точках». Там под видом всевозможных учений они пытаются оказывать серьёзное влияние на складывающуюся военно-стратегическую обстановку.
Частенько авианосцы заходят и в Норвежское море. Воспрепятствовать этому мы не можем, поскольку действует принцип свободы мореплавания, установленный международными соглашениями. Однако угроза трудноотразимого внезапного удара с воздуха заставляет нас рассматривать авианосцы в качестве первоочередных объектов, подлежащих поражению в случае начала военных действий. Промедление тут смерти подобно!
Борьбу с авианосными соединениями нельзя решать попутно с другими задачами флота. Нужно упреждать противника! Выявлять его как можно дальше от своих берегов. Встречать на рубежах, значительно превышающих тактический радиус палубных штурмовиков. Устанавливать слежение за каждым авианосцем и непрерывно держать его под прицелом своего оружия. Для того даже в мирное время каждый раз приходится развёртывать и своевременно наращивать специально создаваемую группировку сил флота, включающую прежде всего атомные подводные лодки и морскую ракетоносную авиацию. Своевременность реагирования — важнейший фактор. Она должна быть обеспечена всей системой военно-морской разведки в операционной зоне флота.
С контр-адмиралом Квятковским мы долго обсуждали не только высокие боевые и оборонительные возможности американских авианосцев, но и их слабые стороны, а среди них — тот непреложный факт, что авианосное соединение {165} практически не обладает возможностью действовать скрытно. Оно легко обнаруживается при помощи разведывательных спутников. Засекается средствами «осназ» по огромному количеству радиоизлучений, совершенно необходимых для управления палубной авиацией. Ему никуда не уйти от контактов с самолётами Ту-95рц морской разведки и целеуказания.
Атомные подводные лодки способны следить за авианосцами сколь угодно долго, провожая их от берегов Америки в Норвежсккие воды или на Средиземное море. Оборона авианосного соединения не может функционировать без радиолокационного и звукоподводного наблюдения, без полётов истребительной и противолодочной авиации, что в свою очередь ведёт к потере скрытности его действий.
Уязвимость авианосца весьма велика. Огромная отражающая поверхность бортов и палубы, колоссальное тепловое поле превращают этот гигантский корабль в великолепную мишень для самонаводящихся корабельных и авиационных крылатых ракет. Даже незначительные боевые повреждения взлётной палубы, паропроводов катапульт, гидроприводов аэрофинишеров, крен более 5°, потеря хода — не позволяют авианосцу использовать самолёты, делают этот корабль беспомощным и ненужным. Потеря авианосца невосполнима. Построить другой такой же за период военных действий, по-видимому, не способно ни одно государство.
Если же сюда добавить тот печальный факт, что авианосец представляет собой огромный сосуд, под завязку залитый авиационным керосином, хранящимся не только в цистернах, но в баках самолётов на палубе и в ангарах, то не трудно представить, какую опасность таит в себе пожар на таком корабле, даже не связанный с боевым повреждением.
Всем нам памятен трагический случай 1967 года, когда на авианосце «Форестол» оторвался и вспыхнул дополнительный топливный бак самолёта. Горящий керосин залил палубу, проник в ангары и воспламенил стоящие там самолёты с их боезапасом. Пламя бушевало около 18 часов. В результате пожара и взрывов были серьёзно повреждены полётная и ангарные палубы, уничтожен 21 и выведено из строя 42 самолёта, убито и ранено около 200 моряков. Правда, разведка не сразу добыла тогда сведения о потрясающей аварии. Я лично узнал о ней лишь через полгода, когда вступил в командование «Дружеской» дивизией в Западной Лице. К сожалению, трагедия американских моряков повторилась в начале 1969 года уже на атомном авианосце «Энтерпрайз» Тихоокеанского флота, когда взрыв на одном из самолётов вызвал пожар на полётной и ангарной палубах, что привело к разрушению ещё 15 самолётов и гибели 100 человек. {166}
Но, несмотря ни на что, эти мощные, вполне современные корабли достойны уважения. Они вызывают у меня, честно говоря, белую зависть. Отсутствие настоящих авианосцев на Северном флоте — его слабая сторона. И об этом предстоит думать и думать.
Впрочем, размышлять в одиночестве — дело неблагодарное. Тем более что времени на это не осталось. Опыт подсказывает — нужно собрать подчинённых, поставить задачу, определить сроки, выслушать предложения и принять решение. Так и поступил. Но когда спросил у подошедшего начальника штаба — кто у нас на флоте наиболее опытный специалист по проблеме борьбы с авианосцами, — вице-адмирал Коробов, недолго думая, выпалил:
— Так ведь это Вы, товарищ командующий!
Присутствующие при сём Кругляков и Усенко откровенно рассмеялись. Не удержался от улыбки и я.
А если серьёзно, то задача борьбы с авианосными соединениями противника начала приобретать для Северного флота реальную основу в конце 50-х годов, когда на вооружение стали поступать скоростные атомные подводные лодки с крылатыми ракетами, а также самолёты морской ракетоносной авиации.
«Крылатая» дивизия, штаб которой мне довелось возглавлять, являлась по существу первым противоавианосным соединением в советском ВМФ. И кандидатскую, и докторскую дисертации я написал для того, чтобы осмыслить управление противоавианосной группировкой подводных лодок. Такая группировка способна максимально концентрировать мощь своего ракетного удара по грозному, хорошо обороняемому авианосцу. Потом немалую толику собственного разумения вложил в теорию и практику ракетной атаки. Лично крутился возле авианосца «Рендолф» между Сардинией и Болеарскими островами.
Ну а когда принял под командование Краснознамённую флотилию, то задача борьбы с авианосцами сделалась для меня наиглавнейшей. Наши подлодки не раз гонялись за американскими авианосцами в Атлантике и на Средиземном море, вели разведку их деятельности, осуществляли слежение оружием. Не один десяток учебных боёв с авианосной группой проведён в условиях боевой подготовки с помощью сил, обозначающих «противника». Множество ракетных атак, сотни практических стрельб крылатыми ракетами различных образцов выполнили мои друзья-подводники за эти минувшие 20 лет. Стыдно мне проявлять некомпетентность.
Тем не менее решил всё же собрать вместе своих заместителей и попросить Коробова, Круглякова, Усенко, Рябова, Потапова и Петрова доложить свои предложения по организации действий сил флота на предстоящем учении. Общими усилиями {167} сошлись на том, что главной целью борьбы с авианосными соединениями противника в Норвежском море может являться срыв или ослабление ударов его палубной авиации и крылатых ракет по силам флота, войскам фронта и важным наземным объектам.
Прав Главком — проще сорвать удар с воздуха, чем отразить его. В обоих случаях задачей борьбы (наряду с уничтожением или выведением из строя самих авианосцев до подъёма ими своей ударной авиации) будет поражение ракетных кораблей до пуска крылатых ракет по нашим силам. Кроме того, необходимо топить атомные субмарины, включённые в состав авианосного соединения, а также транспорты и танкеры из состава отряда кораблей снабжения.
Действия по разгрому авианосного соединения организуются, как правило, в форме так называемой «морской операции», представляющей собою совокупность согласованных и взаимоувязанных по цели, задачам, месту и времени морских боёв и ударов, проводимых специально созданной группировкой разнородных сил флота по единому замыслу и плану, в ограниченном районе океанского театра военных действий, для решения одной, наиболее важной оперативной задачи.
Подобную формулировку мы с Владимиром Кругляковым усвоили лет шесть тому назад, когда сидели за одним столом на Курсах руководящего состава ВМФ в нашей Академии. Так было написано в учебниках. Однако лично мне представляется, что аналогом термина «морская операция» вполне может служить словосочетание «морское сражение». Смысл тот же, зато звучит точнее, а термин «операция» не забалтывается. Такое сражение чаще всего является лишь составной частью операции флота, проводится на главном направлении действий сил и носит ярко выраженный наступательный характер. Поэтому готовится и проводится морское сражение (то бишь морская операция) под личным руководством командующего флотом.
Основными формами тактических действий в морской операции по разгрому авианосного соединения являются морские бои и авиационные удары. К примеру, бой с авианосной ударной группой (АУГ) в удалённом районе моря может вести дивизия атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. Удар по авианосцу способна осуществить морская ракетоносная авиационная дивизия.
Однако наилучших результатов при наименьших потерях в морском бою с АУГ возможно ожидать от оперативного соединения разнородных ударных сил (ОС РУС) флота. В его составе атомные подлодки, морская авиация и ракетные корабли действуют совместно, помогая друг другу. При этом подводники должны стремиться не только поразить авианосец, но и корабли его противовоздушной обороны. {168}
В свою очередь морские лётчики, организуя удар по авианосцу, будут всячески ослаблять его противолодочные возможности. Ну а ракетчики надводных кораблей постараются развить успех. На Северном флоте таким соединением, призванным по изначальному замыслу аккумулировать возможности разнородных сил, является оперативная эскадра вице-адмирала Виталия Зуба. «Атлантической» гордо именует свою эскадру Виталий Иванович. Значит, ему и карты в руки.
Посовещавшись ещё немного, мы пришли к единодушному мнению, что на предстоящем апрельском экзамене, который собирается учинить флоту Главком, нам лучше выглядеть нападающей, чем обороняющейся стороной. Служебный опыт подсказывает, что нужно захватывать инициативу, навязывать начальству свои предложения, иначе оно (начальство) может заставить ненароком делать то, к чему не готов. Разумеется, это шутка. А для грозной главкомовской комиссии я принял решение подготовить и предложить командно-штабное учение (КШУ) с обозначенными силами. В период КШУ проиграть на картах морскую операцию по разгрому авианосного соединения противника в Норвежском море. В то же время на оперативном фоне КШУ надо провести тактическое учение под моим руководством с фактическим выходом сил в Баренцево море. Тема учения: «Морской бой ОС РУС флота с АУГ „противника”». К участию в учении привлечь надводные корабли эскадры вице-адмирала Зуба, подводные лодки флотилии вице-адмирала Чернова и морскую авиацию генерал-лейтенанта Потапова. В ходе учения предусмотреть выполнение практических ракетных, торпедных и зенитных стрельб.
Распределил роли. Вице-адмирал Коробов подготовит план КШУ и, находясь в штабе, будет наблюдать за общей обстановкой, обеспечивать фактическое управление силами боевой службы, а также действиями отряда кораблей стороны «синих» с повседневного командного пункта.
Вице-адмирал Кругляков на основном командном пункте флота в скале, вместе с группой офицеров-направленцев на дальнюю морскую зону, проиграет на картах морскую операцию.
Контр-адмирал Рябов подготовит план тактического учения в Баренцевом море, а также частные планы боевых упражнений с применением практического оружия, и в роли начальника походного штаба будет контролировать их выполнение.
Генерал-лейтенант Потапов со своего командного пункта обеспечит управление морской авиацией, действующей как на стороне «красных», так и «синих».
Я выйду в море вместе с Главкомом на борту крейсера «Киров». Со мной пойдёт вице-адмирал Усенко, а также, в {169} составе походного штаба, главный штурман Жеглов, начальник ПВО Можаров и заместитель начальника связи Голин.
Оперативное соединение разнородных ударных сил флота возглавит вице-адмирал Зуб. Он вместе со своим штабом тоже разместится на крейсере «Киров», в соответствии с моим боевым приказом примет решение на бой ОС РУС флота с АУГ «противника» и будет управлять в этом бою кораблями своей эскадры, приданными подводными лодками и поддерживающей морской авиацией.
В то же время отрядом кораблей во главе с крейсером «Александр Невский», обозначающим АУГ противника, приказано командовать контр-адмиралу Колмогорову.
Для участия в учениях на стороне «противника» выделили 6–7 надводных кораблей, 3–4 атомные торпедные подлодки и полк противолодочной авиации. В состав ОС РУС включили 2–3 корабельные ударные группы, по решению вице-адмирала Зуба, но с обязательным участием авианесущего крейсера «Киев», эсминцев «Современный» и «Отчаянный», больших противолодочных кораблей «Удалой» и «Вице-адмирал Кулаков». Кроме того, должны быть задействованы 12–14 атомных подлодок с торпедным оружием и крылатыми ракетами, морская ракетоносная авиационная дивизия, полк разведывательной авиации и, наконец, корабельный штурмовой авиационный полк.
В ходе учения планировалось выполнить не менее 10 практических торпедных стрельб, а среди них 4 — подводными лодками «противника» по крейсеру «Киров»; несколько стрельб крылатыми ракетами по специально оборудованным мишенным позициям, в том числе ракетами «Гранит» с крейсера «Киров» и подводного крейсера «К-525» проекта 949.
В противовоздушном бою ОС РУС для обозначения средств воздушного нападения противника предполагалось использовать не менее 8 ракет-мишеней с двух направлений на разных высотах полёта. Тактическое учение рассчитывалось на двое суток.
| {170} |
Вице-адмирал Зуб держал свой флаг на ракетном крейсере «Вице-адмирал Дрозд», куда я и направился, чтобы уяснить, в какой степени корабли и штаб эскадры готовы к тому, чтобы реально сыграть роль, отводимую им в задуманном учении.
— Не сомневайтесь, товарищ командующий, — обворожительно улыбается Виталий Зуб, — нам не впервой. Из морей месяцами не вылезаем. Любую задачу осилим.
Хотя я много лет знаю нынешнего командира эскадры, как опытного моряка и к тому же порядочного, симпатичного человека, посвятившего жизнь службе на крупных надводных кораблях, подобная, мягко говоря, жизнерадостность настораживает. Потомственный военный, сын видного генерала войск ПВО, Виталий умел в напряжённые штормовые часы очень интересно рассказывать всякие байки. К примеру, о тех событиях давних лет, когда его отец вместе с маршалом Жуковым участвовал в аресте небезызвестного Лаврентия Берия.
Однако на этот раз я попросил вице-адмирала подробно, в деталях доложить мне о составе, состоянии и уровне подготовки подчинённого ему объединения. Виталий Иванович приказал своим офицерам развесить схемы, на которых красовались все его силы, и начал с того, что бригадой ракетных кораблей, входящих в эскадру, командует капитан 1-го ранга Геннадий Власов — твёрдый, знающий, внушающий доверие офицер. В составе этого соединения атомный крейсер «Киров», ракетные крейсера «Адмирал Зозуля» и «Вице-адмирал Дрозд», артиллерийский крейсер «Мурманск», а также «поющие фрегаты» проекта 61м «Огневой», «Смышлёный», «Сообразительный» и «Стройный».
Другая бригада укомплектована в основном большими противолодочными кораблями. В неё входят авианесущий крейсер «Киев» и такие великолепные ВПК проекта 1134а (тоже крейсера по существу), как «Адмирал Исаков», «Адмирал Исаченков», «Адмирал Макаров», «Адмирал Нахимов», {171} «Адмирал Юмашев», «Маршал Тимошенко» и «Кронштадт». С командиром этой бригады, капитаном 1-го ранга Владимиром Баранником, я успел вплотную познакомиться в период недавней комплексной боевой подготовки сил флота, когда он вполне профессионально управлял действиями боевых кораблей с борта крейсера «Александр Невский».
Третье соединение в составе эскадры — бригада эскадренных миноносцев. В неё наряду с только что упомянутым крейсером входят новейшие эсминцы «Современный» и «Отчаянный», а также хорошо послужившие корабли проекта 56 «Бывалый», «Несокрушимый», «Спокойный» и «Московский комсомолец». На замену ожидается поступление эсминцев проекта 956. Командир бригады, капитан 1-го ранга Александр Фролов, внешним видом напоминающий лихого сына монгольских степей, очень надеется на пополнение новыми кораблями, строительство которых бурными темпами развёрнуто на заводе имени Жданова в Ленинграде.
Кроме того, в непосредственном подчинении у вице-адмирала Зуба находятся ещё два предмета его забот. Это корабли управления «Волга» и «Тобол», специально оборудованные и предназначенные для использования в качестве плавучих командных пунктов. К сожалению, из 25 кораблей эскадры в постоянной готовности, с гордо поднятыми вымпелами содержится всего 15. Такое количество хотя и соответствует установленной норме, но находится на нижнем пределе. Малейшая неисправность на любом из кораблей постоянной готовности может привести к утрате боеспособности всего объединения, поскольку остальные корабли состоят в различных стадиях всевозможных ремонтов. Технических проблем, к огорчению Виталия Ивановича, хватает. Часто, к примеру, горят и текут водогрейные трубки паровых котлов, что безусловно мучает эскадру.
Плохо, когда нет резерва. А 15 вымпелов мне мало. Придётся дополнительно привлекать к учению отдельную дивизию противолодочных кораблей контр-адмирала Вадима Колмогорова. Благо, что базируется она по соседству с эскадрой, тут же в Североморске. Колмогоров держит флаг на «Удалом», стоящем у соседнего причала. Видимо, поэтому Вадим Александрович ровно через 10 минут прибыл на борт «Дрозда» и, развесив в кают-компании нужные схемы, приступил к докладу о составе и состоянии своего соединения.
В его дивизию входит бригада больших противолодочных кораблей, среди которых хорошо мне известные «Удалой» и «Вице-адмирал Кулаков». В этом году ожидается прибытие ещё одного заново построенного корабля проекта 1155 — «Маршал Василевский». А кроме того, проект 57а представляют «Бойкий», «Жгучий», «Зоркий» и «Гремящий». Командует {172} бригадой капитан 1-го ранга Николай Трошнев, серьёзный, видавший виды моряк.
Вторым соединением в дивизии является бригада сторожевых кораблей проекта 1135. Их целый десяток: «Бессменный», «Громкий», «Доблестный», «Достойный», мой недавний знакомец «Жаркий», «Задорный», «Летучий», «Резвый», «Разительный» и «Ленинградский комсомолец». Управляет всеми ими комбриг Николай Бирюков, у которого всё ещё впереди, поскольку погоны он носит всего лишь капитана 2-го ранга.
Разумеется, что и у Колмогорова не все корабли в постоянной готовности, но главное — с десяток вымпелов наскрести можно. Если же придать дивизии крейсер «Александр Невский», то она окажется вполне способной собственными силами обозначить действия авианосной ударной группы «противника» на предстоящем учении. Правда, «Удалой» и «Кулаков» придётся у Колмогорова отобрать на время, с тем чтобы включить эти новейшие корабли третьего поколения в состав оперативного соединения разнородных сил вице-адмирала Зуба. Пусть охраняют крейсер «Киров» от ударов «вражеских» подводных лодок. А тот в свою очередь прикроет их огнём зенитного ракетного комплекса «Форт» от нападения воздушного «противника». Иначе нечего будет показывать Главкому.
Контр-адмирал Колмогоров мне понравился — подтянут и строен на вид, сдержан и строг в речах, мысли излагает ясно и коротко. К тому же ни малейшего намёка на улыбку или ссылки на личный опыт. Словом, полная противоположность своему жизнерадостному «противнику» — Виталию Ивановичу Зубу. Надо присмотреться к деятельности Колмогорова. По-видимому, это перспективный, полезный для флота офицер.
Итак, с кораблями, кажется, разобрались. Однако к чему подготовлен штаб Атлантической эскадры — пока не ясно. Способен ли он в морском бою принять на себя управление не только собственными ударными группами, но и действиями приданных подводных лодок и поддерживающей морской авиации? Чёткого ответа на этот вопрос в докладе начальника штаба капитана 1-го ранга Дмитрия Воинова я так и не получил. Великолепный офицер Дмитрий Павлович — грамотный и старательный, но, к сожалению, односторонне ориентированный надводник. До общефлотского военачальника, способного обеспечить управление разнородными силами, ему ещё далеко. Впрочем, на то и учимся. А сила разума, как любит говорить Сергей Георгиевич, всегда преодолевает недостаток опыта.
Сошлись на мнении, что штаб эскадры требует усиления за счёт придания ему оперативных групп от подводной флотилии {173} и морской авиации. А мне в будущем следует добиваться введения должности заместителя командира эскадры со штатной категорией контр-адмирала, с тем чтобы назначать туда профессиональных подводников из числа командиров бригад или заместителей командиров дивизий подводных лодок. Целесообразно в ближайшее время поговорить с Главкомом на эту тему.
В заключение о состоянии боевого духа моряков мне доложил начальник политотдела Атлантической эскадры контрадмирал Николай Мудрый. Этот профессиональный политработник умел вдохновить людей на любое дело. К тому же Николай Васильевич буквально оправдывал свою фамилию и очень хорошо дополнял своего командира нужными качествами, поскольку Виталия Зуба могло иногда «занести» не в ту сторону. Однако вдвоём у них всегда всё получалось. «На эскадре зуб мудрый», — зубоскалили по этому поводу флотские остряки.
Потом я сориентировал Зуба и Колмогорова относительно замысла предстоящего учения. Отдал предварительные распоряжения. Сказал, что эскадра и дивизия будут держать экзамен передо мной, а флот перед Главкомом. Напомнил, что учение — не война, но с морем шутки плохи. Указал на то, что действовать придётся стремительно, инициативно, на повышенных скоростях, в непредсказуемых погодных условиях. Потребовал проявлять осмотрительность, не лезть на рожон и, конечно же, не подыгрывать друг другу. Предупредил, что завтра оба они получат боевые приказы, в соответствии с которыми через 24 часа обязаны будут доложить мне свои решения на бой ОС РУС флота с АУГ «противника». Затем пожал руки «врагам», сошёл с борта крейсера «Вице-адмирал Дрозд» и уехал в штаб.
Оставшиеся дни второй половины апреля пронеслись словно миг. Мы и опомниться не успели, как на очищенный от снега аэродром Североморск-1 приземлился стремительный Ту-154, из которого вывалилась орава московских проверяющих — представителей Главного штаба и Боевой подготовки ВМФ. Полторы сотни высших и старших офицеров во главе с заместителем главкома адмиралом Григорием Бондаренко — внушительная сила. Всех их прямо на аэродроме надо «разобрать» по принадлежности, а затем, используя катера, вертолёты и автомобили, развезти по соединениям и гарнизонам, где москвичам предстоит работать. Сделать это следует быстро, чтобы не околачивались без дела в штабе флота. Иначе подобная масса начальственных лиц способна парализовать работу главного органа управления.
К счастью, система развоза проверяющих на Северном флоте издавна отработана организационно и обеспечена {174} материально. Через пару часов в штабе флота осталась лишь небольшая группа московичей, и я получил возможность поделиться с адмиралом Бондаренко замыслом тактического учения, которое намеревался провести в море под своим руководством. Адмирал замысел одобрил. Потом рассмотрел план учения, представленный ему контр-адмиралом Рябовым. Сказал, что будет докладывать Главкому о должной подготовке флота к предстоящей проверке. Просил лишь не посылать в море Рябова, оставить его в распоряжении замглавкома для координации работы и подготовки разбора.
Пришлось уважить Григория Алексеевича. В ответ он поделился планом надвигающейся проверки. План рассчитан на 6 суток работы. Первые два дня — работа на кораблях и в штабах соединений для уяснения уровня боевой готовности и боевой подготовки. Третий день — подъём по боевой тревоге и перевод в боевую готовность «полная» ряда соединений. Среди них, по всей вероятности, окажутся соединения Краснознамённой флотилии подлодок, оперативной эскадры, отдельной дивизии противолодочных кораблей. Поднимут также морскую ракетоносную авиационную дивизию, дальний разведывательный и корабельный штурмовой авиационные полки. Кроме того, не исключён подъём бригады морской пехоты, берегового ракетного полка, бригады судов обеспечения и полка химзащиты. Остальные соединения и части, по словам адмирала Бондаренко, будут проверяться лишь по отдельным вопросам.
Четвёртый и пятый день — тактическое учение в море и выполнение ряда боевых упражнений с применением оружия. Последний, шестой, день — разбор проверки в Североморске, подведение итогов и отлёт в Москву. Начало работы — завтра. Главком приказал, дескать, начинать проверку без него, поскольку собирается прибыть в Североморск по своему плану, но, видимо, не позже третьего дня.
Всё так и произошло в действительности. Именно утром третьего дня на бетонке аэродрома Североморск-1, перед строем почётного караула при развёрнутом знамени и с оркестром я встречал Адмирала Флота Советского Союза Горшкова. Вместе со мной засвидетельствовал своё почтение Сергею Георгиевичу первый секретарь Мурманского обкома Владимир Николаевич Птицын. А как же иначе? Ведь Горшков — член ЦК КПСС, а Птицын — член Военного совета Северного флота.
Прямо с аэродрома поехали в штаб, где в большом конференц-зале Главком заслушал при свидетелях мой доклад о состоянии флота. Потом поднял начальника штаба Коробова, начальника тыла Петрова и члена военного совета Усенко, которые доложили по кругу своих обязанностей. На этом и {175} ограничился. Однако не в пример эпизодам моего ленинградского с ним общения на этот раз Сергей Георгиевич был строг и требователен. Поглядывая из-под очков, он сверял наши количественные оценки и качественные выводы с данными справок, подсовываемых ему вице-адмиралом Саакяном. Пространных ответов на вопросы или тем более возражений на свои замечания не допускал. Интересовался деталями действий сил на предстоящем тактическом учении. Сказал, что решение командира ОС РУС флота вице-адмирала Зуба на бой с АУГ «противника» послушает завтра уже в море, на борту крейсера «Киров». Однако все мои предложения утвердил и, по-видимому, остался доволен, поскольку завершил разговор в штабе флота уже через полтора часа.
Затем Главком уединился с Бондаренко и Саакяном в моём кабинете. А я, как дурак, остался сидеть в собственной приёмной без привычных технических средств управления. Чёрт те что! Можно, конечно, потеснить кого-либо из заместителей, однако изгонять начальника штаба или первого зама со своих рабочих мест ни в коем случае не следует. Эдак мы внесём ещё большую сумятицу в систему управления в самый ответственный момент. Придётся в случае чего довольствоваться рабочим столом в оперативном зале повседневного командного пункта.
Трогательная ситуация заставила подумать о необходимости срочного поручения Коробову и Аниканову. Нужно высвободить и оборудовать в штабе пару резервных кабинетов для приезжающего начальства. А в будущем спроектировать и соорудить «главкомовский» блок помещений со всем необходимым управленческим оборудованием. Думать и принимать решения следует заблаговременно. До того, как... Впрочем, состояние этакой неопределённости нахождения во взвешенном положении продолжалось недолго. Из дверей моего кабинета выглянул Саакян и жестом пригласил войти.
Горшков сидел в моём кресле и почему-то загадочно ухмылялся. Рядом стоял Саакян, а поодаль, возле стола для заседаний, устроился Бондаренко.
— Начнём, пожалуй? — бросил взгляд в мою сторону и прихлопнул ладонью по столу Главнокомандующий.
В тот же миг Саакян расстегнул свою знаменитую папку-портфель, извлёк оттуда пакет, вручил его мне и взглянул на часы.
Директива, заложенная в пакет в числе многих других вопросов, содержала и распоряжение «...поднять по тревоге и привести в боевую готовность „полная" с учебными целями и установленными ограничениями...». Далее следовал перечень соединений и частей, в основном совпадающий с тем, о чём меня предварительно ориентировал адмирал Бондаренко. {176}
— Задачу понял! — доложил я Главкому после того, как внимательно прочитал директиву до самого конца.
— Ну тогда действуйте! — уставился мне в грудь главкомовский указательный палец. — Когда запустите машину, возвращайтесь сюда. Проедем по городу, осмотрим причалы, побываем на новых кораблях.
Недолго думая, через боковую дверь я прошёл на командный пункт, пригласил туда начальника штаба, а ещё через минуту над Североморском и в ряде других гарнизонов флота завыли сирены боевой тревоги. Тяжёлая машина, именуемая флотом, начала раскручивать обороты в соответствии с заблаговременно продуманным и хорошо отработанным графиком.
Всю вторую половину этого суматошного дня мы провели на кораблях. Горшков осмотрел корабли «Удалой» и «Вице-адмирал Кулаков», побывал на «Современном» и «Отчаянном», беседовал с матросами, выслушал офицеров, строго указал командирам на необходимость скорейшего выявления боевых качеств новых кораблей. Потом он задумал, было, слетать в Западную Лицу, чтобы пройтись по отсекам подводного крейсера «К-525». Пришлось напомнить, что группировка подводных лодок вице-адмирала Чернова и отряд кораблей контр-адмирала Колмогорова уже начали развёртывание в исходные районы для участия в предстоящем учении.
— Ладно,— поморщился Главком, — оставим Западную Лицу до лучших времён.
Окончательно умаявшись к вечеру, Сергей Георгиевич бросил на меня вопросительный взгляд.
— На ужин мы вроде бы заработали? Где вы намерены меня разместить?
— В загородном доме на Щук-озере.
— А баня у вас там в порядке?.. Ну, тогда поехали на Щуку.
Только за прилично накрытым столом, где мы с Усенко составили компанию Главкому, он позволил себе ряд неформальных вопросов.
— Как вам живётся-то в Североморске после Ленинграда? — спрашивал он, — не тяготит Заполярье?
В ответ я рассказал о том, как встретили старые сослуживцы нового командующего. Николай Витальевич поддерживал разговор репликами о том, сколь благоприятна атмосфера полного взаимопонимания среди членов военного совета. Горшков слушал, кивал головой. Потом вдруг спросил, как мы посмотрим на его намерение забрать к себе в главкомат генерала Аниканова или, например, посадить начальником Петродворцового института контр-адмирала Искандерова.
— Правильно, — улыбнулся Сергей Георгиевич, услышав что мы почтём за честь любой кадровый манёвр, в результате {177} которого североморцы пополнят ряды Центра, поскольку это всегда на пользу флота.
— Не всегда! — погасил улыбку Главком. — Бывает, к сожалению, и наоборот. Мне о том адмирал Чернавин рассказывал.
Однако развивать эту тему Горшков не стал. Он принялся говорить, что ожидает решения министра о формировании на океанских флотах новых оперативных объединений — Кольской флотилии разнородных сил на Севере, Приморской и Сахалинской на Дальнем Востоке.
Рассказывая о замысле создания и оперативном предназначении этих флотилий, Главком подчёркивал их роль и место в системе обороны прилегающих к нашему побережью морей. На страже Заполярья, дескать, вполне может стоять Кольская флотилия, а вовсе не Северный флот, как полагают некоторые. Место флота в Атлантике, за Азороми, возле Ньюфаундленда и Бермудских островов — в крайнем случае на просторах Норвежского и Гренландского морей. А флотилия, находясь за спиной флота, обязана господствовать в Баренцевом море.
Слушая Горшкова, я находил в его мыслях отголоски и даже некое развитие моей недавней «бредовой идеи», доложенной ему письменно в Ленинграде. Тогда я выдвигал замысел переформирования Ленинградской и Беломорской ВМБ (с прилегающими озёрными районами) в Северо-Западный военно-морской округ, функционирующий за спиной устремлённых в океан Северного и Балтийского флотов. Решился напомнить об этом Главкому.
— Ограничимся пока флотилиями разнородных сил, — ответствовал Сергей Георгиевич, — поскольку они реальны. Но имейте в виду, что создание крупных территориальных военно-морских группировок сил и войск, подпирающих флоты на важнейших стратегических направлениях, — не фантазия. Однако время для них, по-видимому, ещё не наступило.
Ужин закончился. Довольный разговором Главком отправился в разогретую до 90° сауну. Любит он это дело. А кто ж не любит? Хорошую баньку североморцы уважают. Тем не менее мы с Усенко отправились в Североморск, но отнюдь не в баню и даже не домой, а в штаб. Завтра в море! Надо ещё раз всё проверить, снять сомнения.
Множество раз приходилось мне встречаться с адмиралом Горшковым в минувшей четверти века. Было это на учебном паруснике, в отсеках атомоходов, в служебных кабинетах Главного штаба и Главного адмиралтейства, на судостроительных заводах и в конструкторских бюро, институтах и училищах, на Центральном командном пункте и в Военно-морской {178} академии. Вместе летали в самолётах и на вертолётах. Не единожды разъезжали в одном автомобиле. Даже в театральной ложе я сиживал с Главкомом. Однако выходить с ним в море, на борту сильнейшего корабля, не имеющего мировых аналогов, да ещё в качестве руководителя предстоящего тактического учения — придётся впервые. Вспотеешь тут безо всякой бани!
Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров» под флагом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом СССР медленно развернулся на Североморском рейде и, набирая скорость, двинулся к выходу из Кольского залива. На правом крыле ходового мостика этого корабля стоял Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Его драповая шинель наглухо застёгнута, каракулевая шапка надвинута на лоб. Адмиральскую грудь украшает огромный морской бинокль, подвешенный на тонком ремешке. Руки в кожаных перчатках плотно охватывают поручень. Взгляд устремлён в сторону Североморска, причалы которого непривычно пусты. Почти все крупные корабли уже в море.
Возле Горшкова неотступно маячит фигура командира эскадры вице-адмирала Зуба. Он, старший на Североморском рейде, отвечает за режим плавания на нём любых кораблей и поэтому считает своим долгом отзываться на любые, самые разнообразные главкомовские вопросы. Ну и правильно делает! Лишь бы не начал при этом улыбаться по любому поводу.
Зато командир корабля, мой давний и добрый знакомый Александр Ковальчук (или «Папа Карло», как любовно, но втихаря именуют его офицеры экипажа) на высокое начальство внимания практически не обращает. Он предельно внимательно следит за внешней обстановкой и обстоятельствами плавания, спокоен, организован, по мостику не бегает, лишь расхаживает не спеша в просторной ходовой рубке да обменивается изредка короткими репликами с рулевым, вахтенным офицером и штурманом.
Надёжный командир — Александр Сергеевич — ответственный, предусмотрительный, неторопливый. На рожон не полезет, в опасное положение корабль не поставит. Он и экипаж свой воспитывает в том же духе. Плавать у него на борту — одно удовольствие. Поэтому я, избрав удобную позицию возле приоткрытой правой двери ходовой рубки, имею возможность видеть работу командира, оценивать внешнюю обстановку и в то же время наблюдать реакцию Главкома на её изменения.
Больше всего меня беспокоит, как бы не вывалился из малоприметной бухточки прямо под форштевень крейсера какой-нибудь ржавый сейнер с полупьяным капитаном или даже без оного. Такое, к сожалению, случалось неоднократно. {179} Разумеется, в период развёртывания сил флота Кольский залив закрыт для плавания всех гражданских судов любых ведомств. Оповещение о том дано заблаговременно. Соответствующие сигналы подняты на рейдовых постах. Однако в теории всегда всё гладко. А на практике?.. Впрочем, на то и существуют корабли охраны водного района Кольского залива. Вон там, у левого берега, на полосе встречного движения сверкнул белый бурун за кормой катера, несущегося под флагом командира Полярнинской дивизии ОВРа. Контр-адмирал Борис Сычёв дело своё знает и спуску никому не даст.
Меж тем крейсер вышел за остров Сальный, где его ожидали две корабельные тральные группы, идущие строем уступа с поставленными тралами. Ковальчук сманеврировал, занял своё место в полосе траления, уравнял скорость и пошёл за тралами. В тот же момент справа и слева, но на почтительном расстоянии, заняли позиции флангового охранения четыре малых противолодочных корабля, а над крейсером прострекотали винтами две пары базовых противолодочных вертолётов Ми-14пл. Затем они приступили к обследованию водной среды впереди по курсу всей кавалькады, зависая над поверхностью залива и опуская в воду антенны своих гидроакустических станций.
Вскоре над крейсером одна за другой со свистом и рёвом промчались три пары истребителей генерала Морина. Скрывшись за облаками, самолёты ушли в барраж над просторами Баренцева моря. События достигли апогея, когда из-за кормовых надстроек крейсера вывалились ещё четыре вертолёта, на этот раз Ми-14бт. Они зависли над тральщиками, опустили зацепы своих буксирных устройств, перехватили тралы и повели их за собой вперёд. Кораблики отвалили в стороны, а крейсер прибавил ходу и продолжал движение в протраленной полосе, но уже за вертолётной тральной группой.
Хорошо получился этот манёвр, да ещё на глазах у Главкома. Я наблюдал, как он жестикулирует, показывая что-то на пальцах вице-адмиралу Зубу, а тот широко улыбается, хотя ко всему происходящему отношения не имеет. Пока крейсер в Кольском заливе — работает дивизия контр-адмирала Сычёва во взаимодействии с вертолётами полковника Мандрыка. Разумеется, что все предпринятые действия, да ещё и на сокращённых дистанциях, носят, мягко говоря, демонстрационный характер. Однако иначе ничего не увидишь и не покажешь. Думаю, не осудит меня Сергей Георгиевич за подобного рода условности, которые и впредь применять намерен, поскольку не я их выдумал. Перенимаю опыт предшественников, в том числе и самого Горшкова.
Тем временем «Киров», оставив пределы Кольского залива, устремился на Кильдинский плёс, где его ожидали крупные {180} корабли эскадры. Вертолёты-буксировщики занялись обратной передачей тралов на их носители. Малые противолодочные корабли двинулись восвояси. Контр-адмирал Сычёв промчался на своём катере вдоль борта крейсера, отдал честь и, получив «отмашку», ушёл обратно в залив.
Вот тут-то пришла пора вступать в дело вице-адмиралу Зубу. Завладев радиотелефоном, он заговорил неподражаемым языком флажно-буквенного свода сигналов, понятным только морякам. Виталий Иванович быстро овладел ситуацией, организовал походный порядок, выслал на заданные позиции назначенные корабельные группы, построил ордер непосредственного охранения, назначил генеральный курс, эскадренную скорость и двинулся наперехват «противника». Поход начался.
Умеренное волнение, силою до трёх баллов, каких-либо трудностей не создавало. «Киров» режет такую волнишку, словно масло. Тем не менее хмурое небо, низкая облачность и размытый дымкою горизонт могут существенно затруднить ведение воздушной разведки. О том я и думал, когда из облаков вывалилась и прошла над кораблями на малой высоте пара тяжёлых самолётов-разведчиков Ту-95рц. Реальной надобности в таком манёвре, разумеется, не было, но демонстративный принцип, заложенный в основу плана учения, действовал.
Полюбовавшись мощью огромных четырёхмоторных машин, Главком перешёл в ходовую рубку, позволил себе снять с шеи бинокль и расстегнуть шинель. Затем пару часов он непрерывно учил Зуба искусству управления кораблями ордера. Заставлял менять позиции, держать равнение, совершать различные манёвры. Всё это напоминало занятия строевой подготовкой и никак не вязалось ни с планом учения, ни с тактикой разнородных сил. Тем не менее Адмирал Флота Советского Союза нещадно шпынял вице-адмирала Зуба, но в то же время ни разу не сделал замечания мне, даже не обратился с каким-либо вопросом. Удивительно, но факт. Лишь потом я понял, что Сергей Георгиевич не столько учил командира эскадры, сколько показывал, как, на его взгляд, должен вести себя командующий флотом на выходе в море. Однако сказать об этом напрямую почему-то не счёл нужным.
Насытившись произвольными эволюциями, Главком занялся реальной тактикой. Он заслушал решение вице-адмирала Зуба на бой с авианосной ударной группой «противника». Одобрил боевой порядок оперативного соединения. Элементами боевого порядка являлись заблаговременно развёрнутые в море разведывательно-ударная завеса многоцелевых подлодок, три тактические группы подводных атомоходов с крылатыми ракетами «Малахит» ближнего действия, группа подлодок с крылатыми ракетами «Базальт» увеличенной дальности {181} и, наконец, «гроза авианосцев» — подводный крейсер «К-525» с дальнобойными ракетами «Гранит».
Надводные корабли в боевом порядке оперативного соединения представлены двумя ударными группами. Одна из них должна достать противника ракетами «Гранит» с крейсера «Киров» и добить ракетами «П-35» с крейсеров «Адмирал Зозуля» и «Вице-адмирал Дрозд». При этом в резерве останутся великолепные «Москиты» эсминцев «Современный» и «Отчаянный». Другая группа, во главе с авианесущим крейсером «Киев», может при необходимости помочь первой применением своих «Базальтов» и ударами палубных штурмовиков Як-38.
Авиационная составляющая боевого порядка оперативного соединения разнородных сил — морская ракетоносная дивизия трехполкового состава, способная самолётами Ту-16 нанести по авианосной группе противника массированный ракетный удар с одного или нескольких направлений.
Главную цель — разгром авианосной ударной группы с уничтожением авианосца и не менее половины кораблей охранения во встречном бою — вице-адмирал Зуб предполагает достигнуть путём нанесения ряда одновременных и последовательных ударов. Предварительные торпедные атаки с последующей выдачей целеуказаний для остальных сил обеспечат многоцелевые подлодки. Главный удар нанесёт морская ракетоносная авиация совместно с подводным крейсером «К-525». Последующие удары крылатыми ракетами осуществят тактические группы подводных лодок. Развивают успех надводные корабли. График ударов привязан к единому времени «Ч» — моменту подхода к цели ракет «Гранит», запущенных с подводного крейсера «К-525». Основным условием для достижения успеха в бою является упреждение противника в действиях.
— Ну вот, теперь показывайте нам своё искусство на практике, — медленно произнёс Главком, обращаясь к Зубу и отодвигая карту с решением на бой.
— Есть показать искусство! — расплылся в улыбке Виталий Иванович.
— Тогда почему у Вас эскадренная скорость всего 18 узлов? — оттопырил губу Горшков и бросил косой взгляд в мою сторону, — где же ваша стремительность?
Через минут пять эскадра уже рвалась в бой из последних сил. Показания лагов приближались к отметке 30 узлов. Я не возражал и не вмешивался, поскольку хорошо понимал известные высказывания адмирала С. О. Макарова о том, что если уж техника не совсем надёжна и ей суждено поломаться, то лучше, если это случится в мирное время, на учениях, нежели произойдёт в бою. В то же время я хорошо понимал — сколько {182} ни пыхти, но ход кораблей всё равно несоизмерим со скоростью самолётов или крылатых ракет. Лишними узлами авианосного противника не упредишь.
Ну да Бог с ним. Много было и других главкомовских загадок в этом походе. Он, к примеру, наотрез отказался покидать ходовую рубку и мостик крейсера для того, чтобы спуститься на главный командный пункт (ГКП), расположенный внутри корпуса, под многослойной конструктивной защитой бортов и палуб. С мостика не только управлять боем, но и «увидеть» что-либо вряд ли возможно. Разве что тешит взор пенистое море да облачное небо над головой и силуэтики кораблей охранения на горизонте.
А на ГКП великолепный электронный боевой информационный пост и другие экраны, отражающие воздушную, надводную и подводную обстановку в реальном времени и относительном движении. Там сосредоточены оконечные устройства средств связи, а также боевая информационно-управляющая система, позволяющая руководить соединением в бою.
— Вы что думаете, я не понимаю значения ГКП на таком флагманском корабле, как «Киров»? — обмолвился как-то Главком после моего неоднократного приглашения спуститься на быстроходном лифте в недра крейсера.
— Ошибаетесь! Это ведь я в своё время заставил Купенского убрать систему управления под надёжную защиту, поскольку такая консервная банка, — стукнул пальцем Сергей Георгиевич по подволоку ходовой рубки, — может спасти разве что от ветра и дождя.
— Привычка — вторая натура, — добавил Горшков, поморщившись, — Ну, не могу я, будучи в море, уйти с мостика на ходу корабля! Не в моих это правилах, знаете ли.
Пришлось организовать нанесение обстановки на обычные бумажные карты и периодически таскать их из ГКП на мостик для доклада Главнокомандующему. Однако это полбеды. Беда заключалась в том, что вице-адмирал Зуб торчал на мостике рядом с начальством. Именно в этом он видел свой долг и поэтому больше отвечал на вопросы или давал пояснения, чем принимал решения и действовал.
Возможно поэтому малейшие осложнения обстановки приводили к замешательству, несвоевременному реагированию. Это было особо опасным, поскольку контр-адмирал Колмогоров, обозначавший противника, оказался не лыком шит. Вскоре после обнаружения его отряда нашей воздушной разведкой он применил старый как мир тактический приём «раздвоения». Разделив свой отряд на две группы, Колмогоров отправил первую (во главе с большим морским танкером «Генрих Гасанов») навстречу рвущейся в бой эскадре. А вторая {183} группа, где находился крейсер «Александр Невский», обозначающий авианосец, полным ходом устремилась в отрыв с целью не допустить сближения с эскадрой на дальность возможных залпов крылатых ракет.
«Раздвоение» противника вызвало замешательство в оценке целеуказаний и дальнейших действиях нашил сил. Лодка, пререхватившая «Гасанов», погналась за ним, как за авианосцем, дезориентируя воздушную разведку и сбивая с толку другие силы. Складывалась неопределённость, столь часто присущая боевым действиям на море. Вице-адмирал Зуб нервничал, а Главком с интересом поглядывал то на него, то на меня. Правда, в конце концов лётчики-разведчики полковника Рубана помогли разобраться в обстановке, но часть сил оперативной эскадры всё же «разрядилась» по демонстративной группе, хитроумно подсунутой контр-адмиралом Колмогоровым.
В целом бой всё же получился в соответствии с замыслом вице-адмирала Зуба. Впрочем, неожиданностью не только для него, но и для Главкома, оказался заготовленный мною «контрудар», когда авиационная дивизия генерал-майора Дейнеки после удара по «авианосцу» на возвращении «перекрасилась» в воздухе в цвет «супостата» и нанесла удар по «Кирову», обозначив подход своих крылатых ракет «бреющим» пролётом ракетоносцев над мачтами кораблей. Горшков даже выскочил на крыло мостика и под рёв авиационных двигателей выразительным жестом тыкал указательными пальцами то в небо, то в грудь улыбающемуся Зубу.
Вскоре подошла абсолютно белая апрельская полночь, и Сергей Георгиевич позволил себе сойти в каюту, чтобы успеть хоть немного отдохнуть до начала спланированных боевых упражнений. Виталий Зуб плюхнулся в левое командирское кресло и мгновенно погрузился в блаженное полузабытье. Он улыбался даже во сне. Ну а мне составил компанию Николай Усенко. Поднявшись в ходовую рубку, он долго и с увлечением рассказывал о том, как облазил корабль, побывал на разных командных пунктах и боевых постах, посмотрел, как работают моряки, поговорил со многими из них. Наши оценки качества подготовки экипажа крейсера «Киров» сошлись. Потом я поделился личными впечатлениями о перипетиях «боя с авианосцем». И тут оценки, пожалуй, совпали.
Командир крейсера Ковальчук предложил нам по стакану крепчайшего чая. Разговоры и этот тонизирующий напиток помогли не клевать носом, несмотря на позднее время. Однако умиротворённое настроение как ветром сдуло, когда около четырёх часов утра в ходовой рубке снова появился Главком.
— Спать в море кощунство, — сказал он, — надо слетать на «Киев». Приготовьте вертолёт. {184}
Через полчаса мы уже провожали Адмирала Флота Советского Союза на юте крейсера. Кряхтя и подбирая полы шинели, он с трудом втискивался на правое сиденье корабельного вертолёта Ка-27. Я попросил разрешения вылететь вслед за ним на втором вертолёте, который уже выкатили из ангара.
— Оставайтесь здесь и руководите учением, — ответил Сергей Георгиевич. — Я вернусь часа через полтора.
Помахав нам рукой, он задвинул дверцу кабины, и через пару минут винтокрылая машина взмыла в воздух и ушла в том направлении, где на горизонте едва просматривались контуры авианесущего крейсера «Киев». А ещё через полчаса над мачтами «Кирова» одна за другой с душераздирающим рёвом промчались, обозначая штурмовку, три пары палубных штурмовиков Як-38, поднятых с «Киева».
Вернулся Главком как и обещал. Прилетел, видимо, довольный предпринятым экспромтом. Впоследствии мы с Усенко не раз обсуждали главкомовское «коварство» и поминали добрым словом командира «Киева» Геннадия Ясницкого и командира корабельного штурмового авиаполка Николая Едуша. Не подвели ребята!
Вскоре начались торпедные атаки подводных лодок. Четыре атомные субмарины атаковали «Киров», идущий незакономерным зигзагом на скорости не менее 24 узлов. Для наглядности и упрощения анализа стрельбы каждая подлодка в точке залпа выпускала на поверхность сигнальный патрон, образующий после всплытия шапку ярко окрашенного и прекрасно видимого дыма. Все атаки были выполнены с прорывом кольца корабельного охранения, что безусловно увеличивало успешность торпедной стрельбы. Однако при таком способе атаки растёт и вероятность поражения стреляющей лодки противолодочными кораблями. Пора бы уже нашим подводникам научиться стрелять из-за охранения, с предельных дистанций «толстыми» торпедами.
А на этот раз применялись обычные бесследные маневрирующие торпеды, о траектории которых возможно судить по серии цветовых сигнальных ракеток, периодически выстреливающихся с торпеды по мере её движения к объекту атаки.
— Э-э, промазал! — безнадёжно махал рукой Главком в сторону трёх-четырёх ракеток, проходящих далеко за кормой крейсера.
Но умница-торпеда, повинуясь логике заложенного в неё программного разума, устремлялась в спутный след корабля, догоняла его и обозначала своё место, выстреливая ракетку прямо из-под винтов или лучше того — из-под киля в районе мостика, на котором стоял взыскательный наблюдатель.
— А ведь попал-таки! — удовлетворённо потирая руки, реагировал Сергей Георгиевич. {185}
— Сработала или нет аппаратура неконтактного взрывателя этой торпеды, возможно будет проверить только после её подъёма, — отвечал я, — базовый анализ покажет.
— Эх вы, подводники! — не унимался Главком, — атомные лодки освоили, а такую ерунду придумать не смогли. Скажите своему Емелину, пусть изобретёт что-нибудь этакое, чтобы сразу виден был результат. К примеру, сработал взрыватель — красная ракетка. Не сработал — чёрный дым. Понятно?.. Ну то-то.
Кивнув стоящему поодаль порученцу, чтобы записал мысль, я тем не менее думал о том, что из восьми выпущенных торпед по крайней мере пять прошли под крейсером. Это вполне прилично. Не оплошали мои друзья-подводники.
А потом состоялись стрельбы крылатыми ракетами по мишенным позициям. На наших глазах пустил из-под воды свой «Гранит» ракетный крейсер Анатолия Ильюшкина. Ударила залпом «Малахитов» тактическая группа Егора Томко. Полным ходом вылетел на огневую позицию эсминец «Отчаянный» и саданул «Москитами», мгновенно скрывшимися за горизонтом. В заключение обозначил ракетный удар пуском одного «Гранита» и сам крейсер «Киров». Наблюдать запуск этой семитонной машины из наклонной шахты, упрятанной под палубой корабля, лично мне (да и Главкому!) пришлось впервые. Жаль только, что результатов стрельбы своими глазами увидеть невозможно, поскольку ближайшая мишенная позиция от нас в ста километрах, а до дальней — целых три сотни.
Самым зрелищным оказался приготовленный «на десерт» противовоздушный бой. Контр-адмирал Рябов, сидя на берегу, расстарался на славу, организовав «звёздный налёт» из 10 крылатых ракет-мишеней на отряд кораблей вице-адмирала Зуба. К сожалению, крейсеру «Киров» для отражения налёта был выделен ресурс всего из четырёх зенитных ракет С-300ф комплекса «Форт».
Пришлось Виталию Ивановичу отбиваться коллективно, используя комплексы «Ураган», «Волна» и даже артиллерию всех своих кораблей.
В этом бою я впервые увидел, сколь возбуждённым может быть адмирал Горшков. Он явно волновался, поспешал с одного крыла мостика на другой, задрав голову, показывал руками на летящие ракеты и стреляющие корабли, даже озвучивал некие междометия, хотя от него лично результат боя никак не зависел. Азартный мужик наш Главком, несмотря на свои 72 года. Стоя на открытом мостике, он наблюдал, как сыплются в воду горящие обломки совсем неподалёку от крейсера, радовался каждой сбитой мишени, и никакие уговоры не могли заставить его укрыться хотя бы под крышей ходовой рубки. {186}
Противовоздушный бой скоротечен. Он измеряется минутами, а то и секундами. Успех или неудача здесь проявляются мгновенно. Вот и на этот раз зенитные ракеты С-300ф, запущенные с крейсера «Киров», сработали великолепно, поразив назначенные мишени с первого залпа. Далеко не так получилось у кораблей, стреляющих «Волной». И всё же восемь из десяти ракет-мишеней были завалены. Однако две — прорвались. Одна из них, горящая, плюхнулась в воду, пролетев над крейсером, а другая, целёхонькая, прошла сквозь огонь и самоликвидировалась лишь на пределе полётной дальности.
— Считайте эти ракеты в бортах своих кораблей! — угрюмо изрёк Адмирал Флота Советского Союза, уставив в грудь вице-адмирала Зуба указательный палец затянутой в чёрную перчатку правой руки. На сей раз Виталий Иванович не улыбался.
Разбор итоговой проверки Северного флота за зимний период обучения в 1982 году состоялся в Североморске на следующее утро после возвращения с моря крейсера «Киров», хотя далеко не все корабли, особенно подводные лодки, успели прийти в свои базы. Главком торопился. Доклад, подготовленный адмиралом Бондаренко, он прочёл на одном дыхании, как будто сам его только что написал. Слушать подробный главкомовский анализ эпизодов подъёма по боевой тревоге, хода тактического учения в море и результатов боевых упражнений было не только интересно, но и весьма поучительно. Однако я настолько устал за все эти предшествующие недели, что в голове отложились лишь главные, причём положительные выводы, тешившие душу.
Так, в докладе констатировалось, что Северный флот по основным показателям успешно решает поставленные задачи. План боевой и оперативной подготовки выполнен полностью. В повышении боевой готовности достигнуты конкретные результаты. Осваиваются новые районы боевой службы. Несколько повысилась боевая устойчивость и скрытность действий патрулирующих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Начата работа по изысканию новых способов боевого применения главного оружия этих ракетоносцев. Поднятые по тревоге силы постоянной готовности в установленные сроки уложились. Штаб и органы управления флота со своими задачами справились.
Заслугой флота, отмечалось далее, является активное освоение новых кораблей 3-го поколения, изучение их боевых свойств. Эти корабли, по мнению Главкома, действовали в море уверенно. Особенно порадовало то обстоятельство, что на 14 атомных подводных лодках, 27 надводных кораблях и 139 самолётах и вертолётах, участвовавших в учении, не отмечено происшествий, поломок материальной части и даже {187} предпосылок к ним. Тем не менее подчёркивалось, что тактикой разнородного боя на флоте следует заниматься более целеустремлённо.
В ходе последующих учений, полагал Главком, нужно создавать более сложную исходную обстановку, отрабатывая поведение «противника», близкое к реальным действиям корабельных соединений НАТО. Не следует допускать шаблона в решениях на бой. Целесообразно менять варианты боевого порядка противоавианосного соединения, обеспечивать взаимное целеуказание и совместные удары. Необходимо разнообразить последовательность, предназначение и состав оружия в этих ударах. Следует шире практиковать действия сил флота в различных тактических группах.
В заключение Главком пообещал в июле снова прибыть на флот, чтобы повторить «бой с авианосцем», но уже в Норвежском море и в более сложных условиях. После этих слов я увидел, как сидящий в первом ряду в конференц-зале вице-адмирал Зуб вздрогнул, проснулся и расплылся в улыбке. А Горшков поблагодарил североморцев за службу и пожелал им успехов в наиболее напряжённом и самом ответственном летнем периоде учебного года, в конце которого всё прогрессивное человечество будет отмечать 60-летие со дня образования Советского Союза.
После разбора Сергей Георгиевич с видимым удовольствием принял моё предложение отобедать с членами военного совета в нашей штабной кают-компании. Там я попытался было усадить его в своё кресло во главе стола.
— Э-э нет! — улыбнулся Горшков, — кто в этом кресле сидит, тот за всё и платит, — и уселся рядом, на то место, где обычно сидел Усенко.
После обеда, уже наедине, у меня в кабинете Главком неожиданно и задумчиво произнёс:
— Пожалуй, я заберу у вас Зуба к себе в Москву? Хватит ему с эскадрой возиться. Пусть послужит у Бондаренко. Согласны?.. Тогда кого вы можете предложить взамен?
Не колеблясь, я назвал контр-адмирала Колмогорова.
— Ну что ж. Пусть так и будет. А вот командующего Кольской флотилией я вам сам подберу.
Через час только снежная пыль от взлетающих один за другим московских самолётов напоминала о том серьёзном экзамене, который выдержал флот.
| {188} |
Что ни говори, но Первомай даже в Заполярье — уже весна, когда окрестные сопки ещё белы от снега, однако улицы и причалы Североморска уже распрощались со своим зимним покровом. Правда, коварная погода способна ещё выкинуть фортель и побаловаться, к примеру, хлёстким снежным зарядом. Тем не менее через пару часов с крыш снова течёт, а над подсыхающим асфальтом вьётся пар. На плечах военных моряков всё ещё тяжёлые чёрные шинели, зато головы их уже венчают лёгкие белые фуражки.
Под стать шинелям чернеют низкорослые деревья городского парка, тогда как в тепле многих квартир уже зеленеют охапки берёзовых веточек с побегами распускающейся листвы. Многие тысячи таких изумрудных даров природы рядом с разноцветными шарами, флагами и транспарантами в руках горожан преобразят улицу Сафонова на первомайской демонстрации, сделают её по-настоящему весенней. Оттого и настроение великолепное. Тем более что треволнения апрельских «боёв», увенчанных явной «победой», остались за кормой.
А впереди несколько дней такого желанного, но, к сожалению, весьма относительного отдыха. По данному поводу принял простейшее решение: в период праздничной декады, от Первомая до дня Победы, корабли в море не выпускать и полётов не производить. За исключением боевой службы, разумеется. Всем нам необходимо осмотреться, успокоиться, сосредоточиться. В соединениях, частях и на кораблях следует организовать частные разборы, подвести итоги, оценить работу любого североморца — от матроса до адмирала, — сказать каждому доброе слово. Особо отличившихся представить к поощрению приказом командующего флотом, остальных — властью прямых начальников. Однако главное в том, чтобы вне зависимости от личных служебных успехов или неудач обеспечить всем посменный трёхдневный полноценный отдых.
Подобные указания я отдал по флоту ещё накануне, в письменном виде. Потом поручил начальнику штаба организовать {189} строгий контроль их исполнения, а начальника политического управления просил всячески поддержать тот хороший подъём духа личного состава, что вызван положительными итогами боевой учёбы и предстоящими майскими праздниками. Впрочем, Коробов с Усенко и без того сияли от удовольствия, выражая мне полную поддержку в предпраздничных начинаниях.
Наверное поэтому все мы в подобающем настроении утром 1 Мая поднимались на трибуну, установленную на площади, носящей имя прославленного североморца, морского лётчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, сумевшего за первый год Великой Отечественной войны лично сбить 30 самолётов противника и отдавшего свою жизнь Родине и Флоту в воздушном бою над Баренцевым морем в майский день 1942 года.
Вместе с нами первый секретарь Североморского горкома партии Игорь Сампир и председатель горисполкома Николай Черников, адмиралы и генералы, командиры воинских частей и руководители рабочих коллективов, ветераны войны и труда. Справа и слева от трибуны собрались многочисленные гости — представители общественности, изъявившие желание приветствовать демонстрантов. Где-то там, среди них, в группе женщин стоит и моя Нина. Как же иначе. Это ведь для меня — работа. А для неё Первомай — настоящий праздник.
Ровно в 11.00, по взмаху руки начальника гарнизона Североморска контр-адмирала Альберта Акатова, звуки фанфар возвестили о начале праздничного шествия. На площадь вливается людской поток. Впереди колонна знаменосцев, несущих Флаг СССР, стяги союзных республик, знамёна трудовых коллективов, боевые реликвии времён войны. Красотища неописуемая! Естественно, что в знамённой палитре преобладает красный цвет — символ свободного труда, великой борьбы и славной победы. Мощные динамики разносят над площадью призывы к братской дружбе, нерушимому единству советских народов. Именно в нём истоки непобедимости, силы и могущества нашей великой Родины. В ответ мощное «Ура-а-а!» глушит звуки сводного оркестра, сверкающего трубами на противоположной стороне площади.
Шествие продолжают школьники города. Сначала самые маленькие — первоклашки. Они вместе со своими учительницами размахивают крохотными флажками и подёргивают ниточки разноцветных воздушных шаров, парящих над детскими головами. Но когда колонна малышей поравнялась с трибуной, одна из воспитательниц взмахнула флажком. Ребятишки разжали ладони и шарики взмыли к небу. Задрав головы, юные демонстранты (кто с восторгом, а кто и с грустью) наблюдали, как улетает разноцветная радость. {190}
Впрочем, огорчение было мгновенно купировано, поскольку из-за трибуны появилась группа матросов, с тем чтобы вручить каждому малышу по коробке конфет.
Малышей сменили ребята постарше. Их значительно больше. Они — будущее нашей страны. Пройдёт совсем мало лет, и многие из них встанут за рабочий станок или кульман конструктора. А лучшие мальчишки займут свои места в отсеках атомных ракетоносцев или в кабинах палубных штурмовиков. Ну а пока мы в строю, их главная задача — учиться.
За школьниками колонны взрослых — рабочие и служащие городского узла связи, организаций образования и культуры, советских учреждений, флотские строители. Их очень много, а убранство колонн великолепно. Ещё бы! Строители — самые богатые люди в городе. Это они возводят новые жилые кварталы, дают им свет и тепло, обустраивают флот, преображают суровый заполярный край.
Уже вся улица Сафонова — от Дома офицеров до памятника Матросу на Приморской площади — заполнена людьми. Поток этот нескончаем. Стоять на ветру не так-то просто, поскольку белая фуражка ещё не к сезону. К тому же трибуна на площади Сафонова продувается насквозь. Она мало напоминает то великолепное сооружение возле Эрмитажа на Дворцовой площади, где незабываемый Лев Зайков совсем ещё недавно угощал нас, собравшихся в «недрах», горячим кофе с коньяком.
Но вот площадь уже заполнили военные моряки. Это курсанты учебных отрядов и школ, а также свободные от вахты экипажи кораблей. Шагают хоть и в строю, но вольно, свободно, с удовольствием. Многие офицеры и мичманы идут вместе с нарядными жёнами и весёлыми детишками. Матросы несут флаги, плакаты, портреты руководителей партии и государства, а также нескончаемые зеленеющие веточки деревьев и кустов. Красивые, жизнерадостные люди, гордящиеся своей страной и флотом. Очень приятно, что не надо, как на параде, стоять перед ними с приткнутой к козырьку фуражки ладонью. Можно просто помахать рукой и получить улыбку в ответ.
Шествие праздничных колонн замыкает сводный духовой оркестр. Развернувшись во всю ширину улицы Сафонова, музыканты в белых перчатках, фуражках и ремнях, во главе с капельмейстером и двумя тамбур-мажорами, сверкая надраенными инструментами, под звуки бравурной музыки устремились торжественным маршем к Приморской площади. Вслед за оркестром, покинув трибуну и смешавшись с толпой, отправились к Матросу и все члены военного совета. При этом, разыскав в толпе жену, я взял её под руку и больше не отпускал до самого вечера. {191}
Последующие праздничные дни выдались погожими и приветливыми. Появляться в штабе без особой надобности не хотелось, поскольку вслед за мной туда непременно прибудет Коробов, прихватив с собой Лебедько, возникнет адъютант с порученцем, притащит кипу бумаг начальник канцелярии. Документов, не читанных в связи с приездом Главкома, окажется больше чем нужно. В них наверняка уйма ценных указаний, что в свою очередь может повлечь внеплановое выдёргивание на службу различных должностных лиц. Не гоже так поступать. Пусть в праздничные дни с делами флота справляется дежурная смена командного пункта. Это справедливо, тем более что действует моё требование — предоставить каждому североморцу полноценный трёхдневный отдых. Никто ведь меня за язык не тянул — сам придумал. Изволь теперь показывать пример.
Наверно поэтому, пользуясь хорошей погодой и накинув штатское пальто, прихваченное Ниной из Ленинграда, я отправился вместе с женой изучать город. Обошли пешком основные улицы. Побывали в аллеях городского парка. Прошлись по нагорной части возле Матросского клуба. Посмотрели на старые финские домики, составлявшие некогда основу посёлка Ваенга. Деревню эту из ветхих, давно списанных строений местные жители прозвали Нахаловкой, поскольку тут продолжают существовать незаконные «домовладельцы», несмотря на растущие рядом огромные корпуса жилых кварталов великолепного города. Пора сносить эту память о недалёком прошлом, тем более что расположена Нахаловка на самом въезде в Североморск.
Ходить пешком оказалось куда полезнее, чем ездить в автомобиле. Воочию убедился, что всяких «подснежников», оставшихся с зимы, на городских дворах предостаточно. Придётся пошевелить и начальника гарнизона, и городскую администрацию. Увидел, что настоящим бедствием для окрестностей Североморска являются тысячи личных гаражей, сооружённых из подсобных материалов, без плана и системы, в самых неподходящих местах. Смотреть противно!
Конечно, скопление подобных шедевров самостроя свидетельствует о возрастающем благосостоянии офицеров флота, поскольку в каждом таком, с позволения сказать, «гараже» стоит вполне приличный «Жигуль», а то и «Волга». Это приятно. Многие не только в Мурманск ездят регулярно, но и в отпуск норовят укатить на собственных колёсах. В Ленинград, например, или даже на южный берег Крыма. Однако внешний вид у гаражных городков — отвратительный. Надо поручить генералу Аниканову (совместно с морской инженерной службой) рассмотреть проблему, принять меры, наметить перспективу, помочь североморцам. {192}
Подобных проблем в городе больше, чем нужно. Дома стоят облезлые, невесть когда крашенные. Многие воинские части, размещённые на окраинах, ограждены нелепыми, деревянными, покосившимися, чёрными от сырости, полусгнившими заборами. Даже на торжественной Приморской площади старый деревянный причал Морвокзала того и гляди развалится. Как же так? Разве может такое убогое бревенчатое сооружение служить морскими воротами современного города? Тем более что рядом простирается великолепие огромного, хорошо обустроенного, залитого асфальтом причального фронта Атлантической эскадры. Такие вот городские контрасты.
Чтобы сгладить досадные впечатления, я пригласил Нину пройтись по причальному фронту, вдоль ошвартованных там красавцев-кораблей. К праздникам многие из них закончили покраску. Стоят, как с иголочки. На причалах — чистота идеальная. Надо отдать должное вице-адмиралу Зубу. Поддерживать порядок он умеет. Его корабли по весне приводят себя в должный вид быстрее, чем многие городские объекты. Однако особой радости от этого я не испытываю. Сосредоточивать усилия следует там, где труднее. А отвечать надо за всё.
Вышли мы из зоны базирования Атлантической эскадры через западную проходную и очутились на огромном болоте, пересекаемом дорогами, ведущими к штабу флота и к месту стоянки десантных кораблей. Неподалёку от проходной, у самого уреза воды, на чёрных валунах прибрежной черты высится огромный, покрытый суриком, корпус подводной лодки, наполовину выдернутой за корму на осушку.
— Это что за чудовище? — удивилась Нина.
Пришлось рассказывать, что корпус этот принадлежит знаменитой краснознамённой «К-21», которая в годы Великой Отечественной войны, под командованием Героя Советского Союза капитана 2-го ранга Николая Лунина, отправила на дно около двадцати фашистских транспортов и кораблей. Ею был торпедирован грозный немецкий линкор «Тирпиц», сорваны действия против союзного конвоя, спасены жизни сотен английских и советских моряков.
Года три тому назад мой предшественник, адмирал Владимир Чернавин, разыскал «К-21», давно уже выведенную из боевого состава, списанную и переоборудованную для использования в качестве учебно-тренировочной станции. Она стояла в Полярном, обшарпанная и ржавая, с креном на левый борт, доживая свои последние месяцы. Владимир Николаевич в своё время командовал вполне современной атомной подлодкой, носившей по преемственности имя «К-21». Вот он и задумал восстановить былой облик грозного корабля времён Отечественной войны и превратить его в музей боевой {193} славы подводников. «К-21» поставили в док, подремонтировали, потом отбуксировали в Североморск и вытащили тракторами на осушку губы Ваенга как раз напротив штаба флота.
Теперь предстоит выстроить вокруг неё пьедестал, установить пушки и перископы, реставрировать несколько отсеков, а остальные превратить в музейные экспозиции. Однако этого, по-видимому, недостаточно. Прибрежное болото хорошо бы дренировать, территорию благоустроить, объединить с городским парком, соорудить приличную набережную и достойные подъездные пути. Кроме того, совсем недавно авиаторы-североморцы подняли в воздух на огромной бетонный стеле неподалёку от штаба флота самолёт-торпедоносец Ил-4. Память об этой боевой машине мне особенно дорога, поскольку эксплуатацией самолётов Ил-4 всю войну занимался мой отец.
А во дворе одного из учебных отрядов с давних пор хранится старенький торпедный катер «ТКА-12», которым в грозные годы командовал дважды Герой Советского Союза капитан-лейтенант Александр Шабалин. Если в пространстве между подводной лодкой «К-21» и самолётом-торпедоносцем Ил-4 водрузить на пьедестал торпедный катер «ТКА-12», объединить три памятника в мемориальный комплекс, придать ему достойную архитектурную форму, привязать к штабу флота, а рядом построить красивое здание для флотского музея, то неподалёку от устья речки Ваенги может появиться новая городская достопримечательность — площадь Боевой Славы североморцев.
Размечтавшись, я и не заметил, как за разговорами мы с Ниной беспрепятственно поднялись к штабу флота и вскоре остановились возле барельефа с изображением ордена Красного Знамени, установленного на фронтоне сходящихся ступеней, ведущих к парадному подъезду главного здания. «Северный флот основан в 1933 г.», — гласила надпись, сделанная на барельефе.
— Видишь? — сказал я жене, — В будущем году флот должен достойно отметить своё 50-летие. Времени осталось совсем мало, а сделать надо так много.
— Сделаешь, — улыбнулась Нина, — на то тебе и власть дана. А сейчас пойдём-ка домой. Весь день на ногах — не шутка. Я тебя покормлю чем-нибудь.
Возвращаясь на улицу Сафонова, я грешным делом думал, что властью тут ничего не решить, но, североморцы гору свернут, если донести до них смысл возведения сооружения в память о славных делах предшественников суровых военных лет, хотя, конечно же, любое дело требует твёрдой организационной основы. Вопрос о подготовке к 50-летию Северного {194} флота надо выносить на очередное заседание военного совета. Следует определить исполнителей, поставить задачи, установить контроль и... пусть попробуют не выполнить!
На следующий день я всё-таки не выдержал, появился в штабе и обнаружил, что все мои заместители и помощники, во главе с вице-адмиралом Коробовым, находятся на своих местах. И быстро понял, что не моё присутствие тому причина: просто у каждого уйма своих собственных обязанностей и связанных с ними дел, проблем, нерешённых вопросов. А чувство ответственности тревожит совесть, побуждает к работе.
Первой нечитанной бумагой, которую притащил начальник канцелярии вместе с кипой других, легла передо мной на стол директива Главнокомандующего ВМФ о формировании в составе Северного флота нового оперативного объединения — Кольской флотилии разнородных сил. Главком требует от меня завершить все необходимые мероприятия к 30 июня. Вот те раз! Опять в цейтноте? Какой тут к чёрту отдых. Придётся срочно уяснять задачу, оценивать обстановку, производить рекогносцировку, выслушивать предложения и принимать необходимые решения. Формирование Кольской флотилии — важнейшее направление как в жизни флота, так и моей личной деятельности и чем не вопрос для обсуждения на очередном майском заседании военного совета?
В состав новой флотилии предстоит включить дивизию, противолодочных кораблей, базирующихся на Североморске. Сюда же войдут все соединения кораблей ОВРа из Полярного, Линнахамари, Порта-Владимира и Гремихи. Кроме того, флотилия получит бригаду дизельных подлодок в Линнахамари, бригаду ракетных катеров в Гранитном и бригаду кораблей резерва в губе Сайда. Наконец, в состав объединения предполагается включить оба береговых ракетных полка с Кильдина и Рыбачьего. Итого десять бригад и два полка, около 150 кораблей, уйма народу, восемь пунктов базирования, разбросанных по всему Кольскому побережью, — чуть ли не половина флота!
Штаб флотилии и другие органы придётся формировать заново, поскольку они должны быть способны управлять не только собственными силами, но и оперативно подчинёнными подводными лодками, как и поддерживающей морской авиацией. А где взять таких людей? Штаб Полярнинской дивизии ОВРа, на базе которого предполагается новое формирование, малочислен и к управлению разнородными силами не подготовлен. Придётся Коробову поделиться своими ресурсами офицеров-операторов для назначения их на ключевые должности в мозговом центре Кольской флотилии. Кроме того, всю систему тылового и технического обеспечения этой «оравы» нужно сосредоточить в руках нового командующего. {195} Для этого на базе Полярнинского отдела тыла флота придётся заново создавать тыл флотилии. Пусть постарается вице-адмирал Петров. Ну а политорганы нового объединения станут, надеюсь, предметом неустанной заботы Николая Усенко.
Словом, проблем — выше головы! Надо срочно создавать оперативную группу. Включить в неё первого заместителя начальника штаба флота Марса Искандерова, первого заместителя начальника политуправления Валерия Поливанова, начальника организационно-мобилизационного управления Ивана Галустова, начальника управления кадров Виктора Смарагдова, командира Полярнинской дивизии ОВРа Бориса Сычёва и моего порученца Анатолия Хандогина.
Этой группе, действующей самостоятельно или вместе со мной, сразу же после Дня Победы надо будет приступить к генеральной рекогносцировке.
Естественно, что начинать эту работу следовало бы с назначения командующего флотилией. Тогда ему и вожжи в руки. Конечно, можно было бы предложить к назначению на эту должность контр-адмирала Вадима Колмогорова. Он молод и здоров, однако я уже наметил его в преемники Виталию Зубу, доложил о том Главкому и получил одобрение. Менять решение без особой нужды не гоже. А других кандидатур среди командиров надводных соединений у меня пока не было на примете. Главный кадровый потенциал флота сосредоточен во флотилиях и эскадрах подводных лодок. Тем не менее самому опытному подводнику адаптироваться в должности командующего Кольской флотилией будет весьма не просто.
Для сохранения преемственности, очевидно, надо представить Бориса Константиновича Сычёва к назначению на должность заместителя командующего флотилией. Надеюсь, учитывая его возраст, ещё пару лет он сможет верой и правдой послужить общему делу. К тому же лучше его никто не знает корабли и людей ОВРа, а это ведь большая часть будущей флотилии.
Словом, лучше подождать, что скажет Главком. Он пообещал, что сам определит подходящего адмирала на должность командующего Кольской флотилией. Но когда ещё это будет? А затягивать формирование нельзя. Главное — создать штаб. Пока нет штаба, нет и флотилии. Начальником штаба нужно назначить, по-видимому, кого-либо из подводников. Тогда ему, на пару с Сычёвым, работать будет проще. Иначе этот штаб трудно сделать органом, способным управлять разнородными силами. Тут у меня сомнений нет.
Сразу же позвонил в Западную Лицу и пригласил к разговору командира «крылатой» дивизии контр-адмирала Егора Томко. Сделал ему интересное, на мой взгляд, кадровое предложение, но встретил неожиданное сопротивление. Егор {196} Андреевич взмолился, долго аргументировал и, наконец, категорически отказался от предлагаемой должности начальника штаба Кольской флотилии разнородных сил. Ну что ж. Твёрдая позиция офицера всегда вызывает уважение. Это не его, а мой промах. Не сумел, видимо, объяснить, зачем создаётся Кольская флотилия и почему нужен знающий подводник во главе её штаба.
Вместе с контр-адмиралом Смарагдовым перебрал многие кандидатуры, но подводников-атомщиков решил больше не трогать. Слишком дорожат эти ребята своим океанским статусом. Но я их понимаю — сам такой. Остановились на кандидатуре в лице командира «урагубской» дивизии дизельных подлодок контр-адмирала Владимира Гавренкова. Пригласил его в Североморск на личную беседу и долго рассуждал о перспективе общефлотского военачальника, каковым проще всего стать, проходя службу в объединении разнородных сил.
В конце концов Владимир Михайлович, хоть и не без колебаний, но дал согласие. В тот же день представление к назначению ушло в Москву. Командиру эскадры подводных лодок, базирующихся на Ура-губу, приказано откомандировать Гавренкова в Полярный к Сычёву, с тем чтобы они вместе начали врастать в обстановку и раскручивать процесс формирования новой флотилии. А с дивизией вполне справится капитан 1-го ранга Юрий Ведерников. Его и следует представить к назначению вместо Гавренкова.
Пришлось звонить в Москву вновь назначенному начальнику управления кадров ВМФ и вчерашнему североморцу контр-адмиралу Юрию Воронову. Попросил его всячески содействовать ускорению назначения Гавренкова и Ведерникова. В ответ Юрий Александрович поделился информацией о том, что Главком в подборе командующего Кольской флотилией испытывает те же трудности, что и я. Дескать, один из черноморских весьма уважаемых адмиралов наотрез отказался от предложения командовать новой флотилией на Северном флоте. Этим кандидат вызвал на себя главкомовский гнев, под напором которого всё же устоял. Придётся, видимо, и мне подождать.
Затем, стараясь сгладить неприятные ощущения в межпраздничные дни, Воронов сообщил, что большой группе североморцев ко Дню Победы присвоены очередные воинские звания. Телеграмма о том уже подписана Главкомом и высылается на флот. Среди прочих высокого звания вице-адмирала удостоен Марс Искандеров, а генерал-лейтенанта — Олег Аниканов. Кроме того, подписаны приказы о назначении контр-адмирала Владимира Мочалова командиром Беломорской ВМБ. Вместо него начальником штаба к Чернову назначен контр-адмирал Юрий Патрушев. Командир эскадры {197} подводных лодок Геннадий Егоров переведён на Балтийский флот, а его кресло в Ура-губе и гарнизоне Видяево приказано занять контр-адмиралу Владимиру Калашникову. Все мои кадровые задумки сбываются. Теперь есть с чем поздравлять сослуживцев. Что я и сделал с удовольствием на заседании Военного совета в канун Дня Победы.
В этот великий день на Приморской площади, при скоплении горожан и военных моряков, Военный совет флота в содружестве с руководством города возложил венки к монументу, воздвигнутому в честь североморцев за их беспримерный героизм в годы Великой Отечественной войны. Следом нескончаемым потоком пошли люди, укладывая цветы к подножию величественного сооружения. Шествие завершилось торжественным маршем почётного караула и многих береговых частей Североморского гарнизона под звуки сводного духового оркестра.
Потом на кораблях и в семьях День Победы отмечали по-разному. Праздник-то со слезами на глазах. Но больше радовались, чем горевали. Радовались тому, что благодаря миролюбивой политике страны и небывалой мощи её Вооружённых Сил вот уже не один десяток лет мы живём, хотя и в условиях холодной войны, но свободно, дружно и мирно.
А вечером нас с Ниной пригласила в гости чета Кругляковых. Туда же явился и Николай Усенко с Галиной Сергеевной. Моложавая и элегантная супруга Владимира Сергеевича, судя по всему, умела и любила принимать гостей. Стол у Нины Ивановны оказался изысканным. Чувствовалось влияние главы семьи, который знал толк в подобных делах. Владимир Сергеевич мастерски катал вокруг стола сервировочную тележку, потчуя гостей диковинными напитками. По-видимому, сказывался его немалый опыт дальних плаваний, визитов в экзотические страны, застолий в обществе премьер-министров, а то и тамошних королей. Чудесный вечер! Однако на нём и поставлена точка в длинной череде майских праздников. Пора браться за дело. Завтра же — в Полярный!
Этот город, раскинувшийся на базальтовых сопках левого берега Кольского залива неподалёку от великолепной акватории Екатерининской гавани и Пала-губы, сыграл огромную роль не только в истории флота, но и в моей личной судьбе.
Первые государевы люди, как рассказывают, объявились в этих местах в последний год жизни Петра I в связи с царским Указом о создании казённого (считай — государственного) Кольского китоловства с промысловой базой в гавани, названной впоследствии именем императрицы. Однако лишь в конце XIX века министр Витте доложил Александру III о целесообразности создания в Екатерининской гавани незамерзающего военного порта. Гавань должна была обеспечить круглогодичный {198} доступ военным, торговым и промысловым судам в северные моря.
В тот же период специальная экспедиция, руководимая подполковником корпуса флотских штурманов Михаилом Жданко, на крейсере «Вестник» выполнила тщательное гидрографическое обследование Екатерининской гавани с геодезической привязкой побережья. С тех пор левый входной мыс в гавань носит имя Чижова, основателя Архангельско-Мурманского пароходства. Доминирующая над местностью гора Вестник получила имя крейсера. Ближайшие к гавани пресные озёра, служащие источником питьевой воды, названы в честь Ларина, Игнатова и Чайковского — командира и двух мичманов этого корабля.
Тем не менее торжественная церемония открытия нового порта и освящения Екатерининской гавани состоялась лишь через пять лет, в конце 1899 года, уже после смерти Александра III. Возможно поэтому новый порт и городок при нём получил название Александровск-на-Мурмане.
В дальнейшем роль и значение Александровска постепенно снижалась, особенно в годы, когда Николай II затеял бурное строительство в основании Кольского залива города Романов-на-Мурмане. Дело решила железная дорога, проложенная из Петрограда. Сразу после Октябрьской революции новый город получил официальное название — Мурманск. А забытый в Екатерининской гавани порт Александровск ещё 15 лет продолжал носить царское имя, когда, наконец, был переименован в посёлок Полярное.
Летом 1933 года в Кольский залив и Екатерининскую гавань из Архангельска пришёл морской буксирный пароход. На нём прибыла правительственная комиссия в лице И. Сталина, С. Кирова и К. Ворошилова, которые приняли важнейшее решение о строительстве в Полярном базы для вновь создаваемой Северной военной флотилии. Стройка эта велась бурными темпами с использованием подручных материалов — главным образом брёвен, сплавляемых по Северной Двине и вывозимых из Белого моря. Уже через пару лет в обновлённом бревенчатом Полярном имелось всё необходимое.
Именно здесь полвека назад зародилась поначалу скромная военная флотилия, давшая впоследствии жизнь могучему океанскому флоту. Сюда чуть позже пришли боевые корабли, а город Полярный стал главной базой молодого Северного флота, основавшего свой штаб в красивом здании, построенном на скале прямо над Екатерининской гаванью. Отсюда в годы войны уходили в море подводные лодки и надводные корабли, шли в десант морские пехотинцы, чтобы в смертельных боях отстоять заполярные рубежи нашей Родины. {199}
Вскоре после войны штаб флота (вместе с крупными кораблями) ушёл из Полярного в губу Ваенга, на берегах которой вырос прекрасный город Североморск. А в Екатерининской гавани осталась Краснознамённая ордена Ушакова бригада подводных лодок и малые корабли охраны водного района. По мере строительства океанского флота бригада переросла в дивизию, и от неё во многих бухтах Кольского побережья начали отпочковываться дочерние соединения. В здании бывшего штаба флота обосновался штаб подводных сил. Полярный продолжал быть если и не столицей, то уж по крайней мере «осиным гнездом советского подводного флота на Атлантике», как именовали его заокеанские доброжелатели. Из этого гнезда вышли многие поколения подводников, ставшие на мостики, к реакторам и ракетным пультам современных атомных кораблей.
Здесь, в Полярном, обретала закалку и моя командирская зрелость. Кажется, совсем недавно, стоя на мостике «Б-77», отправлялся я в свой первый океанский поход. Мои дети, карапузы мои учились тогда всего лишь во втором классе местной школы. Полярный не только открыл мне путь в Атлантику, но и благословил в Академию. С той счастливой поры минуло немало лет. И случилось так, что в течение всей последующей службы побывать в Полярном не довелось.
Зато теперь мощный посыльный катер, ведомый твёрдой рукой мичмана Петрова, дрожа от скорости, врывается через Перейму в Екатерининскую гавань. Трёхзвёздный флаг трепещет на носовом флагштоке. Ветер рвёт полы шинели, но я твёрдо стою на палубе, ухватившись за леер и опустив подбородный ремешок фуражки, всматриваюсь в очертания до боли знакомых берегов.
Жест рукой ладонью вниз заставляет мичмана сбавить ход. Рёв дизелей стихает, но катер всё ещё резво бежит вдоль причального фронта. Вот прошли первые причалы, где стояла некогда моя «Б-77». Сейчас возле него и около всех последующих размещено больше, чем прежде, океанских дизельных подлодок. Половина из них — новейшего проекта 6416.
А вон там, на пригорке, высится над причалами знакомый, так называемый четвёртый дом, где в давние времена, плескаясь в ванне, Наташка моя водила хороводы с гуттаперчевыми гусенками. А Сашка, зажмурив глаза и надув живот, любил показывать, как всплывает подводная лодка.
Рядом знаменитый циркульный дом, но уже не жилой, с выставленными оконными рамами и снятыми дверями. Ждёт его капитальный ремонт. Надо будет подумать о дальнейшей судьбе этого сооружения. Может быть, отремонтировать и разместить в нём органы управления Кольской флотилии? Однако дело это длинное, многолетнее, требующее тщательной {200} инженерной проработки. А штаб флотилии следует сажать на место уже завтра. Вполне возможно и гораздо проще разместить его в Североморске. Тем более что основное соединение Кольской флотилии — дивизия противолодочных кораблей контр-адмирала Колмогорова — базируется именно там. Кто меня заставляет за Полярный цепляться? Надо решать!
Тем временем катер подошёл к ОВР'овским причалам, возле которых гроздьями стоят тральщики и малые противолодочные корабли. Туда мы, собственно говоря, и держим путь. Там ожидает меня начальник гарнизона города Полярный, командир эскадры подводных лодок контр-адмирал Василий Парамонов. А рядом с ним командир дивизии ОВР'а контр-адмирал Борис Сычёв и начальник Палагубского судоремонтного завода капитан 1-го ранга Кольнер.
Первую половину дня посвятил я Парамонову и его эскадре. Правда, особого интереса при этом не испытывал, поскольку тут всё понятно, обычно и до предела знакомо. 60 дизельных торпедных подводных лодок сведены в пять бригад, которыми командуют опытные моряки: контр-адмирал Юрий Даньков и капитаны 1-го ранга Анатолий Широченков, Игорь Мохов, Михаил Поведенок и Николай Горшков. Первые четыре базируются в Полярном, несут боевую службу на Средиземном море, в Атлантике и (отдельными кораблями) даже в Индийском океане. Последняя бригада базируется на отшибе, в Линнахамари. В её составе подлодки проекта 611 — ближайшие, хотя и более молодые родственники моей «Б-77». Они используются ныне только в пределах Баренцева моря. Именно эта бригада предназначена для включения в состав Кольской флотилии.
Узнав о том, Василий Алексеевич выдавил из себя нечто про бабу, которая с возу... от чего кобыле легче. Мороки, дескать, много со старыми лодками. Впрочем, все остальные, вполне современные, трудами заместителя командира эскадры по электромеханической части поддерживаются в постоянной готовности по установленным нормам. А заместителем-то этим у Парамонова, его главным инженер-механиком, оказался Миша Козюлин.
Юным лейтенантом в должности «движка», иначе говоря, командира моторной группы, ступил Миша ко мне на борт за несколько дней до выхода «Б-77» в Атлантику. В том походе довелось ему огрести великолепную практику — участвовать в замене лопнувшей крышки блока цилиндров и устранении задиров поршневых колец на одном из дизелей, да ещё в океанских условиях. С тех пор, вот уже 25 лет, служит Миша в Полярном. Правда, теперь Михаил Митрофанович не лейтенант, но капитан 1-го ранга-инженер, пользующийся всеобщим {201} уважением. Тем не менее временами не может сдержать всё ту же застенчивую улыбку. Было очень приятно повидаться и неформально побеседовать со старым сослуживцем.
Ознакомление с системой управления эскадрой заняло всего минут десять. Начальник штаба контр-адмирал Виталий Ларионов доложил, что подводными лодками, находящимися в море, управляет командный пункт флота, а в базе имеется только телефонная связь и ультракоротковолновые рации, работающие в пределах рейда. Штаб размещается в здании бывшего штаба флота времён войны, перешедшего к эскадре по наследству, после ликвидации размещавшегося тут штаба подводных сил. В этом же здании находится и повседневный командный пункт с оперативным дежурством. Под зданием штаба, в скале, имеется горная выработка, где в войну размещался командный пункт адмирала Головко. Однако ныне оборудование там демонтировано, а помещения затоплены грунтовыми водами.
Пришлось спускаться вниз, в скалу, чтобы лично убедиться в подобном потрясающем безобразии.
— Вам стоит только слово сказать Козюлину! — упрекал я командира эскадры. — Он в два счёта смонтирует тут пару трюмных помп и за сутки откачает воду.
— Пробовали уже, товарищ командующий. Не получилось.
— Значит, плохо пробовали! Воду откачать. Установить калориферы. Помещение просушить. Восстановить дренаж. Понятно? Сроку вам — неделя!.. А дальше посмотрим, что делать с этим бывшим командным пунктом.
Затем обошли причальный фронт и казарменный городок. Береговая база эскадры включала десятка полтора кирпичных зданий, которые содержались примерно так же, как и в мои времена. Однако в сравнении с тем, что создано за последние годы в Западной Лице или в Гаджиево, старые полярнинские казармы не выдерживают конкуренции. Особенно удручающе выглядел сам город Полярный, состоящий из ветхих деревянных двухэтажных домов довоенной постройки. В моё время всё это смотрелось вполне терпимо и даже симпатично. Но за минувшие 25 лет на Кольском полуострове построили новые города, связанные с бурным развитием атомного подводного флота. А старый добрый Полярный остался таким, каким создал его некогда Константин Душенов, и приходил постепенно в упадок.
Мы долго ходили пешком или ездили на «уазике» по дорогам, покрытым колдобинами. Старый деревянный мост через овраг, ведущий от штаба эскадры к госпиталю, настолько прогнил, что закрыт для автомобилей. Проехать можно только вокруг оврага, через перевал, ведущий к заводу. Старенький {202} Дом офицеров дышит на ладан. Бывшая гордость полярнинских подводников — стадион, созданный собственными руками в распадке примыкающего к морю ущелья, превратился в болото, посреди которого нагло пробивают себе путь канализационные стоки.
Особенно удручающе выглядит дорога, ведущая от верхней проходной территории эскадры, мимо кладбища, в губу Кислую, где расположен порто-пункт и пассажирский причал с огромным лабазом из чёрных брёвен. Причал разваливается. Кладбище тонет в болоте, но, видимо для приличия, стыдливо прикрывается полусгнившим дощатым забором.
Исключение во всеобщей безрадостной картине составляет район города, примыкающий к Палагубскому судоремонтному заводу. Здесь свой особый мирок: построено около полусотни современных многоэтажных домов и несколько объектов социально-бытового и культурного значения. Среди них полдюжины детских садов, спортивный зал и превосходный Дом культуры «Полярник». Всё это не без гордости показал мне начальник завода капитан 1-го ранга Кольнер.
Однако наибольший интерес вызвал у меня сам завод, раскинувший свои вновь отстроенные цеха на берегах бухты Корабельная в Пала-губе. Здесь хорошо организованное производство обеспечено необходимыми службами и должной энергетикой. Заводские причалы оборудованы подъездными путями и мощными кранами. Имеется гигантский плавучий док, способный поднимать любые корабли, вплоть до ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Созданы прекрасные бытовые помещения и великолепная столовая для рабочих. А вокруг сколько угодно подходящей территории и удобной акватории для расширения завода и наращивания его производственных мощностей.
С начала 60-х годов завод специализировался на восстановлении боеготовности атомных подлодок, сведённых в бригаду ремонтирующихся кораблей. Ныне этой бригадой командует мой старый знакомый капитан 1-го ранга Анатолий Кочегаров. В своё время он служил командиром атомной ракетной подлодки «К-302» у меня в Западной Лице. Знаменит Анатолий Иванович был тем, что, маневрируя в Мотовском заливе на глубине погружения 60 метров, при скорости 24 узла, пропахал брюхом прибрежную отмель в губе Мотка и с треском полетел с должности. С тех пор минуло 10 лет. Выправился парень — бригаду доверили. Ну что ж, тем лучше, если в содружестве с Кольнером у Кочегарова дело идёт на лад.
Второй день своей работы в Полярном я посвятил дивизии кораблей охраны водного района, на базе которой, собственно говоря, и должна формироваться Кольская флотилия. Контрадмирал Борис Сычёв показал мне всё, что принадлежало ему {203} в Екатерининской гавани. Честно говоря, тут и смотреть-то нечего. Пара причалов, возле которых с трудом размещается бригада тральщиков и два дивизиона малых противолодочных кораблей. Остальные соединения, подчинённые контр-адмиралу Сычёву, раскиданы по другим пунктам базирования на Кольском побережье. Зато в Полярном имеется неплохое здание штаба дивизии и действующий, защищённый, упрятанный в горную выработку командный пункт. Функционируют собственные передающий и приёмный радиоцентры, составляющие основу системы связи кораблей ОВРа в ближней морской зоне.
Мы долго обсуждали с Сычёвым и Искандеровым вопрос о том, где должен размещаться будущий штаб Кольской флотилии. В Североморске или в Полярном? Если в Североморске, то этот зарождающийся орган управления, находясь под крылышком штаба флота, немедленно сядет на шею его системы связи. Нет сомнений в том, что Североморская дивизия больших противолодочных кораблей контр-адмирала Колмогорова представляет собой главную силу будущей флотилии. Зато Полярнинская дивизия ОВРа контр-адмирала Сычёва является её фундаментальной базой. Штаб флотилии вполне возможно разместить в Полярном, отобрав для этого у Парамонова здание бывшего штаба флота. А если удастся восстановить защищённый командный пункт адмирала Головко, то будет и вовсе здорово.
Чтобы смягчить пилюлю, пришлось пообещать Парамонову освободить его от бремени тяжких обязанностей начальника гарнизона города Полярного, возложив их на будущего командующего флотилией. В ответ Василий Алексеевич выразил полный восторг и дал слово, что за неделю перебазирует штаб своей эскадры в казарменный городок, поближе к подводным лодкам.
Решение созрело мгновенно. Сычёву приказано принимать знаменитое здание, оборудовать там собственный кабинет, встречать и размещать Гавренкова и совместно готовиться к прибытию нового командующего. На законный вопрос о том, кто им станет, ответить я, к сожалению, пока не мог. Тем не менее хорошо понимал, что задача возрождения города Полярного, наряду с массой других, не менее сложных, явится участью этого человека.
Оставшуюся пару майских недель потратил на то, чтобы, используя благоприятную погоду, завершить рекогносцировку системы базирования и прибрежной части оперативной зоны будущей Кольской флотилии. Облетел на вертолёте полуостров Рыбачий. Прошёлся над берегами Варангер-фиорда до самой норвежской границы. Побывал в Линнахамари и Печенге. Посмотрел, как обустроены бригада кораблей ОВРа {204} капитана 1-го ранга Сиррина Мазитова и бригада подводных лодок капитана 1-го ранга Николая Горшкова. Остался доволен действиями подполковника Юрия Шилюка, который по тревоге совершил марш-бросок в заполярную тундру и развернул на Рыбачьем огневые позиции своего полка, выдвинув туда восемь самоходных пусковых установок ракетного комплекса «Редут» с подразделениями управления и обеспечения.
В дальнейшем, вылетая чуть ли не ежедневно, побывал в Титовке и Териберке, где осмотрел подготовленные участки посадки войск морского десанта на корабли и суда. Пару раз пролетел над всеми рейдами и возможными местами укрытия кораблей от Кильдина до самой Гремихи. Не преминул совершить посадку в Порчнихе, где был приятно удивлён бурными темпами работ по замене старого корня причала. Рядом, по всей 30-километровой трассе будущей автодороги, уже грохотали взрывы. Это строители пробивались сквозь базальтовые лбы, что особенно хорошо было видно с воздуха.
В Гремихе занимался в основном бригадой кораблей ОВРа капитана 2-го ранга Игоря Полицинского. Эту бригаду представлялось целесообразным включить в состав Кольской флотилии, хотя предназначалась она лишь для охраны Святоносского залива и горла Белого моря. Пришлось унимать бурное недоумение, проявленное по этому поводу вице-адмиралом Устьянцевым. Обиделся, видите ли, Александр Михайлович на то, что собираюсь отобрать у него целую бригаду. Прискорбно, однако ничего не поделаешь, поскольку, видимо, далеко не все мои сослуживцы понимают роль и значение вновь создаваемого оперативного объединения, каковым должна стать Кольская флотилия.
Плохо, конечно, но ведь сам в этом и виноват: надо было интенсивнее раскручивать проблему и на военном совете, и через оперативное управление штаба, и особенно по линии вице-адмирала Усенко. Одной главкомовской директивы да моих указаний и даже этих рекогносцировочных поездок, по-видимому, недостаточно. Весьма важно растормошить людей, знать, что они думают и делают, особенно в тех соединениях и на кораблях, которые переходят под власть неведомого пока командующего Кольской флотилией. Телеграмма о том, составленная вице-адмиралом Искандеровым, тут же полетела из Гремихи в различные объединения, соединения и органы управления флота. А наша группа продолжила свой маршрут.
На Кильдине осмотрел оперативный аэродром противолодочных вертолётов полковника Ивана Мандрыка. Его полк вместе с авиационным полком на самолётах-амфибиях Бе-12 полковника Ивана Зотова как раз и являются теми частями морской авиации, что предназначены для поддержки сил {205} Кольской флотилии в пределах Баренцева моря. Важно, чтобы оба полковника, не говоря уже о генерал-лейтенанте Потапове, усвоили это достаточно твёрдо.
Кроме того, на острове Кильдин постоянно развёрнут береговой ракетный полк стационарных комплексов «Утёс». Его командир, подполковник Олег Ташбаев, заверил меня, что задачи свои знает твёрдо и выполнит их в пределах досягаемости своих крылатых ракет вне зависимости от порядка подчинённости и управления, но при своевременном и разумном целеуказании. Пришлось напомнить оптимисту, что лет десять тому назад этот самый полк на практических стрельбах из-за потери надводной обстановки влупил свою «крылатку» в борт сторожевого корабля — «полтинника». Причём виноватым оказался не тот, кто стрелял, но тот, кто управлял стрельбой.
Самыми интересными для меня стали полёты над пунктами базирования подводных лодок в Мотовском и Кольском заливах. С воздуха великолепно видны все огрехи в организации охраны и обороны этих важнейших объектов — как с моря, так и с суши. Весьма полезно увидеть картину собственными глазами, поскольку оборона системы базирования флота как раз и будет одной из серьёзнейших задач Кольской флотилии.
Командир авиационного отряда подполковник Виктор Баранов мастерски пилотировал наш вертолёт-салон Ми-8, устремляя его в такие закоулки рельефа побережья, куда иным путём добраться трудно. Огибая в лихом вираже окрестные сопки, он умел пройти на малой высоте над причальным фронтом со стоящими там чёрными корпусами грозных атомоходов. А мне нравилось усесться в пилотской кабине на место борттехника, между командиром вертолёта и правым лётчиком-штурманом, откуда прекрасно видна местность и акватория не только впереди и по сторонам, но и под ногами. Техник стоял за моей спиной, штурман держал на левом колене планшет с полётной картой, остальные пассажиры — офицеры оперативной группы — наблюдали за обстановкой через иллюминаторы салона. Так и летали.
Зрительная информация, полученная в подобных рекогносцировочных полётах, неоценима. Такую невозможно добыть читая документы, рассматривая карты или слушая подчинённых. Тем не менее я не только смотрю, но и любуюсь окружающим суровым пейзажем, даже испытываю чувство гордости при виде небывалой мощи доверенных мне подводных соединений. К тому же успеваю присматриваться к тому, как работает подполковник Баранов.
Везёт мне на однофамильцев. Самолёт Ан-24 пилотирует тоже подполковник, но не Виктор, а Борис Баранов. До сих пор помню, как пот градом катился с лица и шеи славного {206} лётчика после посадки при нулевой видимости в Североморске-1. В отличие от своего тучного и мощного однофамильца Виктор Михайлович строен, элегантен и чёток в движениях. Еле заметно манипулируя рукояткой и педалями, он мастерски управляет своей винтокрылой машиной, вгоняя её порою в жутковатые манёвры.
Так продолжалось до последних майских дней, когда однажды утром в моём кабинете появился генерал-лейтенант Потапов. Выражение его лица не сулило ничего хорошего.
— Полчаса назад, — доложил генерал, — в районе аэродрома Североморск-2 столкнулся с землёй вертолёт Ми-8 майора Костюченко.
— Ну, и..?
— Машина сгорела, экипаж погиб.
— Да-а... Прискорбно. А в чём причина? Что делать собираетесь, Виктор Павлович?
— До выяснения причин и обстоятельств катастрофы обязан запретить любые полёты в полку Мандрыка. Наиболее вероятна низкая организация полётов и недостаточная подготовка экипажа.
«Вот оно — началось...» — подумал я. Слишком уж безмятежно складывались минувшие полгода. Однако вслух произнёс:
— Что ж, создавайте комиссию. Разбирайтесь. Полёты, конечно, следует запретить, в том числе и для экипажа подполковника Баранова. Надо осмотреться.
— Так точно, товарищ командующий.
— О катастрофе донесите письменно, установленным порядком. И не унывайте, генерал. В жизни бывает всякое.
Ох, как не хотелось мне брать трубку телефона правительственной связи и докладывать Главкому о случившемся, а потом ехать на аэродром, чтобы взглянуть на то, что осталось от некогда самой надёжной винтокрылой машины и её невезучего экипажа. Тяжёлое зрелище, однако ничего не поделаешь — должность у тебя такая, товарищ командующий!
Рекогносцировку всё-таки удалось завершить, но уже не с помощью вертолёта, а на сторожевом корабле «Бессменный». За несколько суток обошёл на нём те же места, что наблюдал с воздуха, но теперь уже по морю. В отличие от зимнего штормового похода на «Жарком» на сей раз стояла прекрасная погода, тихое море и полная видимость сопутствовали «Бессменному». Искусство его командира капитана 2-го ранга Владимира Щупака — при поддержке комбрига Вячеслава Бирюкова наряду с основательной подготовкой главного штурмана флота Юрия Жеглова — обеспечило кораблю возможность заходить и даже швартоваться в таких местах, куда в штормовых условиях полярной ночи я залезать не решился бы. {207}
Так однажды, обследуя новый пункт базирования подводных атомоходов в Ара-губе, «Бессменный» вошёл аж в самый кут этого длинного фиорда. Там мы обнаружили прекрасную бухточку с хорошими глубинами и ровным берегом, способным образовать причальный фронт для трёх-четырёх плавучих причалов. Отсюда до ближайшего населённого пункта Видяево всего пять километров грунтовой дороги. А оттуда до штаба Кольской флотилии в Полярном не более 70 километров вполне приличного асфальтового шоссе.
Решение созревало трудно, однако с помощью моих постоянных спутников Искандерова, Жеглова и Аниканова становилось всё твёрже. Через год сюда, в Ара-губу, на постоянное базирование должна быть поставлена бригада из 10 сторожевых кораблей проекта 1135, предназначенная Кольской флотилии. Ведь североморские причалы уже сейчас забиты до предела, а в ближайшие годы ожидается поступление крупных кораблей типа «Современный» и «Удалой», не говоря о крейсерах типа «Киров» и «Киев». Надо освобождать Североморск для этих новых кораблей и уводить бригаду капитана 2-го ранга Бирюкова в Ара-губу. Тем более что в соседней Ура-губе начинается строительство гигантского причала для будущих наших авианосцев. Когда сбудется подобная мечта, Видяево может стать второй столицей Северного флота.
А пока суть да дело, поручил вице-адмиралу Искандерову писать директиву о перебазировании бригады сторожевиков в Ара-губу, генерал-лейтенанту Аниканову — готовить план строительства, а контр-адмиралу Жеглову — продумать меры безопасности кораблевождения. Зато комбригу Вячеславу Владимировичу Бирюкову, опустившему, было, нос, при свидетелях пообещал обеспечить всех его офицеров и мичманов жильём в гарнизоне Видяево и даже намекнул, что командир отдельной бригады достоин более высокого воинского звания.
Словом, навязал себе на шею ещё одну проблему, как справедливо изволил заметить находившийся поблизости контр-адмирал Поливанов. Впрочем, проблема-то, может быть, и ляжет именно на меня, но задача развития системы базирования Кольской флотилии — одна из первых, которая будет поставлена её новому командующему.
Возвратясь в Североморск, я убедился, что вице-адмирал Коробов зря времени не терял, поскольку вместе с контр-адмиралом Гавренковым активно занимался формированием штаба Кольской флотилии. Особо важной фигурой в этом штабе Вадим Константинович справедливо считал начальника оперативного отдела. Действительно, в качестве основной формы применения будущего объединения просматривалась операция флотилии разнородных сил. Эта операция должна органически {208} вписаться в оперативный план флота, стать его неотъемлемой частью. И, естественно, заниматься разработкой операции Кольской флотилии должен человек, хорошо знакомый с практикой оперативного планирования на Северном флоте.
И Коробов, и Лебедько дружно предложили к выдвижению на должность начопера штаба будущей флотилии капитана 1-го ранга Виктора Турыгина, заместителя начальника отдела оперативного планирования в оперативном управлении флота. Пришлось пригласить его для личной беседы. Офицер мне понравился: начитан, разумен, немногословен. Виктор Иванович в прошлом — командир большой дизельной подлодки. Полярный для него — дом родной. Несколько последующих лет службы в оперативном управлении многому научили. Возглавить оперативный отдел штаба Кольской флотилии почтёт за честь.
Потом мы ещё долго (вместе с Коробовым и Турыгиным) обсуждали возможные особенности, задачи и проблемы операции флотилии разнородных сил. Говорили о том, что эта операция будет, как правило, являться составной частью операции флота и может проводиться в пределах Баренцева моря. К операции должны привлекаться все роды сил, включая маломореходные корабли и катера с ограниченным тактическим радиусом, вертолёты берегового базирования, а также береговые ракетно-артиллерийские войска. Время оперативного развёртывания этих сил займёт не более двух суток, причём их боевая устойчивость хорошо обеспечивается Североморским корпусом ПВО. Важное место в операции флотилии займут минные и противолодочные действия, а также тесное взаимодействие с войсками Карельской армии на приморском направлении — вплоть до проведения совместных морских десантных действий.
Одной из важнейших задач, которую придётся решать разнородным силам Кольской флотилии, явится обеспечение развёртывания основных группировок Северного флота в океан. Кроме того, флотилия, по всей вероятности, сможет отражать удары средств воздушного нападения с морских направлений. Она должна быть способна разгромить группировку подводных лодок противника в Баренцевом море, а при необходимости — уничтожать отряды и группы десантных кораблей и боевых катеров. Серьёзной задачей флотилии будет являться оборона районов боевого патрулирования наших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Другими задачами могут стать оборона системы базирования сил флота и морских коммуникаций между Мурманском и Архангельском, а также защита промысловой деятельности рыболовецких судов в Баренцевом море. {209}
Нельзя не видеть и тех проблем, с которыми столкнётся штаб Кольской флотилии с первых же дней своего существования. Теория операции флотилии находится лишь в стадии зарождения. Эту теорию придётся осваивать, развивать и проверять на практике в процессе оперативной подготовки. Состав и оперативные возможности сил, привлекаемых к операции, нуждаются в уточнении. Для решения намеченных задач, вероятнее всего, потребуется усиление флотилии за счёт придания либо оперативного подчинения, а также поддержки её соединениями и частями других объединений флота с привлечением многочисленных атомных подлодок и морской противолодочной авиации.
Всеми этими силами надо уметь управлять. Следовательно, придётся настойчиво и заблаговременно заниматься развитием системы управления не только собственными, но и приданными силами. Надо восстанавливать заброшенные и строить новые командные пункты, наращивать возможности связи. Придётся перестраивать всю систему боевой подготовки, а также тылового и технического обеспечения в интересах решения новых задач. Для этого штаб флотилии и другие органы управления следует укомплектовать добросовестными офицерами и заняться их оперативной подготовкой. Случайных людей, особенно в оперативном отделе, быть не должно.
Турыгин внимательно слушал, записывал, изредка делился собственными соображениями. А я видел, как по мере углубления в проблемы у парня разгораются глаза. Хочет поработать самостоятельно и в полную силу? Благодарит за оказанное доверие? Ну, что ж. Значит, ему и карты в руки. В буквальном смысле — оперативные карты.
Другой ключевой фигурой, которую пришлось внимательно рассматривать, явился будущий начальник тыла Кольской флотилии. Именно на его плечи должна была лечь весьма нелёгкая задача всестороннего тылового и технического обеспечения многочисленных и разбросанных по побережью соединений, а также действий группировки сил флотилии в пределах Баренцева моря. С подачи контр-адмирала Сычёва и при поддержке вице-адмирала Петрова не без колебаний взглянул на кандидатуру капитана 1-го ранга Анатолия Колесникова, работающего ныне начальником Полярнинского отдела тыла флота.
Дело в том, что офицер этот знаком мне более других ещё по тем давним временам, когда он командовал дивизионом кораблей ОВР'а и однажды обеспечивал закрытие района ракетных стрельб подводными лодками Краснознамённой флотилии. Случилось так, что Колесников не заметил буксира, ошвартованного к одной из мишеней, и вовремя не убрал его с мишенной позиции, хотя и донёс о чистоте района стрельб. {210} Атакующая подлодка «К-25» не только поразила мишень, но и пропорола злосчастный буксир своим «Аметистом» насквозь. К счастью, люди не пострадали. Такое не забывается.
За потрясающий «прохлоп» бедолага-комдив приказом Главкома был снижен на одну ступень в воинском звании и оказался капитаном 3-го ранга. Тогда и пришлось ему уходить на тыловую работу. Однако теперь Анатолий Колесников, по отзывам его прямых начальников, приобрёл немалый опыт, корабли ОВРа и своё дело знает прекрасно, служит безупречно, что и отмечено присвоением ему воинского звания капитана 1-го ранга. Уточнив иные деловые качества и организаторские способности офицера и лично побеседовав с кандидатом, пришлось выносить вердикт. Раз так, то за одного битого, как говорится, двух не битых дают. Будем представлять Колесникова к должности начальника тыла Кольской флотилии.
Среди подобных треволнений незаметно промелькнул май. Наступили ясные июньские дни, когда Североморск преображается. Деревья городского парка и окрестных сопок покрываются свежей зелёной листвою. Оранжевое солнце круглые сутки бродит над горизонтом. На городских дворах в три часа пополуночи молодые офицеры с азартом режутся в волейбол. Однако мне не до этих скупых радостей заполярного лета. Вместе с июнем неумолимо близится начало обещанного стратегического командно-штабного учения Вооружённых Сил СССР под кодовым наименованием «Центр-82».
Руководить учением будет министр обороны Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов. К учению привлекаются Главнокомандующие и Главные штабы всех видов Вооружённых Сил, командующие и штабы военных округов и флотов. Будут участвовать также войска, однако лишь в ограниченном количестве и только для обозначения некоторых стратегически важных действий. На учениях предполагается отработать взаимодействие между объединениями различных видов Вооружённых Сил, исследовать новые взгляды на стратегическое применение Военно-Морского Флота в возможной войне.
Естественно, что я волновался. Ведь принимать самостоятельные решения, участвуя в мероприятиях подобного уровня, придётся впервые. Правда, кое-какой опыт всё-таки имеется. Спасибо С. Г. Горшкову, что привлёк некогда (во время моего пребывания в Ленинграде в должности командира ЛенВМБ) к учению «Центр-78» на центральном командном пункте в Москве, а потом ежегодно направлял для участия в учениях «Разбег-79» во Владивостоке, «Океан-80» в Калининграде, заставил взаимодействовать с войсками Ленинградского военного округа в Карелии, когда пришлось замыслить и провести собственное оперативное учение «Залив-81». {211}
Тем не менее и меня, и Коробова, и весь штаб флота охватывало то напряжённо-азартное состояние, которое по аналогии со спортивным жаргоном можно было бы именовать «лёгкой оперативной дрожью».
Впрочем, всё оказалось значительно проще, чем предполагал. Хотя бы потому, что в штабе флота не появилось, как водится, доброй сотни московских проверяющих. Офицеры Главного штаба во главе с Главкомом на этот раз занимались (в качестве обучаемых) своим прямым делом на подмосковных командных пунктах. Не было и нашествия армейских коллег.
Генеральный штаб представлял в Североморске лишь адмирал Н. Н. Амелько, а Главную инспекцию — адмирал Б. Е. Ямковой. Но это — куда ни шло. Всё-таки они свои — моряки. Правда, Главком не оставил меня совсем уж без надзора и приставил на учение своего первого заместителя адмирала флота Н. И. Смирнова. Ну, что ж. Может, оно и к лучшему. На то и щука в море, чтобы карась не дремал.
В ходе учения «Центр-82», которое продолжалось шесть суток, пришлось принимать решения в соответствии с задачами, поставленными оперативной директивой Главнокомандующего ВМФ, а штабу — планировать первую и вторую операцию флота в соответствии с моими решениями. При этом дефицит времени заставил применить способ параллельной работы штаба. Впрочем, детальная и тщательная заблаговременная подготовка первой операции во многом упрощала задачу. Владимир Лебедько со своими офицерами-операторами оказался на высоте.
Единственно, что не лезло в привычную наработанную схему — это моё стремление включить в состав морских операций и боевых действий, представляющих в совокупности операцию флота, ещё и операцию Кольской флотилии разнородных сил. Нужно было не только замыслить её, но и согласовать по целям, задачам, месту и времени с остальными действиями флота. Вице-адмирал Коробов очень волновался и предлагал не лезть на рожон. Успеем, дескать, сделать всё это не спеша, когда Кольская флотилия окончательно станет на ноги.
Однако решение было непреклонным. Операция Кольской флотилии включена в состав первой операции Северного флота и задача ей поставлена моей оперативной директивой. Пусть видят и министр, и Главком, что мы тут не зря хлеб жуём — иными словами, оперативно реагируем на их признание необходимости формирования подобных флотилий на обоих океанских флотах. А будущему командующему и штабу Кольской флотилии не придётся долго раздумывать, чем бы, дескать, заняться после завершения формирования... Уясняй задачу и приступай к оперативной подготовке! {212}
Решения на первую и вторую операции флота мне пришлось в ходе учения лично докладывать всем трём вышестоящим адмиралам, причём каждый из них претендовал на доклад только ему. Натренировался вдоволь и настолько, что почти не пользовался пояснительной запиской. Во время одного из таких докладов адмирал флота Смирнов по своей давней привычке взял красный карандаш и принялся, было, рисовать свои стрелы на моей карте. Хорошо, что Коробов успел заблаговременно отправить экземпляр решения по факсимильной связи в Главный штаб. А я, таким образом, получил утверждение Главкома, на что и обратил внимание его первого заместителя. Николай Иванович хитро хмыкнул, но карандаш отложил в сторону.
Другой адмирал, Н. Н. Амелько, слушал мои доклады внимательно, серьёзно, не перебивая. Лишь временами Николай Николаевич позволял себе скептически улыбаться, особенно когда дело касалось Кольской флотилии и её задач, но в целом одобрил оба моих решения. И было это весьма важно, поскольку мнение заместителя начальника Генерального штаба значило много. Ну а адмирал-инспектор Борис Ямковой, как мне показалось, вникал больше из любопытства, чем по служебной необходимости. Словом, вышестоящие инстанции оказались в целом удовлетворены работой командующего и штаба Северного флота, а я, получив изрядную порцию оперативной подготовки, честно говоря, почувствовал определённую уверенность.
Развёрнутые в море силы обозначения, которых на сей раз потребовалось совсем немного, действовали вполне успешно. Особенно это проявилось на заключительном этапе, когда два ракетных подводных крейсера стратегического назначения по сигналам Генерального штаба осуществили пуски баллистических ракет. Один из крейсеров, находящийся на боевой службе в Атлантике, стрелял по боевому полю Хальмер-Ю. Второй — из полигона боевой подготовки в Баренцевом море — по Камчатке.
Для управления боевыми действиями этих крейсеров на учении «Центр-82» была впервые задействована в боевом режиме командная система боевого управления (КСБУ), находившаяся до этого лишь в опытной эксплуатации. Всё прошло штатно, без сбоев и заминок. А когда с обоих боевых полей пришли донесения о падении головных частей ракет с допустимыми отклонениями, то вскоре ко всеобщей радости прозвучал сигнал об окончании учения «Центр-82».
В тот же вечер улетело в Москву тамошнее начальство. А мы ходили довольные. Вадим Коробов откровенно сиял. Марс Искандеров излучал удовольствие по поводу безупречной работы своего детища — КСБУ. Вилен Рябов носился по штабу с {213} бланками донесений о результатах ракетных пусков, показывая встречным большой палец. Юрий Квятковский удовлетворённо поглаживал свои короткие усы. Владимир Лебедько на пальцах доказывал собеседнику, что в следующий раз в решениях командующего всё следует предусмотреть как раз наоборот, чтобы ещё больше запутать противника. Николай Усенко радовался вместе со всеми. И Владимир Кругляков, возвратись после шестисуточного сидения на запасном КП в Нерпичьей, тоже был доволен тем, что ему не пришлось принимать управление флотом на себя.
Через несколько дней я прилетел в Москву на разбор учения «Центр-82», где Маршал Устинов отметил действия Северного флота с положительной стороны. После разбора я прибыл на улицу Грибоедова и предстал перед Главкомом.
— Это Вы хорошо придумали — включить операцию Кольской флотилии в состав первой операции Северного флота, — сказал Сергей Георгиевич. — По крайней мере мне было что докладывать министру.
Тем не менее Горшков рекомендовал впредь не торопиться. Сначала, дескать, следует разобраться с итогами формирования органов управления флотилией и только затем налаживать боевую подготовку в соответствии с новыми задачами. Если командование и штаб включат флотилию в систему оперативной подготовки, тогда на общефлотской командно-штабной игре надо уяснить оперативные возможности флотилии. А летом следующего года можно будет провести первое зачётное учение Кольской флотилии, поднять её по тревоге и проиграть операцию в море. Только потом следует вносить коррективы в реальные оперативные планы флота. Иначе можно дров наломать.
— Надеюсь, у Вас получится, — устремил Главком свой палец в мою грудь, — На вашем примере мы учебный кинофильм закажем. Других учить станем.
В ответ я рассказал Сергею Георгиевичу о том, как идёт формирование. Моё решение — разместить штаб флотилии в Полярном — он одобрил, так же как и кандидатуры контр-адмиралов Сычёва и Гавренкова на должности заместителя командующего и начальника штаба. Согласился и с назначением Турыгина и Колесникова. Однако, когда я заговорил о том, что без командующего флотилией формировать это новое объединение трудно, Горшков начал морщить лоб.
— Мне ещё труднее, — буркнул он. — Не так всё это просто. Однако будет вам командующий!.. Еле пробил кандидатуру контр-адмирала Касатонова... Знаете такого черноморца? — взглянул на меня Главком поверх очков. — Это сын Владимира Афанасьевича. {214}
Пришлось сознаться, что адмирала флота В.А.Касатонова я глубоко уважаю с лейтенантских лет, но что сын у него в контр-адмиралах ходит — для меня откровение.
— Так вот, имейте в виду! — прихлопнул ладонью по столу Сергей Георгиевич. — Он молод, энергичен, образован и хорошо воспитан. Остальное зависит от Вас!.. Загляните-ка в управление кадров, к Воронову, познакомьтесь с личным делом... Вы когда улетаете?.. Тогда желаю успехов.
Через пятнадцать минут я с возрастающим интересом разглядывал документы, подшитые в личное дело моего нового подчинённого. Родился Игорь Касатонов за два года до начала Отечественной войны, во Владивостоке, когда Владимир Афанасьевич командовал там дивизионом подводных лодок. С той поры минуло 43 года. Прекрасный возраст для командующего флотилией. В этом возрасте человек уже всё знает, почти всё умеет, многое может и вместе с тем ещё полон духовных, нравственных и физических сил.
В его возрасте я уже командовал соединением атомных кораблей, стал контр-адмиралом, доктором наук, наконец — Героем Советского Союза. В то же время оставался сорви-головой, способным взломать ледовый панцирь Арктики или вспороть спокойствие супостата на Средиземном море. В ту счастливую пору я был не только дедом годовалой внучки, но и полагал себя достойным мужем милой женщины. Правда, у Игоря Касатонова внуков ещё нет, зато жена Юлия десять лет назад подарила ему дочку Тамару, а ещё через три года — пару великолепных близнецов — Александра и Кирилла. Разве можно считать контр-адмирала Касатонова молодым человеком? Отнюдь нет! В самый раз — зрелый муж и отец-командир. Ну а то, что он на четырнадцать лет моложе своего нового командующего флотом — достоинство. Это ведь я почти старик.
Среднюю школу Игорь Касатонов окончил в Таллинне, когда батя его командовал Северо-Балтийским флотом, а получать высшее образование в Военно-морском училище пришлось уже в Севастополе, поскольку адмирал В. А. Касатонов был назначен командующим Черноморским флотом вскоре после трагической гибели линкора «Новороссийск». Все последующие 22 года — от лейтенанта до контр-адмирала — прослужил Игорь Касатонов на Чёрном море. Правда, не раз приходилось ему покидать пределы этого закрытого водоёма, выходя на боевую службу в Средиземное море и другие интересные места.
Командовал батареей, а затем ракетно-артиллерийской боевой частью на эсминце «Гневный». Окончил Командирские классы. Умудрился к тому же пройти курс заочного обучения в Севастопольском приборостроительном институте и получить диплом инженера-электрика. Прошёл нелёгкий путь {215} от старшего помощника до командира новейшего большого противолодочного корабля проекта 11346 «Очаков». Заочно окончил Военно-морскую академию, после чего возглавил штаб дивизии кораблей. Такое не каждому по плечу.
А три года назад И. Касатонов завершил своё военное образование в академии Генерального штаба и получил назначение опять в Севастополь, но уже командиром дивизии надводных кораблей, крупнейшего соединения Черноморского флота. Хорошая у него служба, но малость однобокая. Как бы ему в Полярном небо с овчинку не показалось после Севастополя. Впрочем, дальнейшее зависит от него, а вовсе не от меня, как изволил выразиться давеча Сергей Георгиевич. Поживём — увидим.
Контр-адмирал Касатонов прибыл в Североморск утром одного из последних чисел июня. Увидел я его впервые, но узнал сразу. Среднего роста, нормального телосложения, с открытым и приветливым лицом, чем-то неуловимо похожий на отца. Представился, как положено, по уставу, но спокойно, корректно, без видимого напряжения. Поговорили несколько минут. Понравилось, что речь у человека правильная, чистая, с хорошей интонацией. Потом отправил вновь назначенного члена военного совета флота знакомиться с моими заместителями, ставшими отныне его сослуживцами.
Во второй половине дня ушёл с Касатоновым на катере в Полярный. Там представил нового командующего офицерам штаба и политотдела Кольской флотилии. Затем в знакомом полуовальном кабинете, где некогда напутствовал меня адмирал Чабаненко, провожая в первый океанский поход, мы долго беседовали о предстоящей службе.
Рассказал Игорю Владимировичу всё, что успел увидеть и узнать о состоянии соединений, входящих в его флотилию. Поделился соображениями о целях и задачах этого нового объединения, о его оперативных возможностях и формах применения. Нарисовал перспективу. Обещал месяц не трогать и не присылать каких-либо проверяющих, дабы не мешать молодому командующему спокойно осмотреться и уверенно взять в руки рычаги управления.
Потом мы ещё пару часов потратили на осмотр города Полярного. В этой поездке приняли участие бывший начальник гарнизона контр-адмирал Василий Парамонов и новый начальник политотдела Кольской флотилии контр-адмирал Сергей Смирнов. Последний прибыл из Таллинна и никогда прежде на Севере не служил. Пришлось рассказывать об истории этих мест, показывать памятные уголки, но больше всего говорить о том, что старый деревянный Полярный нужно сносить, а на его месте возводить новый, современный, каменный город. {216}
— С вашей помощью, товарищ командующий, — обмолвился Касатонов, — все строительные организации в ваших руках.
— Однако вашими усилиями, Игорь Владимирович, — парировал я, — собственную базу, хоть и руками военных строителей, но создаёт лично командующий объединением — так выговаривал некогда мне адмирал Горшков, того же буду требовать от вас и я.
Возвратился я в Североморск лишь за полночь и тотчас уткнулся в подушку. Ощущение такое, словно гора с плеч свалилась. Ещё бы! Решение о столице принято. Операционная зона, размерами во всё Баренцево море, определена. Люди назначены. Полторы сотни кораблей зажаты в единый кулак. Усиление предусмотрено. Задачи поставлены. Поэтому на следующий день, не колеблясь, подписал донесение Главкому о завершении формирования Кольской флотилии. Пусть она, рождённая в Полярном, развивается и крепнет на благо Родины и во славу Флота.
| {217} |
Ощущение довольства проделанной работой исчезло быстро. Подумаешь — новую флотилию сформировал. Её на ноги ещё поставить нужно. Да и не на одном Касатонове свет клином сошёлся. Как ни крути, но главной ударной силой флота являются всё-таки подводные лодки и морская авиация. Флотилии Чернова, Матушкина, Устьянцева, эскадры Калашникова, Парамонова, Зуба, добрая дюжина авиационных полков генерала Потапова заслуживают не меньшего внимания. А кроме того, имеются ещё соединения, части и учреждения тыла флота, куда я и носа сунуть не пробовал.
Честно говоря, в минувшем полугодии не столько своим прямым делом занимался, сколько отбивался от начальственных проверок, надеясь, что североморцы не подведут. А надо бы не тешить себя надеждами, но активно взяться за подчинённых. Словом, июль и август — самое подходящее время для того, чтобы детально исследовать и реально оценить уровень оперативной и боевой подготовки объединений и соединений флота, нащупать слабину, подтянуть и поправить, где нужно. Лучший метод для того — зачётные командно-штабные учения с действиями сил обозначения в море.
На очередном заседании военного совета вице-адмирал Коробов, учитывая значительное количество предстоящих зачётных мероприятий, выступил с предложением сгруппировать их по задачам. Например, зачётные учения флотилии вице-адмирала Чернова, морской авиации генерал-лейтенанта Потапова, эскадр контр-адмирала Калашникова и вице-адмирала Зуба можно было бы провести под руководством командующего флотом в рамках единого командно-штабного учения с обозначенными силами в Норвежском море с задачей разгрома авианосного ударного соединения «противника». Тогда учения с бригадами десантных кораблей и морской пехоты, а также проверку Беломорской ВМБ целесообразно было бы возложить на вице-адмирала Круглякова. А он, Коробов, дескать, вполне справится с флотилиями в Гаджиеве и Гремихе. {218}
Идея мне понравилась, но руководство учениями в объединениях Матушкина и Устьянцева по обеспечению боевой устойчивости их ракетных подводных крейсеров в Баренцевом море я всё-таки оставил за собой. Зато подвесил Круглякову ещё и Полярнинскую эскадру контр-адмирала Парамонова. Рябова к такому процессу подключать ещё рано, а Коробову и без того дел хватает. Пусть управляет силами боевой службы и организует работу штаба и командного пункта во время всех этих учений.
К тому же и об отпусках следует подумать. Начальника штаба можно будет отправить в августе, благо Искандеров пока на месте и со штабом вполне справляется. Сам тогда попрошусь в сентябре. А первого зама отпущу в октябре, с тем чтобы в ноябре отправить его во главе отряда кораблей на Кубу. Владимир Сергеевич давно просится в хороший океанский поход. На том и порешили.
Естественно, что о своих намерениях я вскоре доложил Главкому. Тот идею комплексных зачётных учений одобрил, но тут же заявил, что во второй половине июля прибудет на Северный флот, чтобы снова выйти в море и посмотреть, как мы устраняем недостатки, отмеченные в апреле. Кроме того, он должен побывать в Северодвинске и лично убедиться в результатах реализации программы военного кораблестроения.
Мне не оставалось ничего другого, как заверить Адмирала Флота Советского Союза, что североморцы всегда рады видеть у себя Главнокомандующего, на что Сергей Георгиевич подозрительно хмыкнул в трубку. А я, грешным делом, в очередной раз подумал, что инициатива всегда наказуема. С начальством не следует делиться замыслами, лучше доложить о результатах.
Тем не менее всё так и произошло, как было задумано. Правда, на этот раз грозное ударное соединение «противника» в Норвежском море обозначал уже не флотский ветеран «Александр Невский», но авианесущий крейсер «Киев» со штурмовиками и вертолётами на борту, поддерживаемый самолётами Ил-38 североморского отдельного противолодочного полка. В охранении «Киева» действовали большие противолодочные корабли проекта 1134а и пара атомных подводных «истребителей» проекта 705. Командовал всеми силами обозначения «противника» комбриг Владимир Баранник, успевший ко Дню Победы получить звание контр-адмирала.
Ну а вице-адмирал Виталий Зуб по-прежнему возглавлял оперативное соединение разнородных ударных сил флота. Впрочем, на сей раз к нему на борт «Кирова» была подсажена оперативная группа штаба Краснознамённой флотилии вице-адмирала Чернова, управлявшая действиями подводных лодок {219} способом «через берег». Мне было приятно видеть, что вновь назначенный начальник штаба этого объединения контр-адмирал Юрий Патрушев действовал уверено и существенных промахов в управлении подводными лодками не допускал. Видимо, не ошибся я, представляя Юрия Николаевича к новой для него должности.
Действуя подобным образом, оперативному соединению удалось осуществить совместный сосредоточенный удар по «авианосцу» в узком секторе самолётами морской ракетоносной дивизии генерал-майора Владимира Дейнеки и подводными лодками «крылатой» дивизии контр-адмирала Егора Томко. Силы разведки и целеуказания сработали безупречно. Конфузов с «раздвоением» объекта удара на этот раз не наблюдалось.
На заключительном этапе учения тактическая группа, управляемая Егором Томко, в составе подводных лодок «К-25», «К-121» и «К-458» впервые в истории флота выполнила совместную стрельбу шестью разнотипными крылатыми ракетами по единой мишенной позиции. Руководил стрельбами, в том числе и этой выдающейся, вице-адмирал Евгений Чернов, чем и подтвердил на практике возможность массированного использования разнотипных ракет в одном ударе.
Главком остался доволен. Даже на разборе, который на этот раз делал я, он всё же отметил в заключение, что учение наше проводилось в более сложных условиях и прошло лучше, чем в апреле.
Правда, и здесь, к сожалению, не обошлось без казусов. Дело в том, что в ходе практических ракетных стрельб, как оказалось, на подводной лодке «К-302» в результате неправильных действий боевого расчёта была раздавлена водой практическая ракета «Аметист», находящаяся в стартовом контейнере. Слава богу, что таковые расположены вне прочного корпуса, а на ракетах установлены твердотопливные двигатели. Тем не менее проявленный непрофессионализм отвратителен. Действия начальников всех уровней, допустивших к работе плохо подготовленных людей, заслуживают осуждения. О том я и сказал Чернову и Томко. Виновным придётся держать ответ, что с согласия Главкома будет отражено в приказе командующего флотом. А итоговую оценку моей любимой «крылатой» дивизии пришлось снизить на один бал.
В тот же день мы с Адмиралом Флота Советского Союза С. Г. Горшковым улетели в Северодвинск. К моему удовлетворению, командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Владимир Мочалов, недавно назначенный на эту должность, сумел достаточно быстро врасти в обстановку, установить нужные контакты с судостроителями, руководителями Северного {220} морского пароходства, властями города Архангельска. Всё это позволило Владимиру Васильевичу коротко и толково доложить Главкому о положении дел в базе и на Белом море.
Там, в эти летние благодатные дни, Северное машиностроительное предприятие, судоремонтный завод «Звёздочка», Саломбальская верфь, а также сдаточные базы ленинградского Адмиралтейского объединения и горьковского завода «Красное Сормово» развернули интенсивные ходовые испытания построенных и отремонтированных кораблей, главным образом — атомных подводных лодок и их оружия.
Важнейшими участниками этого процесса являлись военные экипажи, входящие в состав двух бригад строящихся и ремонтирующихся подлодок. Бригадами командовали капитаны 1-го ранга Леонид Сальников и Василий Печалин, а государственные комиссии по приёмке кораблей возглавляли опытнейшие подводники-испытатели, такие, например, как мои давние сослуживцы Виктор Юшков или Валентин Рыков. Кроме того, в зоне ответственности Беломорской ВМБ располагается хорошо мне знакомый Хворостяновский полигон, занимающийся испытаниями всех новейших образцов баллистических и крылатых ракет.
Режим плавания в Белом море и безопасность ракетных стрельб обеспечивает бригада кораблей ОВРа и базирующийся на Лахту отдельный смешанный (самолётно-вертолётный) авиационный полк. Управление действиями всех сил в Белом море осуществляет штаб базы во главе с капитаном 1-го ранга Виктором Добушевым. Ну а высокий моральный дух испытателей поддерживает на должном уровне политотдел, возглавляемый весьма активным и профессиональным политработником, к тому же симпатичнейшим человеком, контр-адмиралом Борисом Смирновым.
Вместе с тем я ни на одну минуту не забывал, что обеспечение завершения кораблестроительной программы как минимум трёх крупнейших предприятий Советского Союза является для Беломорской ВМБ главной задачей лишь в мирное время. Круг задач, решаемых этим объединением в случае войны, значительно расширяется. Беломорская база (с отмобилизованием) переформируется в Арктическую флотилию, которая, находясь в составе Северного флота, принимает на себя задачу обороны проливов Карские Ворота, Югорский Шар и всего Северного морского пути с базами в портах Амдерма, Диксон, Тикси. Операционная зона Арктической флотилии в Баренцевом море граничит с Кольской флотилией, а в Чукотском — с Тихоокеанским флотом.
Не мудрено, что пришлось не раз взвешивать подобные обстоятельства, когда представлял контр-адмирала Владимира Мочалова к назначению на его нынешнюю вице-адмиральскую {221} должность. Однако долгие годы совместной службы в Западной Лице (с той поры, когда Володя Мочалов, командуя «раскладушкой», бегал всего лишь в капитанах 2-го ранга) заставили поверить в незаурядные способности этого офицера. После дизельной подлодки ему доверили атомоход с крылатыми ракетами. На нём он неоднократно нёс боевую службу на Средиземном море в самый разгар холодной войны. Затем служил начальником штаба «крылатой» дивизии. Потом командовал этим знаменитым соединением, приняв его от Рудольфа Голосова. Наконец, не сплоховал, возглавляя штаб Краснознамённой флотилии у Евгения Чернова, что при крутом нраве последнего не так-то просто.
Правда, с виду Владимир Васильевич, несмотря на свои контр-адмиральские погоны, далеко не фундаментален. Строен, словно юноша, и удивительно моложав. Неужто человеку с подобной внешностью можно доверить не только руководство испытаниями грозных подводных атомоходов, но и оборону уникального ледового пути от Горла Белого моря до острова Врангеля? Однако в обратном меня убеждает не только его предшествующая безукоризненная служба, но и нынешний великолепный доклад Главкому. Надо будет положить глаз на этого контр-адмирала. Беломорская база — не венец его карьеры. Продвигать достойных офицеров, вести их по службе, обеспечивая в будущем замену самому себе, — одна из серьёзных обязанностей командующего флотом.
Вскоре после того, как Владимир Мочалов завершил свой доклад, мы отправились на Севмашпредприятие и весь оставшийся день потратили на осмотр строящихся там подводных крейсеров типа «Тайфун», «Гранит», «БДРМ». Попутно заглянули на уникальную глубоководную подлодку «Плавник». Директор «Севмаша» Григорий Просянкин не без гордости и с воодушевлением рассказывал Главкому о возрастающих возможностях предприятия и новых технологиях производства. Оказавшийся, как всегда, на заводе генеральный конструктор «Рубина» академик Сергей Ковалёв не только давал нужные пояснения, но и подкидывал каверзные проблемы. Горшков слушал, давал указания, порою хмуро сопел, иногда взрывался. А я мотал всё это себе на ус.
Последним Сергей Георгиевич заслушал доклад заместителя председателя госкомиссии капитана 1-го ранга Валентина Рыкова о результатах недавно завершившихся испытаний главного оружия на головном корабле — тяжёлом ракетном подводном крейсере «ТК-208». Больше этому кораблю с экипажем капитана 1-го ранга Александра Ольховикова в Белом море делать нечего. Надо оторвать его от заводского причала. Поэтому я получил, к радости своей, твёрдое главкомовское указание о перебазировании крейсера из Северодвинска в {222} Западную Лицу, с тем чтобы там организовать его полноценную подготовку, а к концу года отправить на боевую службу.
Ввод «Тайфуна» в состав сил постоянной готовности Сергей Георгиевич просил взять под личный контроль. Однако он согласился с моим мнением, что будущая дивизия тяжёлых ракетных подводных крейсеров контр-адмирала Юрия Пивнева не должна находиться в непосредственном подчинении у командующего флотом. Место «тяжёлой» дивизии в составе Краснознамённой флотилии вице-адмирала Евгения Чернова, с базированием в губе Нерпичья, где для дивизии строится уникальный ракетопогрузочный причал с подскальной береговой базой, наземным казарменным городком и железнодорожной веткой на Мурманск.
На том и завершилась служебная поездка, когда мы, к обоюдному удовлетворению, разлетелись из Северодвинска в разные стороны: Главком убыл в Москву, а я возвратился в Североморск.
Передохнуть удалось всего двое суток. Да и то бездарно потратил их на разгребание повседневных забот. Между тем быстротекущее время настоятельно требует приступать к проведению очередных зачётных учений с Гаджиевской и Гремихинской флотилиями подводных атомоходов. Уже вышел в море и ушёл под лёд ракетный крейсер «К-92». А в Порчнихе готов новенький плавучий причал, возле которого другой подводный крейсер «К-421» осуществит пуск ракет прямо из базы. Разумеется, что оба этих корабля тщательно проверены специальными комиссиями и допущены к выполнению своих исключительных опытовых стрельб моими приказами.
Вице-адмирал Лев Матушкин волнуется. Ещё бы! Главной среди задач зачётного учения значилась вовсе не демонстрация технических возможностей стрельбы ракетоносцев (пусть даже с проломом льда или от причала из базы) — будет проверяться способность флотилии обеспечить боевую устойчивость своих ракетных подводных крейсеров в период безъядерной войны, когда силы флота противника стремятся искать и атаковать наши ракетоносцы, чтобы в максимальной степени затруднить им выполнение сокрушительного удара из-под воды.
К сожалению, для защиты от подобных поползновений супостата у Льва Алексеевича соответствующих собственных сил не имеется. В составе флотилии только три дивизии стратегических ракетоносцев, чем Лев гордится безмерно. Но оборонять эти грозные корабли нечем. Какая уж тут гордость? Скорее, недомыслие. Придётся Матушкину держать ответ. А мне и впредь предстоит для решения подобной задачи привлекать многоцелевые подводные лодки из других соединений, хотя для них это всегда обуза, поскольку отвлекает от собственных задач. {223}
Совсем по-другому обстоит дело в Гремихе у вице-адмирала Устьянцева. Там на одну «дальнобойную» приходится две дивизии многоцелевых подводных лодок, да ещё и бригада кораблей ОВРа в придачу. Такими силами возможно не только осуществлять непосредственное охранение ракетоносца, но и укрыть район его боевого патрулирования за «забором», состоящим из частокола подводных лодок, надводных кораблей и минных заграждений. Если же над «забором» повесить противолодочную авиацию, а район прикрыть истребителями, то получится совсем неплохо.
Всем нам известно, разумеется, что для охраны и обороны ракетных подводных крейсеров стратегического назначения при их развёртывании, патрулировании и ведении боевых действий придумано множество технических мер и тактических приёмов. Сама идея разместить баллистические ракеты на подводной лодке и таким образом упрятать их в пучине океана явилась первой такой мерой. Потом была осуществлена техническая возможность пуска ракет из-под воды, без всплытия их носителей на поверхность. Затем последовали многочисленные разработки, позволяющие обеспечить длительное патрулирование ракетоносца даже без всплытия на перископную глубину для нужд навигации и связи. К ним относится создание инерциальных навигационных систем, прецизионных гироскопов, навигационных гравиметров, гидроакустических измерителей абсолютной скорости, звукоподводных маяков-ответчиков, размещаемых на морском дне, всплывающих и буксируемых антенн. Словом, огромную работу проделали конструкторы «Рубина» под руководством академика Сергея Ковалёва — начиная с улучшения виброакустических характеристик ракетоносцев и кончая оснащением их мощными комплексами торпедного оружия для самообороны.
Не остались в стороне от проблемы обеспечения собственной безопасности и сами подводники. Они выдумали, а затем отрабатывали на практике многочисленные приёмы скрытного плавания, своевременного уклонения от нежелательных встреч под водой, проверки отсутствия слежения за собой. Ракетные крейсера прятались подо льдом, надолго замирали в приледненном состоянии, отрабатывали покладку на грунт или несение службы стоя на подводном якоре, а также учились мгновенно контратаковать торпедами нападающего противника. Достигнутый уровень подготовки экипажей ракетоносцев не трудно проверить. Именно для того и проводится зачётное учение на обеих флотилиях.
Однако подобная форма контроля не исчерпывает проблемы. Существует ещё некий комплекс идей, определяющих не столько тактические ухищрения подводников, сколько способы {224} оперативного применения морских сил общего назначения для обеспечения боевой устойчивости группировки морских стратегических ядерных сил. К таким идеям относится, к примеру, реагирование на угрозу путём быстрейшего манёвра по замене районов и маршрутов боевого патрулирования наших крейсеров или возможность постановки минных ловушек для нападающего противника. Сюда же можно причислить и оборудование хорошо защищённых районов боевых действий подводных крейсеров, прикрытых силами ПВО, противолодочными силами и минами. Не вредно к тому же ввести супостата в заблуждение путём имитации функционирования ложных районов и маршрутов.
А ещё лучше, как рекомендует Главком, не дожидаться, пока силы противника проникнут в наши моря. Надо гнать их оттуда, громить аэродромы, нарушать базирование, выводить из строя пункты управления. Мощными упреждающими ударами следует лишить нападающую сторону возможности угрожать нашим подводным ракетоносцам.
Впрочем, такая задача по плечу, скорее, флоту или вновь создаваемой Кольской флотилии разнородных сил. Это моя задача, а не Матушкина с Устьянцевым. Стрелять ракетами они, без сомнения, умеют, хотя проверить это лишний раз не помешает. А вот способны ли мы воевать, сохраняя ядерный потенциал в безъядерной войне, — вопрос куда более серьёзный, требующий глубокого проникновения в проблему.
На этом учении я, к сожалению, убедился, что детально проработанных способов оперативного применения разнородных сил для обеспечения боевой устойчивости ракетных крейсеров на обеих флотилиях, как, впрочем, и в штабе флота, не имеется. За это всем нам придётся держать ответ! О том я и сказал вице-адмиралу Коробову. А чтобы хоть как-то поправить дело, поручил ему готовить ноябрьскую плановую военно-научную конференцию флота, целиком посвятив её проблеме охраны и обороны ракетных подводных крейсеров стратегического назначения при их развёртывании, на боевом патрулировании и в ходе боевых действий.
Вадим Константинович отреагировал с пониманием и даже выдвинул встречное предложение: разработать план морской операции с задачей обеспечения боевой устойчивости группировки наших подводных ракетоносцев. План этот, по мнению начальника штаба, можно будет частично обсудить на конференции, затем отдельные эпизоды проиграть на январском оперативном сборе и только потом при необходимости включить его в комплект боевых документов флота.
Апофеозом заключительного этапа учения явились ракетные пуски подводных крейсеров, сгладившие все неприятные ощущения. Экипаж капитана 1-го ранга Виктора Патрушева, {225} патрулируя на борту «К-92» под арктическим льдом, своевременно получил сигнал боевого управления, без проволочек подорвал ледяной покров четырьмя боевыми торпедами, всплыл в проделанной полынье и осуществил пуск двух практических ракет, которые пришли на боевое поле с минимально-допустимыми отклонениями от точки прицеливания.
Молодец Патрушев! Его стрельба явилась не только уникальной в масштабе флота, но и не имеющей аналогов в мире. Она положила начало давно ожидаемому переходу от хорошо освоенного плавания подо льдом к реальному применению ракетного оружия из арктических районов. Лев Матушкин торжествовал. Да и я радовался вместе с ним, поминая добрым словом не только командира ракетоносца, но и контр-адмирала Ивана Литвинова, организовавшего эту стрельбу.
Вскоре, пользуясь случаем, я рассмотрел предложения командующего флотилией о том, какой экипаж целесообразно послать в уникальный, 60-суточный, зимний, ночной, подлёдный поход на боевое патрулирование по всем секторам Арктического бассейна на борту подводного крейсера «К-211». Дело в том, что этот новейший корабль проекта 667бдр (из состава дивизии контр-адмирала Юрия Фёдорова) имеет штатный экипаж капитана 1-го ранга Льва Захарова, скомплектованный на Тихоокеанском флоте. В будущем году «К-211» должна перейти Северным путём на Камчатку для постоянного там базирования. Если доверить экипажу Захарова уже в этом году сходить на полную автономность в Арктику, то на следующий год он, дескать, унесёт на другой флот уникальный опыт, где таковой, собственно говоря, окажется невостребованным, а это обидно для флотилии.
Матушкин полагал, что «К-211» вполне возможно передать экипажу однотипного крейсера во главе с капитаном 2-го ранга Александром Берзиным. Он хотя и молодой, но уже два года откомандовал подводным крейсером «К-216» проекта 667а, на котором трижды сходил на боевую службу в Атлантику. А в этом году Берзин назначен командиром 1-го экипажа «К-424» проекта 667бдр, однако успел отработать на нём полный курс боевой подготовки и с апреля по июнь выполнить традиционный поход подо льдом в советском секторе Арктики. Ныне «К-424» передана второму экипажу, а Берзин со своими людьми находится в отпуске. С возвращением, в августе, он сможет принять «К-211» за два месяца до начала уникального похода.
Я с интересом листал страницы личного дела и разглядывал фотографию симпатичного молодого офицера. Ишь ты, училище имени Фрунзе окончил всего-то в 1970 году. В ту пору я уже в контр-адмиралах ходил и «мозговой центр» флотилии возглавлял. Впрочем, 12 лет минуло, да и Берзину ныне {226} 36. Прекрасный возраст. Ему ещё плавать и плавать. А Матушкин тем временем убеждал меня, что вот, дескать, и пусть самый молодой командир становится носителем столь необходимого для флотилии опыта, который на боевой службе в Арктике незаменим. К тому же для придания уверенности Лев Алексеевич предлагал послать с Берзиным опытного подводника — заместителя командира дивизии капитана 1-го ранга Валерия Бусырева.
Честно говоря, чехарда с экипажами на подводных лодках — дело щекотливое. Знаю об этом не понаслышке — обжигался не единожды. Однако на этот раз аргументация командующего флотилией показалась убедительной, а подготовка экипажа капитана 2-го ранга Берзина достаточной для столь сложного похода. Поэтому я обещал Матушкину попытаться уговорить Главкома на подобный эксперимент.
Чуть позже, когда мы уже перелетели в Гремиху, ракетный крейсер «К-421» под командованием капитана 1-го ранга Виктора Макарова в назначенный срок выстрелил двумя баллистическими ракетами по Камчатке, стоя у причала в Порчнихе. Этот великолепный опыт также завершился полным успехом. Ракеты пришли на боевое поле, а причал остался цел и невредим. Правда, стрелял Макаров с полным боевым расчётом личного состава, при введённой главной энергетической установке и при работающем навигационном комплексе, что не характерно для корабля, стоящего в базе.
Зато вице-адмирал Александр Устьянцев, на долю которого на этом учении досталась лишь проверка ракетной готовности подводного крейсера, лежащего на грунте, да несколько торпедных контратак против нападающих субмарин «противника», божился, что переплюнет конкурента в лице Льва Матушкина. Дядя Саша уверял меня, что ведёт серьёзную научную работу с красивым названием «Экстерн» и готовит ракетный крейсер «К-457» с экипажем капитана 1-го ранга Бориса Попова к стрельбе четырьмя баллистическими ракетами и что выполнит он этот залп от причала всего одной боевой сменой с электропитанием от аккумуляторной батареи при выключенном навигационном комплексе. Во как!
— Когда переплюнете, тогда и доложите, — заметил я, на что Александр Михайлович, кажется, обиделся.
Чтобы не портить настроение в общем-то очень старательному, настойчивому и ответственному командующему флотилией, я пообещал Устьянцеву приобщить его к освоению новых районов боевого патрулирования и для начала загнать под лёд Белого моря один из его подводных крейсеров, закупорив корабль там на целые полгода. При этом экипаж можно будет заменить через три месяца, подав сменщиков на борт с помощью ледокола. А по весне возвратить, дескать, и сам {227} крейсер в родную Гремиху. Потом, глядишь, и ещё что-нибудь посерьёзнее придумаем.
— «К-279» с экипажем Володи Журавлёва пойдёт! — не раздумывая выпалил Дядя Саша.
По возвращении в Североморск я уже докладывал по телефону правительственной связи своему Главнокомандующему о результатах зачётного учения с флотилиями Матушкина и Устьянцева. Успешная стрельба подводного крейсера «К-92» из Арктики особенно радовала Горшкова. Он сказал, что доложил об этом ракетном пуске Маршалу Устинову и получил согласие последнего наградить экипаж капитана 1-го ранга Патрушева вымпелом министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».
Главком одобрил также идею проведения 28-й военно-научной конференции Северного флота по проблеме боевой устойчивости подводных ракетоносцев. Кроме того, он поддержал моё предложение о передаче в состав «стратегической» флотилии вице-адмирала Матушкина одной из вновь формируемых дивизий многоцелевых атомных подлодок, с тем чтобы ракетоносцы находились в одном объединении с силами, их охраняющими. Правда, при этом потребовал представить в Главный штаб соответствующий доклад с расчётами и обоснованиями по составу, базированию и применению такого соединения.
Согласился С. Г. Горшков и с тем, чтобы послать в трудный поход по периметру Северного Ледовитого океана подводный крейсер «К-211» с экипажем молодого командира Александра Берзина под руководством опытного подводника Валерия Бусырева. Даже идея шестимесячного боевого патрулирования ракетного крейсера подо льдом Белого моря (со сменой экипажа в течение предстоящей зимы) получила одобрение. Одним словом, полный восторг! Доверяет мне Главком. Тем важнее держать ответ не только за красивые идеи, но за реальные дела.
А ещё через день пришлось лететь в Западную Лицу, чтобы встречать там прибывший из Северодвинска тяжёлый ракетный подводный крейсер «ТК-208» капитана 1-го ранга Александра Ольховикова. На просторах губы Нерпичья эта громадина, входящая в базу, показалась мне совсем не такой колоссальной, как представлялась, когда осматривал её у заводского причала. Лодка, как лодка, которая чем-то напоминала издали миниатюрную «Малютку». Однако ударная мощь этого (пока единственного) корабля сопоставима разве что с боевыми возможностями целой дивизии подводных ракетоносцев. Такой, например, как «горбатая» от Матушкина или «дальнобойная» из флотилии Устьянцева. Придётся теперь и вице-адмиралу Чернову держать ответ за охрану и оборону своих «Тайфунов». {228}
Приподнятое настроение, вызванное явными успехами великолепных июльских дней, рухнуло сразу же, как только в моём кабинете появился генерал-лейтенант Потапов. Был он мрачнее тучи и прямо с порога доложил, что при взлёте с палубы «Киева» упал в воду вертолёт Ка-25. Машину, правда, успели подхватить дежурным вертолётом-спасателем, но лётчик, старший лейтенант Волков, и лётчик-инструктор, майор Кадиев, погибли.
— Хорошего мало, Виктор Павлович. Вторая катастрофа за два месяца. Представляете, на какой ниточке мы с вами держимся?
— Так точно, товарищ командующий. Однако причиной катастрофы на сей раз является, по-видимому, производственный дефект винтов. Для вертолётов Ка-25 это не первый случай.
— Тем хуже. Всё равно полёты в полку Акифьева придётся приостанавливать. А кораблям без вертолётов в море делать нечего.
— Я понимаю это, товарищ командующий.
— Значит, придётся нам с вами держать ответ. Делайте всё, что положено. Позаботьтесь о семьях погибших. Не забудьте через начальника штаба флота подготовить нужную информацию для кораблей боевой службы.
— Есть.
Генерал ушёл, а я остался сидеть со смутным чувством в душе. Ну почему так глупо? Почему во время больших и сложных учений, когда в море и в воздухе десятки кораблей и летательных аппаратов действуют совместно или даже друг против друга на больших скоростях, с применением практического оружия, всё обходится благополучно? А тут элементарный вылет вертолёта на боевую подготовку в простых условиях — и такой трагический финал. Видимо, секрет всё же в уровне руководства, степени централизации управления, состоянии боевого духа и чувства ответственности у всех участников большого дела. Надо осмотреться, оценить состояние не только «железа», но в первую очередь людей. «Железо» всё равно сломается рано или поздно. Однако человек, создающий или применяющий технику, обязан думать, и желательно до того, как...
А ещё я размышлял о том, что неприятности в одиночку не ходят. Дескать, пришла беда — отворяй ворота. И не ошибся. Буквально на следующий день оперативный дежурный доложил о пожаре в Полярном, на сторожевом корабле «СКР-16» Кольской флотилии. Правда, уже через час контрадмирал Касатонов бодрым голосом докладывал по телефону, что на сторожевике загорелась, а потом взорвалась аккумуляторная батарея электроторпеды в одном из торпедных аппаратов. {229} Своевременно принятыми мерами аварийную торпеду удалось, дескать, выстрелить за борт и утопить в бухте. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Работают водолазы, чтобы достать со дна злополучную торпеду и установить причину возгорания.
Упрекать Игоря Владимировича я для первого раза не стал. Рекомендовал лишь разобраться не только с действиями командира и экипажа «СКР-16», но и с деятельностью минно-торпедной базы тыла флотилии. Воздержался также от направления в Полярный традиционной группы офицеров штаба и тыла флота для расследования происшествия. Пусть Касатонов сам вникает и реагирует. Ведь я обещал не трогать флотилию по крайней мере в течение месяца после его назначения. А для себя сделал зарубку в памяти о том, что в ближайшее время следует вплотную заняться тылом флота и в первую очередь — органами вооружения и судоремонта.
Однако мои благие намерения вскоре наткнулись на жестокую необходимость участия Северного флота в очередном крупном учении ВМФ на тему: «Защита судоходства и управление транспортными и промысловыми флотами в ходе перевода сил флота и средств водного транспорта с мирного на военное положение». Учение это с условным наименованием «Арктика-82» проводилось под руководством первого заместителя начальника Главного штаба ВМФ адмирала Навойцева.
Пётр Николаевич с группой москвичей прибыл в Североморск и, разумеется, потребовал к себе внимания. Впрочем, к учению привлекались не столько командование и штаб Северного флота (вместе с органами военных сообщений), сколько «киты» промышленности. Такие, например, как всесоюзное рыбопромышленное объединение «Севрыба», известные в мире «Мурманскрыбпром», «Архангельскрыбпром», Карелрыбпром», а также Мурманское и Северное морские пароходства с подведомственными судами. Неудивительно, что у рыбаков оказалось куда больше возможностей, чтобы уделить внимание руководителю учения, чем у военных моряков.
Кроме того, в учении принимали участие судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка» Минсудпрома СССР, Мурманская судоверфь и Ростинский судоремонтный завод ВМФ. Таким образом, адмирал Навойцев больше мотался между Мурманском и Архангельском, нежели сидел в Североморске. А в штабе флота тем временем функционировали многочисленные оперативные группы от штаба Гражданской обороны СССР, Мурманской и Архангельской областей, городов Северодвинск, Кандалакша и Беломорск, портов Мезень, Нарьян-Мар и Амдерма.
С ними великолепно управлялся мой заместитель по гражданской обороне, улыбчивый и общительный контр-адмирал {230} Аркадий Жиделёв. В недавнем прошлом он возглавлял тыл атомной флотилии в Гремихе и, надо сказать, вполне успешно решал многочисленные и сложные проблемы этого полностью автономного гарнизона. Не случайно Жиделёву, первому среди начальников тылов флотилий, было присвоено его нынешнее высокое воинское звание. Но и на новой должности Аркадий Иванович отличается тем, что не любит беспокоить начальство по пустякам, старается работать самостоятельно, умеет решать проблемы собственными силами. Хотя при случае, лукаво улыбаясь, может напомнить, что одной гражданской обороной войну, дескать, не выиграешь, но без неё — проиграешь.
Учение «Арктика-82» длилось всего пять суток, но требовало значительного напряжения сил, поскольку в различных эпизодах, кроме ряда соединений и органов управления флота, действовали сотни торговых и промысловых судов и многие тысячи людей, которые не часто обращаются к разрешению военных проблем.
В ходе учения отрабатывался перевод Северного флота и судовладельцев всех ведомств с мирного на военное положение при проведении отмобилизования и довооружения гражданских судов. Проверялась способность владельцев средств водного транспорта и заводов к отмобилизованию, переоборудованию, передаче судов и береговых объектов в состав ВМФ, а также к выполнению воинских перевозок в мобилизационный период и военное время. Совершенствовалась организация взаимодействия морских и речных пароходств, объединений рыбной промышленности, судоремонтных предприятий со штабом флота и его соединениями при управлении гражданским флотом и обеспечении его безопасности с возникновением военной угрозы. Наконец, уточнялись объёмы и сроки совместной работы владельцев предприятий и территориальных органов гражданской обороны при ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.
Учение прошло организованно, несмотря на множество участников, и закончилось без единой «чепушки», как штабные офицеры привыкли именовать чрезвычайные происшествия. А для меня, честно говоря, раскрылась ещё одна сторона деятельности командующего флотом, связанная с опорой на прочный тыл. Не только на собственный, являющийся воинским формированием, но на тот тыл, каковым по существу становится в случае войны вся страна с её территорией, предприятиями и, конечно, людьми. Об этом и размышлял, провожая адмирала Навойцева, улетающего в Москву.
Потом, вместе с вице-адмиралом Петровым, пару дней потратил на обсуждение плана детального знакомства с тылом флота. Я понимал, что работа эта потребует значительного {231} времени, частых поездок, многих километров, пройденных пешком по цехам заводов и арсеналов, базам оружия и складам имущества. Тем не менее я надеялся, что за августовские недели, оставшиеся до столь желанного отпуска, сумею расправиться с тылом, если ничего не помешает.
Однако помеха вскоре проявилась... в лице генерала Потапова: если командующий ВВС является без приглашения — это всегда плохо.
— Опять?
— К сожалению, товарищ командующий.
— Кто?
— Штурмовик ЯК-38 при взлёте с палубы «Киева» грохнулся в воду, — выдавил из себя Потапов.
Однако через секунду на хмуром лице генерала сверкнула улыбка.
— Лётчик, старший лейтенант Шевченко, благополучно катапультировался!
С души отлегло, когда узнал, что первопричиной аварии послужил конструктивный дефект кабины лётчика. Её остекление разрушилось на взлёте. Осколки попали в газодинамический тракт подъёмных двигателей. Турбины заглохли, и самолёт рухнул в море. А Шевченко — молодец! Он теперь будет носителем уникального опыта в полку. Лелеять нужно таких лётчиков. Это ведь будущие асы палубной авиации флота. Тем не менее пришлось сказать генералу Потапову, что вопрос о состоянии безопасности полётов будет рассмотрен на ближайшем заседании военного совета флота, где Виктору Павловичу придётся выступить с докладом и, естественно, держать ответ.
Несколько последующих дней прошли спокойно, и я, было, подумал, что, поскольку «бог троицу любит», полоса неприятностей закончилась. Но оказалось, что в очередной раз ошибся.
Это было ранним утром, когда катил в Мурманск, чтобы вникнуть в проблемы и стиль работы штаба тыла флота. В это время в Североморске, на сторожевом корабле «Задорный» Кольской флотилии, стоящем у 8-го причала, во время проворачивания механизмов произошёл несанкционированный пуск зенитной ракеты от комплекса «Оса-М». Ракета взмыла в воздух, просвистела над кораблями, стоящими на рейде, но, не имея объекта наведения, прошла свою дистанцию и упала в тундре. Слава богу, что никого не задела.
Пришлось возвращаться в Североморск и до вечера ползать по кораблю, терзая контр-адмирала Колмогорова вместе с командиром «Задорного». Заодно в доступных пределах выучил зенитный ракетный комплекс «Оса-М». Потом по телефону воспитывал контр-адмирала Касатонова. Тем не менее {232} на следующее утро услышал в трубке совсем уж виноватый голос командующего Кольской флотилией. Он докладывал, что на «МПК-138» в Полярном (опять-таки во время проворачивания механизмов) произошло падение зенитной ракеты с пусковой установки комплекса «Оса-М» в погреб. Ракета выведена из строя. В остальном отделались лёгким испугом. А ведь в этой штуковине 130 кг веса, большая часть которого приходится на твёрдое топливо для ракетного двигателя, и, кроме того, 19 кг взрывчатого вещества в боевой части: мог рвануть погреб и вместе с ним весь корабль.
Пришлось вместо штаба тыла следовать в Полярный, чтобы приучить Игоря Владимировича держать ответ в соответствии с доверенной ему должностью. А как же иначе? Чем больше шишек набьёт, тем крепче будет. На сей раз я вынужден наказать командира «Задорного», капитана 2-го ранга Шевченко, командира «МПК-138», капитана 3-го ранга Герасёва, а также командиров ракетно-артиллерийских боевых частей обоих кораблей — капитана 3-го ранга Бондаренко и старшего лейтенанта Татаренко — в приказе командующего флотом. С остальными пусть разбирается сам Касатонов.
Ну а к повестке заседания военного совета флота: «О мерах по повышению безопасности полётов морской авиации» была добавлена фраза: «...и мерах по улучшению эксплуатации оружия на Кольской флотилии». Полезный, хоть и нелицеприятный, состоялся разговор. Впрочем, он лишний раз убедил меня в том, что Потапов и Касатонов — мужчины серьёзные. Ответ держать умеют.
| {233} |
Заняться тыловыми проблемами вплотную мне всё-таки удалось. Собственно говоря, всё началось с курьёза. Однажды, после долгого рабочего дня, проведённого в Мурманске, в штабе вице-адмирала Владимира Петрова, я спросил у жены:
— Как ты полагаешь, где у флота тыл?
Недолго думая, Нина похлопала себя по мягкому месту и рассмеялась. А я вместе с ней, поскольку непосредственность великолепна. Однако она не всегда отражает реальность, так как зависит от мироощущения. Лично у меня, например, тыл находится вроде бы на загривке.
Курьёз заставил потянуться к книжной полке за томиком Владимира Даля. Как полагает этот выдающийся знаток русского слова и к тому же выпускник морского корпуса, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», тылом называется задняя часть чего-либо — изнанка, спина, зад, затылок, загривок, холка, хребет. Таким образом, мы с женой оба правы по-своему, чему и улыбнулись ещё раз.
Каверзные вопросы о том, где тыл .у флота и зачем он ему, продолжали занимать моё внимание тем больше, чем глубже я вникал в деятельность вице-адмирала Петрова, задачи, структуру и организацию подчинённых ему соединений, частей и учреждений.
Собственно говоря, всем хорошо известно, что, с точки зрения общевойсковой терминологии, тылом называют .оборотную сторону строя, часть боевого порядка или оперативного построения, противоположную фронту. Для сухопутных войск «тыловая полоса» — это территория позади фронта, боевой линии. Иногда тылом именуют и всю территорию воюющей страны с её населением и материальными ресурсами.
Тем не менее я понимаю, что флот, ведущий боевые действия на море, не имеет традиционного «фронта», «флангов», «тыла», поскольку развёрнутые к началу действий силы флота могут оказываться внутри боевых порядков противника. Оперативные построения противоборствующих сторон перекрещиваются, налагаясь друг на друга, становятся взаимопроникающими. {234} Внезапное проникновение военно-морских сил противника, особенно его подводных лодок, в наши территориальные и даже внутренние воды вполне вероятно. В этих условиях классические понятия «оборона», «наступление», «оперативная глубина» или тем более «тыловая полоса» теряют изначальный смысл, а главным принципом морского боя и операции становится стремление к упреждающему удару. Так где же у флота тыл и зачем он ему? Задумаешься тут! И похлопыванием по собственному загривку никак не обойдёшься.
В то же время тылом принято называть не столько направление, противоположное фронту, сколько организационно оформленную, неотъемлемую составную часть Вооружённых Сил, которая служит как бы связующим звеном между ними и экономикой государства. Соединения, части и учреждения Тыла Вооружённых Сил призваны к тому, чтобы накапливать и содержать должные запасы оружия и материальных средств, снабжать ими войска, строить, восстанавливать и обслуживать пути сообщения, осуществлять подвоз материальных средств и другие виды воинских перевозок. На Тыл возложены ремонт и восстановление различных видов техники и имущества, содействие войскам в ликвидации последствий ударов противника, медицинская помощь раненым и больным, их эвакуация и лечение. Наконец, важной функцией органов Тыла является квартирно-эксплуатационное, торгово-бытовое и финансовое обслуживание военнослужащих как в мирное, так и в военное время.
Историческими формами существования тылового обеспечения явились действия так называемых маркитантов (торговцев), сопровождавших войска и снабжавших их за соответствующую мзду оружием, продовольствием, фуражом и прочим имуществом. Позже появились известные многим по фильмам о первой мировой и гражданской войнах войсковые обозы. А ныне наряду с подвижными тыловыми соединениями и частями функционирует система военных баз.
Каждая такая база обычно представляет собой специально оборудованный и охраняемый район или участок территории, выгодно расположенный в военном отношении, с размещёнными на нём войсковыми соединениями и частями, а также запасами оружия, техники, горючего, продовольствия, другого необходимого имущества и оборудования. Военные базы используются для постоянной или временной дислокации войск, их отмобилизования, подготовки к боевому применению и последующему восстановлению боеспособности. Они могут в зависимости от обстановки создаваться как в пределах границ собственной страны, так и на территории союзных или даже нейтральных государств. Меня, к примеру, весьма устраивает возможность пополнения запасов и ремонта кораблей Северного {235} флота не только в собственных базах, но и в портах Кубы, Гвинеи, Египта.
В указанном смысле система базирования флота приобретает огромное значение. Без такой системы флот не способен воевать. Больше того, он не в состоянии существовать даже в мирное время, не говоря уже о состоянии холодной войны во имя поддержания океанского паритета. Вместе с тем под термином «военно-морская база» (ВМБ) в нашем флоте принято понимать не столько территорию с примыкающей акваторией, сколько оперативно-тактическое объединение разнородных сил, предназначенное для поддержания оперативного режима в установленной зоне ответственности, ведения противолодочных и противоминных действий, обороны конвоев и одиночных судов, прикрытия развёртывания и возвращения сил флота, а также для их боевого, технического и тылового обеспечения.
Обо всём этом мы долго и подробно беседовали с Владимиром Ивановичем Петровым. При этом я не только вникал в суть многочисленных тыловых проблем, но и пытался, грешным делом, определить уровень оперативного мышления своего заместителя по тылу, а также степень его практической подготовки к решению множества весьма разнообразных и далеко не безразличных мне тыловых задач.
Как на становой хребет, опирается тыловое и техническое обеспечение на систему базирования Северного флота. Она — основа всего. Поэтому для удобства управления вице-адмирал Петров предлагает разделить её на шесть районов: Печенгский, Мотовский, Кольский, Иоканьгский, Новоземельский и Беломорский. Каждый такой район включает основные и маневренные пункты базирования, оборудованные для стоянки и восстановления боеспособности кораблей. Здесь же находятся судоремонтные заводы и мастерские, арсеналы и склады, аэродромы и полигоны, центры связи и пункты управления, энергетические объекты и жилые городки.
Для каждого района базирования Петров просит моим приказом определить старшего морского начальника из числа командиров базирующихся соединений, а его заместителя по тылу назначить соответственно старшим тыловым начальником. Так, в Печенгском районе предлагалось властвовать капитану 1-го ранга Мазитову, в Мотовском — вице-адмиралу Чернову, в Кольском, согласно новой организации, — контрадмиралу Касатонову, в Иоканьгском — вице-адмиралу Устьянцеву, на Новой Земле — контр-адмиралу Чирову, а на Белом море, естественно, — контр-адмиралу Мочалову.
Честно говоря, мелькнула мысль: а не пытается ли Владимир Иванович подобным образом переложить на чужие плечи часть собственного бремени? Однако похожие разновидности {236} схем распределения обязанностей и ответственности издавна существовали на флоте и не вызывали особых возражений. Вспомнил даже, что, командуя в своё время Краснознамённой флотилией, базирующейся на Западную Лицу, я не без гордости полагал себя старшим морским начальником всего Мотовского залива. Наверно, поэтому согласился с предложениями Петрова и на сей раз.
Особое место в системе занимает огромный район базирования авиации флота с многочисленными аэродромами, разбросанными по территории Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. Правда, заместителем по тылу у командующего ВВС флота служит генерал-майор Михаил Довженко, способный, преданный делу и очень самостоятельный офицер. Это обстоятельство, по мнению Потапова, а также и Петрова, снимает сомнения относительно прочности тыла крупнейшего авиационного объединения флота.
Лично вице-адмирал Петров является старшим морским начальником в Мурманске. Ему подчиняются соединения, части, учреждения и органы управления тыла флота, дислоцированные в этом городе, а также главная тыловая база, расположенная в глубине Кольского полуострова. Кроме того, в случае войны при проведении операций предусмотрено развёртывание морских районов тылового обеспечения, к примеру, у кромки льда, либо в других оперативно-целесообразных зонах. Готовность и способность тыла к подобной работе проверяется на каждом крупном учении.
С центром страны тыл Северного флота связан железной дорогой между Ленинградом и Мурманском, а также автомобильной магистралью, проложенной совсем недавно. К сожалению, обе эти ниточки проходят вдоль государственной границы всего в полутора сотнях километров. К тому же охрана и оборона сухопутной коммуникации от флота не зависит, тогда как подлётное время штурмовиков с сопредельной территории — 15 минут. Один-два удара и порвана ниточка, питающая флот. По мнению вице-адмирала Петрова, куда надёжнее морской путь из Архангельска в Мурманск. Такой путь невозможно взорвать, разрушить, перегородить, а для охраны и обороны транспортных судов у флота собственных сил предостаточно.
Владимир Иванович убеждённо докладывал, что в мирное время благодаря достигнутому океанскому паритету на Кольском полуострове своевременно накоплены и рационально размещены значительные объёмы запасов оружия, техники, топлива и других материальных средств. Одного продовольствия военные моряки съедают до семи железнодорожных вагонов ежесуточно.
— Северный флот самый обеспеченный, — уверяет мой заместитель, — Мы ни в чём не нуждаемся. {237}
— Ну, так уж и живёте без проблем ?
— Нет, конечно, товарищ командующий, — улыбается Петров, — проблем тоже достаточно.
Пришлось долго и подробно разбираться в том, какие из тыловых проблем — важнейшие. Корабельный состав флота, например, растёт быстрее, чем наращиваются производственные мощности судоремонтных предприятий. Это напрямую влияет на цикличное применение кораблей и коэффициенты их оперативного напряжения и использования. На ракетно-технических базах сумели разместить в железобетонных укрытиях лишь запас баллистических ракет для подводных крейсеров. В то же время многие тысячи крылатых и зенитных ракет хранятся, к сожалению, на открытом воздухе, правда, в добротных деревянных контейнерах на специально подготовленных площадках.
Совсем плохо бывает в летние месяцы, когда, невзирая на интенсивную боевую службу и напряжённую боевую подготовку, флот захлёстывают избытки корабельного и авиационного топлива, поставляемого промышленностью.
— Поставщики свирепствуют. Эшелоны с горюче-смазочными материалами идут один за другим, — жалуется Петров, — раскачивать не успеваем, некуда! Все ёмкости на берегу и на кораблях залиты под завязку, а эшелоны неделями стоят на запасных путях. Железнодорожники вопят, штрафами грозятся, в суд подают. Какой-то сумасшедший дом!
— Ну, и как же вы поступаете в подобных ситуациях, Владимир Иванович?
— Крутимся, товарищ командующий. Применяем любые приёмы, от личного обаяния до взаимной выручки.
Словом, убедил меня Петров в совершеннейшей необходимости строительства дополнительных топливных складов и даже в инженерной проработке способов хранения мазута в заброшенных шахтах. Таких полно на Кольском полуострове.
В заключение я попросил своего заместителя письменно изложить и представить мне полный перечень тыловых проблем и предлагаемых способов их разрешения. На этом и отпустил Петрова, сказав, впрочем, что моя работа в органах тыла лишь начинается.
В центре Мурманска, на территории, обнесённой красивой металлической решёткой, напоминающей чем-то ленинградские садовые ограды, размещается симпатичное здание. Это штаб тыла флота. Здесь как раз и восседает вице-адмирал Владимир Петров, осуществляя свою важнейшую функцию связующего звена между флотом и народным хозяйством прилегающих областей. Однако истинным хозяином в здании (да и не только в нём) является первый заместитель Петрова, начальник штаба тыла, контр-адмирал Василий Денисов. {238}
С Васей я знаком с давних времён. Слыхивал о нём в ту пору, когда молодой моряк слыл неплохим акробатом, выжимал стойки на кистях рук и венчал подобным эффектным образом верхушки разнообразных человеческих пирамид. Но, невзирая на божий дар, Василий чуть ли не полжизни прослужил на Северном флоте, и отнюдь не в тыловых органах. Мне приходилось не раз выходить с ним в море, на борту корабля, которым командовал Денисов.
Впоследствии, проявив себя незаурядным тактиком-противолодочником, Василий Павлович возглавил штаб крупного соединения. А не так давно, неожиданно для самого себя, шагнул с корабельной палубы прямо в штаб тыла флота. Выжав, образно говоря, очередную стойку, он честно заработал звание контр-адмирала.
Именно Денисов подробно ознакомил меня с работой штаба тыла. Того самого штаба, который, выполняя задачи, поставленные командующим флотом, в соответствии с решениями, принятыми его заместителем по тылу, планирует, организует и управляет многочисленными и весьма разнообразными видами тылового и технического обеспечения.
Начальник штаба тыла, как первый заместитель, является прямым начальником всего личного состава тыла. Однако непосредственно ему подчиняются три отдела штаба во главе с многоопытными капитанами 1-го ранга Харитоновичем, Горшковым и Иовашвили, кроме того — подразделения связи и спецсвязи, а также автотранспортная служба полковника Гончарова и отдельный автомобильный батальон полковника Колосова.
В военное время и на крупных учениях Денисов организует работу тылового пункта управления (ТПУ), расположенного в центре Кольского полуострова, возле отрогов Хибинских гор. Я не пожалел суток, чтобы съездить вместе с начальником штаба тыла посмотреть на оборудование и оценить возможности этого сооружения, упрятанного в складках местности и прикрытого заполярным лесочком. В целом остался доволен, хотя и подумал, что знакомиться следовало бы не с бетонными арками и их начинкой, а с людьми, составляющими боевой расчёт ТПУ. Дал себе слово нагрянуть сюда в период очередного флотского учения, чтобы по возможности увидеть тыловой пункт управления в деле.
Ну а красивую решётку у здания штаба тыла я заприметил: ишь как размахнулись тыловики! Режим, оказывается, возможно соблюдать не только с помощью колючей проволоки! Надо будет соорудить нечто подобное вокруг всего комплекса зданий штаба флота в Североморске. Пусть постарается Олег Аниканов. Изящества ограды Летнего сада ему, разумеется, не достигнуть и архитектора Фельтена не переплюнуть, {239} но стремиться к совершенству всегда полезно: военная служба должна быть не только суровой или тяжёлой, но и красивой.
Другой важный орган управления в хозяйстве вице-адмирала Петрова — политотдел во главе с заместителем начальника тыла флота по политчасти капитаном 1-го ранга Евгением Зародовым, который поначалу мне понравился. Подтянут, энергичен, получил хорошее образование... Возможно, именно это обстоятельство порождало у Евгения Дмитриевича чувство некой ущербности от назначения в тыл. Правда, напрямую он об этом не говорил. Зато уж больно лихо «размахивал шашкой», грозясь искоренить всех тыловых лентяев, проходимцев, нечистых на руку субъектов, которых в тылу, по мнению начальника политотдела, полным-полно.
Я понимал, разумеется, что партийный контроль в среде, осуществляющей оборот несметных материальных ценностей, особенно необходим. В то же время политическая работа среди людей, кормящих и одевающих военных моряков, ремонтирующих и вооружающих их корабли, будет успешной лишь при условии огромного уважения к тыловой профессии. О том я и сказал Зародову.
Кроме Денисова и Зародова, у вице-адмирала Петрова имеются ещё два заместителя. Это начальник органов вооружения и судоремонта (ВИС) контр-адмирал Ананиашвили, а также начальник общевойскового снабжения (ОВС) флота капитан 1-го ранга Носенко. Первого я помню ещё со времён службы на Дальнем Востоке, где вместе «Щуками» командовали в бухте Улисс. Однако второй мне вовсе не знаком, наши служебные пути ранее не пересекались.
Опытный подводник Борис Ананиашвили хорошо разбирается в морской технике и оружии кораблей, освоил организацию их эксплуатации и ремонта, поддерживает необходимые связи с промышленными предприятиями. К сожалению, он почти мой ровесник и, следовательно, уже исчерпал установленный законом срок пребывания на действительной военной службе. Правда, получил продление на пять лет и работает теперь «сверхурочно».
В подчинении у начальника ВИС находятся три важнейших управления: техническое, ракетно-артиллерийское и минно-торпедное. Во главе техупра, как называют флотские инженер-механики свою вотчину, стоит знающий корабельный инженер, контр-адмирал Николай Мормуль. Вот уже четверть века после окончания «Дзержинки» служит он на Северном флоте. Начинал лейтенантом, командиром группы на первой отечественной атомной подлодке «К-3». Работал заместителем командира соединения атомоходов по электромеханической части, затем — главным корабельным инженером {240} в техупре, потом — заместителем командующего атомной флотилией в Гремихе. А ныне главной заботой Николая Григорьевича является техническая эксплуатация всех кораблей Северного флота, восстановление и продление моторесурса их энергетических установок, контроль и приведение к норме их физических полей, снабжение запасными частями и другими видами технического имущества.
Слушая Мормуля, знакомясь с проблемами всех видов судоремонта, начиная с капитального на заводах промышленности и кончая межпоходовыми, проводимыми силами собственных плавучих заводов и мастерских, я думал о том, что не зря во главе флотских инженеров поставлен этот опытный подводник-атомщик, обуреваемый к тому же различными привлекательными идеями, направленными на увеличение сроков службы морской техники. Видимо, поэтому даже первое поколение атомных подлодок, включая знаменитую «К-3», находится в эксплуатации и, невзирая на солидный возраст, успешно плавает.
Побывали мы с Мормулем на судоремонтном заводе в Росте, благо техупр расположен неподалёку. Долго ходили по цехам, но в конце концов пришли к хорошо знакомому сухому доку. В былые времена не единожды проходил я сквозь ворота этого фундаментального сооружения, стоя на мостике «Б-77» или «К-178». А теперь Мормуль докладывает, что док требует срочной реконструкции и удлинения. Иначе, дескать, негде будет ремонтировать крейсера типа «Киров». Никуда не денешься — ещё одна проблема для генерала Аниканова.
Напоследок не преминул спросить у Николая Григорьевича, как обстоят дела с переоборудованием бывшей гвардейской подлодки «К-21» Николая Лунина. В ответ Мормуль принялся божиться, что работы ведутся (правда, пока в цехах завода в Полярном), но к 50-летию флота он восстановит подлодку в подобающем виде.
Завершив с техническим управлением, я принялся за ракетно-артиллерийское. Его начальник, контр-адмирал Анатолий Ильин, — фигура мне мало знакомая. Знаю, конечно, что всю службу он прошёл на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. Это само по себе уже внушает уважение. Долгое время являлся флагманским специалистом-ракетчиком в Гаджиеве. Ныне слывёт знающим инженером по эксплуатации ракетного оружия и организации ракетной подготовки на флоте.
В прямом подчинении у начальника ракетно-артиллерийского управления находится полдюжины ракетно-технических баз (РТБ), расположенных в различных пунктах базирования кораблей, и крупный артиллерийский арсенал в придачу под Мурманском. {241}
Каждая такая база — это отдельная воинская часть со своим командиром и личным составом, охраной и обороной, собственной территорией и специальным транспортом, цехами приготовления и складами оружия, а также причалами для погрузки его на носители. Кроме того, имеются плавучие транспорты-ракетовозы, способные подавать и грузить оружие на корабли в пунктах рассредоточенного, маневренного базирования. Многие тысячи баллистических, крылатых, зенитных ракет, стартовых агрегатов и боевых частей к ним наряду с несметным числом артиллерийских снарядов, а также проблемы хранения, эксплуатации и применения оружия составляют предмет основной заботы контр-адмирала Ильина.
Молод — это хорошо. Но, к сожалению, больше похож на ракетного интеллектуала, чем на морского волка. Подобная сфера деятельности требует наличия твёрдой воли у начальника и жёсткой дисциплины от подчинённых. Вот пусть Ананиашвили всё это и воспитывает у Ильина. Да и Петрову с Денисовым не вредно почаще заглядывать за колючую ограду ракетных баз — уж больно серьёзные объекты.
Знакомство наше завершилось осмотром ракетно-технической базы (РТБ), что расположена в бухте Окольной неподалёку от Североморска.
У контрольно-пропускного пункта, рядом с пятиэтажным зданием казармы, нас встретил командир части капитан 1-го ранга Владимир Бунчук. Чёткий в движениях и словах, он произвёл на меня хорошее впечатление собранностью и знанием дела. Понравился и личный состав РТБ. Офицеры и мичманы опрятные, вежливые, компетентные. Матросы, к сожалению, чуть потусклее. Лучших, как известно, отбирают для службы на кораблях, а здесь всё-таки береговая часть. Подразделения разведены по своим заведованиям. Люди готовы отвечать на вопросы, рассказать о делах. Жаль только, что Бунчук не даёт им говорить, старается лично пояснить любую мелочь. За это и получает от меня замечание. Словом, база к осмотру готова!
Несколько гектаров скалистой местности, занимаемой ракетно-технической базой, включают административную и техническую территории. На первой размещены лаборатории и мастерские, пожарное депо и гаражи для ракетовозов, другие строения и бетонные убежища для личного состава. На второй, в распадках гор, стоят арочные укрытия для баллистических ракет. Посмотреть и даже похлопать ладонью такую гигантскую машину — более чем интересно. Далеко не каждому подводнику может быть предоставлена подобная возможность.
Неподалёку расположены площадки для открытого хранения крылатых и зенитных ракет. На этих площадках рядами {242} построены деревянные контейнеры, в каждом их которых лежит маленький самолёт со сложенными крыльями. Картина, разумеется, не очень-то привлекательная, но ведь именно так издавна организовано хранение на всех РТБ флота. К этому и я привык ещё со времён службы в Западной Лице, когда строил там базу. К тому же Бунчук успокоил, сказав, что герметичность заводских контейнеров великолепная, а хранящиеся в них изделия (без боевых частей и не заправленные топливом) подобны разве что бочкам из-под керосина.
Отдельно выгорожена охраняемая зона особого режима. Там, вокруг небольшого озера, служащего одновременно и пожарным водоёмом, складированы пороховые стартовые ускорители для крылатых ракет. Рядом, в приземистом здании, хранятся особо взрывоопасные боевые части... А вокруг караульные вышки, колючая проволока и мшистый гранит. Мрачноватая картина.
Тем не менее я поручил контр-адмиралу Ильину произвести расчёты, согласовать их с управлением капитального строительства и доложить на военном совете перспективу полного укрытия всех видов ракет, если и не в подскальных выработках, то уж во всяком случае в железобетонных арочных сооружениях. На том и распрощался с Бунчуком. Но сам ещё долго размышлял о том, сколько всего ещё сделать предстоит. Уму непостижимо! Рук не хватит на те несколько лет, что придётся командовать флотом. Жаль мне генерала Аниканова, ибо он далеко не всесилен. Значит, придётся мне вырабатывать систему приоритетов в капитальном строительстве. От пожеланий Олега Карповича эта система не зависит. Флот строит командующий.
Впрочем, думай не думай, а начатое дело следует завершать. Поэтому вскоре я уже занимался минно-торпедным управлением. Справедливости ради надо сказать, что здесь всё оказалось проще, чем у соседей-ракетчиков. Во-первых, потому, что мины и торпеды — исконное морское оружие с огромным опытом эксплуатации и боевого применения. Запасы такого оружия традиционно надёжно укрыты ещё со времён войны, когда боевая необходимость заставляла упрятывать торпедно-технические базы (ТТБ) в подскальные выработки.
Во-вторых, начальником управления недавно назначен контр-адмирал Геннадий Емелин, до того служивший командиром одной из бригад подводных лодок флота. Весьма строгий и суровый мужчина. У такого не забалуешься. Тем более что всем подводникам памятен случай двадцатилетней давности, когда на «Б-37», стоящей у причала в Полярном, взорвались боевые торпеды. Подводная лодка затонула вместе с ошвартованной к её борту «С-350». Погибло 122 моряка. Катастрофа эта поставила точку в карьере командующего {243} Северным флотом, уважаемого мною адмирала Андрея Трофимовича Чабаненко.
Слушая доклад Емелина, я думал о том, как неузнаваемо изменилось минно-торпедное вооружение за 20 лет. Ныне у нас имеются не только прямоходные парогазовые или электрические торпеды, но поступают крупными сериями бесследные, дальнобойные, наводящиеся по кильватерному следу, а также глубоководные, малошумные, телеуправляемые или самонаводящиеся в двух плоскостях универсальные торпеды, предназначенные для поражения как подводных лодок, так и надводных кораблей противника с помощью обычных или ядерных зарядов. Торпеды используются также в качестве головных частей противолодочных ракет или минных комплексов.
Не меньшую озабоченность у начальника управления вызывает минное оружие. Различных видов и типов морских мин накоплено немало. Приняты на вооружение новые донные и якорные, плавающие и всплывающие мины, а также минно-торпедные и минно-ракетные комплексы с гидроакустическими каналами наблюдения и взрывателями, срабатывающими от воздействия различных физических полей, порождаемых кораблями и судами. Боевую устойчивость минам придают приборы срочности и кратности приведения их в боевое положение, различные минные защитники и, кроме того, устройства телеуправления минными заграждениями.
Каким образом применять столь коварное, обоюдоострое оружие для нанесения прямого или косвенного ущерба противнику, для сковывания его в операционной зоне флота, при обеспечении безопасности собственных сил — это моя забота. Для того и создана в управлении контр-адмирала Лебедько специальная группа офицеров. А вот обеспечить исправность, техническую готовность и возможность в короткие сроки массовой подачи мин на подводные лодки, надводные корабли и самолёты создаваемой мною минозаградительной группировки — прямая обязанность контр-адмирала Емелина. Был рад удостовериться, что Геннадий Валентинович это хорошо понимает.
Впрочем, в номенклатуре возглавляемого им управления кроме мин и торпед числится множество всякого другого вооружения. Глубинные бомбы, например, всех сортов или минные искатели и тралы различного предназначения. Характеризуя объём собственной работы, Емелин не без гордости оперирует цифрами. Около тысячи боевых упражнений с применением вооружения его номенклатуры выполняют в течение года корабли и авиация флота. Половина среди них — практические стрельбы и торпедометания, что, дескать, на порядок выше количества ракетных стрельб, обеспеченных управлением контр-адмирала Ильина. {244}
Списав долю фанфаронства собеседника на малый срок пребывания в должности и естественное стремление представить службу наилучшим образом, я всё же рекомендовал ему заниматься собственными проблемами. У Ильина стрельб, разумеется, меньше, зато проблем несравнимо больше.
Рабочий день я по традиции завершил тем, что слетал с Емелиным в Западную Лицу и осмотрел там новейшую, упрятанную в скале, торпедно-техническую базу. В моё время, когда создавалась эта огромная горная выработка, я ещё не знал о её окончательном предназначении. Тем более приятно было увидеть нынешнее грандиозное сооружение, где на механизированных стеллажах, во множестве рядов по высоте и в глубину хранятся сотни сверкающих смазкой подводных снарядов. А вокруг яркий свет, неописуемая чистота и абсолютная тишина. Даже Нина, не терпящая малейшего беспорядка в доме, увидев подобное, осталась бы довольна.
Не буду лукавить, упоминая, что время от времени мне приходилось делать паузы в поисках ответа на сакраментальный вопрос о том, где у флота тыл: обстоятельства заставляли, текучка заедала, надо было видеть всё, что происходило вокруг, а не только в тылу. Иначе можно потерять общую обстановку. Тем не менее я всё-таки находил возможность и вновь углублялся в проблемы сложного хозяйства вице-адмирала Петрова. Несмотря на заверения Владимира Ивановича о якобы достигнутом балансе потребностей флота и возможностей тыла, хозяйство это в зависимости от обстоятельств казалось мне то излишне обильным и потому неповоротливым, то недостаточно развитым и мало эффективным. Изучать его следовало с разных сторон.
На сей раз внимание моё привлекло формирование тыла, объединяющее суда обеспечения флотского подчинения и именуемое Вспомогательным флотом. Начальствовал над ним опытный моряк контр-адмирал Аркадий Киселёв, умеющий работать как с военными, так и с гражданскими экипажами подобных судов. В составе Вспомогательного флота находились большие и средние танкеры, водоналивные суда, сухогрузные транспорты, рефрижераторы, транспорты вооружения, ледоколы, морские буксиры, киллекторы, кабельные суда, суда контроля физических полей. Непосредственно Киселёву были подчинены три бригады судов обеспечения. Бригадами командовали бывалые капитаны 1-го ранга Горбунчиков, Усатый и Соколов.
Кроме того, в каждом пункте базирования имелись дивизионы судов обеспечения, подчинённые соответствующим тыловым начальникам и включающие уйму плавсредств. Среди {245} них плавучие казармы и мастерские, плавдоки и плавкраны, рейдовые буксиры и торпедоловы, катера-мусоросборщики и мусорные баржи, санитарные, посыльные и другие катера. Без подобного «джентльменского набора» флотская жизнь немыслима.
Соседом и соратником контр-адмирала Аркадия Киселёва является капитан 1-го ранга Юрий Кононенко, возглавляющий поисково-спасательную службу, предназначенную для осуществления поиска и оказания помощи повреждённым и терпящим бедствие подводным лодкам, кораблям, судам, летательным и космическим аппаратам, спасения их экипажей. Начальнику службы подчинена ещё одна бригада судов обеспечения, на этот раз — поисково-спасательных. В её составе морские буксиры-спасатели, суда-спасатели подводных лодок, суда для подъёма с грунта затонувших объектов, противопожарные суда и катера, водолазные суда и боты. Поистине бесценным фондом поисково-спасательной службы является отряд водолазов-глубоководников, способных работать на глубинах, близких к предельным для человеческого организма.
Кроме того, на флоте имеется ещё и дивизион гидрографических судов, подчинённый начальнику одноимённой службы контр-адмиралу Константину Коротаеву. Тем не менее все 290 судов Вспомогательного флота верно служат делу поисково-спасательного, навигационно-гидрографического, транспортного и технического обеспечения. Они создают условия для надёжного базирования и безопасного мореплавания, для оборудования операционной зоны и проведения боевой подготовки сил Северного флота. Цифры говорят о том, что на каждые три боевых корабля приходится в среднем два обеспечивающих судна.
Однако меня мучают сомнения. Это много или мало? Хорошо или плохо? А сколько нужно? Ответов на подобные вопросы от Аркадия Ивановича Киселёва я, к сожалению, не получил. Да и вице-адмирала Петрова поставил в тупик. К тому же среди судов обеспечения лишь 20, сведённых в бригаду Юрия Горбунчикова, способны работать в океане. Остальные предназначены для ближней морской зоны. В то же время к боевым силам океанской зоны относятся все из 186 подводных лодок флота и 64 крупных надводных корабля. Соотношения между потребностями флота и возможностями тыла здесь ещё более удручающие.
Беда в том, что и у меня нет сколь-нибудь обоснованных личных суждений о необходимых и достаточных соотношениях при установлении баланса между ударной и обеспечивающей подсистемами. Это плохо. Командующий не может строить флот, если не знает, к чему надо стремиться. По-видимому, придётся заставить Коробова и Петрова выполнить {246} детальные расчёты возможностей, соотнесённых к потребностям. Да не вообще и не на пальцах, а для конкретной ситуации по каждому виду обеспечения и типу кораблей и судов. Не надо меня уверять, что Северный флот, дескать, самый обеспеченный.
Впрочем, уверяй не уверяй, а все 290 судов Вспомогательного флота мне даже мельком осмотреть не удастся. Решил сосредоточить внимание лишь на самых представительных экземплярах этого огромного хозяйства. Вице-адмирал Петров предложил посетить большой морской танкер «Генрих Гасанов», осмотреть поисково-спасательное судно «Георгий Титов», специальную подводную лодку-спасатель и, наконец, полюбоваться госпитальным судном, только что принятым в состав флота.
Застать у своего причала танкер, носящий имя известного конструктора-теплоэнергетика Героя Социалистического Труда Генриха Алиевича Гасанова, оказалось большой удачей. Обычно он и подобные ему суда из бригады капитана 1-го ранга Горбунчикова бороздят просторы морей, неся боевую службу наравне с боевыми кораблями. У «Гасанова» гражданский экипаж и капитан. Однако подготовлен он не только к одиночному плаванию, но и к совместным действиям с кораблями в едином боевом порядке. Недаром на апрельском учении «Генрих Гасанов», следуя во главе демонстративной группы кораблей «противника» в соответствии с замыслом контрадмирала Колмогорова, сумел отвлечь на ложное направление часть разнородных ударных сил оперативного соединения вице-адмирала Зуба.
Оно и неудивительно, поскольку я получил возможность лично убедиться, что водоизмещение танкера «Ганрих Гасанов» в 23 000 тонн существенно превышает таковое у крейсера «Александр Невский». Правда, скоростишка маловата — всего 16 узлов, зато дальность плавания 10 000 миль и автономность 90 суток. Это делает танкер поистине океанским. Полезного груза он может принять 14 000 тонн. Среди них в ассортименте корабельный мазут, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы, питьевая и котельная вода, сухие грузы и, наконец, запасы продовольствия. Судно оборудовано мощными кранами, а также устройствами для передачи жидких и сухих грузов в море, на ходу, траверзным способом, на два-три корабля одновременно.
Словом, «Генрих Гасанов» способен почти на всё, кроме пополнения кораблей оружием и боеприпасами. В ноябре ему предстоит поход в составе отряда боевых кораблей через всю Атлантику с заходом на Кубу и проведением там совместных учений в Карибском море. Поэтому я, честно говоря, особо внимательно присматривался к судовому порядку, однако {247} остался доволен. Тем более что перед таким походом, совмещённым с официальным визитом, танкер не раз будут «трясти» различные комиссии — от штаба бригады, до штаба флота. Ну а пока, прощаясь, я пожелал успехов истинным труженикам моря, составляющим экипаж «Генриха Гасанова».
Другим объектом моего осмотра стало новейшее поисково-спасательное судно, получившее своё название в честь ушедшего недавно из жизни видного организатора судостроения, первого заместителя председателя Госплана СССР, Героя Социалистического Труда Георгия Алексеевича Титова. Водоизмещение у спасателя существенно отличается от танкера — всего 8000 тонн. Однако главные размерения почти совпадают. Просто танкер в полном грузу уходит в воду на б метров глубже, а спасатель посторонних грузов не принимает и поэтому остаётся самим собой. Даже внешне «Гасанов» и «Титов» чем-то похожи. Та же высокая многопалубная кормовая надстройка с ходовой рубкой. Такие же мощные портальные краны со стрелами для забортных работ. Только вот автономность у «Титова» поменьше — всего 20 суток, а дальность плавания только 6000 миль.
Вместе с тем «Георгий Титов» имеет совсем другое предназначение, нежели танкер. О том без устали рассказывает мне капитан 1-го ранга Кононенко. Судно, дескать, предназначено для поиска затонувших подводных лодок и спасения их экипажей. Для этого оно имеет вполне современное высокоточное навигационное оборудование, гидроакустический комплекс обнаружения подводных объектов и морскую подводную телевизионную систему, способную работать на глубинах до 200 метров.
В то же время основным качеством, отличающим «Титов» от остальных спасательных судов, обладающих глубоководными водолазными колоколами, является наличие на нём ангаров для хранения, транспортировки и использования двух автономных подводных аппаратов.
Поисково-обследовательский аппарат способен работать на глубинах до 2000 метров, а поисково-спасательный аппарат может пристыковываться на 500-метровой глубине к аварийному люку терпящей бедствие подводной лодки, принять в себя часть экипажа, всплыть и передать людей на борт «Титова». Затем возможны последующие рейсы на глубину. Подобные аппараты я живьём увидел впервые и поэтому старался пролезть по всем их узлам. Познакомился с системой управления такой миниатюрной подводной лодкой. Убедился, что всё понятно и доступно. Жаль только, что годы не те.
И всё же главным отличием «Титова» от «Гасанова» является экипаж, состоящий из сотни военных моряков. На судне строгий командир, образцовый порядок и подчёркнуто {248} организованная служба в соответствии с Корабельным уставом. При встрече экипаж был построен на верхней палубе по большому сбору. Я не мог не отметить отличный внешний вид и строевую выправку спасателей, хотя и понимал, что этого совершенно недостаточно для их тяжёлой и опасной работы. Поэтому, покидая борт «Георгия Титова», поблагодарил экипаж и пожелал успехов командиру. Однако вскоре не преминул указать капитану 1-го ранга Кононенко, что в текущем году новому судну следует предоставить время и возможности для обустройства и специальной подготовки, а в будущем — провести зачётное учение с фактическим выводом части экипажа из «затонувшей» подводной лодки, лежащей на дне Баренцева моря. В ответ Юрий Васильевич доложил, что примет все меры для своевременного и качественного ввода «Титова» в состав поисково-спасательных сил постоянной готовности.
Для того чтобы побывать на подводной лодке-спасателе, пришлось лететь в Видяево. Там, в составе эскадры, в командование которой недавно вступил контр-адмирал Владимир Калашников, имеется бригада подлодок специального назначения. Среди них плавучие радиоцентры, иначе говоря — лодки связи, переоборудованные из бывших ракетоносцев 629 и 658 проектов. Имеются также уникальные лодки-мишени с корпусами «альбакоровской» формы, усиленными «шубой», выдерживающей прямой удар противолодочных практических торпед. Однако главным достоянием бригады является лодка-спасатель с автономными подводными аппаратами на борту. Командует бригадой капитан 1-го ранга Владимир Косоротов. Он (вместе с Юрием Кононенко) водил меня по отсекам подводного спасателя и давал пояснения.
Эта большая дизель-аккумуляторная подводная лодка сконструирована в ЦКБ «Лазурит» по проекту 940 и поступила на флот в том году, когда, сделав зигзаг в сторону от подводного флота, я укатил в Ленинград. Так что видеть подобное чудо техники приходится впервые. Среди других дизельных подлодок эта лодка-спасатель наиболее крупная. Её подводное водоизмещение около 7000 тонн. Она имеет необходимое навигационное и гидроакустическое оборудование, способна самостоятельно искать аварийную затонувшую подлодку или выходить на неё по данным наведения других поисковых сил.
Лодка-спасатель имеет возможность на глубинах до 250 метров ложиться на грунт неподалёку от потерпевшего бедствия собрата или маневрировать возле него на минимальном ходу. Для наилучшей управляемости в подобных условиях она оборудована специальным подруливающим устройством, позволяющим разворачиваться на месте или даже двигаться боком. В отсеках у неё, кроме обычных, присущих всем подлодкам систем и устройств, имеется медицинское {249} оборудование и декомпрессионные камеры, рассчитанные на несколько десятков человек.
Однако главным, что позволяет этой подлодке носить благородное звание спасателя, является наличие у неё в надстройке двух автономных подводных транспортно-спасательных аппаратов, способных работать на глубинах до 1000 метров. Раскрашенные бело-красными полосами, они, словно горбы у верблюда, возвышаются над палубой надстройки позади боевой рубки. Каждый аппарат имеет в нижней части корпуса люк, с помощью которого сообщается с носителем, а после отделения и автономного перехода к месту аварийной подводной лодки может пристыковываться к её спасательному люку, принять терпящих бедствие людей и передать их на лодку-спасатель или (после всплытия) на другие суда спасательной экспедиции.
Важнейшим качеством подводного спасателя является способность работать в любую погоду, поскольку даже в жестокий шторм на глубине свыше 150 метров абсолютный покой. Жаль только, что носитель подводных аппаратов — дизельная подлодка, имеющая ограниченный срок пребывания под водой. Для подобной задачи более пригоден атомоход. Впрочем, всё ещё впереди — будут у нас и атомоходы-носители, и подводные аппараты с ядерной энергетикой. Об этом и многих других проблемах поисково-спасательного обеспечения мы говорили с капитаном 1-го ранга Юрием Кононенко после того, как вылезли из недр подводного спасателя на чистый воздух. В заключение я поручил Юрию Васильевичу к исходу ноября подготовить для рассмотрения варианты замысла комплексного учения поисково-спасательной экспедиции с участием подлодки-спасателя, судна «Георгий Титов», других сил и средств, как входящих в подчинённую ему бригаду, так и привлекаемых из подводных, надводных и авиационных соединений флота.
Последним в этот суматошный день оказался состоявшийся осмотр новейшего госпитального судна «Енисей». Этот великолепный белый теплоход, с красными крестами на борту и палубе, обладал внушительными размерами. Его длина превышала 150 метров, а водоизмещение приближалось к 12 000 тонн. Дизеля позволяли развивать ход до 20 узлов, а запасы топлива обеспечивали дальность плавания свыше 11 000 миль, что, как известно, превышает половину земного экватора. Эвакуационные возможности этого плавучего госпиталя определялись десятью моторными баркасами, хранящимися на рострах, и вертолётом Ка-27 в специальном ангаре.
Судном управляет экипаж, включающий сотню гражданских моряков во главе с капитаном. Примерно столько же {250} требуется медицинского персонала. Прекрасное лечебное оборудование и великолепные бытовые условия позволяют использовать судно либо в качестве базы межпоходового отдыха экипажей подводных лодок, либо в варианте плавучего госпиталя для перевозки и лечения раненых и больных. Всего, вместе с экипажем и медиками, на борт может быть принято 650 человек. При этом обеспечивается автономность плавания в течение 40 суток. Вот бы на таком красавце пройтись по голубой глади от Гибралтара, скажем, до Босфора. Только куда уж там. В нашем Баренцевом море курортного круиза не получится.
Мы с вице-адмиралом Петровым долго рассуждали о том, кому правильнее подчинить это уникальное госпитальное судно — медикам или морякам? Где определить ему место постоянного базирования? Чем оно должно заниматься в мирное время, когда раненые в море появляются редко, а больных всё же лучше лечить на берегу?
В конце концов решили оставить судно в прямом подчинении у начальника Вспомогательного флота, а начальнику медицинской службы подчинить лишь в специальном отношении. Назначить «Енисею» место стоянки в Североморске, у второго причала, рядом с боевыми кораблями, поблизости от главного госпиталя. В то же время я напомнил Петрову, что гноить подобного красавца у причала недопустимо, иначе гражданский экипаж разбежится, а судно рано или поздно окажется небоеготовным. Суда океанской зоны должны много и далеко плавать, наравне с боевыми кораблями. На то они и построены.
В ответ Владимир Иванович заверил меня, что разработает годовой план эксплуатации и применения госпитального судна в мирное время, а также доложит предложения по его использованию в составе плавучего тыла в ходе операций и боевых действий сил флота. Только поздно вечером, вздохнув с облегчением, я принялся рассказывать жене о том, где болтаюсь целыми днями и почему не только грозными атомоходами или могучими крейсерами силён флот.
Знакомство с госпитальным судном побудило к тому, чтобы вплотную заняться медицинской службой. Её начальник генерал-майор Владимир Жеглов провёл меня по палатам, диагностическим кабинетам, лабораториям и операционным главного госпиталя в Североморске. Он доложил, что подобные стационарные госпитали имеются в Полярном, Гаджиеве, Заозерске, Линнахамари, Гремихе, Северодвинске и на Новой Земле. Там же, как и в ряде других гарнизонов, развёрнуты поликлиники общего профиля, а на флотилиях атомных подлодок — спецполиклиники для контроля за состоянием здоровья людей, непосредственно связанных с эксплуатацией ядерных энергетических установок. Кроме того, в штате всех {251} подводных лодок имеются врачи, а на крупных надводных кораблях и в частях — лазареты.
Вместе с тем Владимир Васильевич справедливо полагал, что на флоте должны служить здоровые люди. Поэтому сохранение здоровья и обеспечение работоспособности экипажей кораблей вообще, а подводных лодок в особенности, является задачей не только военных медиков, но и командиров всех степеней.
Действительно, в длительных автономных походах возникают специфические условия, определяющие работоспособность экипажей, а значит, и боеготовность кораблей. К ним прежде всего относятся качка и связанная с ней морская болезнь. Этой болезни в той или иной степени подвержены все люди. Однако проявляется она по-разному. Одни, особенно молодёжь, лежат пластом. Другие, хоть и с зелёными физиономиями, но выполняют свою работу. Третьи пытаются избавиться от неприятных ощущений, проявляя чудовищный аппетит.
На работоспособность экипажа влияет и нарушение естественного биоритма человека, связанное с необходимостью смены вахты каждые четыре часа. На подводных лодках людям приходится по многу недель кряду дышать искусственно регенерированным воздухом, испытывать перепады атмосферного давления, температуры окружающей среды, ощущать длительное ультрафиалетовое голодание.
Всё это происходит на фоне значительного сокращения двигательной активности. В походе подводник делает ежедневно лишь 1500—2000 шагов, что в 5—6 раз меньше, чем на берегу. При высококалорийном питании гиподинамия приводит к увеличению веса, что отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, особенно у тех, кто неоднократно участвовал в походах.
В особых случаях может сложиться необходимость пребывания людей в отсеках подводной лодки под высоким давлением в несколько атмосфер. При этом кровь насыщается вдыхаемыми составляющими воздуха. Повышается парциальное содержание газов, растворённых в крови. В случае быстрого снятия давления кровь как бы вскипает. Возникает так называемая кессонная болезнь, нередко ведущая к смерти. Спасением является помещение больного в барокамеру и создание там давления, при котором он находился до кесонной болезни, с последующей медленной декомпрессией под наблюдением врача. Военно-морская медицина, по уверению генерала Жеглова, в совершенстве овладела техникой и методами предупреждения и лечения кессонной болезни.
Поэтому установление на современных подводных лодках строгого режима и контроля обитаемости, оборудование их {252} средствами для декомпрессии, а также создание в отсеках тренажёрных выгородок, саун, бассейнов и зон отдыха — не блажь и не прихоть, а насущная необходимость. Такая же точно, как и полноценный межпоходовый отдых экипажа на берегу.
Северный флот обладает для этого прекрасным санаторием «Аврора» на черноморском побережье, неподалёку от города Сочи. Но этого мало. Владимир Васильевич принялся активно убеждать меня в необходимости скорейшего строительства базы межпоходового отдыха подводников поблизости от Североморска. Там, дескать, и строить-то почти нечего. Разве что казарму повышенной комфортности да столовую. А великолепный, собираемый из металлокострукций спортивный зал и плавательный бассейн с необходимым оборудованием ему уже занаряжены из центра. Заманчивое предложение! Пришлось пообещать генералу Жеглову, что в очередной раз напрягу генерала Аниканова, но базу отдыха неподалёку от Шук-озера из него выжму.
В ответ, видимо из чувства благодарности, главный флотский доктор уговорил меня изыскать время и посидеть вместе с ним в госпитальной барокамере, чтобы подышать часик сжатым кислородом. Очень пользительная штука, говорят, для общеоздоровительной оксигенации организма. А если понравится, то можно, дескать, провести десяток-другой подобных процедур. В заключение генерал Жеглов доложил, что в составе тыла флота имеется отдел экскурсий и туризма, деятельность которого напрямую связана с обеспечением должного здоровья и работоспособности североморцев. Потом напомнил о существовании в тылу ветеринарной службы, над которой начальствует его коллега майор Кривоносов. А как же иначе? Ведь несколько тысяч голов крупного рогатого скота в военных совхозах флота, множество свиноферм и птицеферм в подсобных хозяйствах береговых частей, наконец, служба караульных собак — требуют соответствующего ветеринарного обеспечения, поскольку состояние животных прямо влияет на здоровье людей.
На прощание я пообещал Жеглову, что отпуск свой, если сумею выбраться, буду проводить только в хорошо знакомой мне «Авроре». Заодно займусь проблемами этого санатория и перспективой его развития. А сейчас к туристам или ветеринарам я всё-таки не поеду. Нельзя объять необъятное. Как нибудь потом, в случае особой необходимости.
Тем не менее меня одолевали сомнения и мучила совесть. Вон сколько ещё всяческих структур имеется в составе флота. Тут и морская инженерная служба, и химическая, и метрологическая, и топливная, и автобронетанковая, и, наконец, служба воинских сообщений. Завершают этот перечень инспекции {253} пожарной охраны, котлонадзора и безопасности мореплавания. Особняком (под общим руководством заместителя начальника тыла) находятся службы общевойскового снабжения — вещевая и продовольственная, а также отдел сельского хозяйства.
Надо бы вникнуть в деятельность каждой из этих структур, познакомиться с людьми, осмыслить проблемы. Иначе мне не найти ответа на вопрос: «Зачем флоту тыл?» А где время взять? Ну, не могу же я забросить флот ради тыла! Впрочем, при чёткой организации любое дело можно осилить, тем более что впереди — осень и крупных общефлотских учений вроде бы не предвидится.
Начал с морской инженерной службы (МИС), руководство которой размещалось непосредственно в Североморске, поближе к кораблям и причалам. Начальник службы, полковник Анатолий Довгань, коротко обрисовал круг своих нелёгких обязанностей. Его служба имеет свои подразделения во всех флотских гарнизонах и отвечает за состояние причального фронта и тяжёлого рейдового оборудования. Она обеспечивает корабли, стоящие у причалов, а также береговые сооружения электроэнергией, водой, теплом, канализацией. Служба занимается расквартированием штабов, частей и жителей военных городков, эксплуатирует служебные здания и жилые дома, обеспечивает их мебелью и другим инвентарём.
К числу задач морской инженерной службы в военное время относится ведение инженерной разведки местности, дооборудование пунктов маневренного базирования и пунктов посадки десанта, создание инженерных заграждений на десантно-доступных участках побережья, разграждение инженерных сооружений противника в пунктах высадки и создание базы высадки морских десантов. Наконец, важнейшей задачей морской инженерной службы является выполнение наиболее сложной и трудоёмкой работы при ликвидации последствий применения противником своего оружия по нашей системе базирования.
Довгань докладывал, что в его непосредственном подчинении находится отдельный морской инженерный батальон, три дорожных батальона, несколько военно-строительных отрядов и база законсервированной техники, позволяющей при проведении мобилизации развернуть инженерную бригаду. Именно в этих частях сосредоточена тяжёлая инженерная техника: бульдозеры, скреперы, экскаваторы, шнекороторы, гусеничные тягачи, подъёмные краны, мостоукладочные машины, понтонные переправы, плавучие причалы, рейдовое оборудование с бриделями и мёртвыми якорями.
Потом проехали мы с Анатолием Михайловичем по Североморску. Задержались на Приморской площади возле пассажирского {254} причала, у которого, к моему удивлению и удовольствию, стоял плавучий копёр и, гулко орудуя подвесным молотом, вгонял в грунт двадцатиметровые железобетонные сваи.
— К юбилею флота здесь будет новый пассажирский причал, — пояснил Довгань, — и здание морвокзала реконструируем.
А я изумился тому, как быстро реагирует полковник. Стоило только на очередном заседании военного совета упомянуть о неприглядном виде старенького причала на главной площади флотской столицы, как уже и реконструкция затеяна. Впрочем, чему же тут удивляться: ведь должность у начальника МИС генеральская, а он всё ещё в полковниках ходит. Хорошо, что делом заработать авторитет стремится, а не разговорами. Пусть старается.
Завершили мы нашу поездку на 12-м причале, где стоят большие десантные корабли. Рядом, возле 13-го, ошвартована всякая мелочь: рейдовые буксиры, баржи-мусоросборщики, водолеи. Подходы к обоим этим причалам являют собою огромный, лишённый растительности, покрытый колдобинами грунтовый пустырь. Здесь же понастроена уйма хибарок, сарайчиков и иных дощатых сооружений непонятного предназначения. А вокруг валяются какие-то ящики, груды ржавых якорных цепей и прочее безобразие. И всё это под носом у штаба флота. Больше того — прямо перед окнами моего кабинета. Словом, полная противоположность тому асфальтовому великолепию и образцовому порядку, что царит по соседству на причальном фронте эскадры вице-адмирала Зуба.
Пришлось вызывать на причал командира бригады десантных кораблей. Однако его на месте не оказалось. Выбежал начальник штаба, и я принялся, было, отчитывать его за окружающий беспорядок. Но тот отреагировал мгновенно, доложив, что сарайчатый «Шанхай» принадлежит эскадре. Там, дескать, размещаются построенные хозспособом судоремонтные мастерские вице-адмирала Зуба.
Ишь ты! Хитёр Виталий Иванович! Сумел-таки собственную головную боль свалить на шею соседа. А тот молчит и терпит! Надо разобраться. Впрочем, пригласить командира эскадры на соседний причал не составило особого труда. Через пять минут вице-адмирал Зуб, широко улыбаясь, уже вылезал из машины.
— Какие-такие мастерские у вас здесь расположены? — вопрошал я командира Атлантической эскадры. — Почему на чужой территории? Зачем этот «Шанхай», когда у Вас имеется великолепная плавучая самоходная мастерская?
Зуб попытался, было, что-то объяснить, но, когда я предложил пройтись и посмотреть, что творится в сарайчиках, он перестал улыбаться и безнадёжно махнул рукой. Действительно, {255} в «мастерских» мы обнаружили десятка полтора мичманов, занимающихся ремонтом личных автомобилей в служебное время.
— Через неделю здесь будет пусто и чисто, — выдохнул Зуб и тут же снова расплылся в улыбке.
— Неделя — это много. Даю Вам три дня и три ночи. Понятно? А заодно рассмотрите возможность убрать от 13-го причала вспомогательные суда и поставить там боевые корабли. К примеру, эсминцы проекта 56 из бригады Александра Ивановича Фролова. Ему же поручите обследовать и обустроить этот причал. Если мелко, пусть закажет дноуглубительные работы.
— А Вам, Анатолий Михайлович, — обернулся я к полковнику Довганю, — придётся оборудовать на пустыре строевой плац. Снивелируйте поверхность, уберите лишний грунт, обустройте дренаж и электроосвещение, уложите подушку из гравия и залейте площадь гудроном. А заодно приведите в порядок дорогу до северной проходной эскадры. Теперь Виталию Ивановичу ежедневно придётся ездить от 1-го до 13-го причала. Он тут будет главным хозяином.
— Есть! — ответили в унисон оба военачальника. Только первый широко улыбался, а второй угрюмо хмурился.
Тем не менее через пару дней, подойдя утром к окну своего кабинета, я увидел, что «Шанхай» наполовину развален. От буксиров и барж возле 13-го причала и след простыл. Лишь ползает возле него гидрографический катер, осуществляя промер глубин. А на пустыре шуруют бульдозеры, гоняет грунт скрепер и суетятся дядьки с теодолитами. Уму непостижимо!
Недолгий перерыв позволил осмотреться, увидеть, что флотская жизнь идёт своим чередом без срывов и происшествий. Это побудило вновь углубиться в тыловые проблемы. На сей раз позволил себе уделить внимание химической службе. Собственно говоря, она знакома мне больше других служб тыла по годам работы на Краснознамённой флотилии. Приборы, обеспечивающие радиационную безопасность на атомных подлодках, средства и системы регенерации воздуха и контроля газовой среды — всё это номенклатура химической службы. Именно она руководит снабжением кораблей химимуществом, его эксплуатацией и ремонтом, специальной подготовкой дозиметристов и химиков, а также общей подготовкой кораблей и частей к защите от радиационного и химического поражения. Дело это знакомое и привычное.
Да и начальник службы, контр-адмирал Виктор Сканцев, известен мне с тех времён, когда ходил ещё в звании капитана 2-го ранга. Возможно, поэтому главное внимание я уделил не столько службе в целом, сколько отдельному полку химзащиты. Полк подчинён непосредственно Сканцеву и дислоцирован {256} на окраине Североморска. К стыду своему, а может и к счастью, ранее бывать в том полку мне не доводилось.
Однако на сей раз пришлось внимательно осмотреть смонтированную на автомобилях технику для ведения радиационной, химической и бактериологической разведки, а также для дезактивации, дегазации и дезинфекции местности, кораблей, оружия и обмундирования. Познакомился с подразделениями, предназначенными для применения огнеметно-зажигательных средств и маскирующих дымов. Прикинул даже на себя индивидуальную экипировку химиков. В целом остался доволен, тем более что контр-адмирал Сканцев каких-либо проблемных вопросов не поднимал.
Мне оставалось только пожелать командиру полка, капитану 2-го ранга Валерию Фёдорову всяческих успехов и вместе с вице-адмиралом Петровым укатить в хозяйство полковника Льва Феллера. Возглавляемая им служба горюче-смазочных материалов — важнейшая в тылу флота. Без топлива корабли не будут плавать, самолёты не смогут летать, а береговая инфраструктура, да ещё в условиях Заполярья, не способна существовать. Правда, Лев Михайлович подтвердил, что мучают его вовсе не дефицит, а избытки топлива. При избытках возможны нарушения правил его хранения, что несовместимо с пожарной безопасностью.
Начальник службы докладывал, что центр готов, дескать, облегчить участь флота и выделить в ближайшее время пять сборных металлических хранилищ топлива на 20 000 тонн каждое. Проблема лишь в том, чтобы выбрать подходящее место на побережье Кольского залива, поблизости от железной дороги. Потом придётся соорудить фундаменты, смонтировать ёмкости, выполнить обвалование для предотвращения разлива, а также предусмотреть возможность дренирования и аварийного слива топлива.
Пришлось ехать вместе с Феллером и Петровым к мысу Шавор и долго бродить в его окрестностях, где Лев Михайлович уже присмотрел подходящие, с его точки зрения, площадки. Но меня ещё долго мучили сомнения. Слишком близко к Североморску. Очень уж громоздкие и заметные получаются сооружения. И вообще топливо, как и боеприпасы, лучше бы хранить под землёй. В конце концов я, видимо, дам согласие на монтаж этих новых ёмкостей, но только после проработки целесообразности в оперативном управлении, детальном рассмотрении проекта в управлении капитального строительства и согласования с инспекцией пожарной охраны. А там посмотрим. Петров и Аниканов, без которых дело не обойдётся, — мои заместители. Вот пусть и договариваются между собой, уточняют щекотливые детали этой незаурядной стройки. Впрочем, принимать решение всё равно придётся мне. {257}
Возникшие, было, неприятные ощущения оказались вскоре развеянными очередной тыловой проблемой, связанной с получением директивы Генштаба о сформировании на Северном флоте ещё одной бригады морской пехоты с кадрированным (сокращённым) личным составом, но стопроцентным укомплектованием боевой техникой. Докладывали мне эту проблему начальник береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты генерал-майор Валерий Иванов и начальник автобронетанковой службы тыла полковник Николай Гвоздёв. От первого требовались предложения по назначению командования и офицерского состава нового соединения, а также по выбору места его дислокации. Второй отвечал за поставку техники и организацию её консервации и эксплуатации.
Вариант решения неожиданно подсказал первый секретарь обкома Владимир Николаевич Птицын, которому я позвонил с целью посоветоваться. Птицын предложил использовать для размещения новой бригады посёлок Туманный. Оттуда, дескать, совсем недавно, завершив своё дело, ушли строители Серебрянской гидроэлектростанции. Предпринятая вскоре рекогносцировка показала, что лучшее место трудно придумать. Туманный соединён автодорогами с Колой, откуда пойдёт техника, и с Териберкой, где можно соорудить участок посадки морской пехоты на десантные корабли.
В посёлке осталось много вполне современных, но пустующих жилых домов и покинутая база строительной техники. Оставшиеся на постоянное жительство в Туманном рабочие и служащие Серебрянской ГРЭ с энтузиазмом восприняли новую перспективу развития своего посёлка. Поэтому решение о пункте дислокации бригады морской пехоты было принято без промедления. А через неделю генерал Иванов уже представлял мне подполковника Пустоутова, назначенного командиром нового соединения.
Тем не менее должен признаться, что, если бы не эпизод с морской пехотой, я долго ещё оставался бы в неведении относительно различия между автобронетанковой службой полковника Николая Гвоздёва и автотранспортной службой полковника Владимира Гончарова. Обе службы входят в состав тыла флота, но последняя, находясь в непосредственном подчинении у начальника штаба тыла, занимается планированием и выполнением перевозок внутри тыла, осуществляет руководство автомобильными частями, их боевой готовностью и отмобилизованием, подготовкой военных водителей, в то время как автобронетанковая служба организует поставки из центра, руководит эксплуатацией и ремонтом танков, других бронемашин, всевозможных тягачей, очень нужных флоту ракетовозов и торпедовозов, не исключая грузовые и легковые автомобили. {258}
А кроме того, в тылу имеется ещё и служба военных сообщений, возглавляемая капитаном 1-го ранга Владимиром Тимошиным. Эта служба поддерживает непрерывное взаимодействие с железнодорожными, морскими и воздушными транспортными организациями страны, с тем чтобы их силами и средствами осуществлять воинские перевозки людей, техники, оружия и других грузов в интересах флота. И никуда не денешься, даже шага не ступишь без этих служб.
Самыми простыми и понятными оказались органы общевойскового снабжения тыла флота. Одеваться и питаться надо в равной степени всем военнослужащим, будь то моряк, авиатор или пехотинец — от матроса до адмирала. Впрочем, за долгие годы своей жизни я лично редко испытывал недостаток в еде или в обмундировании. Особенно чётко это просматривалось в период службы на Северном флоте. Да и сейчас по вопросам общевойскового снабжения ни вице-адмирал Петров, ни его заместитель капитан 1-го ранга Владимир Фёдорович Носенко каких-либо проблем не выдвигали. Напротив, Носенко утверждал, что у нас, дескать, имеется всё необходимое и в достаточном количестве.
И всё же личное знакомство с продовольственной службой тыла и её начальником полковником Евгением Лекаркиным заставило понять, что полковник занимается не только мясом и рыбой, хлебом и картошкой, овощами и фруктами, шоколадом или, к примеру, чёрной икрой. Иными словами, занимается той многочисленной номенклатурой продовольствия, которая в необходимых, научно обоснованных соотношениях входит в суточные нормы питания различных категорий военнослужащих. У подводников одна норма, у лётчиков другая. Даже для моряков надводных кораблей, плавающих в арктических морях, и тех, кого качает океанская волна под палящими лучами экваториального солнца, — нормы существенно разнятся.
В крут ведения полковника Лекаркина входят также технические средства хранения и приготовления пищи, их эксплуатация и ремонт. Холодильное оборудование на берегу и на кораблях, хлебозаводы и хлебопекарни, оборудование корабельных камбузов, береговых и походных войсковых кухонь, столовая посуда и инвентарь. Разве этого мало? Истребование, получение, заготовка, хранение и снабжение продовольствием и техническим имуществом, а кроме того, обучение и практическая подготовка корабельных коков, хлебопёков и войсковых поваров составляют вереницу нелёгких обязанностей полковника.
Поэтому я не стал особенно мучить Евгения Митрофановича своим вниманием. Лишь прошёлся с ним однажды по главному продовольственному складу в Мурманске. Там в {259} огромных холодильных камерах подвешены к потолку и заморожены тысячи говяжьих, бараньих и свиных туш. Глядя на них, подумал о том, сколько труда должно быть приложено, чтобы доставить этот продукт в удобном виде для перевозки и погрузить его сквозь узкие люки подводной лодки, стоящей у причала где-нибудь в Гремихе.
В то же время мне хорошо известно, что качество питания на конкретном корабле зависит не столько от усилий продовольственной службы, сколько от усердия командира, его помощника и доброй воли офицеров. Там, где корабль считают домом родным на долгие годы, — питание, как правило, великолепно. В противном случае — всё наоборот. И всё это при одном и том же «довольствующем» органе. Поэтому я сказал спасибо полковнику Лекаркину и пожелал успехов его службе.
Существенную помощь в обеспечении военных моряков продовольствием оказывает отдел сельского хозяйства тыла флота. Начальнику отдела полковнику Плохотникову непосредственно подчинены пять военных совхозов, расположенных в крупных гарнизонах, а один из них даже за пределами Кольского полуострова.
С военным совхозом, находящимся в Западной Лице, я знаком не понаслышке. В своё время, командуя Краснознамённой флотилией, принимал активное участие в его становлении и развитии. Наш совхоз, располагая молочной фермой, телятником, свинарником и птицефабрикой, великолепно справлялся с задачей обеспечения подводников свежим молоком и куриным яйцом, а иногда даже баловал парной телятиной или молочным поросёнком, в дар экипажу, с честью завершившему трудный океанский поход.
Такие совхозы называются военными потому, что расположены на землях, вместе с постройками и техникой принадлежащих флоту. Каждый совхоз возглавляет офицер, обычно в звании майора или подполковника. Остальные работники — вольнонаёмные. Многие из них целыми семьями с удовольствием приезжают трудиться в Заполярье, тем более что гарнизон обеспечивает рабочих совхоза орудиями труда, жильём, теплом, электричеством, а также весьма приличной зарплатой.
Свою продукцию совхоз по установленной норме сдаёт продовольственной службе тыла объединения, а излишки может реализовывать среди населения гарнизона. Порою такие излишки могут оказаться существенными. Помню, что в своё время мне приходилось приструнивать начальника совхоза в Западной Лице за попытку вывозить и торговать продукцией за пределами гарнизона. Ишь чего захотели? Доводы о том, что излишки молока портятся, на меня не действовали. Хозяйствовать не умеете! Обзаводитесь оборудованием, {260} производите ряженку, простоквашу, кефир. А то и о сепараторе собственном подумайте. Делайте масло, сметану и процветайте, дескать, на здоровье.
Подобные проблемы существуют в военных совхозах и поныне. О том мне докладывал полковник Плохотников. Однако заниматься их разрешением я не намерен и разъезжать по совхозам не собираюсь. Даже вице-адмиралу Петрову не посоветую. Для того как раз и ходит у него в заместителях капитан 1-го ранга Владимир Носенко. Вот пусть он и вкалывает.
Заглянул я однажды и в вещевую службу тыла флота, где происходила передача дел от уходящего в запас полковника Леонида Васильева ко вновь назначенному полковнику Виталию Калинину. Оба полковника мне хорошо знакомы. С Васильевым учился вместе в далёком 1942 году. Правда, он тогда был на основном, а я на подготовительном курсе Военно-морского хозяйственного училища. Потом, уже на Северном флоте, встретились заново. Васильев почитал тогда своим долгом лично обмундировывать тех офицеров, кто был удостоен адмиральского звания. Именно из его рук я получил свои первые контр-адмиральские погоны и фуражку с расшитым золотом козырьком.
А с Калининым мы служили лейтенантами в Порт-Артуре. Только он — в вещевой части бербазы, а я — штурманом на подводной лодке. Случилось даже, что моя Нина лежала в родильном доме вместе с Надей Калининой. Там и подружились. А потом Надежда, оказавшаяся неплохой портнихой, учила Нину искусству шить красивые платья из бесподобного китайского шифона или панбархата. Правда, с той поры больше не встречались. Целая жизнь пролетела.
Однако многолетняя служба полковника Калинина на благо внешнего вида, а следовательно, и внутреннего достоинства военных моряков достойна уважения. Вещевая служба тыла флота ведает не только своевременным и полным обеспечением всех североморцев личной форменной одеждой или материалами для индивидуального пошива. В кругу её забот также инвентарное рабочее обмундирование, начиная с непродуваемых корабельных и караульных шуб, подводницких бараньих курток с меховыми штанами и кончая лёгкими ярко-синими комплектами тропической одежды.
Кроме того, служба обязана заниматься банями, прачечными, даже мылом и мочалками, корабельными и базовыми швальнями, гладильнями, обувными мастерскими, оборудованием и инвентарём для них. Словом, работы хватает, но Северный флот недостатка в обмундировании не испытывает, а внешний вид военных моряков в основном соответствует требованиям уставов. {261}
Последнее, кстати сказать, будет зависеть не только от усердия полковника Калинина, но от заботы и требовательности офицерского состава. Здесь очень важен личный пример. Это прописная истина, что у командира-неряхи весь экипаж такой же. Высказав подобные мысли, я в заключение пригласил полковника с супругой заглянуть к нам с Ниной в Североморск. Чайку, дескать, попьём. Порт-Артур вспомним.
Однако окончательный штрих в картину тылового обеспечения внёс начальник управления военной торговли Северного флота, который в лице совершенно великолепного полковника Владимира Романова появился однажды в моей приёмной. Глядя на красавца-полковника, я думал, что такому следовало бы не военторгом командовать, а по крайней мере бригадой морской пехоты. Мне бы такую внешность, так я давно всеми флотами в мировом масштабе управлял бы.
О том же чуть позже сказала жена, которой полковник Романов успел представиться, заглянув на 7 этаж дома № 1 по улице Сафонова, где в семикомнатной главкомовской резиденции и в полном одиночестве всё ещё томилась Нина. Он заверил, что супруга командующего флотом не будет нуждаться ни в чём, поскольку военторг обладает всем. Ей, дескать, нет нужды ездить по магазинам. Самые лучшие товары допущенный к тому мичман Максимов привезёт к ней домой, где можно не спеша рассмотреть, примерить и выбрать, что необходимо.
Ну а мне полковник докладывал о несметном количестве продовольственных и промтоварных магазинов, столовых и ресторанов при военных гостиницах, буфетов и кафе в домах офицеров, швейных ателье и комбинатов бытового обслуживания, что развёрнуты повсеместно, начиная от Североморска и кончая самыми отдалёнными гарнизонами, вроде Гремихи или Новой Земли. Торгует он в основном отечественными товарами любого ассортимента — от автомобилей до художественной литературы. Иногда получает импорт, но недостаточный для удовлетворения массового спроса.
Романов приводил внушительные цифры годового оборота и финансового плана управления торговли. Подчёркивал, что его благополучие зависит от доброй воли органов тыла и начальников гарнизонов, поскольку обеспечение торговыми помещениями, светом и теплом, а также подвоз и разгрузка товаров осуществляются с их непременной помощью. В заключение начальник военторга заверил меня, что лично он является горячим патриотом Северного флота и сделает всё возможное для повышения жизненного уровня североморцев.
В ответ я напомнил полковнику, что финансовый план управления торговли меня мало интересует. Пусть по этому поводу голова болит у его московского начальника, генерала {262} Гольдберга. Но благополучие людей, особенно проживающих в отдалённых гарнизонах, где другой торговли и бытового обслуживания вообще не существует, — для меня весьма важно. Именно это благополучие как раз и будет служить критерием оценки работы начальника управления.
Романов щёлкнул каблуками и вышел с гордо поднятой головой. А я принялся размышлять о том, что, по-видимому, поставил точку на изучении тыловых проблем. Теперь мне, пожалуй, понятно, чем заняты 10 адмиралов и генералов, добрая сотня полковников, 2000 других офицеров, 8000 мичманов, старшин и матросов и 30 000 вольнонаёмных рабочих и служащих, определяющих тыловое и техническое благополучие Северного флота.
| {263} |
Среди забот по уяснению роли тыла в судьбе флота незаметно подкрался к концу август месяц. Собственно говоря, вокруг всё ещё зелено, но впереди сентябрь, когда неожиданный снег может лечь плотным слоем прямо на листву и траву. Через неделю растительность станет по-зимнему чёрной, так и не подарив людям радости созерцания осеннего багрянца. Впрочем, всё может обернуться иначе. Строить догадки — дело неблагодарное. Даже полковник Дмитрий Мамонов от долгосрочного синоптического прогноза обычно воздерживается. Несмотря на это, жители Заполярья уверены, что коротенькое наше лето заканчивается практически в последнее воскресенье июля, когда страна отмечает День Военно-Морского Флота. А дальше — как повезёт.
Меж тем Северный флот продолжает жить в своём напряжённом ритме. На соединениях, пользуясь остатками приличной погоды, подбирают «хвосты» в боевой подготовке, достреливают контрольные боевые упражнения, готовят экипажи к очередным походам на боевую службу, встречают корабли, приходящие с моря, оценивают и изучают их опыт. Не так давно, к примеру, возвратились после трёхмесячной службы в Индийском океане атомные подлодки «К-467» капитана 1-го ранга Ильи Лащенко и «К-147» капитана 2-го ранга Владимира Харлашкина. Обе они из Западной Лицы. А кроме того, пришла домой в Полярный дизельная «Б-6» капитана 2-го ранга Анатолия Тураева.
К сожалению, встретить лично хотя бы одну из них я не сумел — тыловыми проблемами, видите ли, занимался. Подобное и не реально: 200 выходов на боевую службу и столько же возвращений — не шутка. Если каждый корабль провожать и встречать лично, потребуется 400 дней — больше года! Тем не менее я понимал, что морского лиха в горячих и солёных водах Индийского океана, на подходах к Аденскому заливу и Ормузскому проливу, эти ребята хватили сполна. О том рассказывали мне вице-адмирал Чернов и контр-адмирал Парамонов. Дескать, техника наша более приспособлена пока к {264} работе в холодных водах Северной Атлантики и Ледовитого океана. Остаётся только надеяться, что уникальный опыт подводников, пришедших из южных морей, займёт достойное место в истории флота и принесёт удачу последователям.
И всё-таки по себе знаю, как приятно бывает экипажу, когда после трудного похода на причале родной базы его встречает командующий. Меня, к примеру, не раз встречали адмиралы Чабаненко и Лобов. Провожал в Арктику адмирал Касатонов. Надо поддерживать эту традицию, находить время.
Тем временем в конце августа возвратился из отпуска вице-адмирал Коробов. Приехал Вадим Константинович с черноморского побережья, по его словам, хорошо отдохнувшим. Вот пусть и берёт теперь в свои руки вожжи управления. А мне пора подумать о собственном краткосрочном отдыхе. Пока командовал Ленинградской ВМБ, честно говоря, я предпочитал сочинский военный санаторий имени Яна Фабрициуса. Но теперь вице-адмирал Петров и генерал Жеглов убедили меня, что нет на Чёрном море места лучше флотского санатория «Аврора». Тем более что «самый отдалённый гарнизон» Северного флота нуждается в периодическом хозяйском пригляде. А связью и транспортом, дескать, командующий будет обеспечен в «Авроре» не хуже, чем в Североморске. Ну, что ж, значит, быть по сему. Вот только разделаюсь с остатками текущих забот и позвоню Главкому.
Среди неотложных находилось и моё окончательное решение о направлении на учёбу в Военную академию Генерального штаба некоторых высших офицеров флота. На сей раз речь шла о кандидатурах командира «новейшей» дивизии контр-адмирала Виктора Волкова из Западной Лицы и командира «передовой» дивизии контр-адмирала Василя Порошина из Гаджиева. Оба они неплохо командуют своими соединениями. Жалко отпускать. А может быть, и вправду, придержать? Повод всегда найдётся.
Вспомнил даже, как в своё время командующий Краснознамённой флотилией вице-адмирал Сорокин, известный больше среди своих под кличкой «Тотон», зарубил мою кандидатуру для поступления в академию Генштаба. Дескать, этот доктор наук и так «всё знает». Пусть в море вкалывает — может, человеком станет!
Так и остался я без «Генеральской» академии. Впрочем, по мнению многих, не очень-то она нужна для военно-морского образования. Знаю, например, что и наш Главком относится к этой академии скептически. Сам он её не заканчивал, да и многие другие выдающиеся адмиралы флота, такие как В. А. Касатонов, Н. Д. Сергеев, Г. М. Егоров, С. М. Лобов — тоже. {265}
Тем не менее вице-адмирал Чернов просил послать на учёбу Виктора Волкова: он видит в нём не только достойного командира дивизии, но в перспективе и собственного преемника. Аргумент более чем убедительный. Да и Лев Матушкин полагает, что пройти курс академии Генерального штаба для Василия Порошина в самый раз, пока молодой.
Замена обоим комдивам вполне достойная. На должность командира «новейшей» дивизии предлагается капитан 1-го ранга Олег Фалеев, который в своё время, будучи помощником у Всеволода Бессонова, героически боролся за живучесть трагически гибнувшей подлодки «К-8». А вместо Порошина командиром «передовой» дивизии вице-адмирал Матушкин выдвигает капитана 1-го ранга Геннадия Шабалина, достойного сына славного катерника-североморца, дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина. Значит, так тому и быть! И, пригласив к себе начальника управления кадров, я подписал необходимые представления.
Вторым неотложным делом, которое следовало завершить до отпуска, явилось рассмотрение плана и боевого распоряжения на поход в Северный Ледовитый океан ракетного подводного крейсера «К-211» с экипажем капитана 2-го ранга Александра Берзина. Над этими документами в поте лица трудились офицеры оперативного управления под руководством контр-адмирала Владимира Лебедько.
Экипаж Берзина в начале августа возвратился из отпуска и принял «К-211», а я разрешил, в порядке исключения, привлечь командира к разработке боевых документов на поход. Так надёжнее, поскольку думать следует до того, как...
Я великолепно помню влияние моих заблаговременных «домашних заготовок» на действия «К-178» во время её первого, теперь уже во многом исторического, плавания подо льдами из Баренцева моря на Камчатку. А ныне подводному крейсеру проекта 667бдр — «К-211» (с полным комплектом баллистических ракет на борту) предписывалось за два месяца в условиях полярной ночи обойти по периметру Северный Ледовитый океан, последовательно осуществляя боевое патрулирование в советском, американском, канадском и гренландском секторах Арктики.
План похода был выполнен на карте равноугольной азимутальной проекции, где Северный полюс является центром, географические параллели представлены в виде концентрических окружностей, а меридианы служат их радиусами. Выглядело всё это впечатляюще, поскольку задумано было смело. Поход действительно уникален. Он как бы обобщает двадцатилетний опыт освоения Арктики нашими атомоходами и отражает главкомовскую уверенность в том, что мы всё можем. Для утверждения плана пришлось посылать в Москву контр-адмирала {266} Лебедько, который и привёз обратно карту с визой «утверждаю» Адмирала Флота Советского Союза С. Г. Горшкова — подписью, сделанной прямо в районе Северного полюса.
Боевым распоряжением на поход командиру «К-211», кроме традиционных боевых, ставились исследовательские задачи по определению реального времени ракетной готовности в различных районах боевого патрулирования. Командиру предлагалось изучить условия плавания подо льдами, разрешалось всплывать по собственному усмотрению в любых секторах Арктики, в том числе и с подрывом льда боевыми торпедами. Поручалось оценить эффективность функционирования отечественной орбитальной группировки космических аппаратов, предназначенных для связи и определения места крейсера на различных глубинах подо льдом с помощью штатной буксируемой всплывающей антенны. Наконец, предписывалось выставить в заданных районах Ледовитого океана ряд гидроакустических маяков-ответчиков для подводной навигационной системы.
Старшим на борту «К-211» мною был утверждён заместитель командира «основной» дивизии капитан 1-го ранга Валерий Бусырев. В этот поход направлялся также один из авторов рискованного плана — офицер оперативного управления, капитан 1-го ранга Виктор Щеглов. Подобная практика прикомандирования офицеров-операторов штаба флота к экипажам кораблей, уходящих на боевую службу (чтобы не отрывались от реальности), издавна существовала у нас на флоте. Поддержал я просьбу начопера и в этот раз.
В то же время, понимая, что лично мне в ближайший месяц предстоит плавать не под арктическим льдом, а в благодатных водах Чёрного моря, поручил начальнику штаба флота осуществлять персональный контроль за ходом подготовки «К-211» к столь неординарному походу. А члена военного совета Николая Усенко просил приглядывать за уровнем морально-психологической и партийно-политической готовности экипажа Александра Берзина. Это особенно важно, поскольку вслед за уникальным походом возможно ожидать соответствующего «звездопада». На том и поставил точку. Затем позвонил Главкому и получил-таки «добро» на отпуск.
Отпускное настроение усугубилось приятным известием о том, что мой сын Сашка (то бишь капитан 3-го ранга Александр Михайловский) успешно сдал вступительные экзамены и зачислен слушателем командного факультета Военно-морской академии. Последние два года Саша служил в должности старшего научного сотрудника в Петродворцовом институте и я, честно говоря, не очень-то рассчитывал на его скорое продвижение по служебной лестнице. А тут — на тебе! Молодец {267} парень. В минувшем апреле ему исполнилось 34 года. Это означает, что через пару лет он окончит Академию в том возрасте и даже в таком же воинском звании, что и я когда-то. Выходит — топаем в ногу.
Вечером, собираясь в отпуск, мы с женой долго разговаривали о детях и внуках. Хорошо, когда у них всё в порядке. Дочь Наташа после окончания Военмеха работала в «Малахите» у Георгия Чернышёва. Потом, в связи с рождением дочери, нашей с Ниной внучки Анечки, пару лет провела в отпуске по уходу за ребёнком. Затем служила военпредом на одном из научно-производственных объединений Ленинграда. А в прошлом году перебралась в Военно-морскую академию, где и трудится инженером в научно-исследовательской лаборатории при кафедре систем управления ракетным оружием. Наташе там нравится. Говорит, что готова там работать до пенсии.
А внуки растут себе припеваючи. Кате уже 13 лет исполнилось. Анечка на будущий год в школу пойдёт. Даже самый младший продолжатель фамильного рода, Петька, перевалил на второй год своей пока ещё крошечной жизни. У родителей этой детворы, не говоря уже о нас с Ниной, всё есть: интересная работа и хорошее жилище, приличная зарплата и доброе здоровье, великолепный Ленинград, ставший для них и для нас всех любимым городом. Вот завернём туда с женой по пути на юг, повидаемся с ребятами.
О том и сказал на утро генералу Потапову, предложив ему спланировать посадку на аэродроме в Пушкине и там суточную стоянку самолёта.
А он принялся объяснять, что приготовил к полёту новый Ту-134, недавно поступивший на флот в единственном экземпляре. Его экипаж, во главе с майором Давыдовым, ранее летавшим на ракетоносце Ту-16, прошёл соответствующую переподготовку, получил нужный налёт, облетал важнейшие трассы, связывающие Североморск с Ленинградом, Калининградом, Москвой и Севастополем. Теперь этот самолёт готов возить командующего флотом, а при необходимости служить воздушным командным пунктом. Машина способна преодолеть расстояние от Североморска до военного аэродрома в Гудауте за какие нибудь три с половиной часа, однако на пределе допустимого неснижаемого запаса топлива. Поэтому, дескать, попутная дозаправка в Ленинграде или в Москве для полной уверенности не помешает.
Затем командующий ВВС флота предложил проехать на аэродром Североморск-1 и посмотреть там новый самолёт, что я и сделал с определённым удовольствием. Выслушал пояснения майора Давыдова относительно лётных характеристик, навигационных возможностей и особенностей пилотирования {268} этого самолёта. Согласился с мнением генерала Потапова, что в качестве летающего салона машина великолепна.
Ещё бы! До Ленинграда всего час с небольшим в воздухе. До Москвы — пара часов. Мобильные возможности командующего Северным флотом и так не малы, но тут увеличились вдвое. К тому же обстоятельства и причины прошлогодней катастрофы самолёта Ту-104, разбившегося при взлёте с аэродрома Пушкин и погубившего всё командование Тихоокеанского флота, майор Владимир Давыдов досконально знает. Ошибку подполковника Анатолия Инюшина — никогда не повторит. Тем не менее для воздушного командного пункта подобного недостаточно. Нужно готовить машину к полёту в экстремальных условиях и со специальным оборудованием, для которого резерв грузоподъёмности самолёта и вместимости фюзеляжа предусмотрен. Но эта проблема на будущее. А сейчас — экипажу отдыхать. Завтра в полёт.
Уже на следующий день майор Давыдов мастерски прижал свою машину к бетонке военного аэродрома в Гудауте. Отсюда до Хосты, где расположен санаторий «Аврора», целых 80 километров автомобильного пути, правда, по живописным местам, через Гагрский парк. Зато пребывание на военном аэродроме не создаёт проблем с заправкой самолёта и его охраной. Экипаж Давыдова получит возможность искупаться в море и отдохнуть в санатории, а на следующий день возвратится в Североморск.
С начальником санатория, полковником Геннадием Нестеровичем Ронжиным, встречавшим меня в Гудауте, я знаком давно, ещё по тем временам, когда служил в Западной Лице и частенько проводил свой отпуск в «Авроре». Правда, хозяйственные проблемы санатория или тем более административные способности его начальника меня тогда мало интересовали. А теперь, сочетая приятное с полезным, придётся вникать.
Санаторий, к сожалению и огорчению его начальника, частенько бывает переполненным, а наплыв нуждающихся в отдыхе военных моряков и членов их семей — оказывается чрезмерным. Конечно, отстроенный многоэтажный 3-й корпус во многом снимает проблему, но полностью избежать случаев размещения прибывающих в помещениях, для того не совсем предназначенных, — не удаётся. Флот, дескать, развивается быстрее санатория. Поэтому полковник вынужден поначалу расселять людей в зимнем солярии на крыше 1-го корпуса, в процедурных комнатах или даже в кабинетах врачей.
Правда, зимой, по словам Геннадия Нестеровича, наплыв отдыхающих заметно уменьшается, поскольку море становится холодным, а плавательного бассейна в «Авроре» не существует. Это обстоятельство делает зимний отдых моряков не совсем полноценным, а флотский санаторий — менее {269} привлекательным, чем, например, соседние военные здравницы имени Фабрициуса или Ворошилова. Вместе с тем благодаря давним устойчивым связям с местными поставщиками продовольствия питание отдыхающих в «Авроре», по мнению Ронжина, традиционно лучше, чем у сочинских соседей, что в какой-то степени компенсирует отсутствие бассейна.
Я любовался через окно машины быстро меняющимися окрестными пейзажами, дышал чистым морским бризом, сдувающим с магистрали автомобильную гарь, наслаждался нивесть откуда свалившимся на голову ощущением безмятежного благополучия и думал о том, что успею ещё не только выслушать Ронжина, но и потребовать с него полный перечень санаторных проблем. Однако делать это надо не в автомобиле, а в служебном кабинете с документами и планами в руках. Пусть доложит Геннадий Нестерович, как положено. На то он и полковник.
Восьмидесятикилометровый путь оказался преодолённым за какой-нибудь час, когда машина выкатила на площадку перед 1-м корпусом санатория. Здесь действительно мало что изменилось. Знакомая лестница на второй этаж. Знакомый номер. В гостиной накрыт стол к ужину и сверкает яркими красками экран телевизора, а спальня дышит приятной прохладой, поскольку работает кондиционер. Пять лет назад подобный комфорт тут не отмечался.
Я запрятал в шкаф белую фуражку и форменную рубашку с намерением до конца отпуска туда не заглядывать, а полный комплект обмундирования, включая шинель и зимнюю шапку, вообще оставил в салоне самолёта. Иначе нельзя. Кто его знает, где придётся быть в случае непредвиденных обстоятельств. Бережёного и Бог бережёт. А я — человек подневольный, что особенно остро чувствуется в отпускные дни, когда нет под рукой привычного набора средств связи или иных вожжей управления.
Оставшись с женой вдвоём, мы с удовольствием посидели за столом, а когда стемнело, отправились гулять по живописным городским улочкам и затемнённым парковым аллеям. Вспоминали те далёкие времена, когда четверть века назад, после атлантического похода, в придачу к погонам капитана 2-го ранга я получил первую в жизни путёвку именно в «Аврору». Тогда Нине исполнилось всего лишь 30 лет, а девятилетние Сашка с Наташкой, расписанные по семьям сослуживцев, ожидали нас в Полярном. Счастливые были дни, несмотря на то что персональные самолёты и блестящие автомобили нас в ту пору не возили. Более того, даже отдельную комнатёнку нам тогда удалось получить не сразу. Так и жили поначалу — я в мужской, Нина в женской палате. А свидания друг другу назначали в этих самых затемнённых аллеях. {270}
На следующее утро, после завтрака, раздался вежливый стук в дверь. На пороге стоял облачённый в белый халат и такую же шапочку, со стетоскопом на шее полковник медицинской службы Юрий Дмитриевич Павлов. Проболтали не менее часа. За разговором я стал замечать, что полковник Павлов осторожно, но твёрдо разрабатывает тактику постслужебной реабилитации командующего флотом в санаторных условиях. Пришлось облегчить ему задачу, сказав, что никакого лечения мне не требуется, а вся «реабилитация» будет состоять в том, чтобы за отпуск постараться проплыть в море не менее 100 километров. А что? Ведь это всего 5 тысяч метров в день. Преодолеть такое расстояние за 3–4 ежедневных заплыва совсем не трудно. Тем более что температура морской воды достигает +24°, а североморский плавательный бассейн позволяет мне круглый год поддерживать приличную спортивную форму.
В ответ Юрий Дмитриевич развёл руками, как бы свидетельствуя, что вольному воля. Однако в прищуренных улыбающихся глазах я прочитал: «Дуракам закон не писан». Наверно поэтому усовестился и обещал врачу периодически информировать его о собственном самочувствии и не увиливать от обязательных клинических анализов и функциональных диагностических процедур. С женой Павлову удалось найти общий язык быстрее и проще, поскольку лечение пчелиным ядом лишь для непосвящённых (и то поначалу) кажется страшноватым. Расстались мы с симпатичным доктором при обоюдном удовольствии. Тем не менее полковник пообещал наведываться ежедневно. Такая, дескать, у него работа.
Ну а затем потекли безмятежные курортные дни, как две капли воды похожие друг на друга. Правда, на четвёртый день я вынужден был прервать отсчёт проплытых километров, поскольку полковник Ронжин проявил-таки инициативу и не только рассказал о насущных проблемах, но и показал сокровенные уголки своего непростого хозяйства.
Главными своими проблемами Геннадий Нестерович считал строительство нового лечебного корпуса с полным набором современного диагностического оборудования, а также сооружение зимнего плавательного бассейна с очищенной морской водой. Кроме того, маленький и плохонький 2-й жилой корпус санатория давно требует капитального ремонта. Однако расположен он в самом лучшем месте, прикрытом зеленью парка от шумных магистралей. Хорошо бы перестроить его, сделав представительским. На Северном флоте служит 160 адмиралов, а в санатории всего 5 номеров, пригодных для достойного размещения высших офицеров.
Пришлось позвонить в Североморск и сказать Коробову, чтобы прислал генералов Аниканова и Жеглова ко мне в {271} санаторий на пару дней. Вадим Константинович не без усмешки ответил, что те уже давно сидят на чемоданах и только удивляются отсутствию вызова.
На следующий день, ближе к вечеру, к нам с Ниной в гости неожиданно нагрянула супружеская пара. Полковника Феликса Ястина я узнал мгновенно. В своё время, ещё в майорском звании, он служил главным инженером строительного управления в Западной Лице. Его жена Ирина работала в ту пору провизором в гарнизонной аптеке, что, разумеется, ближе к женским интересам. А ныне Феликс Иванович (или Феля, как именует его супруга) является начальником строительного управления Северокавказского военного округа. Однако менять флотскую форму одежды на зелёный армейский мундир полковник не собирается.
В тот вечер, вспоминая Западную Лицу, мы долго беседовали о разном, в том числе и о проблемах лечебного корпуса и плавательного бассейна в «Авроре».
Прощаясь, полковник Ястин заверил, что свободные производственные мощности у него имеются. Он оставил свои реквизиты и телефоны, а я почувствовал, что лечебный корпус и зимний бассейн в «Авроре» не голубая мечта, но серьёзное дело, которым следует заниматься предметно и настойчиво.
Олег Карпович Аниканов разыскал меня прямо на пляже, а генерал-майор Жеглов представился только перед ужином, видимо после обстоятельной беседы с начальником санатория. Обоим генералам пришлось поставить одну и ту же задачу: доложить реальные возможности и согласованный план развития флотской здравницы на предстоящие годы, с тем чтобы снять проблемы.
Итоговое совещание состоялось в назначенный срок. При детальном обсуждении выяснилось, что проблем значительно больше, чем мне представлялось поначалу. Оказалось, что «Аврора» не имеет единой, чётко спланированной и согласованной с городскими властями территории. Дефицит площади, где возможно дальнейшее капитальное строительство, потребует её приращения за счёт города, с ликвидацией парковой дороги, проходящей через пятно застройки будущего бассейна.
Кроме того, строительство морского водозабора и насосной станции для бассейна, находящегося значительно выше уровня моря, приведёт к необходимости серьёзных работ на городской территории и под ближайшей автомобильной и железнодорожной магистралями. Посадка здания бассейна потребует ликвидации существующих спортивных площадок, которые хорошо бы не только перенести, но и реконструировать, подведя под лёгкую крышу и создав тем самым единую спортивную базу в комплексе с бассейном. {272}
Строительство лечебного корпуса тоже потребует отчуждения части городской территории, зато позволит высвободить помещения в жилых корпусах и, что важнее, поднять уровень диагностической и лечебной работы в санатории. При этом поставка и монтаж медицинского оборудования должны быть строго согласованы с этапами сооружения здания. Генерал Жеглов заверил, что новый корпус «Авроры» станет жемчужиной здравницы и позволит переплюнуть «Фабрициус».
Реконструкция небольшого двухэтажного здания 2-го корпуса выглядела значительно проще, поскольку серьёзных строительных работ, дополнительной территории и согласования с городскими властями не требовала.
Тем временем я думал о том, что просить у Главкома денег на всё это задуманное великолепие — дело безнадёжное. Всё равно не даст. Поэтому был рад, когда генерал Аниканов предложил осуществить постройку лечебного корпуса и плавательного бассейна за счёт фонда капитального строительства, но без увеличения общей суммы, отпущенной флоту. Так, дескать, легче убедить Горшкова. А вот остальные работы вполне возможно выполнить за счёт средств, отпущенных на капитальный ремонт. Этими средствами распоряжается командующий флотом. Тут и просить кого-либо ни о чём не надо.
Присутствующие понимали, разумеется, что сотворить задуманное одним махом не реально. Пришлось определяться с приоритетами. Решили красивую ограду сделать в первую очередь, к 50-летнему юбилею флота. В этом же году заложить лечебный корпус, с тем чтобы сдать его под ключ в следующем. Только потом, видимо, удастся приступить к строительству бассейна, на что ещё пару лет потребуется. Заниматься спортивной базой придётся параллельно с бассейном. Ну а с реконструкцией 2-го корпуса можно и подождать, пока пассажирские причальг в Североморске да в Полярном не отремонтируем. Кроме того, на сооружение мемориального комплекса в составе подводной лодки «К-21», торпедного катера «ТКа-12» и самолёта-торпедоносца Ил-4 на площади Мужества во флотской столице чёрт-те сколько средств придётся вложить, и тоже в счёт капитального ремонта.
На следующий день Аниканов с Жегловым улетели в Североморск. Полковник Ястин, заверив меня, что будет уделять «Авроре» особое внимание, обратился к своим прямым служебным обязанностям. Полковник Ронжин отправился согласовывать вопросы развития санатория с городскими властями. Ну а я вновь принялся за основную свою отпускную работу, преодолевая вплавь ежедневные километры.
Иногда по просьбе Нины мы могли сгонять с ней в Сухуми, чтобы попробовать великолепный кофе по-турецки, {273} мастерски приготовляемый черноусыми дядьками на специальных жаровнях в многочисленных павильончиках Приморского бульвара. Трудно было удержаться и от того, чтобы не посмотреть на талантливо подсвеченные сталактиты и сталагмиты в пещерах Нового Афона, не завернуть в Пицунду или просто прогуляться по аллеям Гагрского парка.
Выполнить поставленную задачу — проплыть за отпуск 100 километров — я не сумел. Всего лишь 84 500-метровую отметку одолел, причём последнюю тысячу отмахал утром в день отлёта. О том и размышлял с сожалением на борту самолёта, уносящего нас с Ниной из гостеприимной «Авроры» к суровым берегам Баренцева моря. А в Североморске, по докладу майора Давыдова, погода в пределах допуска: нижний край облаков — 300, горизонтальная видимость — 500 метров, температура воздуха около нуля, дождь.
Врастать в обстановку после четырёхнедельного отсутствия оказалось не так уж и сложно. Вице-адмирал Коробов, как всегда, коротко доложил об отсутствии на флоте каких-либо происшествий за истёкший месяц. Супостаты, дескать, в Атлантике ведут себя вполне прилично. Наша боевая готовность соответствует нормам. План боевой службы выполняется без срывов. Боевая подготовка в соединениях практически завершена. Подведение итогов в масштабе Вооружённых Сил состоится в Москве, в конце октября. К этому времени рекомендовано завершить все кадровые перестановки. Ноябрь отведён для всех видов планирования на следующий год. А с 1-го декабря начинается зимний период нового учебного года, юбилейного для Северного флота.
Далее Вадим Константинович остановился на частных, но достойных внимания эпизодах. Рассказал, как лично инструктировал капитана 2-го ранга Берзина перед выходом «К-211» на боевое патрулирование подо льдами Арктики. Правда, ушёл этот подводный крейсер с задержкой в несколько часов, поскольку «добро» на выход было получено только после доклада Главкому, который в то время отдыхал в Пицунде.
Коробов поведал о том, что в конце сентября подводная лодка «К-324» Тихоокеанского флота под командованием капитана 2-го ранга Вадима Терёхина, завершив арктическое плавание, пришла с Камчатки в Западную Лицу и зачислена в состав Северного флота. На переходе Терёхин несколько раз всплывал, в том числе и с подрывом льда торпедами. Эта многоцелевая атомная подлодка проекта ЬИртм построена на дальневосточном заводе имени Ленинского Комсомола. Таким образом, знаменитый трансарктический межтеатровый манёвр начал осуществляться не только по традиционному пути с Северного на Тихоокеанский флот, но и в обратном направлении. {274}
Порадовало также сообщение о практически полном завершении поставок оружия и бронетанковой техники для новой бригады морской пехоты в посёлок Туманный. Назначенный недавно комбриг, подполковник Пустоутов, проявляет там незаурядную энергию. Да и генерал Иванов (попеременно со своим заместителем полковником Домненко) практически не вылезает из Туманного. Становление и обустройство нового соединения — дело куда как серьёзное. Надо бы в ближайшие дни заглянуть в Туманный и, захватив с собой Аниканова, посмотреть, как идут там дела.
Последовало и ещё одно хорошее известие, но уже не относящееся к служебным делам. Суть его в том, что мой предшественник, адмирал Владимир Николаевич Чернавин, наконец-то получил постоянную квартиру в Москве и освободил штатные комфлотовские апартаменты в Североморске. Теперь у Нины хлопот прибавится. Обустраивать очередное жильё далеко не просто, но хлопоты эти приятные. Надеюсь, что под общим руководством полковника Довганя и при непосредственном участии мичмана Максимова такая задача окажется ей по плечу. Ну а мне пора с головой погружаться в неспокойный и многообразный поток флотской жизни, но так, чтобы не выпускать вожжи из рук и управлять движением в нужном направлении.
Октябрь действительно оказался месяцем серьёзных кадровых перемен. Главком, как и обещал, затребовал для назначения в Москву, в Боевую подготовку ВМФ, вице-адмирала Зуба и контр-адмирала Фёдорова, а кроме того, определил в начальники Петродворцового института вице-адмирала Искандерова.
Поскольку этот манёвр для меня не являлся неожиданным и замена была продумана заблаговременно, то вскоре Атлантическую эскадру принял контр-адмирал Вадим Колмогоров, а в должность первого заместителя начальника штаба флота вступил контр-адмирал Василий Парамонов. Вместо них пришли офицеры, закончившие в этом году академию Генерального штаба: капитан 1-го ранга Валерий Гришанов принял дивизию противолодочных кораблей Кольской флотилии, капитан 1-го ранга Виктор Агафонов — «основную» дивизию ракетных подводных крейсеров, а контр-адмирал Геннадий Шалыгин — эскадру подводных лодок в Полярном.
Конечно, отпускать с флота опытных проверенных моряков всегда жалко, а провожать их к новому месту службы особенно грустно. Однако ничего не поделаешь. Такова жизнь. Все мы понемногу стареем и рано или поздно уходим. Но флот должен оставаться молодым и могучим. Подбор и расстановка новых людей, особенно на руководящие должности, их обучение и воспитание — такая же насущная задача, {275} как и замена хорошо послуживших кораблей построенными заново.
Не скрою, что отправлять из Гремихи на Тихоокеанский флот контр-адмирала Эдуарда Балтина не очень-то хотелось. Но он примет там под своё командование флотилию подводных лодок на Камчатке. А здесь, в Гремихе, заместителем к вице-адмиралу Устьянцеву пойдёт контр-адмирал Леонид Жданов, уступив свою должность командира «коренной» дивизии капитану 1-го ранга Виктору Решетову.
Зато как приятно бывает беседовать с офицерами о предстоящих продвижениях по служебной лестнице. Подобное удовольствие не миновало меня, когда рассматривал кандидатуру контр-адмирала Ивана Литвинова на должность заместителя командующего флотилией ко Льву Матушкину, а вместо Литвинова выдвигал на «горбатую» дивизию капитана 1-го ранга Александра Петелина.
Каждой такой перестановке предшествует серьёзная работа многих командных инстанций, политических и кадровых органов по изучению и подбору людей.
Тем не менее очередная московская кадровая инициатива выбила меня из седла. Главком попросил отпустить с флота для службы в Москве (в качестве своего заместителя по строительству) генерал-лейтенанта Аниканова. Взамен предложил взять генерал-майора Закиматова с Балтийского флота. Вот так раз! Только, было, установили мы с Олегом Карповичем должное взаимопонимание. Планов всяческих придумали уйму. А тут — на тебе — начинай всё сызнова!
Генерал Закиматов в недалёком прошлом служил на Северном флоте. Аниканов характеризует его весьма положительно. К тому же Олег Карпович божится, что, находясь в Москве, рядом с начальством, будет всячески помогать Северному флоту, патриотом которого останется навсегда. Ну что ж, с Главкомом спорить — дело бесполезное. Пришлось, к большому сожалению, подписать документы и на эту кадровую комбинацию.
В очередную служебную поездку с целью ещё раз побывать в посёлке Туманный и посмотреть, как обустраивается там бригада морской пехоты, я отправился, как всегда, в сопровождении генерал-майора Валериана Иванова, но уже вместе со своим новым заместителем по строительству генерал-майором Виктором Закиматовым. Ехали сухим путём через Колу и Кильдинстрой. По пути, из разговоров с Виктором Михайловичем, я всё более убеждался, что генерал Аниканов успел подробно ознакомить своего преемника со всеми замыслами в капитальном строительстве, начиная с возрождения города Полярного и кончая развитием санатория «Аврора». А тут ещё новая бригада в Туманном работёнки добавит, по-видимому. {276}
В конце пути нас встретил командир бригады морской пехоты подполковник Александр Пустоутов. Он доложил обстановку, рассказал о трудностях становления своего соединения, показал технику. Более 60 танков, 240 бронетранспортёров, 18 реактивных систем залпового огня «Град», столько же самоходных гаубиц «Гвоздика», 8 зенитных установок «Шилка» и «Стрела», 60 противотанковых комплексов «Метис», «Фагот», «Конкурс», «Рапира», около 40 командно-штабных машин и более 300 автомобилей тылового и технического обеспечения на базе «Камаз», «Урал», «ЗИЛ». А кроме того, несметное количество пулемётов и автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатомётов, не говоря уже о личных пистолетах офицеров — всё это не шутка.
Разместить такое количество техники в бывших гаражах и складах строительного управления Серебрянской ГЭС удалось не сразу и не полностью. Многие машины стоят на открытых площадках. Однако места хватает. Территория уже спланирована и ограждена. Караульная служба организована. Сооружать дополнительные склады и укрытия для боевых машин можно и нужно. Предложения по этому поводу у генерала Иванова и подполковника Пустоутова имеются.
С размещением людей дело обстоит получше. Зданий, оставленных строителями, в посёлке Туманный много. Квартир для офицеров здесь хватает. Даже матросов приходится селить в квартирах — повзводно на лестничную площадку. Разместить в Туманном всего-то 350 человек личного состава кадра бригады не сложно. Однако куда девать 3500 призываемых из запаса морских пехотинцев (в случае отмобилизования и развёртывания бригады по штатам военного времени) — пока не ясно. Новые казармы строить придётся. О том я и сказал генералу Закиматову.
Ну, а подполковнику Пустоутову твёрдо пообещал летом будущего года призвать на двухмесячные сборы военнообязанных запасников, расконсервировать часть техники, произвести боевое слаживание как минимум одного батальона морской пехоты, с тем чтобы вывести его в поле на тактическое учение с боевой стрельбой. Пустоутов воспринял это с энтузиазмом, заявив, что выполнит задачу, даже если призванных на сборы морских пехотинцев придётся размещать в палатках.
Возвращались мы домой в хорошем настроении. Ещё бы! Ведь стоит бригада! Конечно, наступающая, первая для этого соединения, зима окажется не из лёгких. Надо сделать всё, чтобы помочь морским пехотинцам окончательно обустроиться, наладить службу, сохранить в исправности технику. А кроме того, в ближайшем будущем следует привести в порядок дорогу из Туманного в Териберку и продолжить строительство новой в Порчниху, с тем чтобы открыть путь морской {277} пехоте к побережью, в районы посадки десанта на корабли. Словом, я поступил правильно, организовав эту поездку.
Однажды, во второй половине октября, мне позвонил первый заместитель начальника Генерального штаба генерал армии Ахромеев. Он сообщил, что постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР я введён в состав членов Главного Военного Совета при Совете Обороны нашей страны. Поздравив с незаурядным событием, Сергей Фёдорович напомнил, что 27 октября в Москве состоится традиционное совещание руководящего состава Вооружённых Сил, и пожелал успехов.
Этот звонок заставил отложить в сторону текущие дела и сосредоточить внимание на итогах стремящегося к завершению года. Впрочем, набрать статистику и осмыслить сделанное оказалось не так уж и трудно. 204 успешных, безаварийных похода кораблей на боевую службу являются наглядным свидетельством установленной боевой готовности флота. В ходе боевой подготовки проведено 55 зачётных учений, принято 925 курсовых задач, выполнено 77 ракетных, 426 торпедных, 500 артиллерийских стрельб, 46 минных постановок и 675 противолодочных боевых упражнений. Можно и далее приводить разные внушительные цифры, но уже из другой области. К примеру, 49 жилых домов и 23 служебных здания построено для североморцев в этом году.
Много разного было. Сказать обо всём в десятиминутном выступлении не так-то просто. Конечно, не украшают флот 9 серьёзных происшествий, имевших место в текущем периоде. Среди них 2 катастрофы палубных вертолётов, авария штурмовика ЯК-38, 3 аварийных происшествия с оружием на боевых кораблях и столько же с техникой на вспомогательных судах. Однако и об этом надо говорить, поскольку происшествия свидетельствуют, что работы непочатый край, а предела совершенствования, по-видимому, не существует. В таком духе была выдержана справка-доклад, подготовленная на тот случай, если потребуют меня к ответу.
Но всё обошлось благополучно. Совещание состоялось на этот раз не в здании Министерства обороны, как обычно, а в Свердловском зале Кремля, видимо, потому, что на нём присутствовал Верховный Главнокомандующий Л. И. Брежнев. Открыл заседание и сделал доклад об итогах оперативной, мобилизационной, боевой и политической подготовки Вооружённых Сил в 1981/82 году и о задачах на 1983/84 год министр обороны Д. Ф. Устинов. В докладе министра содержалось немало критики, однако североморцев Дмитрий Фёдорович пощадил. А когда в заключение министр упомянул Северный флот среди военных округов, добившихся лучших результатов, настроение моё, естественно, приподнялось. {278}
Обсуждение доклада носило деловой характер и состояло из коротких выступлений главнокомандующих разных видов Вооружённых Сил, а также некоторых командующих войсками военных округов.
Последним к руководящему составу Вооружённых Сил обратился с речью Л. И. Брежнев. Характеризуя международную обстановку, он говорил о том, какую огромную опасность для всех народов мира представляет курс на безудержную гонку вооружения, взятый администрацией президента Р. Рейгана. Вашингтон, дескать, вынашивает планы «победы» в ядерной войне против Советского Союза. Вблизи его рубежей развёртываются крупные группировки новых ядерных средств. Среди них межконтинентальные ракеты MX и «Миджитмэн», баллистические ракеты подводных лодок «Трайдент-2», крылатые ракеты большой дальности разных видов базирования. Одновременно осуществляется многолетняя программа наращивания сил общего назначения с высокоэффективными системами обычного вооружения. Ведётся подготовка к милитаризации космоса, грозящая сделать реальностью перспективу «звёздных войн». Создаётся система военных баз, которая, словно огромные щупальцы, охватывает все утолки земного шара, подбираясь к Советскому Союзу с разных направлений.
Слушать Верховного было интересно, но очень трудно. Выглядел он предельно уставшим и совсем не походил на того живого, подвижного, моложавого мужчину в синем пиджаке с красным галстуком, который, сидя на краешке письменного стола, помахивал ногой, угощая нас с Петелиным чаем, и рассказывал, как ещё мальчишкой, в гражданскую войну, плавал с отцом по Волге на буксирном пароходе, палуба которого вмещала несколько армейских пушек на колёсах, а он, по такому случаю, носил тельняшку и флотский клёш. Эта памятная мне встреча состоялась около 20 лет назад, когда делегация североморцев прибыла в Москву, чтобы засвидетельствовать своё уважение руководителям государства, принявшим решение о награждении Северного флота орденом Красного Знамени. Леонид Ильич был тогда примерно в моём нынешнем возрасте. А сейчас перед нами был старик, да ещё с нарушенной артикуляцией, что делает его речь трудно воспринимаемой. Кому и зачем потребовалось взваливать непомерно тяжёлую ношу на плечи старого и больного человека — было непонятно и никому не нужно — ни стране, ни Вооружённым Силам.
Тем не менее я положительно воспринимал и всячески разделял мысли Генсека о том, что Советский Союз и другие социалистические страны обязаны делать всё возможное, чтобы сохранить и укрепить мир, избавить человечество от {279} угрозы ядерной войны, наладить равноправное и взаимовыгодное сотрудничество между государствами. В то же время мы должны иметь средства для ответа на угрозы милитаристов Запада. Принимаемые меры по укреплению обороны страны и всего социалистического содружества — вполне законная реакция на создаваемую угрозу и попытки США и других стран НАТО нарушить военное равновесие. Советский Союз не стремится к военному превосходству и не намерен диктовать свою волю другим, но и сломать сложившийся стратегический паритет позволять не намерен.
С особым и понятным интересом слушал я слова Леонида Ильича о том, что Пентагон, дескать, пытается запугать мировую общественность развитием советского Военно-Морского Флота, расширением его возможностей по решению любых задач в удалённых районах Мирового океана. Тем самым якобы бросается вызов традиционному господству Запада на море. Американский президент заявил даже, что у США возникло некое «окно уязвимости» в океане. Взявшись расписывать ужасы советской военной угрозы и собственное миролюбие, заокеанские пропагандисты называли факт ввода в состав сил ВМФ подводной лодки типа «Тайфун» недопустимым возрастанием советского военного потенциала. В то же время сами они уже имели четыре новейшие подлодки типа «Огайо» с ракетной системой «Трайдент». Поэтому «Тайфун» — не угроза, а ответ на создание подобной системы.
Как серьёзная угроза Западу преподносилось, в частности, появление в советском флоте авианесущих кораблей типа «Киев» и строительство атомных крейсеров типа «Киров». И это в то время, когда у США в боевом составе ВМС полтора десятка авианосцев с сотнями самолётов-носителей и тысячами ядерных зарядов на борту. Именно поэтому для защиты мира и предотвращения войны Советский Союз будет продолжать строительство атомных подводных лодок с крылатыми ракетами большой дальности типа «Гранит».
Всё сказанное было созвучно моему настроению и миропониманию. Слушая речь Верховного Главнокомандующего, я с гордостью и благодарностью вспоминал таких моих соотечественников, как Анатолий Александров, Николай Доллежаль, Сергей Ковалёв, Игорь Спасский, Георгий Чернышов, Борис Купенский, Виктор Макеев, Владимир Челомей, разумом своим творящих океанский ракетно-ядерный шит Отечества. В деле этом участвуют сотни тысяч строителей Флота великой страны.
После заключительных слов Л. И. Брежнего о том, что главная задача Вооружённых Сил СССР — сдерживание агрессора путём достижения стратегического паритета, зал разразился бурными аплодисментами, а когда Генсек заявил, что {280} люди, решающие эту задачу, — воины Армии и Флота — всегда были и впредь останутся лучшими, самыми уважаемыми представителями советского народа, аплодисменты вспыхнули с новой силой.
Многое из того, о чём говорилось в Кремле, я включил в доклад, который сделал на торжественном собрании в Доме офицеров флота накануне 65-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
На следующий день мне пришлось принимать целых два военных парада да ещё и присутствовать на праздничной демонстрации горожан. О начале морского парада, которым впервые командовал контр-адмирал Вадим Колмогоров, возвестил грохот орудийного выстрела с крейсера «Александр Невский». Вслед за тем катер с командованием Северного флота и руководителями Мурманской области устремился к расцвеченным флагами кораблям, стоящим на рейде. Погода благоприятствовала зрелищу, хотя и не баловала моряков, находящихся в строю на верхних палубах. А через час я уже принимал сухопутный парад частей североморского гарнизона на главной площади флотской столицы. Командовал парадом контр-адмирал Альберт Акатов. Последующая праздничная демонстрация жителей города прошла по улице Сафонова как всегда организованно и завершилась на Приморской площади, возле монумента Славы североморцам.
Едва отгремели праздничные дни, как 10 ноября 1982 года все радиостанции Советского Союза известили мир о кончине Генерального секретаря ЦК КПСС, Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. Таким образом, его речь в Свердловском зале Кремля по сути дела оказалась завещанием для Вооружённых Сил страны. Преемником Брежнева стал член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, генерал армии Юрий Владимирович Андропов.
А я, грешным делом, долго ещё размышлял о том, зачем было нужно сосредоточивать всю полноту партийной, государственной и военной власти в руках одного, да ещё пожилого и больного человека? Андропов, правда, на 8 лет моложе предшественника, но ведь и Юрию Владимировичу уже 68 — солидный возраст! А министру обороны Устинову и того больше — 74 года. Да и Главкому нашему всего на пару лет меньше. Это как? На мой взгляд, управлять Вооружёнными Силами и тем более командовать фронтами или флотами должны более молодые и здоровые люди, как это было во время войны. Вот, например, адмирал Арсений Головко вступил в командование Северным флотом, когда ему 34 года исполнилось. Адмирал Чабаненко принял флот в 42-летнем возрасте. А мне 57 уже стукнуло. Непорядок это. {281}
К тому же непонятно, почему и зачем Генеральный секретарь ЦК КПСС — фактический глава государства, являясь ещё и Верховным Главнокомандующим, должен отвечать за все успехи и неудачи Вооружённых Сил перед самим собой? Ни современной военно-политической обстановкой, ни историческим опытом это вроде бы не определяется. Среди русских царей только Николай II с 1915 по 1917 год от безысходности провозгласил себя Верховным Главнокомандующим. Даже Пётр I, провоевавший всю жизнь, осуществивший военную реформу, создавший регулярную русскую армию и военный флот, будучи главой самодержавного государства, поручал верховное главнокомандование то генерал-фельдмаршалу Б. П. Шереметеву, то генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину, а сам состоял при них бомбардиром или шаутбенахтом, оставаясь в то же время царём.
Правда, в годы второй мировой войны верховное главнокомандование над вооружёнными силами своих государств осуществляли Сталин и Гитлер. Однако вооружённые силы большинства других воюющих стран возглавляли не государственные или партийные лидеры, а высокообразованные профессиональные военные. На мой взгляд, Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил должен быть только профессионал, имеющий фундаментальное военное образование, соответствующую подготовку и знающий жизнь Армии и Флота изнутри. Он должен подчиняться главе государства и отвечать перед ним за состояние и применение Вооружённых Сил. Впрочем, решение подобных проблем от меня не зависит. Найдутся люди, кому они более по плечу. Мне следует думать о том, как покрепче держать в руках вожжи управления Северным флотом.
Однако почему именно «вожжи»? Что за слово такое сухопутное прилипло к языку? Снасти, с помощью которых управляют парусами, среди моряков называют «шкотами». А парус, как говорят, появился в истории человеческой цивилизации значительно раньше, чем повозка с лошадью. Тем не менее скажи кому-либо про шкоты, так ведь не поймут. А вожжи — каждому понятны. Как всегда, пришлось прибегнуть к помощи Владимира Даля. Вожжа — верёвка, пристёгнутая кляпом или пряжкой к удилам запряжённой лошади, — утверждает знаток русского языка. Иными словами, инструмент управления. А управлять (по Далю) — значит править, задавать направление, давать ход, распоряжаться, заставлять идти правым, верным путём. Держать вожжи в руках — в переносном смысле — обладать всей полнотой власти. Вождь и вожжи — слова одного корня. Поэтому русская вожжа куда как понятнее английского шкота.
А если говорить серьёзно, то под термином «управление силами флота» понимается целенаправленная деятельность {282} командования, штабов и политорганов по поддержанию боеготовности, подготовке операций и боевых действий, руководству соединениями и группировками сил при выполнении поставленных задач. Управление, как известно, включает непрерывное добывание и обобщение данных обстановки, принятие решения и доведение задач до подчинённых, планирование военных и других действий, организацию и поддержание взаимодействия всех видов обеспечения и, наконец, непосредственное руководство силами в бою и операции.
Принципами управления являются единоначалие, централизация, инициатива, настойчивость, твёрдость, непрерывность, скрытность, оперативность реагирования на изменение обстановки и личная ответственность за результаты предпринятых действий. Всё это я как раз имел в виду, когда размышлял о бренности судьбы высоких руководителей, но прикидывал принципы на себя и пытался понять, насколько удалось овладеть искусством управления. Выпускать вожжи из рук никак невозможно. Люди уходят и приходят, а флот живёт. И не без помощи этих вожжей! Вульгарно? Зато верно и образно.
Между тем именно в тот день, когда Москва хоронила Л. И. Брежнева, из Западной Лицы ушла в Арктику головная подводная лодка «К-525» проекта 949. Собственно говоря, ей нет особой нужды плавать подо льдом, имея на борту крылатые ракеты «Гранит», предназначенные для поражения авианосцев. Какие могут быть авианосцы в Арктике? Однако командир ракетоносца капитан 1-го ранга Анатолий Илюшкин обязан выполнить долг перед государственной комиссией и промышленностью, произвести в натурных условиях всесторонние испытания установленного оборудования для подлёдного плавания, поскольку межтеатровый трансарктический манёвр кораблей этого типа вполне вероятен.
А вскоре внимание всего флота на несколько дней было привлечено к 28-й военно-научной конференции, на которой, как и было задумано, всесторонне обсуждались насущные проблемы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных крейсеров стратегического назначения при их развёртывании, на боевом патрулировании и в ходе военных действий. Главным из того, что я почерпнул на этой конференции, был вывод о необходимости единства управления группировкой морских стратегических ядерных сил и группировкой, созданной для обеспечения их боевой устойчивости. Поэтому целесообразной формой решения задачи следует, по-видимому, считать морскую операцию, проводимую под руководством командующего флотом. Услышав об этом, многие участники конференции облегчённо вздохнули и согласились со мной.
А ещё через пару дней Североморск провожал на боевую службу отряд в составе большого противолодочного корабля {283} «Адмирал Исаков», сторожевого корабля «Резвый» и морского танкера «Генрих Гассанов». Отряд должен пересечь Атлантический океан, войти в Карибское море, принять в свой состав уже находящиеся там подводные лодки «К-367» и «Б-316» и участвовать в совместном учении с кораблями РВМФ республики Куба. Затем надводные корабли совершат официальный визит в Гавану, а потом возвратятся в Североморск, но уже в 1983 году.
Командовать отрядом и руководить столь ответственной дипломатической миссией приказано моему первому заместителю вице-адмиралу Круглякову. Владимир Сергеевич давно просился на хорошее морское дело и буквально ожил, когда получил такую задачу. Потом он вложил уйму энергии в подготовку отряда и предстоящего визита с участием ансамбля песни и пляски Северного флота. Что ж, ведь это его стихия. Я бы и сам сходил за океан с превеликим удовольствием, да только кто ж меня пустит? А Кругляков, я уверен, выполнит задачу с блеском.
Наступил декабрь, принёсший с собой полярную ночь, когда обстоятельства службы заставили слетать в Северодвинск, чтобы подвести итоги и организовать своевременный вывод из замерзающего Белого моря построенных и отремонтированных подводных лодок. Надо сказать, что командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Владимир Мочалов, владея обстановкой, проявил недюжинную оперативность и чётко выполнил поставленную задачу. Правда, вместо ушедших кораблей я подсунул ему ракетный подводный крейсер стратегического назначения «К-279» из Гремихи. Этот крейсер, под командованием капитана 1-го ранга Владимира Журавлёва, введён в Белое море для несения боевой службы подо льдом в течение всей зимы. В этом замкнутом ледовом пространстве, откуда выхода практически нет, с целью освоения новых районов боевого патрулирования «К-279» будет находится полгода — с декабря по май, пока не растает лёд.
Вместе с тем через 3 месяца после начала патрулирования Журавлёву приказано взломать лёд и всплыть. Тогда к борту «К-279» на ледоколе будет подан второй экипаж капитана 1-го ранга Юрия Голенкова, который и продолжит боевую службу уже до самой весны. Подобный эксперимент проводится на флоте впервые. Управлять действиями подводного крейсера будет командный пункт флота. Организация замены экипажа возложена на вице-адмирала Устьянцева. Тем не менее контрадмирал Мочалов должен знать о том, что происходит в его оперативной зоне, и держать ухо востро.
В то время, пока я разбирался с ситуацией на Белом море, в губу Оленью после боевой службы возвратился подводный крейсер «К-211» капитана 2-го ранга Александра Берзина. {284} К сожалению, поговорить с командиром мне так и не удалось. Ограничился докладом вице-адмирала Матушкина о том, что впервые в условиях полярной ночи подводный ракетоносец нёс боевую службу в Арктике, находясь в соответствующей готовности к пуску полного боекомплекта своих ракет. За 60 суток похода пройдено 5300 миль. Из них 4400 — подо льдами.
Ледовая обстановка оставалась сложной в течение всего похода. Чистой воды в полыньях или разводьях не наблюдалось. В советском и американском секторах Арктики средняя толщина льда 3–5, с подсовами до 20 метров. В канадском секторе — сложнее. А хуже всего оказалось в гренландском, где наблюдались будущие айсберги: монолитные ледовые поля толщиной 20–30, с подсовами до 90 метров. Несмотря на это, Берзин ухитрился совершить 14 всплытий в надводное стартовое положение, каждый раз с проломом льда толщиной около 1 метра.
Погода на поверхности была, как правило, неблагоприятной. Сильный ветер, густой снег, непроглядная темень, температура воздуха до 37° мороза, ни звёзд, ни полярных сияний не видно. В таких условиях после всплытия особую сложность представляла собой очистка ракетной палубы от битого льда, поскольку глыбы его не позволяли открывать крышки шахт.
Очистка производилась личным составом самым варварским способом — с помощью ломов и пешней. Работали порою несколько часов. Имели место случаи, когда ломы через шпигаты проваливались под палубу и застревали между лёгким корпусом и ракетной шахтой, что недопустимо, поскольку может привести к срыву ракетной стрельбы. Однако попытки сбросить лёд другими способами, например с помощью крена, дифферента или продувания надстройки, к успеху не привели.
Тем не менее плановая тренировка по боевому управлению, проведённая в канадском секторе Арктики, завершилась успешно. Находясь подо льдом, крейсер принял все учебные сигналы, передаваемые с командного пункта флота, выбрал место для всплытия, проломил лёд, очистил ракетную палубу и в назначенное время произвёл условный пуск, обозначив его фейерверком сигнальных ракет в честь 65-й годовщины Октябрьской революции.
Ну а в остальном — всё в порядке. Корабль повреждений не имеет, механизмы исправны, личный состав здоров. Цель похода достигнута. Бесценный опыт подлежит осмыслению, а подводный крейсер «К-211» — передаче основному экипажу капитана 1-го ранга Льва Захарова.
Окончив доклад, вице-адмирал Матушкин добавил, что так и не смог выдавить из Берзина сколь-нибудь вразумительного {285} описания героизма, проявленного экипажем. Всё, говорит, делали как положено, в соответствии с требованиями доброй морской практики. Слава богу, что привели корабль в базу целым и невредимым.
Неудивительно, что и мой доклад Главкому о результатах этого похода не вызвал особых эмоций у Сергея Георгиевича. Молодец, дескать, так и быть должно! Не помогло даже упоминание, что экипаж капитана 2-го ранга Берзина свой поход посвятил 60-й годовщине со дня основания Советского Союза. Поняв, что времени до государственного юбилея осталось слишком мало и предпраздничного «звездопада» ожидать не следует, я посчитал возможным особо отличившихся представить к наградам в текущем порядке, как бы по итогам года. Берзина в будущем году отправить в Академию. Пусть учится. Ну а капитана 1-го ранга Валерия Бусырева, ходившего старшим на борту «К-211», пора назначать командиром дивизии.
21 декабря в Кремлёвском дворце съездов состоялось совместное торжественное заседание Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвящённого 60-летию Союза Советских Социалистических Республик. Впечатления незабываемые. Поздравляли награждённых. Среди них был Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков, который во второй раз был удостоен медали «Золотая Звезда».
Сергей Георгиевич принимал поздравления. Поздравил его и я. А он, поблагодарив, отвёл в сторону и негромко произнёс:
— Министр обороны принял решение направить вас на курсы усовершенствования руководящего состава Вооружённых Сил при академии Генерального штаба. Начало занятий — 3 января.
После такого известия моё праздничное настроение моментально улетучилось. Вот те раз! Зачем мне эти курсы? Только-только почувствовал вожжи в руках, а тут — на тебе — покидай флот нивесть почему и, наверное, до самой весны. О том и сказал Главкому.
— Вожжи в ваших руках мы заметили, — ухмыльнулся Сергей Георгиевич. — Возможно поэтому министр и принял такое решение. Не волнуйтесь, ничего с вашим флотом не случится. А если потребуется, так отозвать вас мы сможем в любой момент.
Я попытался было трепыхнуться ещё разок, напомнив, что мне уже 57 лет стукнуло и что 10 из них отсидел за военно-морскими партами. Но Главком только метнул саркастический взгляд в мою сторону. {286}
— 57 говоришь? Ну и что? А мне 72! Не буду же я конфликтовать с министром из-за каких-то трёх месяцев вашей учёбы. Понятно?.. Ну то-то.
Одним словом, государственный праздник для меня оказался смазанным. По возвращении в Североморск оставшуюся до Нового года неделю потратил на то, чтобы оставить Коробову нужные заветы, а также завершить контроль подготовки тяжёлого ракетного подводного крейсера системы «Тайфун» к первому выходу на боевое патрулирование. Вице-адмирал Чернов и его штаб потрудились на славу, чтобы крейсер полностью завершил отработку курсовых задач. Именно поэтому «ТК-208» под командованием капитана 1-го ранга Александра Ольховикова вышел в море своевременно и несколько дней работал в полигонах, изображая обычную боевую подготовку.
За три дня до наступления Нового 1983 года крейсер всплыл в назначенной точке неподалёку от острова Кильдин. Полярная ночь и близость берега сделали этот манёвр незаметным даже для космической разведки противника. В полной темноте мой катер, управляемый мичманом Петровым, подошёл к борту «ТК-208», и я не без труда вскарабкался по шторм-трапу на мокрую и холодную палубу. Вскоре катер ушёл, а крейсер погрузился в назначенном полигоне.
Двое суток проплавал я на борту «ТК-208. Обошёл все 19 отсеков этого уникального корабля. Наблюдал за работой личного состава у действующих механизмов. Однако главное внимание и основное время уделил изучению организации центрального поста и приёмов работы командира корабля. Капитан 1-го ранга Ольховиков по моим вводным показывал всё, к чему подготовился лично и чему научил свой экипаж. В целом я остался доволен. Великолепный корабль, послушный в управлении, обладающий хорошими маневренными качествами, несмотря на свои гигантские размеры и более чем внушительное водоизмещение. Слаженный экипаж. Серьёзный командир. В заключение вместе с Ольховиковым ещё раз перечитал подписанное мною боевое распоряжение на поход. Убедился, что командир ракетоносца твёрдо знает и правильно понимает этот документ.
А когда «ТК-208» снова всплыл в непроглядной ночи и Ольховиков откинул крышку рубочного люка, мы увидели, что неподалёку болтается, поблёскивая прожектором, катер мичмана Петрова. Сделав последнюю запись в вахтенном журнале, я пожелал экипажу счастливого плавания, а командиру — успешного выполнения поставленных задач. Потом сошёл на катер и отскочил на кабельтов от борта крейсера. Вскоре погасли его ходовые огни и раздался звук, похожий на выход гигантского морского животного. Это вырывался {287} воздух из открытых клапанов вентиляции цистерн главного балласта. Через минуту на экране радара катера всё было пусто.
Ольховиков ушёл на глубину, растворился в морском просторе и взял только ему известный курс в район боевого патрулирования. Мичман Петров дал ход и побежал в Кольский залив. А я, укрывшись от ветра в ходовой рубке катера, думал о том, что начало боевой службы морской стратегической ракетно-ядерной системы «Тайфун» — главное из того, что сделано на Северном флоте в истёкшем году.
Отныне колоссальная мощь Атлантической группировки морских стратегических ядерных сил, управление которой доверено мне, увеличилась на 20 межконтинентальных ракет, размещённых на борту «ТК-208». Каждая из этих ракет несёт на себе по 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Вот это действительно «вожжи», которые обеспечивают океанский паритет и, следовательно, прочный, длительный мир на нашей планете.
| {288} |
В одном из старых московских переулков, неподалёку от Новодевичьего монастыря, за металлической оградой привратного сквера, приютился скромный особняк, вызывающий зрительский интерес разве что огромными окнами бельэтажа. Однако именно в этом и нескольких соседних, совсем уж малоприметных, зданиях размещалась Военная орденов Ленина и Суворова академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошолова — высшее военно-учебное заведение оперативно-стратегического профиля и одновременно военно-теоретический центр по исследованию проблем советской военной науки и военного искусства.
Сюда-то я и направился прямо с аэродрома в Чкаловском, где приземлился наш самолёт. Представился начальнику академии, генералу армии М. М. Козлову. Принял меня Михаил Михайлович весьма дружелюбно, но очень коротко. Сказал, что завтра, на вводной лекции, он поведает обо всём, чем предстоит нам заниматься на ВАКе. Так генерал именовал Высшие академические курсы, возглавляемые генерал-полковником Аболинсом. А нынешний день рекомендовал употребить на личное благоустройство. На проспекте Вернадского, дескать, в академическом доме для меня выделена отдельная квартира, а также предусмотрена представительская машина из гаража Минобороны.
На следующее утро, приехав в академию и усевшись за парту в аудитории, я почувствовал себя уже не командующим, но великовозрастным студентом.
Таких «студентов» по приказу министра обороны собралось на ВАКе человек сорок. Из них всего два полковника, остальные — генералы различных родов войск. Самым великовозрастным среди нас оказался маршал авиации Пётр Кирсанов, заместитель главнокомандующего войсками Дальнего Востока. Ему уже исполнилось 64 года.
А вот из военных моряков было всего три слушателя: начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Николай {289} Клитный, командир Либавской ВМБ контр-адмирал Эдуард Семенков и я. Мало! Зато наши чёрные тужурки резко выделялись на фоне зелёных мундиров и красных лампасов окружающей генеральской компании.
Аболинс распределил слушателей по трём учебным группам. Старшим курса и 1-й группы назначил командующего войсками Киевского военного округа, генерала армии Герасимова. 2-ю группу возглавил командующий войсками Уральского военного округа, генерал-полковник Тягунов. А над 3-й — поставил меня.
— Поздравляю! — хлопнул по моему погону Герасимов, — из рядовых да прямо в отделённые командиры! Но помни, — лукаво улыбнувшись, погладил генерал великолепный гусарский ус, — я для тебя всё-таки помковзвода.
Состав моего «отделения» оказался примечательным. Кроме генерал-полковника Гордиенко, в него входили: генерал-лейтенанты Евгений Смирнов, командующий Карельской армией Ленинградского военного округа; Николайй Родионов, командующий отдельной армией Космических войск; генерал-майоры Анатолий Тымченко, Николай Мадудов и Валерий Кириллин, которые представляли штабы армий в войсках Центра, Дальнего Востока и Германии; генерал-майор авиации Владимир Шканакин, командовавший группировкой боевых вертолётов ограниченного контингента советских войск в Афганистане; а также полковники Вадим Крушельницкий из Генштаба и Рэм Данилов, возглавлявший штаб Среднеазиатского округа пограничных войск КГБ.
Вскоре нам представился седовласый, но очень симпатичный преподаватель академии, генерал-майор Виктор Иванович Матвеев. Он сказал, что будет вести 3-ю группу от начала до конца, по всем дебрям и закоулкам академической науки. За это генерал тут же получил титул «классной дамы». Правда, учитывая исключительную заботливость и доброжелательность Виктора Ивановича, вскоре он был повышен в звании до «классной няни». Ничего не поделаешь — учебная аудитория мгновенно меняет психологию и мироощущение даже у генералов, умудрённых суровым опытом воинской службы. Подначки обеспечены каждому. Я не удивлюсь, если на переменках они начнут играть в чехарду.
Однако шутки в сторону! Пора всерьёз браться за то дело, ради которого все мы сюда приехали. На вводной лекции генерал армии Козлов рассказал, что наряду с подготовкой генералов и офицеров на основном факультете академия Генерального штаба ведёт большую работу по повышению квалификации и совершенствованию знаний руководящего состава Вооружённых Сил на Высших академических курсах, которые функционируют с января 1968 года. {290}
Среди крупных военачальников, окончивших курсы, начальником академии были упомянуты генералы армии В. Г. Куликов, В. Ф. Толубко, С. К. Куркоткин, И. Е. Шавров, П. А. Белик, Е. Ф. Ивановский, Н. Г. Лященко, А. И. Грибков, В. И. Варенников. Все они широко известны в нашей армии и на флоте. Однако, слушая Михаила Михайловича, я не без горечи думал о том, что вот ведь ни одного заметного военного моряка генерал не припомнил. Почему бы это?
Между тем начальник академии рассказывал, что наша переподготовка будет вестись по тематическим программам, утверждённым лично министром обороны СССР. При изучении научного коммунизма нам прочтут ряд лекций об актуальных вопросах идеологической работы в армии и на флоте в современных условиях. Предложат также принять участие в семинарах по марксистско-ленинской философии. Однако основной цикл лекций будет охватывать вопросы военной теории.
В этот цикл включены темы о характере возможной будущей войны, рассмотрены военные доктрины основных империалистических государств, исследованы тенденции развития военной техники и оружия за рубежом и в Советском Союзе. Мы обогатим свои знания по различным направлениям строительства Советских Вооружённых Сил, познакомимся с новейшими образцами вооружения и боевой техники Сухопутных войск, Военно-Воздушных сил, Войск ПВО, Ракетных войск стратегического назначения. Будем изучать вопросы военной стратегии и проблемы применения видов Вооружённых Сил в стратегических операциях.
Однако более 70 процентов учебного времени отведено на изучение оперативного искусства в целом и по видам Вооружённых Сил. При этом основное внимание будет уделено фронтовой наступательной операции с применением в ней различных родов сил и войск. На ту же тему планируется отработка прикладных задач и проведение командно-штабного учения на учебном командном пункте академии.
Лекции нам будут читать не только преподаватели академии, но и крупные советские военачальники, в том числе главнокомандующие и начальники Главных штабов всех видов Вооружённых Сил, а также начальники главных и центральных управлений Министерства обороны. Ну а контроль полученных нами знаний и навыков на ВАКе принято осуществлять неформальным образом, при проведении семинаров, по результатам решения прикладных задач и работы на командно-штабном учении.
Закончив вводную лекцию, генерал армии Козлов пожелал успехов, выразил надежду на полное взаимопонимание и распустил по своим аудиториям, с тем чтобы приступить к {291} плановым занятиям. Лишь вечером, перед тем как отправиться по домам, я попросил свою группу задержаться, чтобы поближе познакомиться. Затем коротко изложил свою служебную биографию и пригласил каждого в течение двух-трёх минут сделать то же.
— Какой у нас отделённый командир — мы теперь понимаем, — заключил генерал-полковник Вячеслав Гордиенко. — А кто из нас самый молодой?
— Я! — щёлкнул каблуками полковник Рэм Данилов.
— На ВАКе второй раз учусь и обязанности свои знаю, — улыбнулся полковник и вытащил из-под стола тяжёлый портфель, в котором явно что-то позвякивало.
— Только вот тары подходящей нет, — смущённо признался Рэм.
— Это в пограничных войсках её нет, а в Генеральном штабе есть всё, — вмешался в разговор полковник Вадим Крушельницкий, вынимая из кармана футляр с горкой походных металлических стопок. — Прошу!
А я думал о том, что традиции неистребимы. Всё как всегда: лекции, семинары, практические задачи, военная игра, личные симпатии, немногословная полемика и даже этот обжигающий глоток. Так было в спецшколе, в училище, на Командирских классах, в Военно-морской академии, в ядерном центре города Обнинска, на курсах руководящего состава ВМФ в Ленинграде и, наконец, здесь в «Генеральской» академии. Вот и хорошо. Впереди целых три месяца совместной, дружной, полезной и интересной работы.
Учебные недели, похожие одна на другую, потекли чередой. Перед нами наряду с преподавателями академии выступали с лекциями такие видные военачальники, как Маршал Советского Союза Н. В. Огарков, генералы армии П. И. Ивашутин, В. Ф. Толубко, В. М. Шабанов, С. Н. Куркоткин, главный маршал авиации П. С. Кутахов, маршал авиации А. И. Колдунов, маршал артиллерии Г. Е. Передельский. Эти лекции читались обычно для всех трёх групп одновременно, в актовом зале академии. Туда же приглашались генеральные инспекторы из «райской» группы Министерства обороны. Именно здесь я повстречался с прежними моими начальниками — адмиралами флота В. А. Касатоновым и Н. Д. Сергеевым.
Особенный интерес ко мне и к Северному флоту проявил Владимир Афанасьевич. Встречаться с ним не доводилось вот уже, наверное, лет восемь. Постарел, разумеется, мой командующий. Годы берут своё, к сожалению. Тем не менее адмирал флота Касатонов принялся живо расспрашивать меня о службе, о положении дел на флоте, о Североморске, Западной Лице, Полярном. Думал, спросит что-либо и о собственном сыне. Однако этой темы Владимир Афанасьевич не коснулся. {292} Тогда я сам коротко, но вполне определённо рассказал ему, как идёт становление командующего Кольской флотилией контр-адмирала Игоря Касатонова. Оба остались довольны.
Уже в конце января, последним в числе высокопоставленных лекторов, оказался Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков. Надо сказать, что Сергей Георгиевич мастерски построил свою лекцию и мгновенно овладел вниманием аудитории. Для начала он изложил основы океанской стратегии США и направления развития ВМС стран НАТО, Японии и Китая. Охарактеризовал уровни боевой и оперативной подготовки противостоящих флотов. Рассказал о развитии инфраструктуры океанских и морских театров военных действий. Показал роль советского Военно-Морского Флота в будущей войне и его место в составе Вооружённых Сил СССР. При этом он опирался на опыт второй мировой войны и современных военных конфликтов, особенно заокеанского англо-аргентинского столкновения.
Затем Главком дал характеристику современному состоянию оперативно-стратегических объединений, а также родов сил ВМФ, перечислил задачи, коснулся форм и способов их решения, пояснил различия в общефлотских и общевойсковых операциях, изложил основы организации боевой службы как высшей формы поддержания боевой готовности сил и, наконец, нарисовал впечатляющую картину перспектив развития техники, тактики и оперативного искусства Военно-Морского Флота.
Горшков сошёл с трибуны под аплодисменты зала. Впоследствии мне не раз приходилось слышать от армейских коллег высокую оценку разума и воли флотоводца. «Силён у вас Главком! — изрекали некоторые генералы. — Вот бы нам такого!»
Между тем в перерыве Сергей Георгиевич подозвал меня к себе.
— Находясь в стенах этой академии, — сказал он, — вы должны всячески пропагандировать флот, разъяснять его роль и место, доказывать необходимость существования не только военно-морской науки, но и морской стратегии, которая Генеральным штабом почему-то не признаётся.
В свою очередь я посетовал, что в программе академических курсов вообще не значится флотская техника. Поэтому я попросил у Главкома разрешение в будущем году пригласить генеральскую академию в Североморск и показать ей там надводные корабли и подводные лодки третьего поколения.
Главком идею одобрил, но от меня потребовал, чтобы уже в этом году я прочитал на ВАКе лекцию на тему: «Операция флота на океанском Атлантическом театре военных действий». {293}
— В программе есть такая лекция? Ну вот вы её и прочитаете! — уставился мне в грудь главкомовский палец. — А я... скажу об этом Козлову.
— Генералов нужно не только учить, но и воспитывать, — добавил Горшков на прощание. — Это не всегда удаётся, но если получится, то пользы для флота будет много.
Я так и не понял, шутит он или говорит серьёзно.
А через пару дней ко мне подошёл начальник кафедры оперативного искусства ВМФ вице-адмирал Григорий Исай. Рядом с ним стоял преподаватель той же кафедры, доктор военных наук, профессор, контр-адмирал Вячеслав Золотухин. Обоих я знаю превосходно. Григорий Григорьевич, будучи начальником штаба Северного флота, не так давно отправлял меня в море, на борту плавбазы «Волга», для оказания помощи терпящей бедствие атомной подлодке «К-8». А со Славкой и того проще — три года сидели за соседними столами в одной учебной группе Военно-морской академии. Впоследствии он долго и хорошо служил начальником оперативного управления штаба Тихоокеанского флота.
Исай высказался в том смысле, что Главкому нашему пришла в голову гениальная идея... А Золотухин вручил мне академический вариант своей лекции (вместе с демонстрационными схемами), чтобы всё это я наполнил живым флотским содержанием, а затем сразил наповал генеральскую аудиторию своим ораторским искусством. Пришлось впрягаться.
Но не едиными учебными заботами, сдаётся мне, жив человек. В обеденный перерыв генералы гурьбой отправляются в столовую, где для каждого расписано место и указан номер салфетки. Меня, к примеру, посадили за «начальственный» стол, вместе с генералом армии Герасимовым, маршалом авиации Кирсановым и генерал-полковником Тягуновым. Бравый на вид Иван Герасимов обладал уникальной способностью быстро есть и весело каламбурить.
— Скажи-ка мне, Аркадий, — начинал обычно Герасимов, — почему это у адмиралов четыре ряда пуговиц на тужурке, а у генералов только три?
— По той же самой причине, что и количество пуговиц на задней шлице шинели, — отбивался я. — У меня их три, а у тебя четыре.
— Ну да! — изумлялся генерал армии, — надо проверить. Иногда он пытался выяснить причину того, что у меня на обшлаге рукавов нашиты золотистые пуговицы, а у него их нет. Однако, узнав, что подобным образом ещё Пётр I отучал своих адмиралов обшлагом рот утирать вместо закуски, Герасимов смеялся, как дитя. А когда однажды я попытался истолковать разницу между генералом и адмиралом, ляпнув, что адмирал — тот же генерал, но только с икрой, Иван Александрович {294} пришёл в неописуемый восторг и заявил, что по части трёпа адмиралы генералам не уступают.
Справедливости ради надо сказать, что он позволял себе шуточки только в минуты досуга. На занятиях, особенно в периоды решения практических задач или проведения военных игр, генерал был строг, внимателен и весьма работоспособен. Он мог не только ползать на животе, лично разрисовывая оперативную карту, но и помогать при этом соседу. Лукавинка лишь иногда скользила в его глазах. Мне очень запомнился генерал Герасимов.
Лекции, задачи, игры и даже обеденные развлечения текли своим чередом, но, кроме них, существовали ещё и свободные вечера, когда я приезжал в казённую квартиру на проспекте Вернадского и мы с женой, как вольные птицы, могли позволить себе всё что угодно. Отправлялись, например, гулять пешком до самого Университета, чтобы со смотровой площадки на Воробьёвых горах полюбоваться огнями ночной Москвы. Иногда, главным образом по воскресным дням, могли добраться пешим ходом до Нахимовского проспекта, чтобы завалиться в гости к моей сестре Юле, попить чайку, поболтать о давно ушедших годах детства и юности. Однажды побывали даже в гостях у Николая Дмитриевича Сергеева, где его радушная супруга Нина Степановна потчевала нас всякой всячиной. При этом в компании с адмиралом Владимиром Чернавиным мы слушали интересные флотские байки и пробовали самодельные, но достаточно крепкие напитки. Бывший начальник Главного штаба адмирал флота Сергеев и здесь явился непревзойдённым мастером.
Однако чаще всего мы с Ниной ходили в театр. Иногда по два-три раза в неделю. Понимая, что подобная возможность никогда в жизни, видимо, не повторится, мы поглощали художественную культуру в непомерно большом количестве. Побывали во всех ведущих театрах столицы. Пересмотрели чуть ли не половину текущего московского репертуара. Правда, жене иногда приходилось добираться до театрального подъезда самостоятельно, поскольку даже на автомобиле я едва успевал к началу спектакля после окончания занятий в академии. Словом, благодать да и только. Что-то вроде нежданно свалившегося на голову внеочередного отпуска. Поэтому, чтобы служба не казалась раем, я раз в неделю звонил в Североморск. Академия обеспечивала слушателей ВАКа не только театральными билетами, но и переговорным пунктом ВЧ-правительственной, а также закрытой оперативной связи.
На первый же звонок мне ответил вице-адмирал Кругляков, который доложил, что боевая служба возглавляемого им отряда кораблей, а также официальный визит в Гавану завершился успешно. С чем я и поздравил Владимира Сергеевича. {295} Следующее сообщение особого удовольствия мне не доставило. Дело в том, что в губу Оленья возвратился с боевой службы ракетный подводный крейсер «К-449», у которого обнаружены повреждения лёгкого корпуса и надстройки в корме. Время и причины повреждений установить не удалось. Хорошо если о льдину тюкнулись, а не с американской подлодкой поцеловались. Словом, через Круглякова я поставил начальнику разведки флота контр-адмиралу Квятковскому долговременную задачу по уточнению обстоятельств повреждений на «К-449». Бывает, что через год-другой, но всё-таки проскочит какая-либо информация.
Второй разговор состоялся через неделю, но уже с начальником штаба флота. Вадим Константинович только что завершил оперативный сбор флотских начальников, проведённый на тему: «Оперативное и тактическое взаимодействие при подготовке и ведении операции флота». Он с увлечением рассказывал о том, какое интересное и полезное состоялось мероприятие. Потом доложил, что, как обычно, в конце января планируется оперативный сбор в Ленинграде, под руководством Главкома ВМФ, на тему: «Защита гражданских судов с возникновением угрозы судоходству в зоне Атлантики, Тихого и Индийского океанов. Ведение боевых действий по обороне своих морских коммуникаций и нарушению океанских перевозок противника». Сбор должен завершиться проведением командно-штабной военной игры под условным наименованием «Авангард-83». Игра эта явится как бы генеральной репетицией крупных флотских манёвров «Океан-83», проводимых под руководством Главкома и запланированных на сентябрь.
Представлять Северный флот на сборах в Ленинграде приказано Коробову. При этом в Североморске «на хозяйстве» останется Кругляков. В заключение разговора Вадим Константинович заверил меня, что уже приступил к соответствующей подготовке и постарается не подвести. А я, грешным делом, размышлял о том, что вот ведь и в Североморске, и в Ленинграде люди интересными делами занимаются. Мне же приходится в Москве околачиваться. По театрам ходить... В лучшем случае — разрисовывать цветными карандашами варианты ввода так называемой ОМГ (оперативной маневренной группы) в прорыв линии фронта противника для стремительного рейда по его тылам. Или мучиться над проблемой, где лучше расположить подвижные отряды заграждения и противотанковый резерв, чтобы обеспечить боевую устойчивость собственного тыла.
Подобные занятия приводили к удручающим мыслям. Дескать, нет у нас полноценной академии Генерального штаба. Существует, как ни крути, сухопутная генеральская академия, {296} либо (на выбор) академия сухопутного генеральского штаба.
Крамольные мысли я старался изгонять из собственной головы. Тем более что очередное телефонное сообщение с Североморском принесло информацию об участии оперативных групп Северного флота во фронтовой командно-штабной игре Ленинградского военного округа на местности. Игрой руководил Маршал Советского Союза К. С. Москаленко, а флотскими оперативными группами — вице-адмирал Кругляков и контр-адмирал Касатонов.
Отыгрывалась перегруппировка части войск фронта на приморское направление и ведение там наступательной операции во взаимодействии с Северным флотом. Кругляков доложил мне, что Маршал Москаленко положительно оценил деятельность обоих флотских военачальников на этой игре. Естественно, что я порадовался, особенно за Игоря Касатонова, который на подобном уровне дебютировал впервые.
Теорию фронтовой операции нам читал генерал-полковник М. И. Бесхребетный, и делал он это, надо сказать, мастерски. Разумеется, для всех моих коллег-генералов эта теория — хлеб насущный. Да и мне, для общего развития, весьма полезно знать не только то, чем занят сосед, но и как он это делает. А тут ещё генерал-майор В. И. Матвеев, ведущий практические занятия в нашей группе, вздумал «леща запустить».
Однажды, рассматривая нарисованный мною замысел действий войск фронта на приморском направлении, Виктор Иванович заметил тихим голосом, что из меня может получиться неплохой общевойсковой командующий. Лесть подействовала и стимулировала желание ещё более глубокого проникновения в проблемы оперативного искусства сухопутных войск.
Занятия захватывали. Как-то раз, используя свободное время, я попытался в доступной, но предельно сжатой форме изложить суть того дела, что составляет смысл жизни многих окружающих меня генералов. Не так-то просто оказалось сделать подобное. Уйму бумаги отправил в корзину, прежде чем достиг, чего хотел. Понимаю, что мои личные взгляды и военный опыт могут далеко не полностью соответствовать таковым среди настоящих и будущих коллег. Но всё же рискну представить эти записки на суд читателей. Вот что у меня получилось.
Политикой принято называть сферу деятельности людей, связанную с отношениями между нациями, классами и другими социальными группами. Ядром политики служит проблема завоевания, удержания и использования государственной {297} власти. При этом под властью понимают способность и возможность оказывать определяющее влияние на деятельность и поведение людей с помощью какого-либо предмета влияния: воли, авторитета, убеждения, права, страха или насилия. Власть — это политическое господство, для достижения которого между непримиримыми общественными формациями испокон веков возникали войны.
Война — явление общественно-политическое. Она ведётся всей страной, народом, классом, затрагивает любые сферы жизни общества, является его особым состоянием. При этом используются экономические, дипломатические, идеологические, правовые, информационные и другие формы борьбы. Однако главной на войне остаётся вооружённая борьба. Таким образом, война — это продолжение политики, ведущейся насильственными средствами.
Вооружённая борьба представляет собой совокупность двусторонних военных действий, которые в свою очередь являются следствием организованного применения сил и войск на суше, в воздухе и на море для достижения общих целей и конкретных задач.
Любому военному действию присущи свои цели и задачи, формы и способы, виды и масштабы. При уяснении цели нужно ответить на вопрос — для чего организуется действие? Задача определяет — кому, где, когда и что именно следует сделать для достижения цели? Способ уточняет — как нужно действовать для решения задачи? Виды военных действий включают оборону и наступление, а по масштабам их принято подразделять на стратегические, оперативные и тактические. Наконец, форма определяется напряжением, продолжительностью и масштабом действия.
Операцией именуются обычно военные действия, ведущиеся с максимальным напряжением сил в короткий срок. Другими формами боевых действий оперативного или тактического масштаба могут быть бои, атаки, удары. Сохранились также исторические названия форм — такие как битва или побоище. Например, Куликовская битва Дмитрия Донского или Ледовое побоище Александра Невского.
Система объективных знаний о характере и законах войны, о подготовке к ней страны и Вооружённых Сил, зависимости её хода и исхода от политики, экономики, идеологии представляет собой военную науку. Целью такой науки является описание, объяснение и предсказание явлений действительности в военной области. Составными частями военной науки являются её основы, а также теории военного искусства, военного строительства, воинского обучения и воспитания, военной экономики и тыла, гражданской обороны. Сюда же относится военная история. Военная наука тесно связана с {298} философией, идеологией, экономикой, политикой, а также с рядом других естественно-научных дисциплин.
Наивно полагать, что всем этим занимаются военные специалисты. Как раз наоборот. Военная наука — одна из многих форм общественного сознания. Её выводами пользуются сугубо гражданские люди, ответственные за судьбу страны, её сохранение, развитие и процветание. Они же формируют военную доктрину, иначе говоря, систему официально принятых в государстве взглядов на предотвращение войны, подготовку страны к обороне от возможной агрессии, организацию противодействия угрозам военной безопасности и, наконец, на использование Вооружённых Сил для защиты интересов государства.
Зато военное искусство, призванное проводить в жизнь выводы военной науки и требования военной доктрины, — удел профессионалов. Искусством, как известно, именуется высокая степень умения, мастерства в любой сфере человеческой деятельности. Таким образом, под термином «военное искусство» вполне справедливо понимать высокую степень умения и мастерства, проявленную при подготовке и ведении военных действий в любых видах, формах и масштабах на суше, в воздухе и на море. Военное искусство, как и любое другое, включает теорию и практику дела.
Для того чтобы овладеть умением, надобно в первую очередь обладать знаниями, которые чаще всего вырабатываются наукой и складываются в различные теории.
Теория военного искусства представляет собой обобщённый, осмысленный опыт профессиональной практики и выступает как система основных идей, дающих целостное представление о закономерностях и существенных связях вооружённой борьбы.
Практика военного искусства носит конкретный характер, соответствующий реальной обстановке. Она (практика) проявляется в решениях военачальников, а также в действиях сил и войск. Именно боевая практика служит критерием истины в теории военного искусства. Как и любая другая сфера человеческой деятельности, военное искусство в огромной степени зависит от характера общественных отношений, национальных интересов, политического строя, географического положения, уровня экономического развития государства, его научно-технических возможностей и демографических особенностей. Таким образом, военное искусство постоянно видоизменяется и совершенствуется вместе с развитием общества и государства. Вместе с тем многовековой опыт ведения войн породил некие фундаментальные принципы, которые мало меняются в течение жизни нескольких поколений военачальников. {299}
О принципах военного искусства написано много, иногда даже слишком. Это, на мой взгляд, усложняет их осмысление и использование. Принципы хороши лишь тогда, когда преобладают в сознании военачальника, целиком укладываются в рассудок и находят применение в его решениях и действиях. Поэтому, опираясь на знания, полученные некогда в Военно-морской академии, а ныне в академии Генерального штаба, с учётом собственного (пусть небольшого) опыта, я попытался сформулировать принципы военного искусства как можно короче и только для личного употребления. Вот они.
— Организуй разведку. Веди её в мирное и военное время. Знай, где неприятель, сколько его, что он делает, что и когда намеревается предпринять. Помни, разведка эффективна лишь тогда, когда способна вскрыть замысел противника.
— Содержи свои силы в боевой готовности, соответствующей обстановке и намерениям противника. Не перенапрягай силы. Повышай их боевую готовность только тогда, когда это действительно необходимо.
— Найди главное направление действий своих сил и вбйск, неожиданное для противника, но ведущее к достижению поставленной цели. Помни, что всегда, везде и в равной степени сильным быть невозможно. Сил, средств, ресурсов, времени, как правило, не хватает. Поэтому...
— Создай подавляющее превосходство над противником на главном направлении, в решающий момент, за счёт перераспределения усилий на других направлениях. Не размазывай силы равномерно по всем возможным направлениям, объектам, периодам действий.
— Бей первым. Действуй внезапно, особенно на главном направлении. Захватывай инициативу. Упреждай противника, не давай ему опомниться, развивай успех.
— Маневрируй. Меняй районы и позиции. Помни, что манёвр не менее важен, чем огонь. Сочетай огонь с манёвром. Окружай противника, рассекай его боевые порядки, отсекай от тылов, преследуй его. В то же время умей выводить свои силы из-под возможных ударов.
— Организуй взаимодействие сил. Их много, и все они разные. Каждый имеет сильные и слабые стороны. Позаботься, чтобы знали, кто, что, где и когда делает. Обеспечь взаимное опознавание и оповещение, согласование и распределение усилий по задачам, объектам, районам, рубежам, секторам ударов и по времени. Помни, твои силы должны бить противника, а не друг друга. Позаботься, чтобы помогали, а не мешали соседу, использовали результаты взаимных усилий.
— Прикрой силы, особенно действующие на главном направлении, от ударов противника с воздуха, с моря, с флангов {300} и тыла. Помоги им. Создай наилучшие условия для успешных действий.
— Обеспечь силы всем необходимым. Организуй все виды оперативного (боевого) тылового и технического обеспечения. Накорми, одень и обуй, предоставь людям отдых, вовремя подай боеприпасы и горючее, окажи помощь раненым и поражённым.
— Управляй силами. Следи за обстановкой. Уточняй результаты и последствия действий. Реально оценивай достигнутое. Восстанавливай потерянное. Информируй командование и соседей. При необходимости уточняй собственное решение и задачи подчинённым. Твёрдо проводи задуманное в жизнь. Помни, система командных пунктов должна быть подвижной в пространстве, во времени и в функциях управления. Потеря управления равнозначна поражению.
— Имей резерв. Успех зависит не только от тебя, но и от действий противника. Действуя, ты рискуешь. Всякое может случиться. Поэтому не раздавай подчинённым всё, что имеешь. Командующий без резерва мало кому интересен. Для решения внезапно возникающих задач будь готов ввести резерв в сражение в нужное время, в нужном месте и в кратчайший срок.
— Укрепляй боевой дух сражающихся людей, осознание ими правоты своего дела. Воспитывай волю к победе, бесстрашие в бою, предпочтение смерти позору плена, верность присяге и знамени. Развивай уважение к товарищам по оружию, ненависть к врагам, презрение к трусам, милосердие к побеждённым.
Вот, собственно говоря, и всё. Коротко, но ясно. Надо сделать так, чтобы в любом твоём решении «принципы» находили своё место. И всё же, рассматривая принципы военного искусства в целом, я ни на минуту не забывал, что Советский Союз является великой морской державой, имеющей существенные государственные интересы в области изучения, освоения и использования Мирового океана. Более того, для сохранения мира на нашей планете, обеспечения безопасности и независимости страны необходим именно океанский стратегический паритет. А теорию и практику применения Вооружённых Сил для устранения угроз государственным интересам в Мировом океане справедливо было бы именовать военно-морским искусством и рассматривать его в виде совокупности военно-морской стратегии, оперативного искусства и тактики Военно-Морского Флота.
К сожалению, термин «военно-морская стратегия» вызывает раздражение у теоретиков академии Генерального штаба. Они справедливо полагают, что стратегия является составной частью и высшей областью военного искусства, охватывающей {301} теорию и практику подготовки страны и её Вооружённых Сил к войне и ведению стратегических действий и войны в целом. Однако они утверждают, что при этом не может быть (?) какой-то отдельной «военно-морской стратегии». Так, дескать, не трудно выдумать «военно-морскую науку» или «военно-морское искусство». Ведь не существует же «военно-танковой науки» или «военно-пехотного искусства»? Знайте своё место, уважаемые моряки. Занимайтесь присущим вам оперативным искусством ВМФ, а стратегию не трогайте.
При этом сухопутные теоретики (или общевойсковые, как они сами себя называют), по-видимому, забыли, что Военно-Морской Флот является универсальным видом и представляет собой точную, хотя и уменьшенную, копию Вооружённых Сил. На флоте имеется всё, чем обладают войска, и даже сверх того. Не смущает теоретиков и то обстоятельство, что в военной доктрине крупнейшей морской державы мира — Соединённых Штатов Америки — содержится не только термин, но и официально существует военно-морская стратегия.
Да и у нас в стране отменённая зачем-то военно-морская наука продолжает развиваться вне зависимости от желания армейских «теоретиков». О том свидетельствуют достижения крупных коллективов Военно-морской академии, ряда научно-исследовательских институтов. Ну а колоссальные долговременные усилия всей страны по созданию ракетно-ядерного флота и развёртыванию в океане, на боевой службе передового стратегического эшелона Советских Вооружённых Сил — чем не военно-морская стратегия?
Мысли о необходимости прочитать генералам адмиральскую лекцию, рассказать про возможную реальную операцию Северного флота на океанском Атлантическом театре военных действий не давали покоя. Мне придётся не только прочитать, но и при проведении военной игры согласовывать действия сил флота с усилиями войск фронта на Северо-Западном континентальном направлении. Сделать это тем более важно, чтобы мои друзья-генералы поняли смысл и ощутили особенности вооружённой борьбы на море. Они должны оценить реальную пользу, которую могут принести моряки людям, сражающимся на суше. Неудивительно, что вскоре наряду с академическими конспектами я начал вести собственные записки по проблемам военно-морского искусства.
Мировой океан занимает значительно большую часть поверхности нашей планеты, нежели земная суша. Ему принадлежит роль главного регулятора состава, теплового режима и динамики земной атмосферы, источника жизни на земли. Он определяет климат и погоду, обеспечивает наличие пресной воды в реках, озёрах и глубинных слоях суши. Океан обладает колоссальным энергетическим потенциалом, биологическими {302} ресурсами, запасами растворённых в воде драгоценных металлов. В океанском дне содержится огромное (не сравнимое с сушей) количество нефти, газа, железо-марганцевых руд...
Подавляющее большинство населения и практически весь промышленный потенциал развитых государств сосредоточен на побережье морей и океанов в очень узкой полосе (до 300–500 километров). При этом океан не разобщает, а объединяет страны и народы. Цивилизация зародилась и развивается в основном на берегах морей.
Морской транспорт — самый дешёвый, доступный, грузоподъёмный вид перевозок людей и грузов — важнейший элемент экономики любой страны.
Вместе с тем океан, за исключением узкой полосы территориальных и внутренних вод, не принадлежит ни одному государству. В океанах и морях всеми странами соблюдается принцип свободы мореплавания. Заявление отдельных, как правило, слаборазвитых государств о выделении в океанах и морях исключительных экономических зон окончательного международного признания не получило. Тем не менее все страны и народы проявляют интерес к изучению, использованию ресурсов и транспортных возможностей Мирового океана.
Интересом, как известно, называют реальную причину, побуждающую общество или личность к действию. Различают социальные, политические, экономические, военные, групповые и личные интересы. Они могут проявляться как на суше, выступающей предметом собственности, так и на море, которое не принадлежит никому. Не следует отождествлять национальные и государственные интересы. Национальные — обеспечивают свободу, процветание и безопасность нации (сообщества личностей) в настоящем и будущем. Они не зависят от социально-политического строя в государстве, происхождения его властных структур, способности реализовать интересы в конкретный исторический период. Тогда как государственные интересы — обеспечивают управление обществом в соответствии с провозглашёнными принципами политики, структурой власти, экономическими устремлениями. Они подвержены изменениям вместе с политикой и могут не совпадать с национальными интересами.
Интересы в Мировом океане определяются стремлением стран и народов, в том числе и Советского Союза, использовать ресурсы и океанские возможности себе во благо. Вместе с тем раздел земной суши уже завершён. Попытки передела, как правило, приводят к войнам. Наблюдается стремление ряда стран к тому, чтобы поделить и Мировой океан с целью единоличного владения его богатствами. В мире идёт процесс изменения географической конфигурации политических сил. {303} Наряду с распадом колониальной системы создаются и укрепляются военно-политические блоки, наподобие НАТО. На первый план выходят притязания США на роль сверхдержавы и мирового жандарма.
Для обеспечения собственных государственных интересов в Мировом океане большинство развитых стран содержат Военно-Морские Силы. Их применение становится хроническим элементом международных отношений. Тенденций к сокращению ВМС в мире не наблюдается. Всякие предложения об ограничении состава военных флотов — отклоняются. Удельный вес военно-морских вооружений на фоне реального сокращения сухопутных войск — непрерывно растёт. Большинство так называемых традиционных морских держав исповедуют принцип: «Тот, кто владеет морем, — владеет миром».
Таким образом, несмотря на достигнутый стратегический паритет, угрозы интересам Советского Союза в Мировом океане реально существуют. Они проявляются время от времени в процессе начинающегося раздела океана и определяются наличием государств, чьи интересы противоречат или могут противоречить интересам нашей страны. Угрозы усиливаются из-за отсутствия должного международно-правового регулирования и контроля за развитием морских вооружений.
Государствами мира накоплен значительный военно-морской потенциал. США и СССР обладают военными флотами глобального действия. Англия, Франция, Канада, Италия, Япония и Китай — флотами дальнего действия. Остальные государства — прибрежными флотами. Возрастает «вес» морских стратегических вооружений в структурах ядерных держав. Повышается эффективность морского оружия с обычными боеприпасами при воздействии по войскам и объектам на суше. Военно-морские группировки периодически развёртываются и демонстрируют своё присутствие в районах назревающих конфликтов.
Устранение угроз, достижение национальных и государственных интересов Советского Союза обеспечено развитием и наращиванием морской мощи государства. Иными словами, необходимо поставить ресурсы и возможности океана на службу людям.
Составными частями морской мощи являются: научно-технический прогресс; судостроительная наука и промышленность; исследовательская деятельность в океанах и морях; теория и практика использования ресурсов Мирового океана; международно-правовое обеспечение интересов страны в океане; состав, состояние и использование транспортного, промыслового и исследовательского флотов; высокий престиж {304} государственной службы и иной деятельности на море, а также «океанское мышление» руководителей государства и большинства народа, их способность осознать интересы и необходимость их защиты в океанах и морях.
Поэтому важнейшей составляющей морской мощи государства является Военно-Морской Флот, который представляет собой сложную военную, организационно-техническую, человеко-машинную систему, состоящую из ударной, обеспечивающей, обслуживающей, управляющей, обучающей и научной подсистем. Его состав, состояние и использование должны соответствовать военной доктрине государства и обеспечивать решение ряда конкретных задач.
Во время войны Военно-Морскому Флоту могут быть поставлены такие задачи, как:
— поражение стратегически важных объектов и войск противника на заокеанских и заморских территориях;
— уничтожение группировок надводных кораблей и подводных лодок противника в базах, на переходе морем и в районах боевых действий;
— отражение воздушного нападения противника с морских и океанских направлений;
— сохранение своих морских стратегических ядерных сил и поддержание их высокой готовности в ходе войны, ведущейся безъядерными средствами;
— нарушение океанских и морских перевозок противника и его экономической деятельности в Мировом океане;
— оборона своих районов базирования, морских коммуникаций и экономической деятельности;
— содействие войскам, действующим на приморских направлениях.
В мирное время вся деятельность Военно-Морского Флота страны должна быть направлена на поддержание мира, дружбы и сотрудничества между странами и народами в условиях сохранения стратегического паритета и соблюдения национальных и государственных интересов в океанах и морях.
Многие государства, в том числе и Советский Союз, предусматривают применение для вооружённой борьбы на море всех видов своих Вооружённых Сил. Однако основная ответственность возлагается на Военно-Морской Флот. Море — чуждая, противоестественная для человека среда. Оно само по себе представляет опасность, а порою становится настоящим врагом. Однако люди научились понимать море, видеть его сильные и слабые стороны, использовать особенности. Неудивительно, что и военным действиям на море присущи подобные особенности. Их следует понимать не только морякам, но и общевойсковым военачальникам, планирующим и организующим вооружённую борьбу. {305}
Благодаря принципу свободы мореплавания только ВМФ способен ещё в мирное время и в короткий срок сосредоточить значительную боевую мощь в оперативно-важных районах океанов и морей. Оттуда военно-морское оружие, даже с обычными, не ядерными зарядами, способно с большой точностью и высокой эффективностью поражать войска и объекты на территории практически любого государства. При этом силы флота, как правило, остаются недосягаемы для оружия сухопутных войск. А подводные лодки с баллистическими ракетами, постоянно развёрнутые в океане, — наиболее устойчивый, дешёвый и безопасный для государства компонент его стратегических ядерных сил.
Пространственный размах военных действий в океанах и морях огромен, не сопоставим с размахом действий на суше. Например, размах фронтовой операции составляет обычно 300 километров по фронту и около 500 в глубину. В то время как размах операции флота может достигать 3–5 тысяч километров и более.
С учётом этого океанский театр военных действий принято разделять на зоны: ближнюю морскую, дальнюю морскую и океанскую. Условия и особенности действий сил флота и других видов Вооружённых Сил в этих зонах не одинаковы.
Ближняя морская зона включает обычно прибрежные моря, в которых расположена система базирования сил флота. Для Советского Союза это — Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, а также Чёрное и Каспийское моря. В ближней зоне могут действовать корабли, самолёты и вертолёты всех классов и типов, а кроме того, фронтовая авиация, ракетные войска и артиллерия сухопутных войск и войска морских десантов. Все эти силы и войска надёжно прикрываются береговой и войсковой ПВО. Оперативное развёртывание и переразвертывание сил занимает незначительное время, от нескольких часов до двух-трёх суток. Возможно доснабжение и пополнение израсходованного боезапаса в ходе военных действий. Управление силами в ближней зоне не вызывает затруднений, поскольку происходит в условиях энергетического превосходства над противником.
Дальняя морская зона включает моря и районы океана, примыкающие к прибрежным. Для нас это — Норвежское, Гренландское, Северное, Средиземное, Жёлтое, Восточно- и Южно-Китайское моря, а также океанские подходы к Камчатке. Здесь могут действовать атомные и дизельные подводные лодки, морская ракетоносная, дальняя разведывательная и противолодочная авиация, тяжёлая бомбардировочная авиация резерва Верховного Главнокомандования, крупные мореходные надводные корабли. Фронтовая авиация используется {306} ограниченно. ПВО обеспечивается главным образом средствами кораблей и корабельной истребительной авиации. Доснабжение кораблей и восполнение боезапаса затруднительно. Управление силами осуществляется в условиях равенства с противником.
Океанская зона включает Северную и Центральную Атлантику, Северный Ледовитый океан, северо-западную часть Тихого океана, северную часть Индийского океана. В океане могут действовать главным образом атомные подводные лодки и авианосные соединения. Применение авиации берегового базирования ограниченно возможно (только при попутных и встречных дозаправках или при использовании аэродромов союзных государств). Оперативное развёртывание сил занимает от шести до двенадцати суток. Все виды обеспечения крайне затруднены. Восполнение оружия исключено. Управление силами будет происходить в условиях энергетического превосходства противника.
Определяющим условием господства на море является господство в воздухе над этим морем. Его можно осуществить только при тесном взаимодействии сил флота с войсками ПВО страны и войсковой ПВО фронта. Однако господство в воздухе над океаном, так же как и противовоздушную оборону страны с океанских направлений, способен осуществлять только Военно-Морской Флот, обладающий мощными авианесущими корабельными соединениями и палубной истребительной авиацией.
Силы флота обладают несравнимыми с сухопутными войсками возможностями манёвра. Если темп наступления на суше не превышает 25–50 километров в сутки, то на море силы флота способны преодолеть за то же время 700–1000 километров. Отсюда стремительность, динамичность, непредсказуемость и широкий размах военных действий в этой среде.
В отличие от войск при ведении действий на море силы флота не имеют традиционных «фронта», «флангов», «тыла», «направления действий». Развёрнутые заблаговременно и скрытно, они могут оказаться внутри боевых порядков противника. Оперативные построения противоборствующих сторон перекрещиваются, становятся взаимопроникающими. В этих условиях классические понятия «оборона» или «наступление», привязанные к определённой территории, теряют смысл. Акваторию невозможно «захватить» или «удержать». Поэтому операции флотов и флотилий не принято разделять на наступательные и оборонительные. Главным принципом морского боя и операции становится стремление к своевременному выявлению противника с любого направления и к упреждающему удару. {307}
Особые трудности при ведении военных действий на море и особенно в океане возникают при организации всестороннего обеспечения и боевого управления. Трудно управлять подводными лодками. А ведь именно они являются главной ударной силой флота. Известно, что электромагнитные излучения не распространяются в воде. Радиоприём на подводной лодке возможен лишь на сверхдлинных волнах, при ограниченной глубине погружения. Всплытие подводной лодки для связи лишает её главного тактического свойства — скрытности.
Система связи с подводными лодками требует строительства многих, крупных, мощных, стационарных радиоцентров на суше, что в свою очередь порождает проблему их боевой устойчивости и обороны. Штаб флота вынужден управлять каждой подводной лодкой в отдельности. Это приводит к наличию сотен объектов в одном контуре управления, в то время как у войсковых штабов подобных объектов непосредственного управления не более двух десятков.
Наконец, флот не может вести вооружённую борьбу в океанах и морях без твёрдой опоры на систему берегового базирования. Потеря баз равносильна гибели флота. Однако русская и советская военная история не знает случаев потери военно-морских баз в результате нападения противника с моря. Все они — от Порт-Артура, до Либавы, Таллинна и Севастополя — пали под ударами сухопутных войск. Поэтому оборона военно-морских баз с суши является важнейшей проблемой вооружённой борьбы на море.
Мои «подпольные» теоретические изыскания в области военно-морского искусства вызывали порой оживлённую полемику среди коллег-генералов. Впрочем, изыскания пришлось прервать, когда однажды, уже в начале марта, меня пригласил к себе начальник академии. «Брякнул что-нибудь не так?» — подумал я и приготовился было к очередной дискуссии. Однако вскоре убедился, что дело в другом. Михаил Михайлович сказал, что ему позвонил С. Г. Горшков и сообщил о намерении министра обороны вылететь на днях на Север, чтобы вручить Мурманску орден Отечественной войны, которым город награждён недавно, в 65-ю годовщину Советской Армии и Военно-Морского Флота. Главком просил отпустить меня на недельку в Североморск, чтобы встретить министра и вслед за ним возвратиться в Москву для завершения учёбы.
Таким образом, уже на следующий день мой самолёт приземлился на аэродроме Североморска-1, где возле гостевой площадки контр-адмирал Акатов муштровал оркестр и роту почётного караула. Встречавший меня вице-адмирал Кругляков {308} доложил, что в Мурманск прибыл командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник Снетков, а в Североморске, в штабе генерала Морина, находится командующий Архангельской отдельной армии ПВО, генерал-полковник Царьков.
Через пару дней, приложив неимоверные усилия к расчистке аэродрома от выпавшего снега, мы ожидали прилёта Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова. Снег продолжал падать, покрывая белыми хлопьями погоны и шапки застывших в строю матросов, когда, наконец, вывалилась из-за облаков и покатилась вдоль бетонки огромная крылатая машина. Представившись министру у трапа самолёта, я под звуки встречного марша провёл его перед строем роты почётного караула. Устинов поздоровался с первым секретарём Мурманского обкома Птицыным, генералами и другими встречающими его лицами. Тут же находился прилетевший вместе с министром Сергей Фёдорович Ахромеев, заместитель начальника Генштаба Вооружённых Сил СССР. Ахромееву на днях было присвоено звание Маршала Советского Союза, и я имел возможность поздравить его с этим событием.
Когда приветствия закончились, я пригласил министра занять место на смотровой площадке. Однако Дмитрий Фёдорович повёл рукой в сторону почётного караула, изготовленного к маршу, и тихо спросил:
— А может, не надо всего этого?
— Никак невозможно, товарищ Маршал Советского Союза. Не я придумал. Так в уставе записано.
— Ну, ладно, — вздохнул Устинов, — давай.
Грянул оркестр, взметнулось бело-голубое знамя, и никакой снег не помешал роте в стремительном марше отдать министру воинскую почесть.
Вскоре подкатил невесть откуда взявшийся, сверкающий чёрным лаком, министерский бронированный лимузин. Устинов пропустил в салон Ахромеева, Птицына и меня, а сам устроился тут же, на откидном креслице, возле правой двери машины. И начались запавшие в память дни пребывания министра обороны на Северном флоте.
Побывали в Мурманске, в гостях у Птицына, где на торжественном собрании в Доме культуры и техники Дмитрий Фёдорович собственноручно прикрепил орден Отечественной войны 1-й степени к знамени города, поздравил мурманчан с этим знаменательным событием и поблагодарил их за неоценимую заботу, проявляемую к Северному флоту и военным морякам. В тот же вечер, рассматривая предложенный Ахромеевым план работы на предстоящие дни, Устинов согласился быть в Доме офицеров на концерте Ансамбля песни и пляски Северного флота. Однако тут же он выразил недоумение по {309} поводу отсутствия в гостях у североморцев Ансамбля Ленинградского военного округа.
— А вы как думаете? — выговаривал он командующему войсками округа генералу Снеткову... — взаимодействие превыше всего!
Борис Васильевич забеспокоился и попросил меня помочь связаться с Ленинградом, что и было сделано тут же по телефону ВЧ-связи, вмонтированному в мою «Волгу». На следующий день ленинградский музыкальный десант уже высаживался с борта Ан-12 на бетонку североморского аэродрома.
А министр тем временем объездил вдоль и поперёк флотскую столицу. Прошёл на катере в Полярный, а затем и в Гаджиево. Осмотрел там ракетную базу и строящееся подскальное сооружение. Дал указания о режимах ракетной готовности подводных крейсеров. Подтвердил своё требование обеспечить возможность пуска ракет не только в море из-под воды, но и при стоянке в базе. С интересом выслушал мой доклад об успешной ракетной стрельбе подводного крейсера «К-421», стоявшего у причала в Порчнихе.
Особое внимание министр уделил судоремонтным заводам в Росте и Полярном, а также плавучему заводу в Гаджиеве. Хотел посетить Западную Лицу и взглянуть на подводный крейсер системы «Тайфун», но, узнав, что «ТК-208» находится в море, на боевой службе, Дмитрий Фёдорович выразил особое удовольствие и отменил поездку.
Побывал министр и на крейсере «Киров», осмотрел корабль, побеседовал с личным составом. Прямо из ходовой рубки связался по телефону с Москвой, попросил соединить с Горшковым и сказал ему, что доволен поездкой на Северный флот.
В последний день своего пребывания в Североморске Маршал Устинов провёл в Доме офицеров совещание руководящего состава флота, Североморского корпуса ПВО и Мурманской мотострелковой дивизии. Там он заслушал мой доклад о состоянии дел на флоте, проблемах его противовоздушной обороны и взаимодействия с войсками округа. Надо сказать, что генералы Снетков и Царьков в своих выступлениях поддержали флот.
Тем не менее я рискнул (в качестве просьбы к министру) выдвинуть идею о придании флоту хотя бы трёх собственных истребительных авиационных полков. Юрий Александрович Царьков спорить не стал, хотя и понимал, по-видимому, что это будут его истребители, поскольку ничейные полки просто так на дороге не валяются. Министр отнёсся к моим аргументам серьёзно и вроде бы даже положительно, однако поручил Маршалу Ахромееву проработать вопрос в Генеральном штабе. Передавать флоту придётся ведь не только самолёты, {310} но и аэродромы, гарнизоны, базы оружия и систему управления.
Совещание завершилось великолепным концертом, где армейские и флотские музыканты, певцы и танцоры демонстрировали своё искусство. Устинов улыбался и от души аплодировал, а сидящий рядом Борис Васильевич Снетков подталкивал меня локтем под бок. Вот, дескать, так бы и нам взаимодействовать. День закончился парадным ужином в большой кают-компании крейсера «Киров». Словом, все остались довольны. Поэтому, проводив министра в Москву, я и сам улетел вслед за ним, чтобы завершить своё генеральское образование.
До окончания занятий на ВАКе оставалось всего две недели. Тем не менее я успел прочитать в потоке для всех трёх групп заказанную лекцию про операцию флота на океанском театре военных действий. Кроме генералов-слушателей, присутствовали: генерал-полковники Аболинс и Бесхребетный. Военно-морская кафедра явилась в полном составе. А кроме того, пришёл адмирал флота Владимир Афанасьевич Касатонов.
Лекция прошла гладко, наверно потому, что, опираясь на классический конспект контр-адмирала Золотухина, я говорил в основном о практике дела, наработанного несколькими поколениями североморцев. Когда закончил, посыпались вопросы, но, к удивлению моему, не по теме. Генералов больше интересовала поездка министра обороны, его окружение и деятельность на Северном флоте. Пришлось по мере возможности удовлетворять генеральское любопытство. Когда же все разошлись и я остался вдвоём с Касатоновым, то поделился с ним сомнениями относительно своих разъяснений генералам особенностей вооружённой борьбы на море. Может быть, именно поэтому и вопросов-то по сути прочитанной лекции не оказалось? Однако Владимир Афанасьевич затею мою одобрил. Сказал, что тем и хороша академия Генерального штаба, коли позволяет устанавливать личные контакты со многими армейскими коллегами, находить среди них если и не единомышленников, то уж во всяком случае приятелей и даже друзей. Посетовал, что не довелось ему в своё время обучаться в этих стенах.
Затем адмирал флота выразил сожаление, что в больших государственных делах личные отношения и амбиции военачальников могут играть определённую роль. Касатонов напомнил, что когда-то министр обороны Маршал Советского Союза Г. К. Жуков исключительно предвзято относился к Адмиралу Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову... Особенно раздражала министра морская терминология. Дескать, всё у этих моряков не так, как у людей. Посоветовав учитывать {311} подобные обстоятельства, Владимир Афанасьевич пожелал мне успехов на этом нелёгком поприще.
Оставшиеся дни учёбы пролетели особенно быстро. На выпуск прибыл начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Н. В. Огарков. Однако был Николай Васильевич строг, неразговорчив и позволил себе лишь сфотографироваться вместе со слушателями. Особых торжеств по поводу окончания ВАКа не было. Разве что полковник Рэм Данилов в последний раз щёлкнул каблуками и выполнил долг перед группой генералов, во главе которой, вопреки армейской логике, был поставлен адмирал. Правда, сие обстоятельство не помешало нам распрощаться самым душевным образом.
Заглянул я и на военно-морскую кафедру, где вице-адмирал Григорий Григорьевич Исай собрал, кроме своих преподавателей, ещё и всех слушателей-моряков основного факультета. Пожелал кафедре успехов в её очень нужной деятельности, а для слушателей выразил уверенность, что после окончания академии Генерального штаба на флотах их ожидают высокие должности и уйма работы.
Накануне отлёта из Москвы, положив в карман тужурки симпатичное Свидетельство об окончании Высших академических курсов, я съездил на улицу Грибоедова, чтобы нанести визит Главкому.
— Ну как? — взглянул на меня Сергей Георгиевич поверх очков, — набрался разума?
В ответ я выложил перед ним Свидетельство, которое Горшков принялся разглядывать с любопытством.
— Вот и нам неплохо бы придумать нечто подобное, — изрёк Главком, — но только в стенах нашей Военно-морской академии.
Тем не менее я всё-таки высказал ему собственное суждение о повышении квалификации в области военно-морского искусства. Подобного повышения, обучаясь на ВАКе, лично я, разумеется, не получил, хотя генералам это было полезно. Однако в том, что представляет собою война и присущая ей вооружённая борьба в целом, пожалуй, разобрался.
— Ишь ты! — ухмыльнулся Сергей Георгиевич, — а я вот до сих пор мучаюсь.
Потом он принялся упрекать меня за те три истребительных авиационных полка, что я выпрашивал у министра.
— Зачем вам истребители берегового базирования, тактический радиус которых едва перекрывает Баренцево море? — кипятился Горшков. — Нам нужны палубные истребители, взлетающие с авианосцев. И они у вас будут! — хлопнул он ладонью по столу.
Я молчал, но думал, что Главком, как всегда, прав. А он тем временем продолжал меня воспитывать. {312}
— Ну, передадут вам эти три полка и превратят тем самым из командующего флотом в общевойскового певеошника. Такого я даже командующему Кольской флотилией не пожелаю. Понятно?.. Соображать надо, прежде чем возникать!
Затем, напомнив, что в этом году Кольская флотилия должна быть выведена на оперативный простор, в чём он намерен убедиться лично, уже в августе, когда прибудет в Североморск для руководства учением «Океан-83», Сергей Георгиевич отпустил меня восвояси.
В тот же вечер, пребывая в превосходном настроении, несмотря на главкомовскую выволочку, мы с Ниной сделали прощальный круг по ярко освещённой Москве, когда отражённые мокрым асфальтом уличные огни нескончаемо множились, образуя фантастические гирлянды. Красотища неописуемая! Нина с удовольствием разглядывала ставшие ей такими знакомыми очертания Садового кольца, а я размышлял о том, что генеральская академия достойно завершила очередной виток моей военно-морской судьбы.
| {313} |
Лишь теперь, по прошествии двух десятков лет, я окончательно понял, что в первой половине 80-х годов минувшего столетия Военно-Морской Флот Советского Союза находился на вершине своего боевого могущества, а годы, отданные Северному флоту, были лучшими в моей жизни. Тогда каждый из нас, прошедших сквозь штормы холодной войны, служил не столько за деньги и престиж, сколько по чести и совести, иногда рискуя жизнью и делая всё возможное для достижения славы Отечества и могущества его флота.
Да, бывали у нас ошибки, просчёты, промахи, срывы. Да, не только добрыми побуждениями, разумностью намерений или силою воли определялись планы, действия и устремления военачальников. Такие, присущие людям, чувства, как страх, стыд, злость, гнев, затмение разума, смятение духа, осознание непоправимости содеянного и неизбежность человеческих жертв, в определённых ситуациях возникали и, безусловно, влияли на поведение людей, находящихся в вооружённом противостоянии с могучим противником.
В тот самый день, 23 марта 1983 года, я возвратился из Москвы после завершения генеральского образования. Майор Давыдов вполне благополучно посадил свой самолёт на бетонку североморского аэродрома. У трапа, по которому я спускался, находясь в благодушном настроении, стоял начальник штаба флота вице-адмирал Коробов. Румяную физиономию Вадима Константиновича покрывали белые пятна, а под скулами бегали желваки. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — дело худо, что-то случилось.
Но... не будем забегать вперёд. Надеюсь, что вскоре я вновь смогу пригласить читателей к продолжению повествования.
| {314} |
 |
Таким встречал меня Мурманск в декабре 1981 года. |
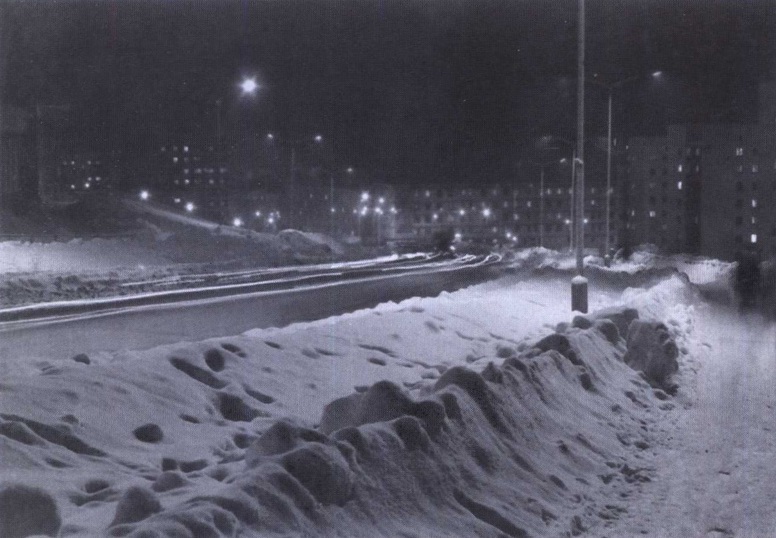 |
Полярная ночь. Североморск. |
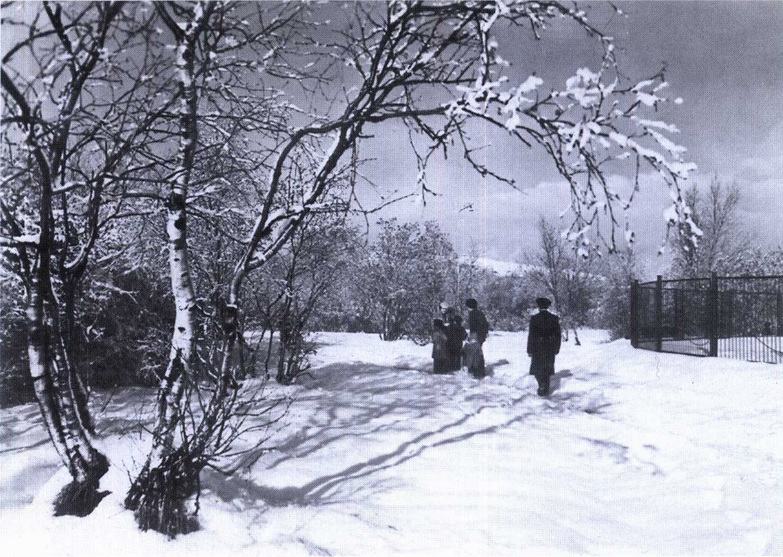 |
Городской парк. Североморск 1982 г. |
 |
Ночной причал. Североморск. |
 |
Кормовой флаг атомного крейсера «Киров». Североморский рейд. |
 |
В компании с Николаем Усенко и Владимиром Кругляковым. Аэродром Североморск-1. |
 |
Авианесущий крейсер «Киев». Баренцево море. |
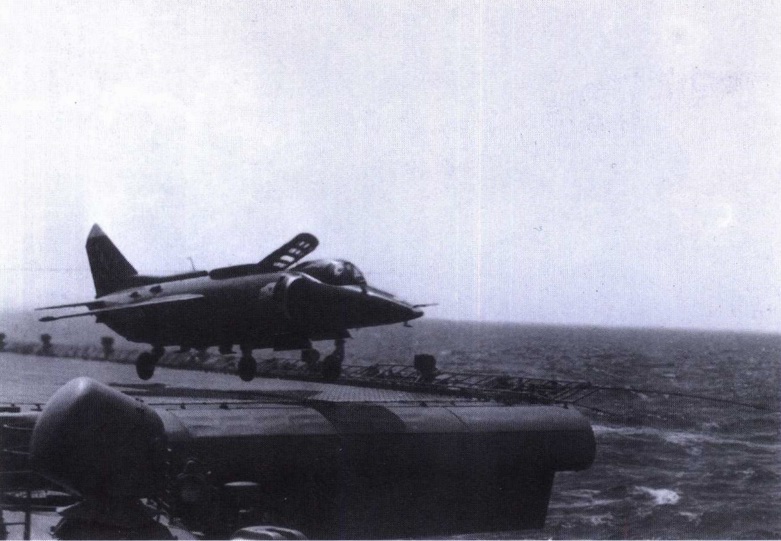 |
Взлет штурмовика Як-38 с палубы крейсера «Киев». |
 |
Як-38 готов к посадке. |
 |
Штурмовики Як-38 в воздухе. |
 |
Эскадрилья вертолетов Ка-27 на палубе крейсера «Киев». |
 |
Командир крейсера «Киев» капитан 2-го ранга |
 |
Идет заседание военного совета Северного флота. |
 |
Свои предположения аргументирует начальник штаба флота В. К. Коробов. |
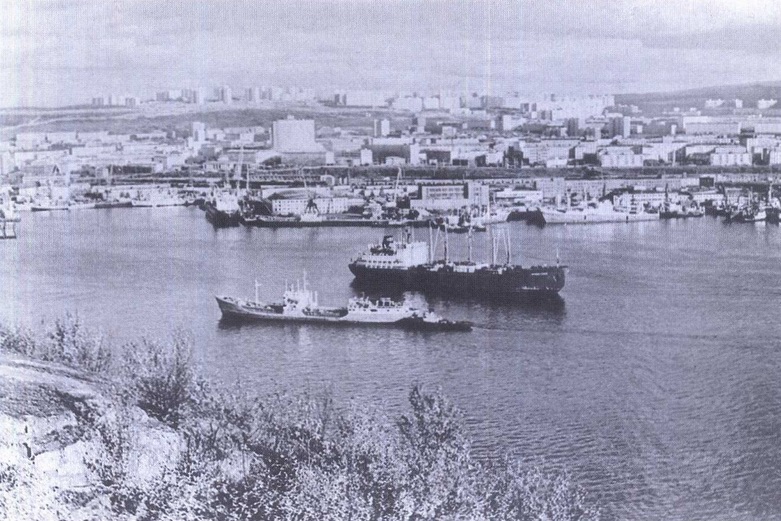 |
Вид на Мурманск со стороны залива. |
 |
Мурманский порт. |
 |
Вход в гавань Линнахамари. |
 |
Нелегко подводникам зимой. |
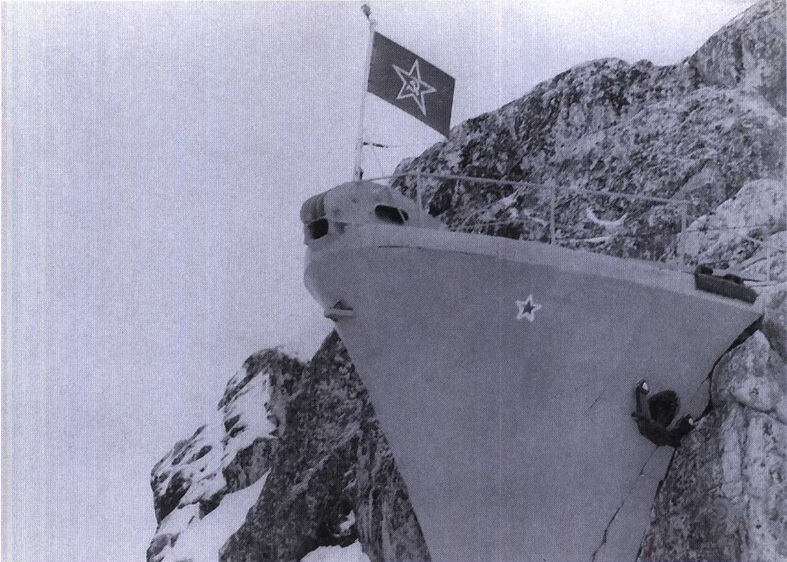 |
Памятник морякам. Линнахамари. |
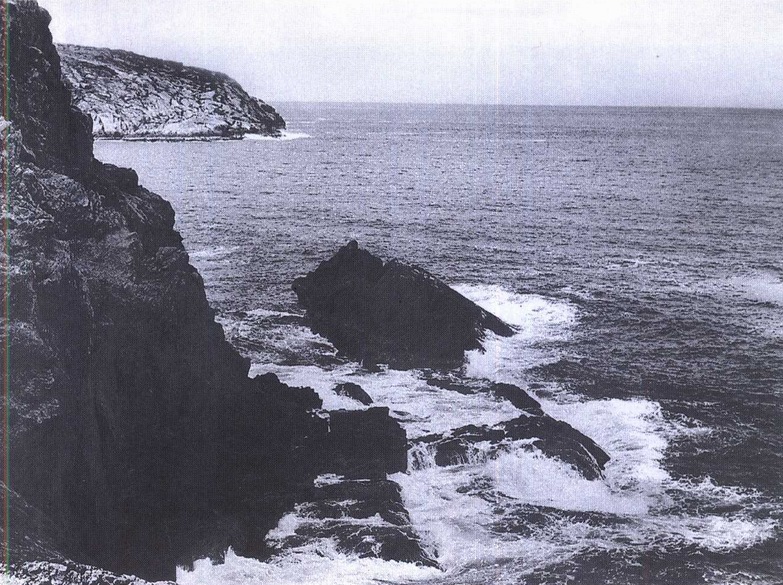 |
Баренцево море. |
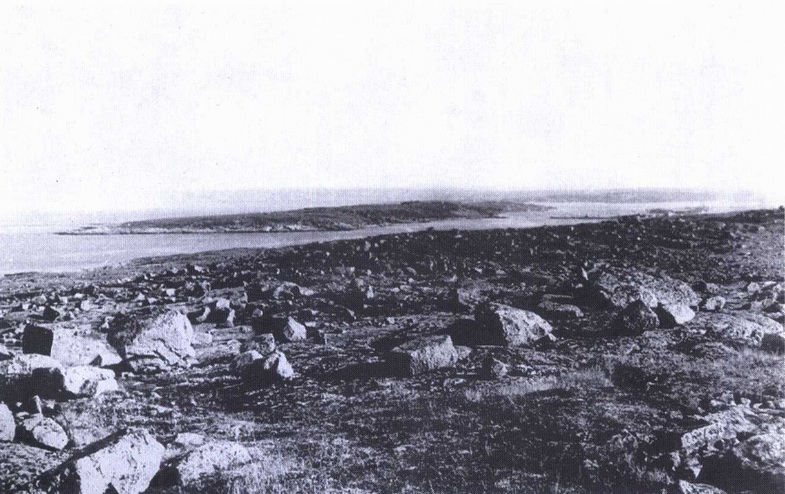 |
Иоканьгский рейд. Остров Витте. Гремиха. |
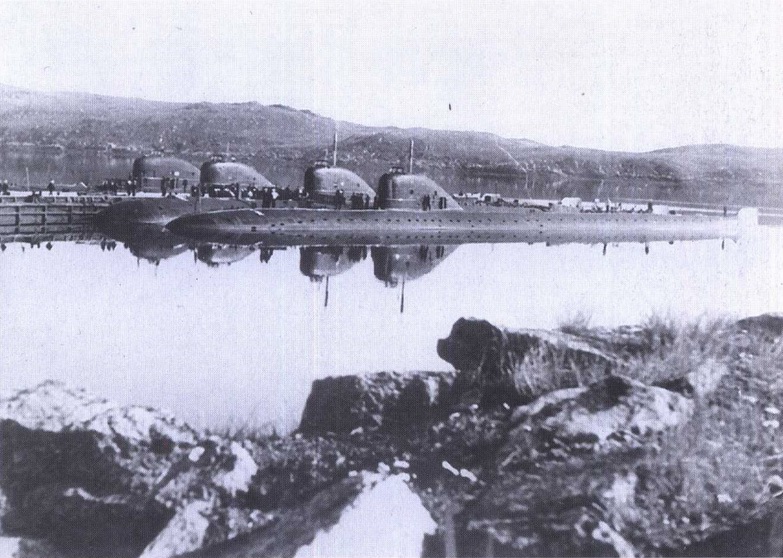 |
Атомные подлодки первого поколения у причала в Гремихе. |
 |
Здание штаба флотилии в Гремихе. |
 |
Здание учебного центра в Гремихе. |
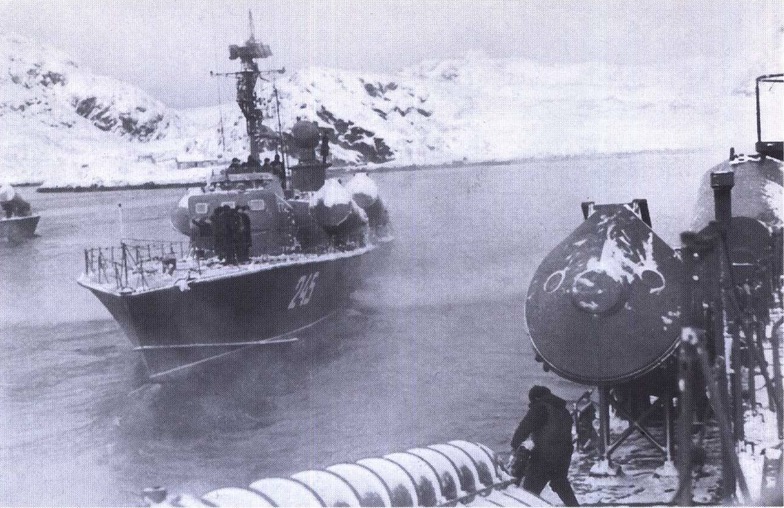 |
Ракетные катера. Гранитный. |
 |
Малый ракетный корабль. Кольский залив. |
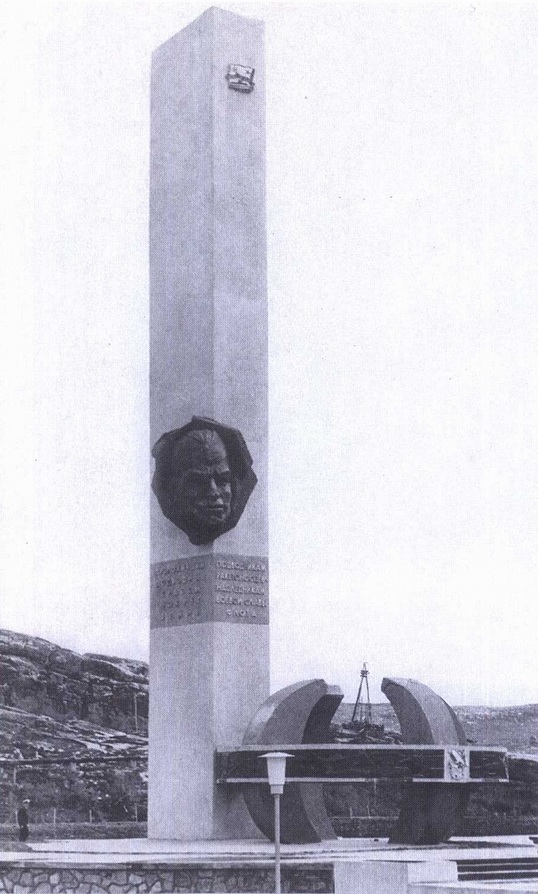 |
Монумент подводникам ракетоносцев — наследникам боевой славы флота. Гаджиево. |
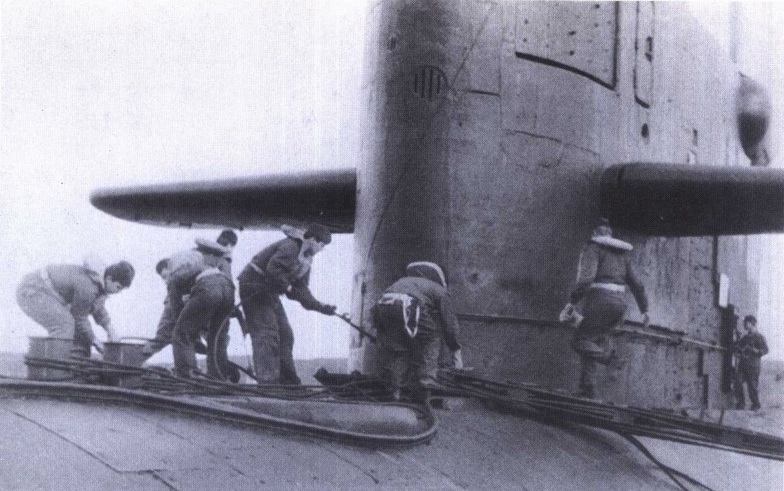 |
«По местам стоять, со швартовых сниматься». |
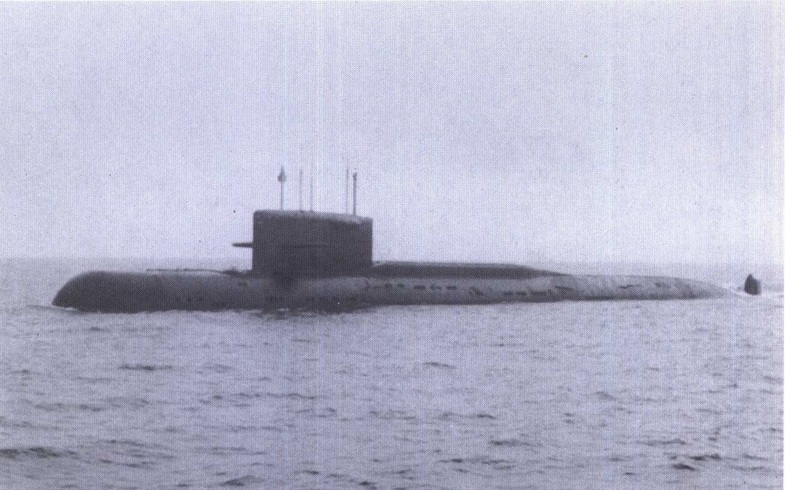 |
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «К-219» выходит в море. |
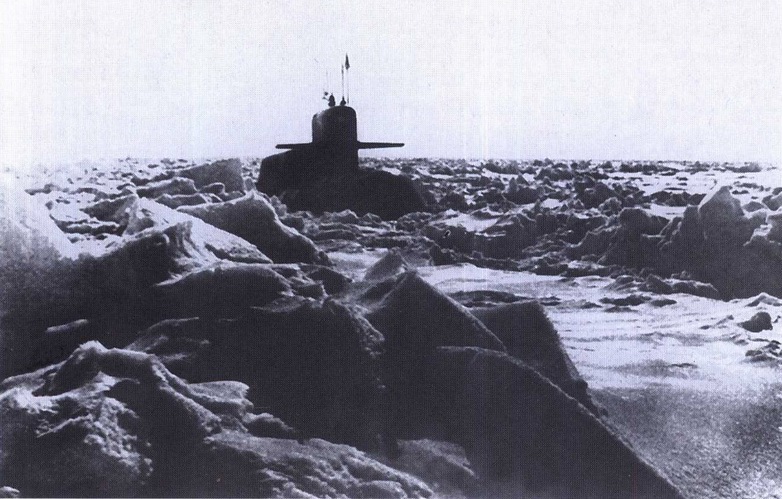 |
Подводный ракетоносец взломал арктический лед и всплыл для пуска ракет. |
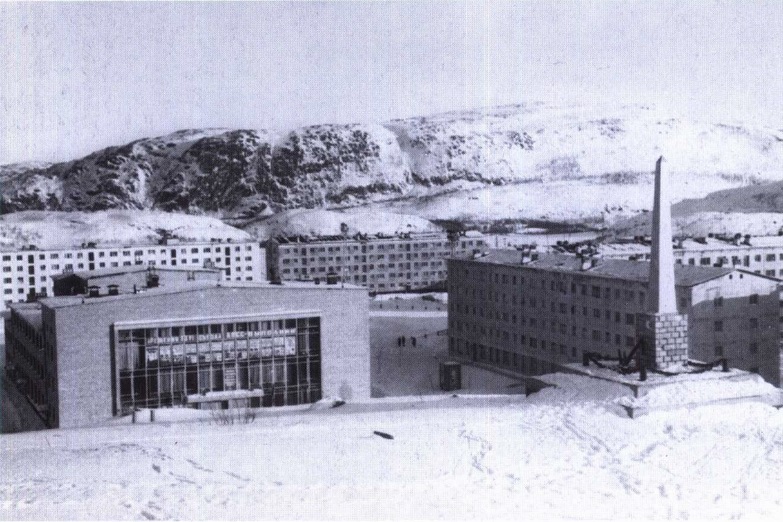 |
Здесь живут подводники-атомщики. Заозерск. |
 |
Атомные подлодки с крылатыми ракетами у причала в Западной Лице. |
 |
Комплексно-автоматизированные подводные истребители. Западная Лица. |
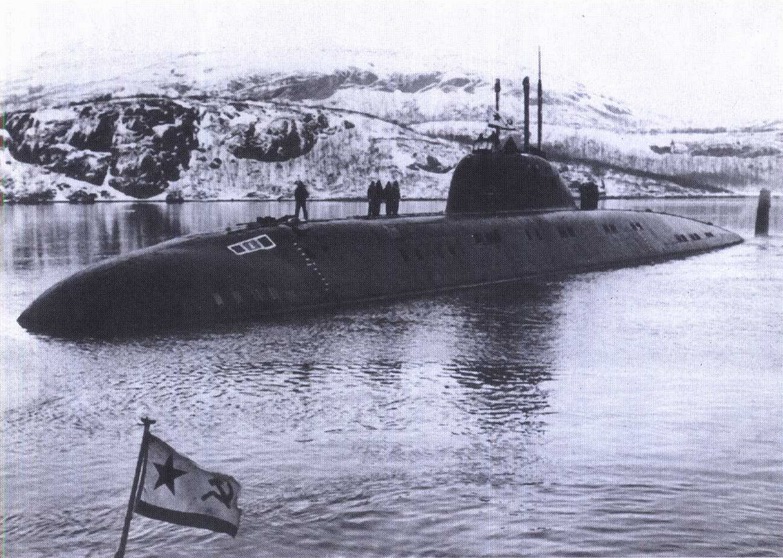 |
Многоцелевая атомная подлодка выходит в море. |
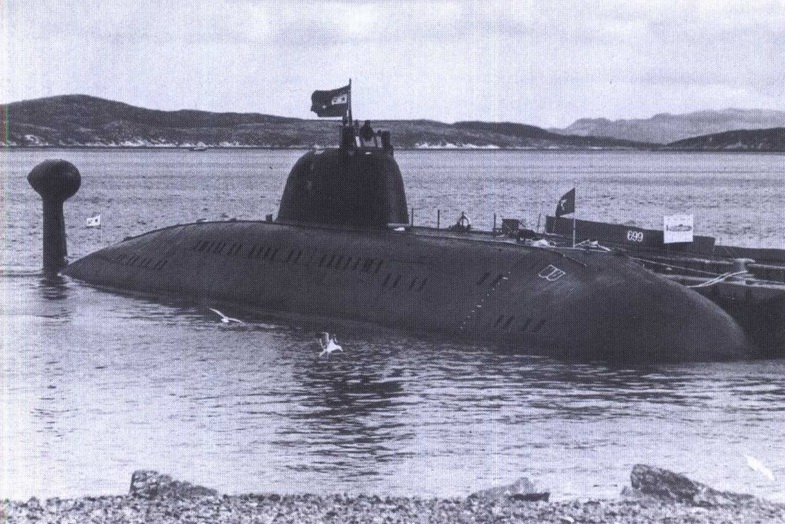 |
Новейшая атомная подлодка проекта 671ртм у причала. |
 |
Экипаж. |
 |
Памятная доска на здании штаба Северного флота. |
 |
Вместе с М. Д. Искандеровым и Ю. И. Можаровым на командном пункте корпуса ПВО. |
 |
Ветер прижимной, но ошвартовать такой корабль непросто. |
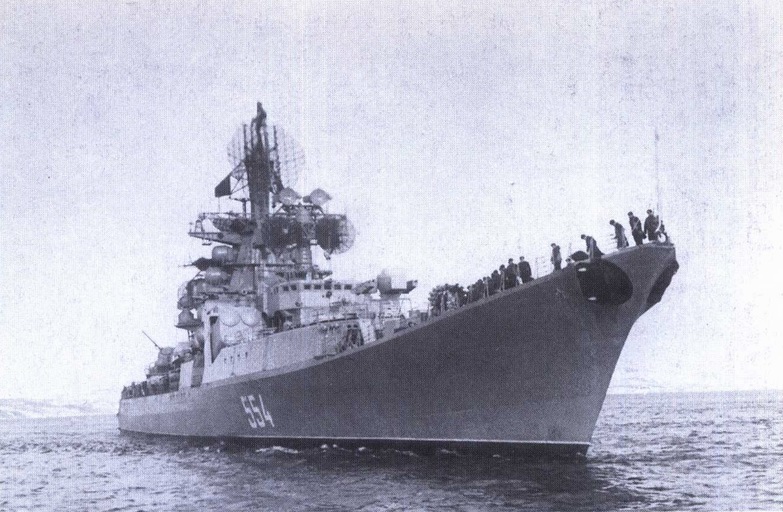 |
Большой противолодочный корабль «Адмирал Нахимов». |
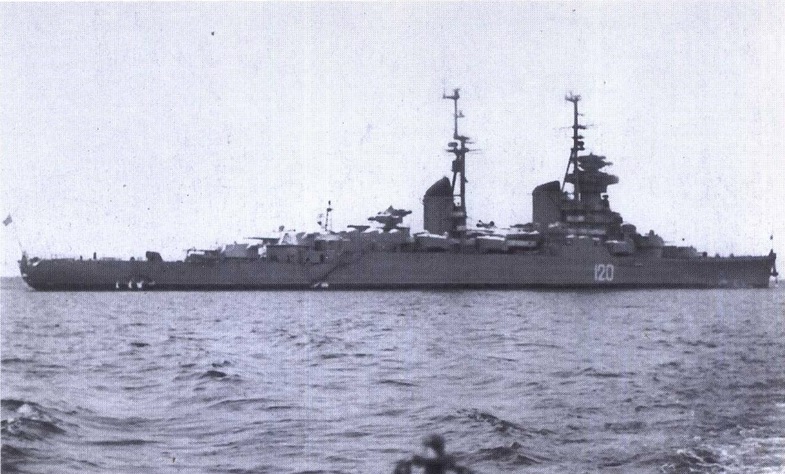 |
Крейсер «Александр Невский» |
 |
Встречаем Главкома. Аэродром Североморск-1. |
 |
Для начала прогулка по причальному фронту Атлантической эскадры. Североморск. |
 |
Несколько вопросов вице-адмиралу Зубу. |
 |
На палубе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». |
 |
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Киров» под флагом Главнокомандующего ВМФ выходит на учения. |
 |
Командующему флотом забот хватает. Борт крейсера «Киров». |
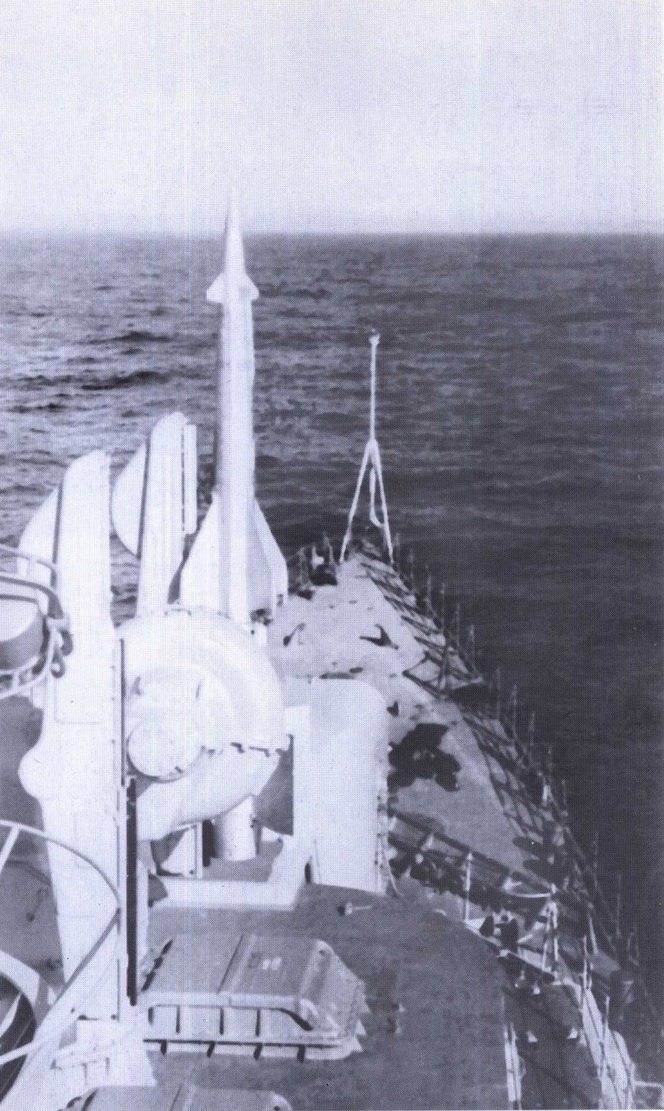 |
Зенитный ракетный комплекс к бою готов! |
 |
Воздушная цель вошла в зону обстрела. Пуск! |
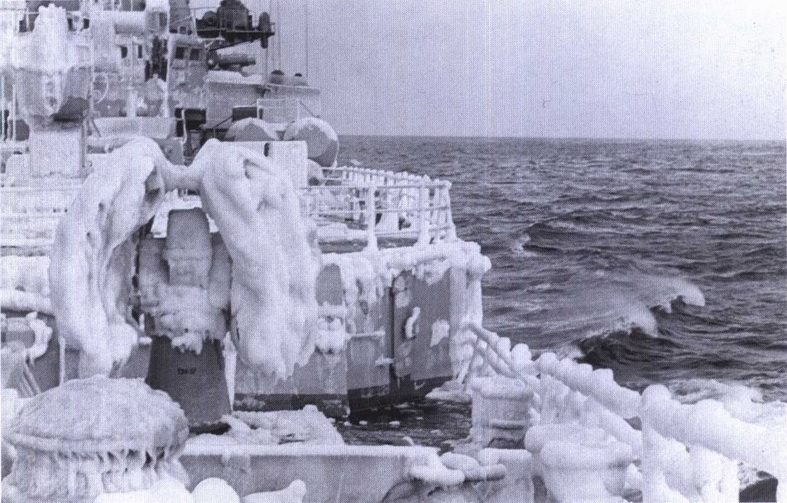 |
В море бывает всякое. Обледенение на ракетном крейсере «Адмирал Зозуля». |
 |
Добрые пожелания перед отлетом. Аэродром Североморск-1. |
 |
Цветы к памятнику В. И. Ленина. Городской парк Североморска. |
 |
Владимир Николаевич Птицын всегда среди нас. |
 |
Честь героям-североморцам. |
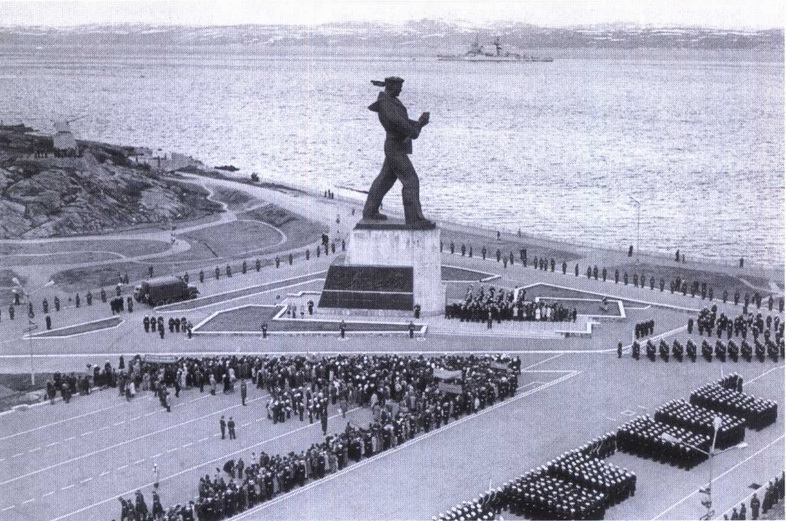 |
Приморская площадь Североморска 9 Мая 1982 г. |
 |
Нина всегда рядом. |
 |
Монумент солдату-защитнику Заполярья. Мурманск. |
 |
Летом Североморск преображается. |
 |
Улица Душенова. |
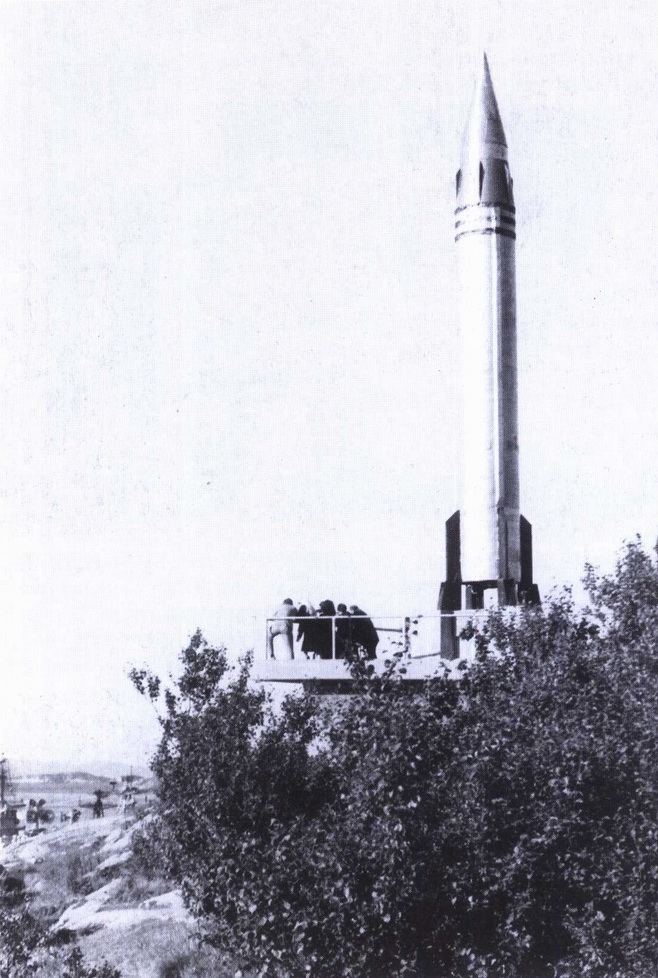 |
Отсюда, как на ладони, видны боевые корабли у причалов Североморска. |
 |
Здание североморского горкома и исполкома. |
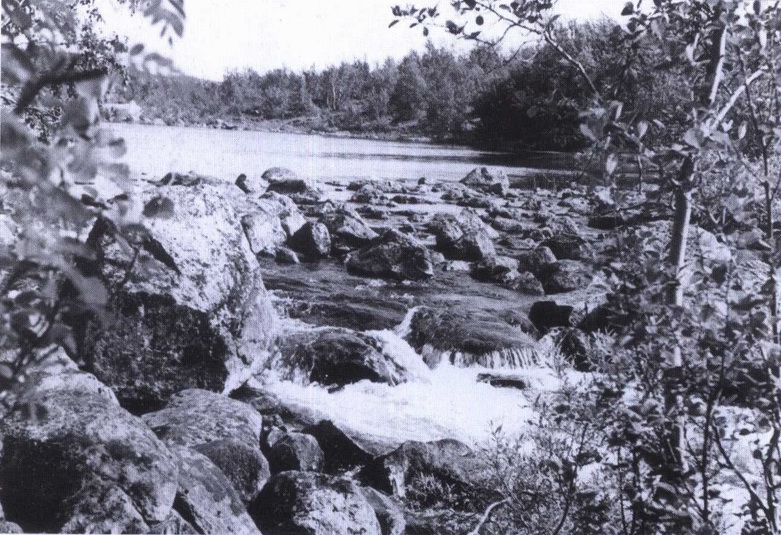 |
Загородный парк Североморска. Истоки реки Ваенги. |
 |
Улица Сафонова. Дом № 1. |
 |
Эсминцы у причала. |
 |
«Современный» и «Вице-адмирал Кулаков» у причала в Североморске. |
 |
Разрешено увольнение на берег. |
 |
Въездной знак. |
 |
Генерал-лейтенант В.П.Потапов знакомит с авиационным гарнизоном. |
 |
Командующий ВВС флота докладывает о состоянии морского ракетоносного авиационного полка. |
 |
Ракетоносец Ту-16. Подготовка к вылету. |
 |
Авиагарнизон Сафонове Аллея североморских летчиков — Героев Советского Союза. |
 |
Памятник командиру гвардейского Краснознаменного |
 |
Истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны. На таком летал Сафонов. |
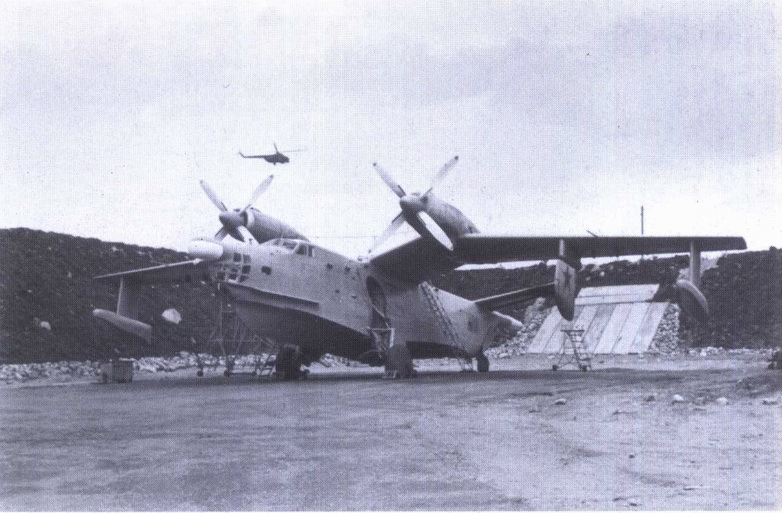 |
Противолодочный самолет-амфибия Бе-12. |
 |
Здание штаба Кольской флотилии. Полярный. |
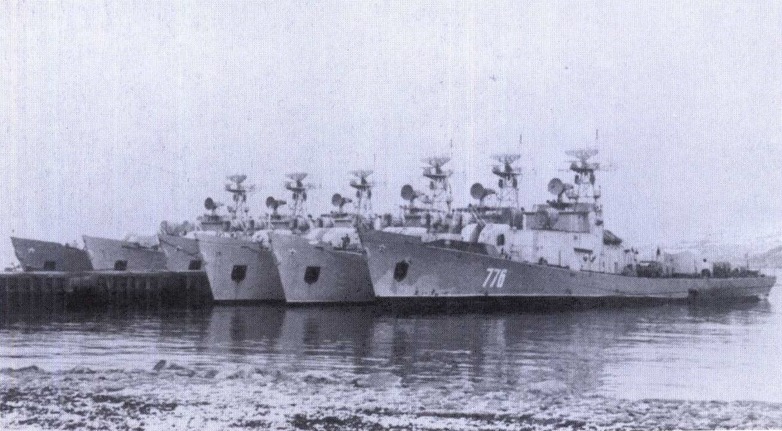 |
Сторожевые корабли у причала в Полярном. |
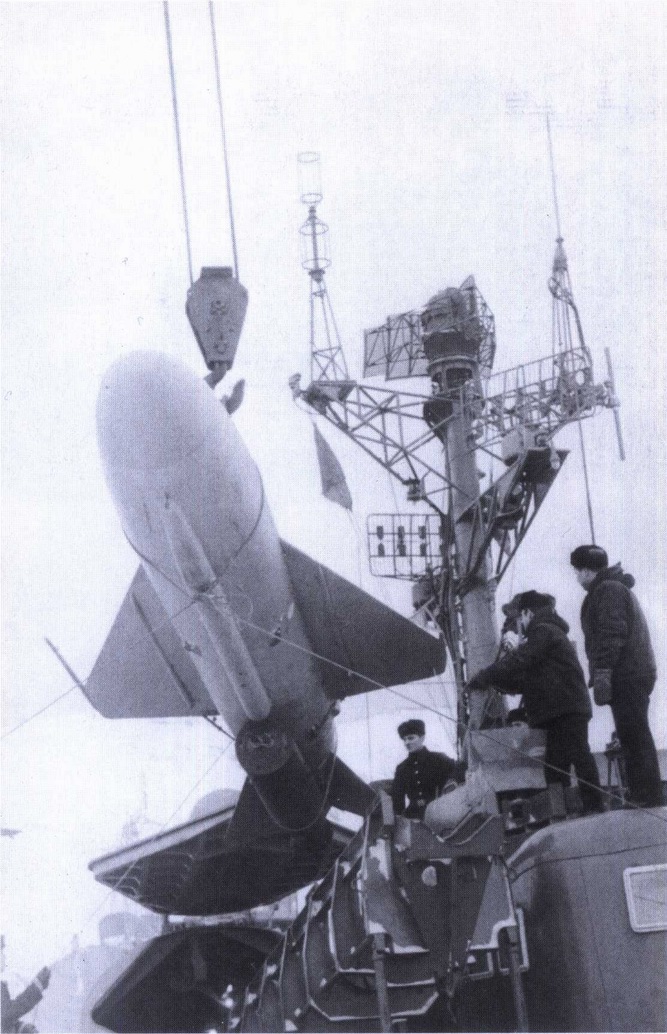 |
Погрузка крылатой ракеты на ракетный катер. |
 |
Занятие трального расчета. |
 |
Дезактивация на палубе сторожевого корабля. |
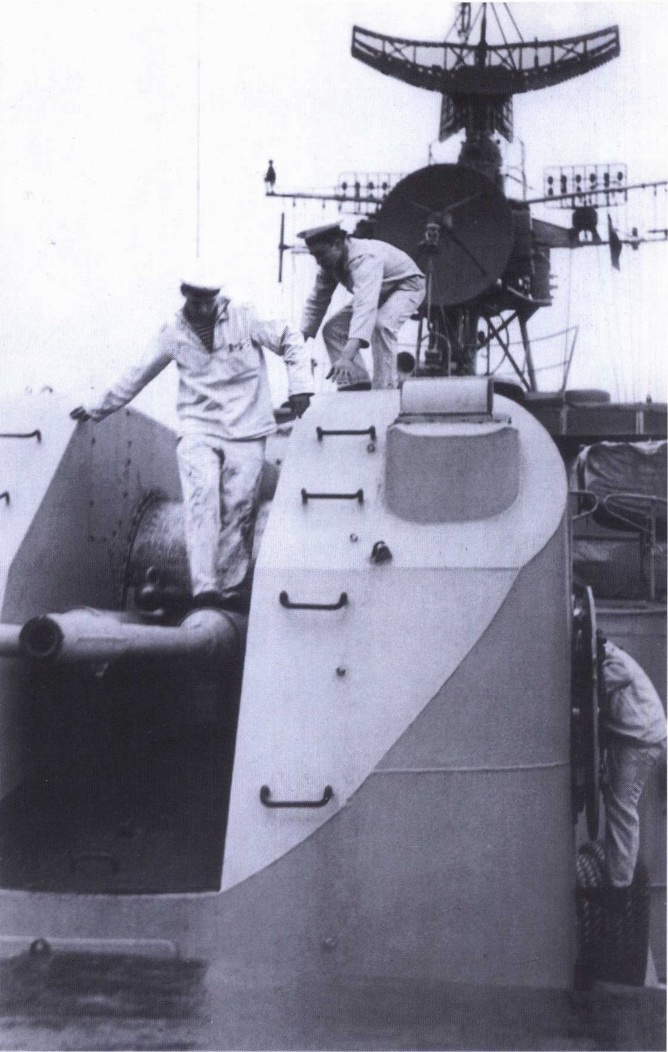 |
По местам боевой тревоги. |
 |
Зенитный артиллерийский расчет к бою готов. |
 |
Погрузка торпед на противолодочный корабль. |
 |
Подъем военно-морских флагов. |
 |
Здание штаба эскадры подводных лодок в Полярном. |
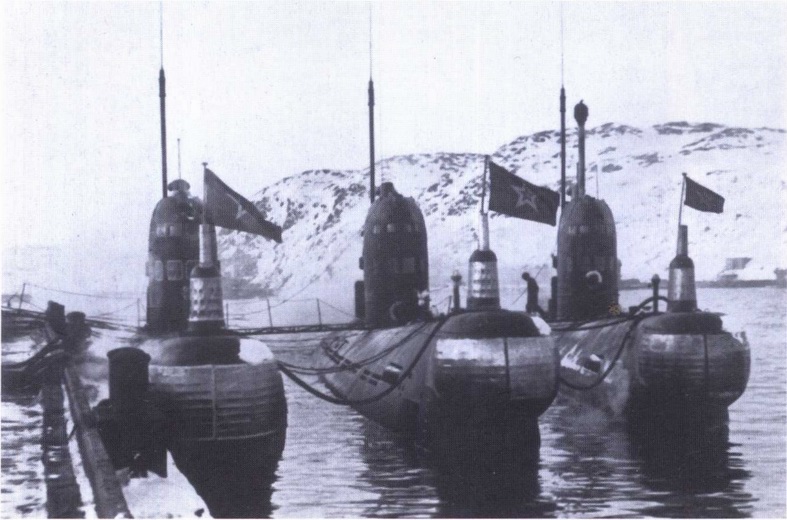 |
Дизельная подлодка у причала в Екатерининской гавани. |
 |
Тренировки подводников по борьбе за живучесть. |
 |
Пробоина заделана! Поступление воды в отсек приостановлено. |
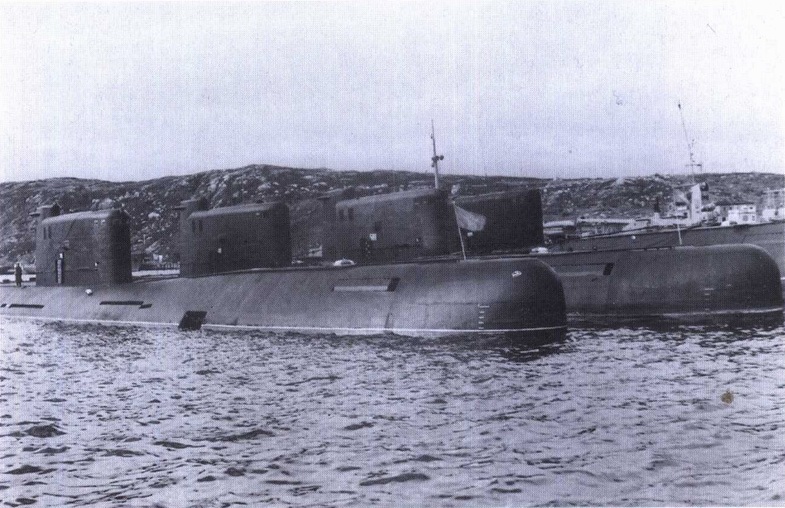 |
Дизельные подлодки нового поколения в Екатерининской гавани. |
 |
Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков в июле, как и обещал, снова прибыл на флот. |
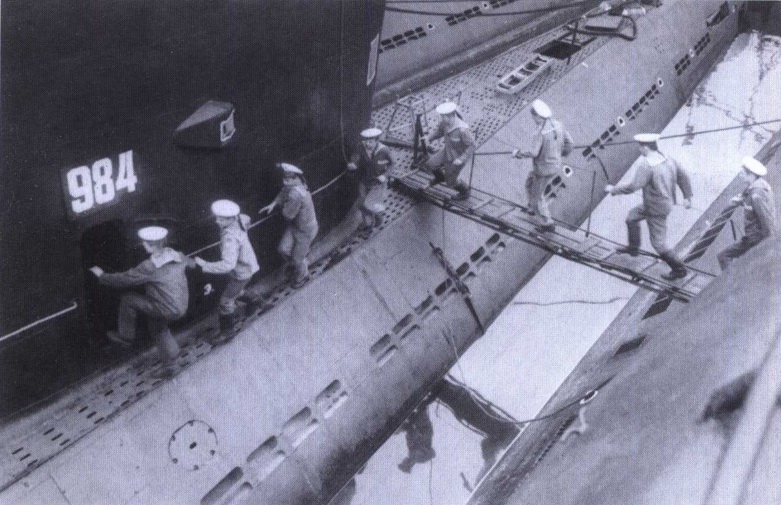 |
Боевая тревога! |
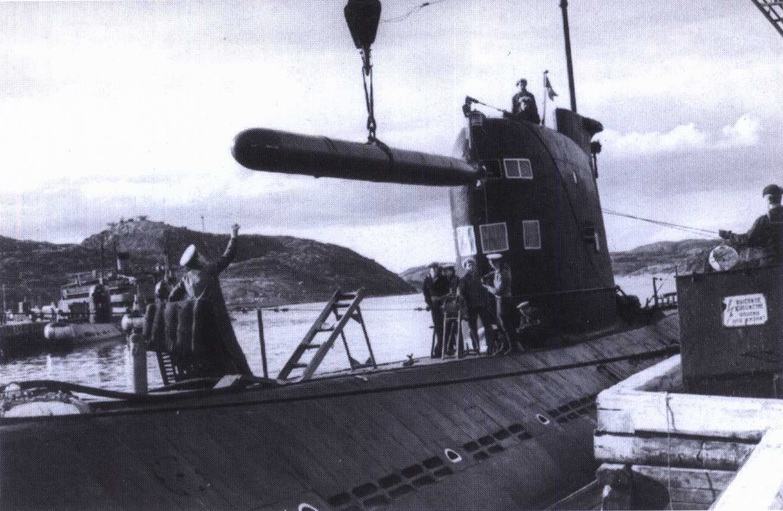 |
Приказано грузить практические торпеды. |
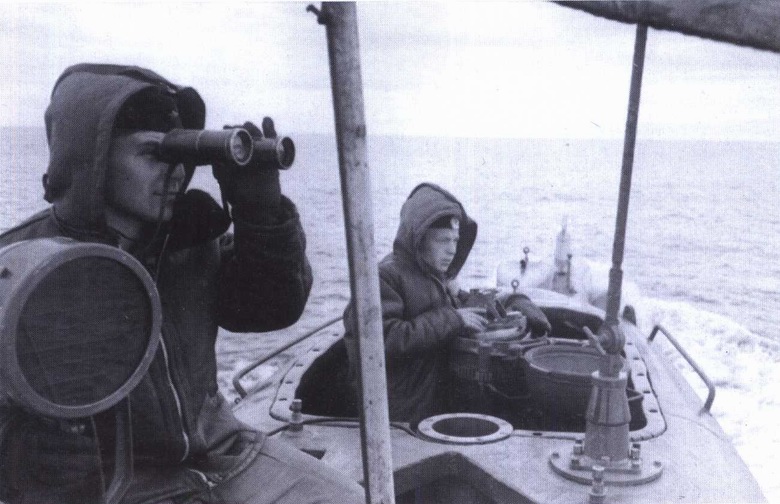 |
И снова в море. |
 |
Тем временем где-то в океане... авианосец «Америка» |
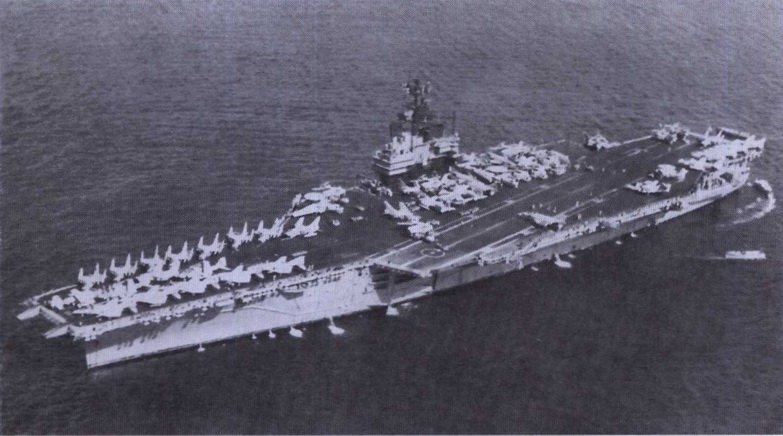 |
Авианосец «Форрестол». |
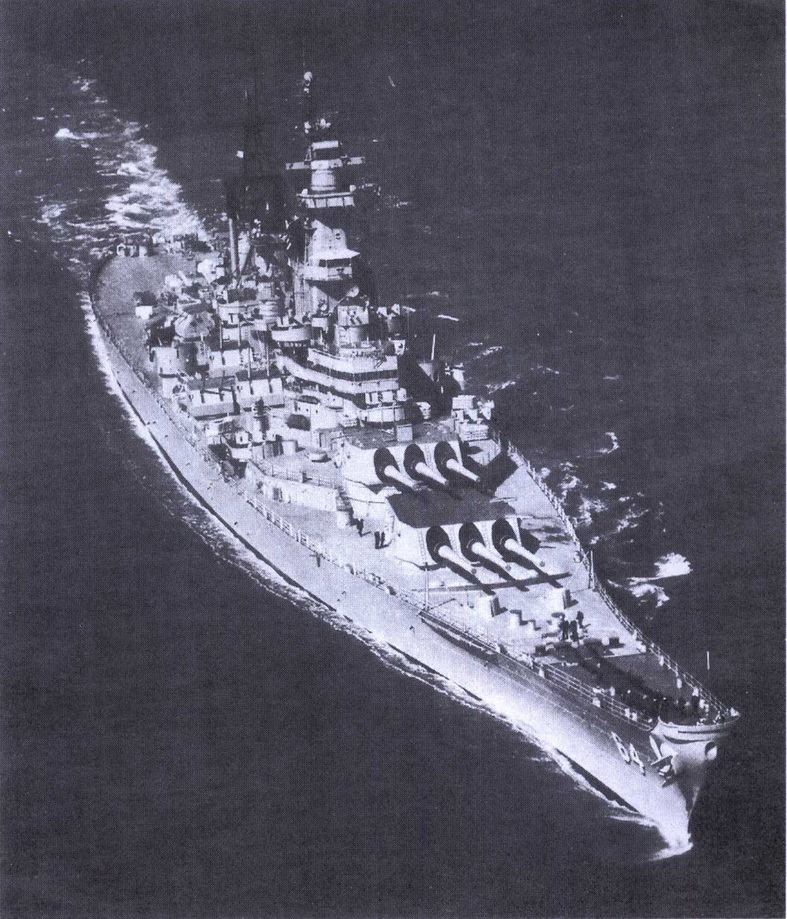 |
Линейный корабль «Айова». |
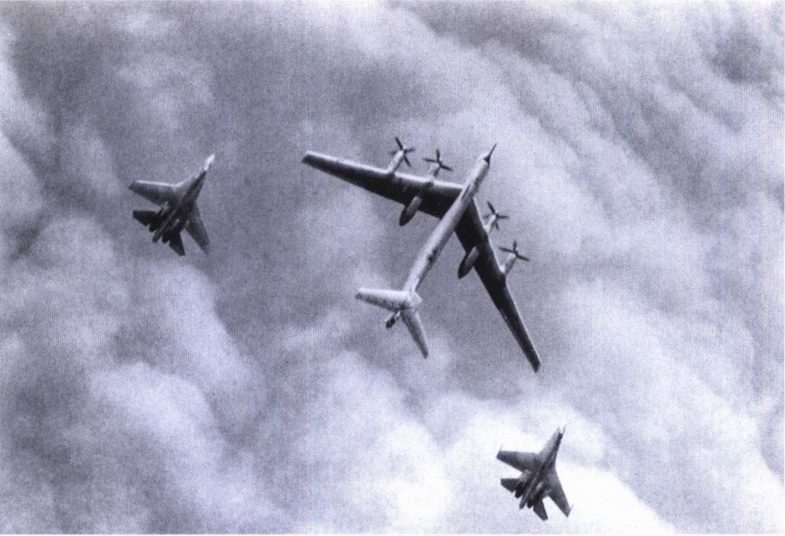 |
На разведку противника вылетает Ту-95рц в сопровождении истребителей. |
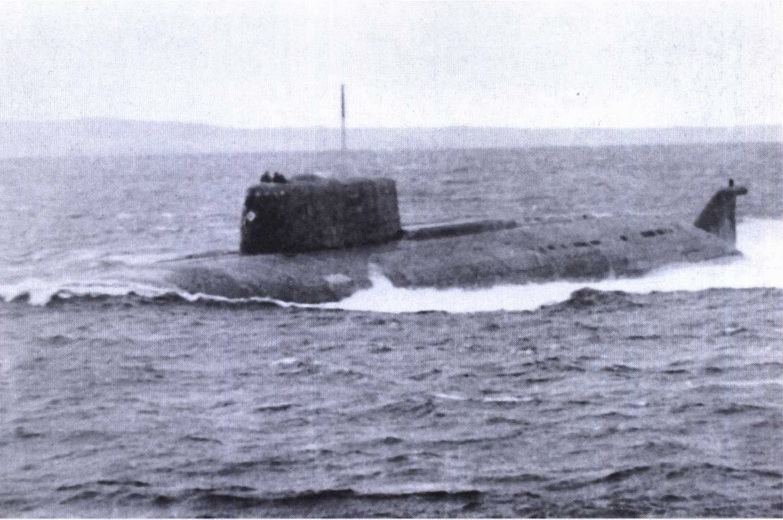 |
Выходит в море подводный крейсер с крылатыми ракетами «Гранит». |
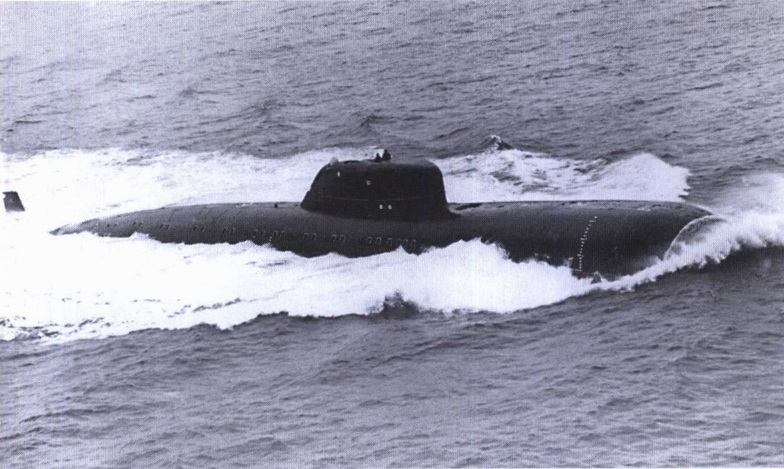 |
Спешат в точки погружения атомные подлодки с крылатыми ракетами «Малахит». |
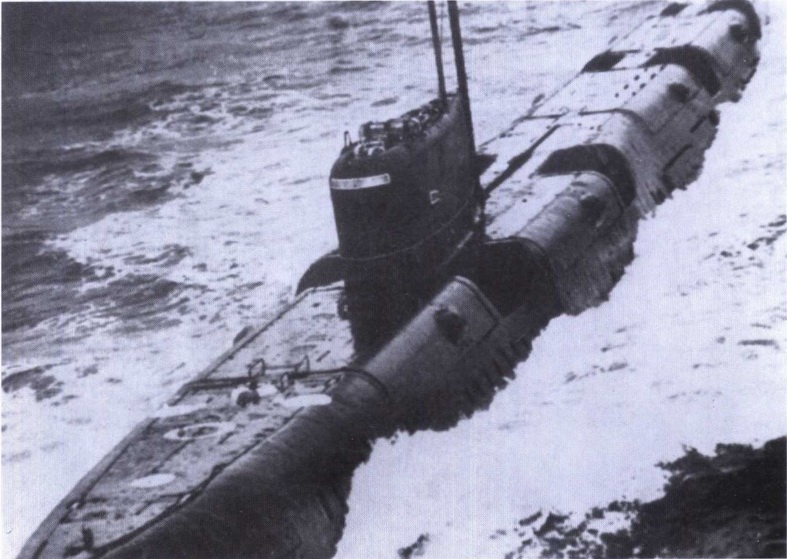 |
Занимают свои позиции атомные подлодки первого поколения, перевооруженные крылатыми ракетами “Базальт”. |
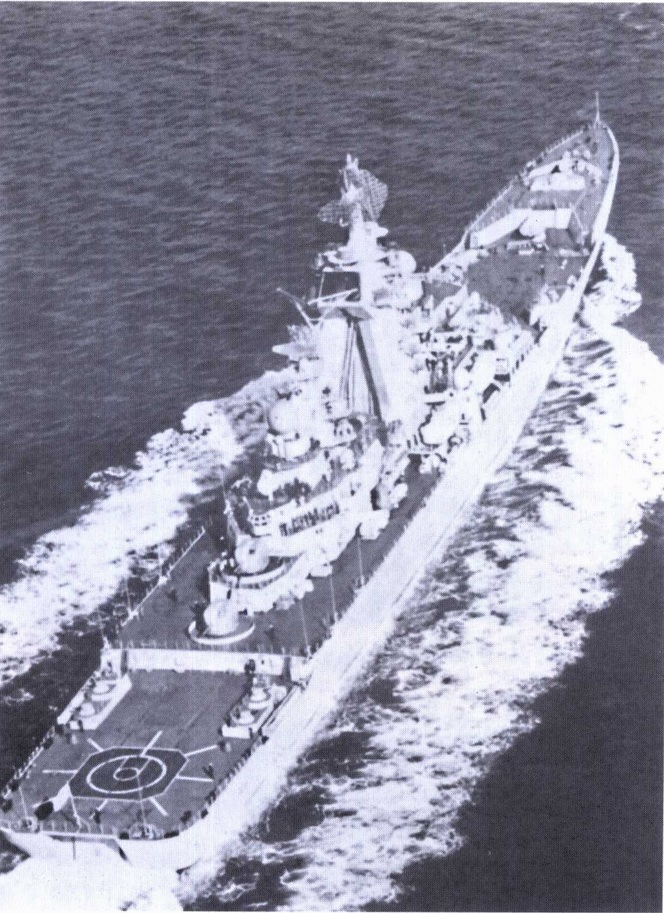 |
Полным ходом устремляется навстречу противнику оперативное ударное соединение во главе с крейсером «Киров». |
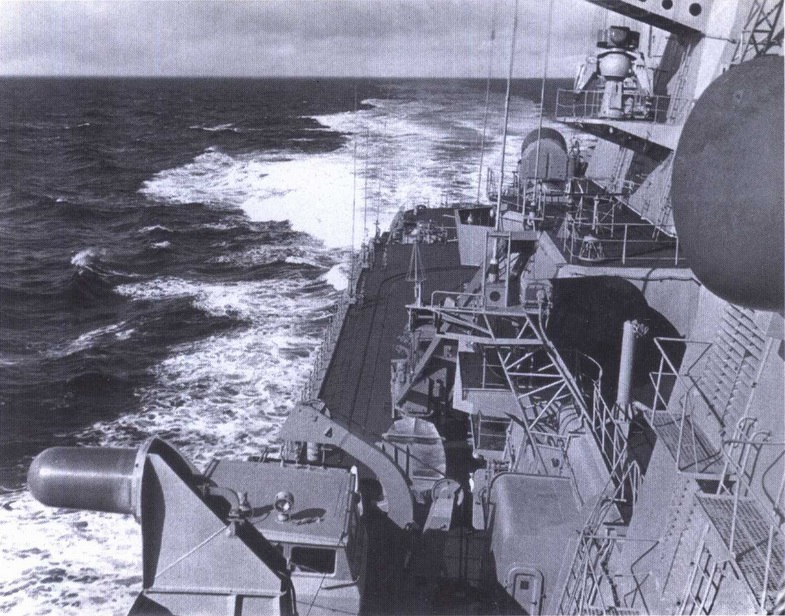 |
Борт крейсера «Киров». Позади Баренцево море. |
 |
Ют крейсера «Киров». Палубный вертолет к вылету приготовить! |
 |
Ходовая рубка крейсера «Киров». Главкомовские раздумья. |
 |
Задача поставлена и понята. |
 |
Ожидают приказа на вылет морские самолеты-ракетоносцы Ту-16. |
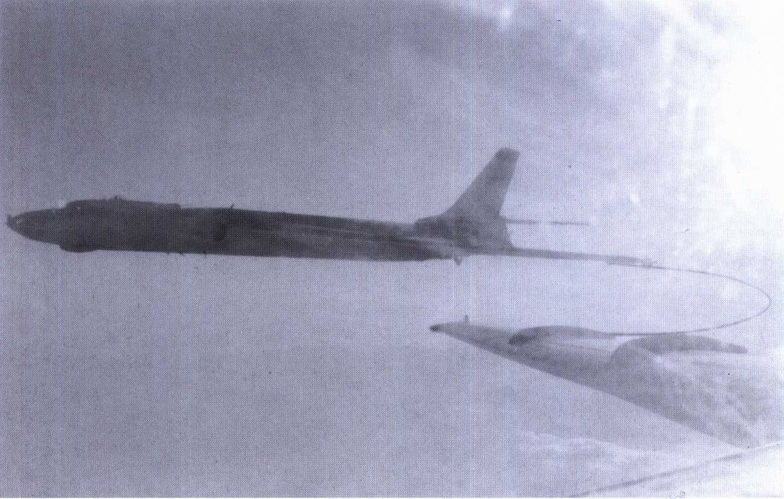 |
Самолеты-ракетоносцы Ту-16 вылетают в океан с попутной дозаправкой топливом в воздухе. |
 |
Эскадренный миноносец «Отчаянный». |
 |
Ракетный крейсер «Адмирал Зозуля». |
 |
Ракетный крейсер «Адмирал Зозуля» подходит к морскому танкеру «Волхов» для дозаправки топливом. |
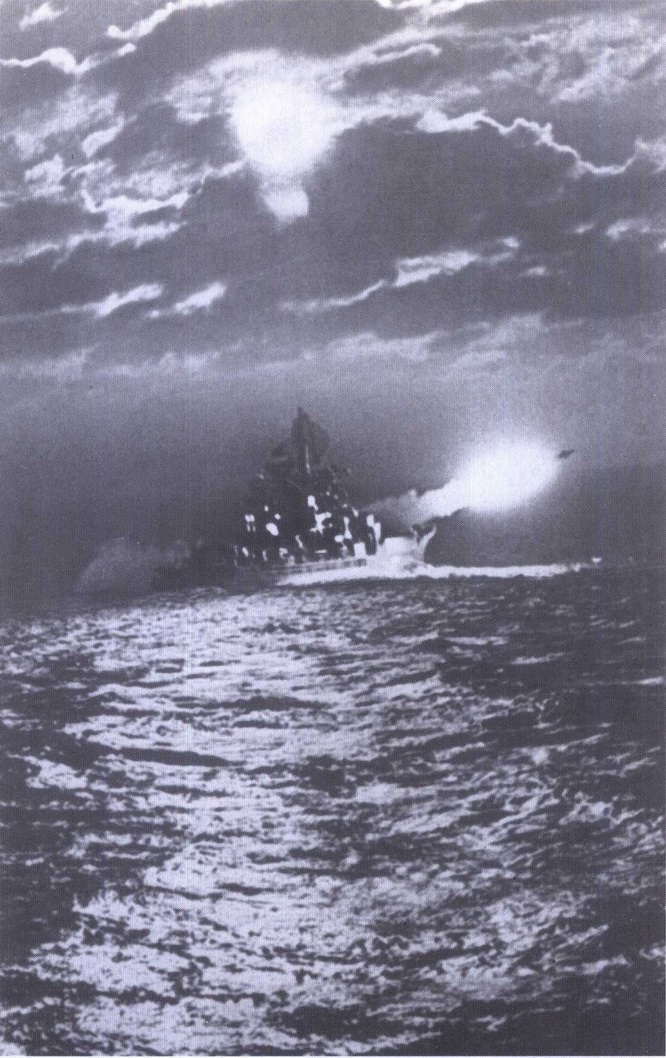 |
Ракетный залп. |
 |
Задача, поставленная флоту, выполнена. Учение окончено. |
 |
А в резерве имеются и такие красавцы, как этот ракетный подводный крейсер стратегического назначения. |
 |
После учений можно и отдохнуть. День Военно-Морского Флота в Североморске. |
 |
Почетный караул у борта эсминца «Отчаянный». |
 |
Встреча с экипажем крейсера «Киев». |
 |
Речь на параде кораблей в день Военно-Морского Флота. Палуба авианесущего крейсера «Киев». |
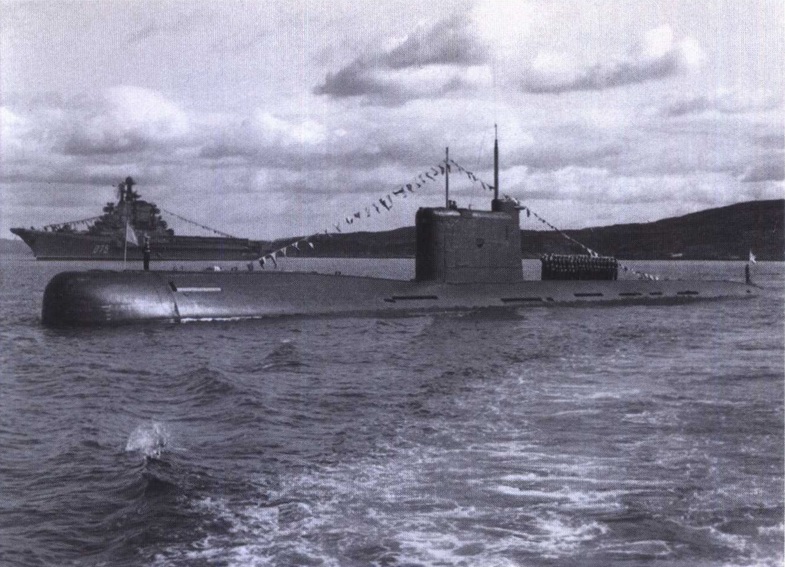 |
В парадном строю — подводники. |
 |
Надводные корабли. |
 |
Под флагом командующего Кольской флотилией. |
 |
Неплохо заглянуть и в тыловые части... |
 |
На борту поисково-спасательного судна «Георгий Титов». |
 |
Разговор с вице-адмиралом В. И. Петровым и его подчиненными. |
 |
У спасателей-глубоководников. |
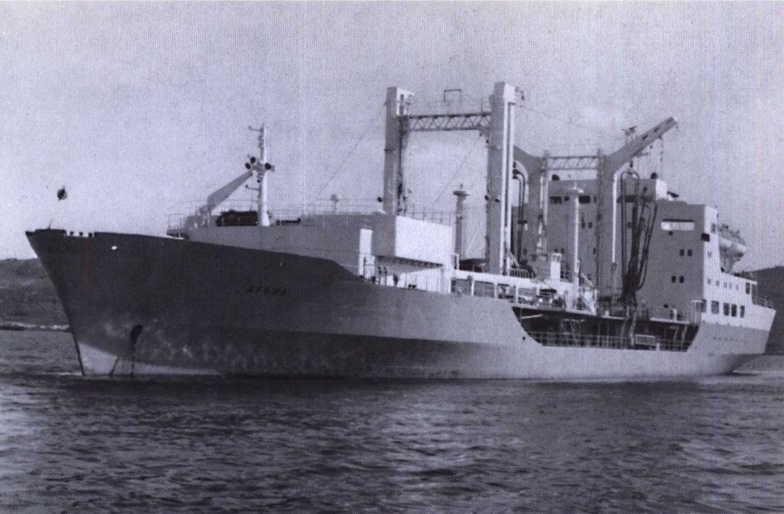 |
Морской танкер “Дубна”. Без таких судов флоту трудно нести боевую службу. |
 |
У североморцев. |
 |
Тяжелый ракетный подводный крейсер «ТК-208» перед своим первым походом на боевую службу. |
 |
Праздничный фейерверк в Североморске. |
 |
На занятиях среди слушателей Высших академических курсов академии Генерального штаба. |
 |
Посол СССР К. Катушев и вице-адмирал В. Кроликов на борту БПК «Адмирал Исаков» в Гаване. Куба. |
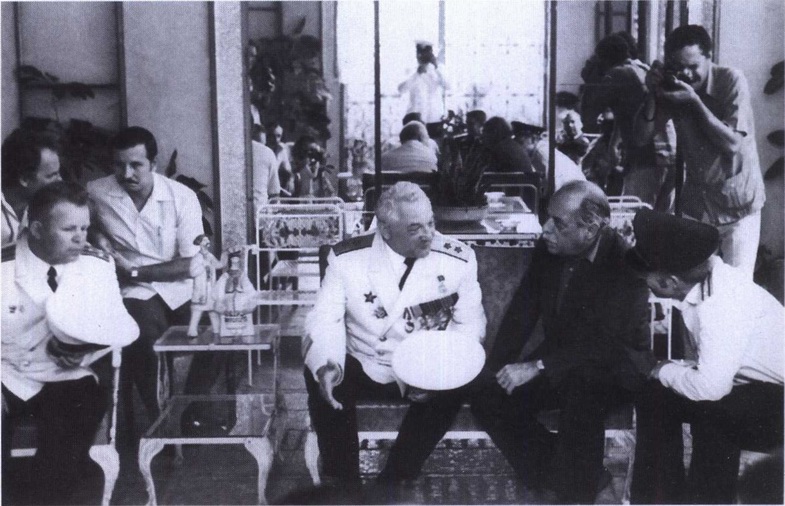 |
В. Кругляков среди кубинских друзей. |
 |
Встреча Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова на аэродроме Североморск-1 1983 г. |
 |
Перед строем роты почетного караула. |
 |
Министр обороны на палубе крейсера «Киров». |
 |
Встреча с экипажем крейсера «Киров» |
 |
Поездкой на Северный флот министр остался доволен. |
 |
Ракетно-ядерная система морского базирования «Тайфун» поставлена на боевую службу. |
 |
Выпуск Высших академических курсов академии Генерального штаба. |
От автора ........................................... | 3 |
Размышления в спальном вагоне ......................... | 5 |
Северный флот....................................... | 24 |
Военный совет ....................................... | 49 |
Штаб и другие органы управления ....................... | 71 |
Успех куётся в море ................................... | 97 |
Удар из-под воды ..................................... | 115 |
Череда обыденных забот ............................... | 137 |
Оборона или нападение? ............................... | 154 |
Бой с авианосцем ..................................... | 171 |
Рождённая в Полярном ................................ | 189 |
Придётся держать ответ................................ | 218 |
Зачем флоту тыл? ..................................... | 234 |
Вожжи в руках ....................................... | 264 |
Генеральская академия ................................ | 289 |
Вместо эпилога ....................................... | 314 |
| {315} |
Научное издание
Аркадий Петрович Михайловский
ОКЕАНСКИЙ ПАРИТЕТ
Редактор А. Ф. Варустина
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректоры О. И. Буркова, М. П. Корнакова и Е. В. Шестакова
Компьютерная вёрстка Л. Н. Напольской
Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 22.03.02. Подписано к печати 30.05.02.
Формат 60×901/16 Бумага офсетная. Гарнитура Балтика.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25.12. Уч.-изд. л. 24.8.
Тираж 2000 экз. Тип. заказ № 3251. С 95
Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН 199034,
Санкт-Петербург, 9-я линия, 12