


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. ПН. ЛЕБЕДЕВА
Воспоминания
о
И.Е.ТАММЕ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Издание третье, дополненное
Ответственный редактор
Е.Л. ФЕЙНБЕРГ
МОСКВА 1995
| {1} |
ББК 22.3
В85
УДК53(092)Тамм
В85 |
Воспоминания о И.Е.Тамме. — 3-е изд., доп. — М.: ИздАТ, 1995.— 432 с: ил. ISBN 5-86656-029-1 Собрание статей о выдающемся физике-теоретике академике И.Е.Тамме (1895–1971). Представлен обширный материал, раскрывающий роль И.Е.Тамма в развитии науки, в воспитании новых поколений людей науки, в общественной жизни страны и в международном сотрудничестве ученых. Авторы сборника — известные физики, коллеги, друзья и ученики И.Е.Тамма. Первые два издания осуществлены издательством “Наука” в 1981 и в 1986 годах. Третье издание дополнено статьями А.Д.Сахарова, И.Н.Головина, Ю.Б.Харитона и др., внесены дополнения в некоторые другие статьи, уточнения, поправки и незначительные изменения в текст и справочный аппарат. Для широкого круга читателей. ББК 22.3 |
Редакционная коллегия
В.Л.Гинзбург, И.М.Дремин, М.А.Марков,
Е.Л.Фейнберг (председатель), В.Я.Френкель
Третье издание подготовлено при участии
Б.М.Болотовского, И.И.Ройзена
ISBN 5-86656-029-1 |
© Физический институт © Оформление ИздАТ, 1995 |
| {2} |
Настоящее издание приурочено к 100-летию со дня рождения И.Е.Тамма. Оно отличается тем, что включены новые материалы, которые невозможно было опубликовать ни в первом (1981), ни во втором (1986) изданиях в условиях того времени» Они относятся, во-первых, к участию Игоря Евгеньевича в создании термоядерного оружия (статья Ю.Б.Харитона, В.Б.Адамского, Ю.А.Романова, Ю.Н.Смирнова) и к подробностям его участия в работе по управляемому термоядерному синтезу (статья И.Н.Головина). О том же говорят некоторые дополнения, включенные в статьи прежних изданий.
Во-вторых, впервые открыто говорится о политической деятельности Игоря Евгеньевича в его молодые годы, о его позиции в этих вопросах впоследствии, об унижениях, которым он подвергался в тяжелые годы сталинского террора, о его поведении в сложных ситуациях (это сделано в виде вставок в ранее опубликованных статьях).
В-третьих, в сборник включены высказывания об Игоре Евгеньевиче Тамме Андрея Дмитриевича Сахарова (частично уже публиковавшиеся в других местах). Уместно заметить, что еще готовя первое издание, мы стояли перед выбором: публиковать его без участия этого его любимого ученика (оно было категорически запрещено цензурой), либо не публиковать сборник вообще. Решение в пользу издания было принято при полном одобрении самого Андрея Дмитриевича (хотя даже простое нейтральное упоминание его имени было исключено). Теперь эта нелепость устранена.
Редакционная коллегия
Май 1995 года
| {3} |
Второе издание настоящего сборника воспоминаний по существу повторяет первое издание. К сожалению, ограниченность объема не позволила включить новые статьи. Были лишь устранены ошибки и опечатки и внесены незначительные изменения в текст.
Однако нечто новое внесено в справочный аппарат книги. За годы, прошедшие после появления первого издания, выяснилось, что «Воспоминания о И.Е.Тамме» привлекли внимание широких кругов читателей, отнюдь не только физиков. Для того чтобы сделать для них книгу более понятной, редколлегия решила снабдить текст краткими справками об упоминаемых лицах, прежде всего о физиках и о других ученых. Даются только самые элементарные, почти всегда чисто формальные сведения, но можно надеяться, что они принесут некоторую пользу. К сожалению, о нескольких лицах даже такие сведения найти не удалось. Мы сочли излишним давать разъяснения, если информация содержится в тексте, а также в тех случаях, когда упоминаются достаточно известные поэты, писатели и т.п. Кроме того, указаны авторы фотографий, имена которых удалось установить. Мы приносим свои извинения тем авторам, имена которых не удалось разыскать. Мы глубоко благодарны всем, кто помог своими замечаниями и советами.
Редакционная коллегия
Декабрь 1985 года
| {4} |
Издание сборника воспоминаний о выдающимся физике-теоретике Игоре Евгеньевиче Тамме предпринято Отделом теоретической физики Физического института имени П.Н.Лебедева АН СССР.2 Этот отдел Игорь Евгеньевич организовал в 1934 г. и возглавлял до своей кончины в 1971 г. Теперь отдел носит его имя.
Решив издать такой сборник, мы исходили не только из того, что следует сохранять память о людях, много сделавших для науки. Роль Игоря Евгеньевича в развитии науки, в воспитании новых поколений людей науки, в общественной жизни страны и в международном сотрудничестве ученых придает истории его жизни значение, которое далеко выходит за пределы того конкретного, что он сделал в теоретической физике и что получило широкое международное признание, выразившееся во многих официальных актах, хотя бы таких, как присвоение звания Героя Социалистического Труда, присуждение Нобелевской премии, избрание членом многих академий наук и т.п. Игорь Евгеньевич был прежде всего уникальной личностью, и многообразные проявления этой личности, как нам кажется, заслуживают внимания тех, кто не знал его в жизни. Это относится в особенности к молодежи, которая, пусть в совсем иных условиях и, быть может, совсем по-иному, чем это делал Игорь Евгеньевич, решает для себя вопросы жизненного поведения.
Игорь Евгеньевич был ученым, который олицетворял связи с эпохой Эйнштейна и Бора. В глазах многих это был эталон порядочности в науке и в общественной жизни. Человек физически и духовно смелый, мощный и тонкий ученый, ненавязчивый учитель, который учил примером и доброжелательной критикой, а не детальным «руководством» и поучениями старшего, верный друг, человек веселый и серьезный, обаятельный и упорный, тактичный и искренний. Человек, вызывающий любовь и радостное уважение очень многих и сам широко раздававший свою дружбу. Неутомимый, деятельный, непреклонный {5} в достижении трудной цели — будь то решение сложнейшей из научных проблем, защита правды или покорение горной вершины.
Нам хотелось, чтобы по воспоминаниям его друзей, коллег и учеников это почуствовали не знавшие Игоря Евгеньевича читатели. Удастся ли это? Нужно учесть, что почти все авторы — не профессиональные писатели. Встретится и многословие, и повторения одного и того же у разных авторов. Редакционная коллегия старалась смягчить эти неизбежные недостатки, но в то же время не подавлять желания авторов, предоставляя им известную свободу. Здесь остается надеяться на снисходительность читателя.
В работе над сборником встретились и другие конкретные трудности. Самая большая та, что осталось мало непосредственных свидетелей бурного периода расцвета научной деятельности Игоря Евгеньевича в конце 20-х — самом начале 30-х годов. Кроме того, отметим и такую, на первый взгляд чисто техническую трудность: в каком порядке разместить воспоминания разных авторов? В конце концов, было принято простейшее решение — в алфавитном порядке их фамилий. При этом мы исходили из того, что сборник воспоминаний не обязательно читать по порядку, с начала до конца. Обычно читатель выбирает очерки по своему вкусу. Чтобы облегчить этот выбор, мы помещаем в конце книги краткие сведения с обозначением профессии автора либо указываем характер его личных связей с Игорем Евгеньевичем.
Хотелось бы верить, что читатель ощутит через эти воспоминания не только значимость научной деятельности, но и личность Игоря Евгеньевича и не сочтет издание сборника излишним.
Составители сборника глубоко благодарны всем, кто предоставил фотографии, вошедшие в сборник, и особенно признательны Л.В.Сухову за сделанные им фотоснимки и за большую работу по подготовке их для настоящего издания.
| {6} |
Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля (нового стиля) 1895 г. во Владивостоке. Уже в 1898 г. его семья переехала в Елизаветград (впоследствии Кировоград) на Украине, где отец Игоря Евгеньевича, Евгений Федорович, многие годы был, как тогда говорили, «городским инженером», — руководил строительством первой в городе электростанции и трамвая2. Окончив здесь гимназию, Игорь Евгеньевич год учился в Эдинбургском университете (Шотландия), а перед началом первой мировой войны перешел на физико-математический факультет Московского университета. Общественный темперамент Игоря Евгеньевича был таков, что его занятия неоднократно прерывались далекими от науки событиями. Сначала он отправился добровольцем на фронт в качестве медицинского работника невысокой квалификации («брат милосердия»), а затем активно занимался общественно-политической деятельностью, в частности был делегатом 1 Съезда Советов от Елизаветграда.
После окончания университета (1918) И.Е.Тамм преподавал физику сначала в Таврическом университете в Симферополе (1919–1920), а затем в Одесском политехническом институте (1921–1922), где кафедрой заведовал Л.И.Мандельштам3. Он оказал глубокое влияние на все дальнейшее развитие Игоря Евгеньевича, который сохранил тесную дружбу с ним вплоть до кончины Л.И.Мандельштама в 1944 г. {7}
С 1922 г. (с двумя краткими перерывами) научная деятельность И.Е.Тамма до конца жизни протекает в Москве. Многие годы он руководил кафедрой теоретической физики на физическом факультете Московского государственного университета. После переезда Академии наук СССР из Ленинграда в Москву (1934) Игорь Евгеньевич по приглашению директора Физического института им. П.Н.Лебедева1 АН СССР С.И.Вавилова2 организовал в этом институте Теоретический отдел и до конца жизни оставался его заведующим. Здесь и сосредоточилась в дальнейшем его научная деятельность.
Работы И.Е.Тамма охватили необычайно широкий круг проблем теоретической, а отчасти и прикладной физики. Они посвящены классической электродинамике и электронной теории, квантовой теории взаимодействия света с веществом, квантовой теории твердых тел, теории элементарных частиц, ядерной физике, термоядерному синтезу и другим разделам физики.
Первые научные исследования Игорь Евгеньевич предпринял под руководством Л.И.Мандельштама в начале 20-х годов. Эти исследования были связаны с макроскопической электродинамикой. Именно, речь шла об электродинамике анизотропной среды и кристаллооптике в теории относительности. Затем он выполнил ряд работ в области боровской квантовой теории и зародившейся в то время нерелятивистской квантовой механики.
Хотя научная деятельность И.Е.Тамма началась сравнительно поздно (первая работа была опубликована, когда ему было 29 лет), она развивалась очень бурно и плодотворно. Блестящим, в частности, был период 30-х годов. В 1930 г. опубликована работа И.Е.Тамма, в которой содержалась весьма полная квантовая теория рассеяния света в кристаллах. Исследование этой проблемы стало необходимым, в {8} частности, и потому, что незадолго перед тем в том же Московском университете, где работал Игорь Евгеньевич, его близкие друзья Г.С.Ландсберг1 и Л.И.Мандельштам открыли комбинационное рассеяние света в кристаллах (одновременно в газах его обнаружил индийский физик Раман2, и само явление часто называют эффектом Рамана). В основе открытия лежали глубокие теоретические соображения Л.И.Мандельштама, безусловно верные, но имевшие квазиклассический характер. Игорь Евгеньевич развил полную квантовую теорию явления, для чего он осуществил последовательное квантование не только световых, но и упругих волн в твердом теле, причем использовал понятие звуковых квантов (фононов, как их впоследствии назвал Я.И.Френкель3). В рамках общей теории здесь было выявлено и рассмотрено не только комбинационное рассеяние света в кристаллах, но и рэлеевское рассеяние. С квантовой точки зрения в процессе комбинационного рассеяния света фотон либо увеличивает свою энергию, поглощая оптический фонон — квант энергии оптических колебаний решетки (оптическая ветвь), либо уменьшает ее, порождая такой квант в решетке. Появление же дуплета Мандельштама-Бриллюэна4 в спектре рэлеевского рассеяния света в кристаллах связано с излучением или поглощением одного фонона «акустической ветви» (аналогичное явление имеет место и в жидкости).
Систематическое введение в теорию квантов упругих колебаний (квантов звука) можно считать зарождением концепции «квазичастиц» в системе многих тел. Это имеет принципиальное значение.
В том же 1930 г. появился цикл работ И.Е.Тамма, посвященных только что созданной дираковской релятивистской квантовой механике электрона. Как известно, эта теория автоматически дала объяснение спиновых свойств электрона и привела к естественному объяснению тонкой структуры в спектре атома водорода. Однако некоторые необычные черты теории Дирака5, прежде всего наличие в спектре {9} также и уровней отрицательной энергии (или положительно заряженных дырок при заполнении этих уровней фоном электронов), казались в то время парадоксальными и отталкивали многих. Требовалось тщательное изучение всех следствий теории, допускавших сравнение с экспериментом. В связи с этим Игорь Евгеньевич обратился к рассмотрению в рамках теории Дирака рассеяния света на свободных электронах.
В отличие от принятого тогда метода рассмотрения конкретных квантовых процессов взаимодействия электромагнитного поля с частицами, метода соответствия, И.Е.Тамм исследовал это явление последовательно квантово-механически — методом квантовой теории излучения. Полученная им формула для сечения совпала с той, которую несколько ранее нашли, используя метод соответствия, Клейн и Нишина1. Но значение работы И.Е.Тамма отнюдь не сводилось к более строгому выводу известного уже результата. Во-первых, это был вообще первый последовательный квантово-электродинамический расчет конкретного релятивистского эффекта. Он был очень существен, в частности, в методическом отношении. Так, например, здесь впервые был предложен новый метод вычислений в теории возмущений в случае дираковской частицы, сильно облегчающий расчеты (впоследствии этот метод был использован также Казимиром и известен под его именем). Во-вторых, исследование И.Е.Тамма привело к выяснению некоторых принципиальных обстоятельств. Так, он показал, что рассеяние даже самых «мягких» низкочастотных квантов света на свободных электронах в теории Дирака происходит через промежуточные состояния с отрицательной энергией электрона. Поэтому даже предельная классическая формула Томсона для рассеяния света большой длины на свободном электроне не может быть получена из теории Дирака без учета состояний с отрицательной энергией. Вследствие этого стали бесперспективными все предпринимавшиеся до того многочисленные попытки изгнать из теории отрицательные уровни, с трудом поддававшиеся (до открытия позитрона) физической интерпретации.
Не ограничиваясь указанием на неустранимость уровней отрицательной энергии, Игорь Евгеньевич одновременно с Дираком и Оппенгеймером2 показал, что в случае существования незаполненного уровня отрицательной энергии свободный электрон неизбежно должен {10} упасть на этот уровень, интерпретируемый в теории Дирака как позитрон. Вычислив вероятность этого процесса, И.Е.Тамм определил время жизни «дырки» (позитрона) в земных условиях в присутствии многих электронов. Оно оказалось очень малым. Поэтому тот факт, что позитронов тогда никто не замечал, получил естественное объяснение (позитрон, как известно был обнаружен через два года).
К этому времени относится поездка И.Е.Тамма в Голландию, Германию и Англию. Он впервые ехал за границу уже зрелым ученым. Знакомство со многими выдающимися западными теоретиками того времени — Эренфестом1, Борном2 и другими, дружеские связи, установившиеся с Дираком, а впоследствии — с Бором, недолгая работа в Кембридже над развитием теории магнитного монополя — все это было плодотворно для И.Е.Тамма, и в то же время западные теоретики узнали и высоко оценили его. Так, например, Эренфест указал на него как на наиболее желательного своего преемника по кафедре в Лейдене, которую основал и занимал до Эренфеста Лоренц3.
В последующие несколько лет внимание Игоря Евгеньевича было обращено на одну из наиболее актуальных в то время областей приложения квантовой механики — на квантовую теорию металлов. Здесь он выполнил исследования, прочно вошедшие в современное учение о металлах.
Мы отметим, во-первых, совместную с его учеником С.П.Шубиным4 работу «К теории фотоэффекта на металлах» (1931), заложившую основы квантово-механической теории явления. В ней было дано объяснение как процесса внешнего фотоэффекта, состоящего в выбивании электронов из поверхностного слоя, так и объемного поглощения света во внутренней области металла. В исследованиях различных авторов теория этого эффекта подверглась дальнейшему развитию и уточнению.
Во-вторых, была опубликована работа Игоря Евгеньевича «О возможной связи электронов на поверхности кристалла» (1932), едва ли не самая важная из его работ по теории металлов. В ней теоретически было открыто существование уровней особого типа. Находящийся на таком уровне электрон, связанный на поверхности кристалла, не может {11} ни выйти наружу, ни войти внутрь. Эти «уровни Тамма» сыграли впоследствии, почти через четверть века, большую роль в период бурного развития теории поверхностных и контактных свойств твердых тел, в частности теории сопротивления переходного слоя, столь важной для понимания работы транзисторов. Однако сам Игорь Евгеньевич перестал заниматься квантовой теорией твердых тел. Это был период, когда на первый план в физике вышла проблема ядерных сил. И в 1932–1947 гг. его внимание было обращено главным образом именно на нее. Но прежде чем переходить к характеристике относящихся к этой проблеме исследований, мы остановимся на одной из самых важных работ И.Е.Тамма несколько более позднего периода (1937–1939), а именно на создании совместно с И.М.Франком теории излучения электрона, движущегося в среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде. В ней была вскрыта физическая природа и дана полная количественная теория явления, обнаруженного в Физическом институте им. П.Н.Лебедева и носящего по именам авторов открытия название излучения Вавилова–Черенкова1. В то время нужна была большая свобода и непредвзятость научного мышления, чтобы догадаться, что электрон, равномерно движущийся с достаточно большой скоростью в среде, способен испускать свет в отличие от случая движения в пустоте, когда, как было всем известно со школьной скамьи, равномерно движущийся электрон не излучает. Преодолев инерцию мышления, И.Е.Тамм и И.М.Франк создали теорию, породившую целое направление в теоретической физике. Его предмет — взаимодействие с излучением быстрых частиц, движущихся в среде (в кристалле, в плазме и т.п.). Ему посвящены сотни теоретических и экспериментальных работ. На этом пути были теоретически предсказаны многочисленные новые эффекты. Многие из них приобрели прикладное значение. За открытие и объяснение эффекта его авторам были присуждены Государственная (1946) и Нобелевская (1958) премии. Характерно, однако, что сам И.Е.Тамм сосредоточил внимание на других областях физики — на проблемах ядерных сил и элементарных частиц. Они захватили его на долгие годы, по существу, с небольшими перерывами, на всю жизнь.
Наибольшее значение здесь имела работа, в которой была развита теория бета-сил между нуклонами (1934, 1936). Опираясь на теорию бета-распада Ферми, И.Е.Тамм выдвинул идею, что ядерные силы возникают в результате обмена парами частиц — электроном и {12} нейтрино. Сама мысль о том, что обмен квантами поля может вести к возникновению сил между частицами, не была нова. Ее, как объяснение кулоновских сил обменом фотонами, высказал и (совместно с В.А.Фоком1 и Б.Подольским2) реализовал Дирак. Однако, во-первых, оригинальной была идея о поле сил, образованном парами частиц, в том числе частицами, обладающими массой. Во-вторых, что особенно важно, эта мысль была воплощена в довольно сложную по тем временам и полную теорию, учитывающую и различные возможные тензорные свойства оператора взаимодействия.
Уже в первом сообщении (1934) И.Е.Тамм привел полученную им формулу для потенциала взаимодействия, возникающего между нуклонами, и показал, что это взаимодействие очень мало по сравнению с реально существующими ядерными силами. Следовательно, хотя бета-силы, конечно, существуют, не они обеспечивают устойчивость ядер. Однако, отправляясь от это работы, Юкава3 вскоре показал, что ядерные силы могут обусловливаться обменом частицами, если эти частицы гораздо тяжелее электрона. Так были предсказаны, а затем обнаружены «ядерные», сильновзаимодействующие мезоны. Работа И.Е.Тамма послужила прообразом и основой как этой мезонной теории ядерных сил, так и других подобных исследований, которые строились в общем по той же теоретической схеме, что и теория бета-сил, созданная Игорем Евгеньевичем. Эта работа принадлежит к его лучшим достижениям, и он ценил ее больше всех своих работ.
Интерес Игоря Евгеньевича к проблеме ядерных сил этим не ограничился. В тот же период, анализируя имевшийся уже экспериментальный материал по магнитным моментам ядер, он пришел (совместно с С.А.Альтшулером) к выводу (совпадавшему с выводами экспериментаторов Бечера и Шюлера), что магнитные свойства ядер можно понять, лишь допустив у нейтрона наличие магнитного момента. Более того, И.Е.Тамм правильно оценил знак и порядок величины этого момента. Существование магнитного момента у нейтральной частицы казалось в то время парадоксальным. Выводы Игоря Евгеньевича встретили резкую оппозицию со стороны многих крупнейших теоретиков, однако впоследствии они полностью подтвердились.
Вторая половина 30-х годов была в физике заполнена мучительными {13} попытками выяснить природу ядерных сил и свойства мезонов. Так, длительное время развивалась теория, в которой мезоны, переносящие взаимодействие между нуклонами, считались имеющими спин, равный единице. Поэтому, коща И.Е.Тамм показал, что такая частица не обладает стационарными уровнями в поле кулоновского центра, это представило большой интерес для теории мезонов. Одновременно возник вопрос о существовании частиц с высшими спинами и о свойствах таких частиц. В этой связи была сделана попытка построить теорию частицы, способной находиться в состояниях с разными спинами. Работа была выполнена (совместно с В.Л.Гинзбургом) во время войны, закончена в 1945 г. и опубликована в 1947 г. В ней впервые были построены релятивистски-инвариантные волновые уравнения для частицы с внутренними степенями свободы, описываемыми непрерывными переменными.
Обзор творческой деятельности и научных интересов И.Е.Тамма в предвоенный период будет неполным, если не упомянуть о его интересе к принципиальным проблемам физики. Он проявлялся в отстаивании квантовой механики и теории относительности от все еще влиятельных в то время рутинеров, в популяризаторской деятельности, в обсуждении гносеологических проблем и т.п. Отражением этого интереса явилась и совместная с Л.И.Мандельштамом работа о смысле соотношения неопределенностей для энергии и времени в квантовой механике (она была опубликована в 1945 г., уже после смерти Леонида Исааковича). В ней было показано, что в тех случаях, коща рассматривается развитие квантовой системы, энергия которой Е неопределенна в меру ΔЕ, соотношение ΔЕ Δt ≥ h проявляется совершенно определенным образом. Именно, в этой ситуации Δt есть время, за которое существенно (на величину порядка среднего значения) изменяется математическое ожидание любой динамической переменной, не коммутирующей с гамильтонианом.
Два первых военных года И.Е.Тамм провел вместе со всем Физическим институтом в Казани. В этот нелегкий период, продолжая заниматься и фундаментальными вопросами теории, Игорь Евгеньевич очень много сил уделял актуальным прикладным проблемам. Так, он оказал помощь И.В.Курчатову1 и А.П.Александрову2 в их обширной {14} деятельности по защите морских кораблей от магнитных мин (И.Е.Тамм занимался расчетом магнитных полей сложной конфигурации и т.п.).
Новую серию исследований по ядерным силам Игорь Евгеньевич начал по окончании войны. В работе 1945 г. он сформулировал метод рассмотрения взаимодействия частиц, отличный от метода теории возмущений, которым пользовались до тех пор почти всегда, когда речь шла об изучении конкретных процессов. Предложенный в этой работе «метод Тамма», или, как его часто называют, «метод Тамма—Данкова» (поскольку американский теоретик Данков через пять лет также предложил этот метод), основан на разложении волновых функций в ряд не по константе связи, а по числу виртуальных частиц, эффективно участвующих в рассматриваемом процессе. Этот метод нашел широкое применение в тех случаях, когда теорией возмущений нельзя пользоваться, например когда взаимодействие не является слабым (ядерные силы) или имеет место резонансное рассеяние. Основная идея И.Е.Тамма, была воплощена в ряде теоретических схем, в частности в развившейся через десятилетие практике учета некоторых «простейших» фейнмановских диаграмм и их итераций (хотя с точки зрения фундаментальных принципов обрывание цепочки уравнений, необходимое при использовании метода, нельзя считать обоснованным). Как выяснилось впоследствии, этот метод представляет собой один из вариантов метода функционалов, предложенного В.А.Фоком в 1934 г., но остававшегося неиспользованным.
Сам И.Е.Тамм применил метод разложения по числу частиц к проблеме устойчивости дейтрона, а затем в 1953–1955 гг. совместно со своими сотрудниками использовал его в цикле работ по фоторождению и рассеянию пионов на нуклонах в той области энергий, в которой нуклоны являются нерелятивистскими и участием нуклонных пар можно пренебречь (т.е. при лабораторной энергии пионов до нескольких сотен мегаэлектронвольт). Успешно развитая здесь полуфеноменологическая теория последовательно использовала возможность появления нуклонных резонансов (с механическим и изотопическим спинами, равными 3/2) в промежуточных состояниях на равных основаниях с нуклонами. Это было смелым шагом, поскольку большинство теоретиков в то время не считали возможным рассматривать как полноправную частицу резонансное состояние с шириной порядка массы мезона. Однако, как известно, впоследствии барионные (а также мезонные) резонансы со столь малым временем жизни приобрели все права гражданства. {15}
Метод Тамма—Данкова получил очень большое распространение и в дальнейшем был развит Дайсоном1, предложившим его релятивистское (по нуклонам) обобщение («новый метод Тамма—Данкова»). Однако здесь возникли очень большие трудности (что, впрочем, не остановило Гейзенберга2, использовавшего этот метод в своих работах по единой теории материи).
В течение длительного периода работы над проблемой ядерных взаимодействий И.Е.Тамм занимался также и другими исследованиями, которые хотя и относятся к ядерной физике, но имеют более «макроскопический» характер и не затрагивают проблему ядерных сил.
До войны это были исследования по каскадной теории ливней в космических лучах, выполненные совместно с С.З.Беленьким3. В этих работах впервые были последовательно учтены ионизационные потери энергии частицами, что позволило получать характеристики ливней вплоть до самых малых энергий электронов и позитронов, составляющих ливень.
К тому же типу исследований по «макроскопической» ядерной физике можно отнести послевоенные исследования И.Е.Тамма, имевшие прикладное значение. Речь идет не только о совместных с А.Д.Сахаровым работах по термоядерному синтезу и теории магнитного термоядерного реактора. В своих исследованиях по этой тематике Игорь Евгеньевич разработал различные вопросы теории высокотемпературной плазмы, находящейся в сильном магнитном поле, вопрос о ширине фронта ударной волны и др.
Еще до этого началась огромного масштаба и значения работа по созданию термоядерного оружия (водородной бомбы). Сначала, в 1948 г., И.Е.Тамм организовал и возглавил в Отделе теоретической физики ФИАНа группу из своих молодых учеников-сотрудников, в нее вошли, в частности, В.Л.Гинзбург и А.Д.Сахаров. Очень скоро (чуть ли не через два месяца) в этой группе родились две основополагающие идеи, только и сделавшие возможным создание бомбы через пять лет. Однако требовалась еще огромная исследовательская, научно-техническая и конструкторская работа, которую выполнил коллектив {16} Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики (ныне известный как Арзамас-16). И.Е.Тамм и А.Д.Сахаров были откомандированы туда в 1950 г. И.Е.Тамм вернулся в Москву только в 1953 г., сыграв выдающуюся роль в этих исследованиях и в успехе всего дела (см. в наст. кн. статью Ю.Б.Харитона и др.).
В последующем, если не говорить о некоторых эпизодических работах, Игорь Евгеньевич все более углублялся в рассмотрение фундаментальных проблем физики элементарных частиц. В начале 60-х годов в центре его интересов оказалась проблема построения теории элементарных частиц, включающей элементарную длину. Такую теорию он пытался получить, модифицировав идею Снайдера1 о квантовании пространства-времени, а именно, взяв за основу импульсное пространство переменной кривизны. Основные идеи и первые результаты он изложил в докладах на Международной конференции по физике высоких энергий в Дубне (1964) и на Конференции по физике элементарных частиц в Киото (1965). Работа в этом направлении оказалась чрезвычайно сложной и трудоемкой. И.Е.Тамм с необычайной настойчивостью, изобретательностью, вкладывая огромный труд, вел ее в последующие годы, даже когда на него в 1967 г. обрушилась тяжелая, неизлечимая болезнь (боковой амиотрофический склероз), через четыре года приведшая его к смерти.
Но и в таком состоянии, проявляя поразительное мужество, достойное спокойствие и ясность духа, он продолжал интенсивно работать, пока за несколько месяцев до смерти, наступившей 12 апреля 1971 г., силы его не стали катастрофически убывать.
Общее число работ, опубликованных И.Е.Таммом, сравнительно невелико. Огромный, непрестанный труд, вложенный им в науку, отражается в их значимости.
Таков далеко не полный итог интенсивной научной работы И.Е.Тамма. Уже на основании сказанного можно составить представление о наиболее характерных чертах Игоря Евгеньевича как исследователя. Это прежде всего стремление изучать наиболее актуальные, наиболее важные проблемы физики на каждом этапе ее развития. Движимый этим стремлением И.Е.Тамм, как правило, не занимался многолетней дальнейшей разработкой заложенных им самим плодотворных направлений, предоставляя ее другим. Это, далее, превосходное владение техникой научной работы, тем, что принято называть аппаратом теоретической физики, владение, которое ставится на службу основной цели, а не доминирует над нею. Это тонкое понимание физической сущности изучаемого явления, умение исходить {17} прежде всего из качественных особенностей явления. Это, наконец, независимость мышления, смелость в выдвижении и отстаивания новых идей.
Все, о чем здесь говорилось, еще не может, однако, дать полного представления о значении деятельности И.Е.Тамма также и потому, что эта деятельность не исчерпывается научными исследованиями. Ведя большую научно-исследовательскую работу, Игорь Евгеньевич уделял значительное внимание и педагогике, решению практических и научно-организационных вопросов.
Будучи с 1924 г. доцентом, а с 1930 по 1941 г. профессором МГУ и заведующим кафедрой теоретической физики, И.Е.Тамм в содружестве с Л.И.Мандельштамом пересмотрел характер и содержание курсов теоретической физики, читавшихся на физическом факультете университета. В этот период им написан выдержавший (только на русском языке) десять изданий курс «Основы теории электричества» (последнее — в 1989 г.). Когда в 1945 г. был образован Московский инженерно-физический институт (вначале — в составе Московского механического института) И.Е.Тамм организовал в нем кафедру теоретической физики и руководил ею ряд лет. Затем он вновь несколько лет был профессором Московского университета.
Блестящий, эмоциональный лектор, он умел внести в преподавание даже традиционных курсов дух поиска и современности. Игорь Евгеньевич оказал огромное влияние на широкие круги студенческой и научной молодежи. Если сказать, что его лекции были увлекательными, то понимать это слово нужно в буквальном, первоначальном смысле: он действительно увлекал за собой студента на путь пытливого научного исследования, и жизнь многих из его слушателей сложилась под влиянием Игоря Евгеньевича.
Мы уже говорили, что с 1934 г. до конца жизни основная научная деятельность И.Е.Тамма сосредоточилась в созданном им Теоретическом отделе Физического института им. П.Н.Лебедева АН СССР. За эти годы отдел из группы в четыре-пять человек вырос в коллектив, насчитывающий несколько десятков физиков-теоретиков высшей квалификации. Почти все они были воспитаны в этом же отделе. Многие первоначальные участники группы и более молодые сотрудники, бывшие аспиранты стали известными физиками. Некоторые из них возглавляют целые коллективы. После смерти Игоря Евгеньевича отдел стал называться Отделом (ныне — Отделением) теоретической физики имени И.Е.Тамма.
Плодотворность воспитательной и педагогической деятельности И.Е.Тамма в значительной мере объясняется характерным для него стилем отношений с молодежью. Его руководство никогда не было {18} нравоучением, детальным инструктированием. Игорь Евгеньевич учил прежде всего примером и критикой, примером своего поразительного трудолюбия, примером честного отношения к науке, к своим достижениям и ошибкам, уважения к мнению коллеги, будь это мировой ученый или молодой дипломник. Его критика всегда была бескомпромиссной. Однако она никогда не оскорбляла, не ранила пришедшего к нему молодого человека. Эта критика была прямой, но доброжелательной, если речь шла о недостатках честных научных попыток. Научная инициатива, самостоятельность мышления горячо поощрялись, хотя требовательность критики никогда не снижалась. Вероятно, этим можно объяснить удивительное разнообразие научных интересов и даже научных стилей его учеников.
Не меньшее значение для воспитания молодежи — и студенческой, и научной — имели честность и принципиальность, которые И.Е.Тамм проявлял в борьбе с лженаукой. В публичных выступлениях он никогда не прибегал к ораторским приемам, не искал внешних эффектов. Разъясняя ошибочность и вредность какой-либо очередной сенсации, не подкрепленной необходимой научной аргументацией, но получившей, как иногда случается, поддержку какой-либо газеты или влиятельных лиц, Игорь Евгеньевич был неизменно последователен, принципиален и строг к своим собственным доводам. Личный момент всегда был исключен.
Еще в 30-х годах, выступая устно и в печати по философским проблемам физики, И.Е.Тамм терпеливо разъяснял существо новой физики и призывал молодых философов к серьезному изучению ее проблем. В самых жарких спорах он никогда не опускался до хлестких словечек и только разводил руками, когда слышал их по своему адресу. Когда в конце 20-х годов ему пришлось принять участие в споре с рутинерами по вопросу о реальности силовых линий, он не ограничился общими словами, хотя мог бы просто отмахнуться от доводов невежд, а рассчитал конкретный пример магнитного поля, в котором силовые линии плотно заполняют тороидальную поверхность, но при ничтожном изменении силы тока могут превратиться в одну короткую замкнутую линию. Этим демонстрировалась условность понятия «число силовых линий». Отметим, что включенный в его учебник «Основы теории электричества» этот пример через три-четыре десятилетия оказался практически актуальным в теории стелларатора (одно из направлений исследований по управляемому термоядерному синтезу), где такие тороидальные магнитные поверхности играют большую роль.
Широкое признание получила борьба И.Е.Тамма против лженауки в биологии. Посвятив свою жизнь физике, Игорь Евгеньевич считал, {19} что на следующем этапе развития естествознания главную роль будет играть биология. Он сам занимался, в частности, проблемой генетического кода, поощряя биологов к сближению с физикой и к развитию подлинно научной молекулярной биологии.
Но и этим не исчерпывается общественная деятельность И.Е.Тамма. Его страстное участие в Пагуошском движении, в сближении ученых различных стран способствовало созданию международного личного авторитета Игоря Евгеньевича, который был необычайно высок. Он распространился далеко за пределы круга физиков. Впрочем личное обаяние Игоря Евгеньевича, привлекавшее к нему сердца столь многих — от начинающего студента до корифеев науки XX в., не может быть разложено на элементы и рационально объяснено.
За заслуги перед отечественной наукой И.Е.Тамм был удостоен звания Героя Социалистического труда, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Игорю Евгеньевичу были присуждены Государственные премии первой степени (об одной из них уже говорилось), Золотая медаль им. М.В.Ломоносова, высшая награда Академии наук СССР (ныне — Российской академии наук), а также Нобелевская премия. В 1933 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1953 г. — действительным членом АН СССР. И.Е.Тамм был также членом ряда иностранных академий.
В жизни И.Е.Тамма было немало тяжелых периодов, когда сложные события эпохи и личные несчастья (вспомним хотя бы последнюю многолетнюю болезнь) требовали от него незаурядного мужества и душевной стойкости. Он прошел через эти испытания, не растеряв ни жизнерадостности, ни доброжелательности к людям. Многочисленные почести, выпавшие на его долю в последние два десятилетия его жизни, свидетельства уважения и коллег, и широких кругов общественности как в нашей стране, так и во всем мире, ни в чем не изменили его характера. Его личность оставалась неповторимой и цельной на протяжении всей жизни.
| {20} |
С Игорем Евгеньевичем Таммом я впервые встретился в 1933 г., когда, став аспирантом Казанского университета, приехал в Москву искать себе руководителя. К профессору И.Е.Тамму я обратился потому, что мне очень понравилась его книга «Основы теории электричества». Она была написана в 1928 г. и опубликована в 1929 г.1
С большим волнением вошел я в кабинет заведующего кафедрой теоретической физики. Меня встретил очень живой и подвижный человек невысокого роста, который тактично ободрил меня и после непродолжительной беседы согласился взять на себя научное руководство. {21} Игорь Евгеньевич поинтересовался, чем я хотел бы заняться — теорией металлов или же теорией ядра. К моему желанию заняться ядерной физикой он отнесся с явным одобрением.
Открытие нейтрона и позитрона в 1932 г. положило начало бурному развитию ядерной физики. С этого времени центром научных интересов И.Е.Тамма становится теория ядра и элементарных частиц. Задача, которую он поставил передо мной, была связана со следующим обстоятельством. В начале 1933 г. Дирак в письме к И.Е.Тамму сообщил, что Блэкетт1, по-видимому, обнаружил следы магнитного моно-поля — элементарной частицы, возможность существования которой была теоретически рассмотрена Дираком в 1931 г. У Игоря Евгеньевича возникло предположение о том, что нейтрон — это совокупность двух монополей с магнитными зарядами противоположных знаков. Если б эта гипотеза была верна, то нейтрон должен был бы обладать некоторыми свойствами, наличие которых можно было бы проверить на опыте. И.Е.Тамм поручил мне выяснить, как вхождение подобных нейтронов в ядро должно сказаться на характере сверхтонкой структуры атомных спектров. Я проработал около года, когда из следующего письма Дирака стало известно: Блэкетт ошибся, следов монополей он не нашел.
Утешая меня, Игорь Евгеньевич сказал, что у всякого теоретика в корзине для бумаг похоронена масса прекрасных идей. Экспериментатор счастливее, результаты его труда всегда интересны, даже тогда, когда получены хорошо известные данные. Измышления же теоретика никому не нужны, раз они не соответствуют действительности. Но работа моя, как это часто бывает, не пропала даром. Собранные мною материалы о магнитных моментах ядер пригодились.
В конце 1933 г. большую сенсацию произвели опубликованные Штерном и Фришем2 результаты измерения магнитного момента протона методом молекулярных пучков. Момент протона оказался почти втрое больше теоретически ожидаемой величины. Как показал Ланде, известные тогда магнитные моменты ядер с нечетным числом протонов могут быть объяснены движением одного протона, если приписать ему аномальный магнитный момент. Игорь Евгеньевич предложил мне попытаться объяснить известные тогда магнитные моменты ядер с нечетным числом нейтроном, предположив, что эти моменты обязаны магнитному моменту нейтрона. Через пару недель стало ясно: сделать это можно, если приписать нейтрону отрицательный магнитный {22} момент, по величине равный половине ядерного магнетона. Отрицательный знак магнитного момента означает, что он направлен противоположно спиновому угловому моменту нейтрона. Очень просто удалось объяснить, почему у ядер рассматриваемого типа встречаются моменты обоих знаков. Это особенно понравилось Игорю Евгеньевичу. Наша статья о магнитном моменте нейтрона была представлена в «Доклады Академии наук СССР» Л.И.Мандельштамом.
Во время посещения в 1934 г. Москвы Н.Бор решительно возражал против предположения о существовании у нейтрона не равного нулю магнитного момента. Игорь Евгеньевич долго спорил с ним, но убедить его не смог. Будущее показало: магнитный момент у нейтрона есть, он имеет отрицательный знак, и идея о том, что магнитные свойства ядер с нечетным числом нейтронов обязаны своим происхождением магнитному моменту нейтрона, правильна. Ныне широкое применение нашел метод исследования твердых тел, основанный на существовании магнитного момента у нейтрона.
Для меня исключительной удачей была возможность в течение ряда лет работать под научным руководством такого большого ученого и замечательного человека, каким был И.Е.Тамм. Игорь Евгеньевич относился к своим ученикам, как к равным. Он обращался ко всем, независимо от возраста, по имени и отчеству, никогда не занимался мелкой опекой, всячески поощрял инициативу и самостоятельность, но во время научных дискуссий был бескомпромиссным и при обсуждении полученных результатов требовал устранения даже мелких недочетов. Его отношение к сотрудникам всегда отличалось доброжелательностью. Хотя оригинальные идеи и ценные советы Игоря Евгеньевича нередко имели решающее значение для работ его учеников, он обычно подчеркивал важность полученных ими результатов, совершенно умалчивая о собственной роли.
Приведу в пример случай, произошедший со мною. По возвращении в Казань, продолжая работу над диссертацией, я занялся теорией дейтрона. Игорь Евгеньевич обратил мое внимание на необходимость введения нецентральных сил и их важную роль. Об этом он писал мне (24 июня 1935 г.): «Вообще, если не ошибаюсь, состояния l = 0 (т.е. такие, для которых член l(l + 1)/r2 отсутствует) соответствуют в Вашей теории только случаю компенсации спинов. Если это так, то получается вывод: либо l ≠ 0, тогда состояние неустойчиво, либо l = 0, тогда спин тоже равен нулю и полный механич[еский] момент дейтрона равен нулю. Так как эта альтернатива противоречит опыту, то можно сделать заключение, что неправильно основное допущение теории, гласящее, что основные силы связи от направления спинов не зависят. {23} Этот вывод представляется мне, безусловно, очень интересным и заслуживающим опубликования.» А через полгода 9 января 1936 г., он писал: «Ваш (подчеркнуто мною. — С.А.) вывод о том, что ядерные (немагнитные) силы взаимодействия должны зависеть от спина (последний параграф диссертации), совпадает с результатами Ферми, полученными на основании совсем других соображений (Physical Review, 15.IХ). Статья Ферми очень интересна, и учет зависимости ядерных сил от спина, по-моему, сыграет весьма важную роль для всей ядерной физики. В частности, это может по-новому поставить весь вопрос о моментах ядер, ибо простая векторная схема Ланде будет неприменима для сложных ядер».
При всей доброте и тактичности Игорь Евгеньевич очень твердо настаивал на том, что нельзя допускать к научной деятельности людей, у которых нет к ней явной склонности. Как-то среди его аспирантов оказался один работник издательства, занятый редакционными делами и мало внимания уделявший научной работе. Во время аспирантских экзаменов Игорь Евгеньевич отнесся к нему очень строго и в конце концов настоял на его отчислении.
Был и такой случай. Однажды зашла речь об одном из его бывших аспирантов, у которого впоследствии научные интересы отошли на второй план. Тяжелое впечатление произвело его выступление в качестве официального оппонента, когда он поддержал одну явно ошибочную докторскую диссертацию. Игорь Евгеньевич по этому поводу сказал: «Что поделаешь, нельзя служить и богу и Маммоне. В старые времена мошенник, чтоб разбогатеть, становился фальшивомонетчиком, а теперь, бывает, такой человек защищает диссертацию».
Широкую известность приобрели выступления Игоря Евгеньевича против отдельных лженаучных воззрений в физике, в частности, против механистического толкования электродинамики и попыток отвергнуть или исказить теорию относительности и квантовую механику. В 1934 г., как мне помнится, на физическом факультете МГУ проводилась дискуссия о понятии силы. Игоря Евгеньевича слушали с большим интересом, речь его была живой, горячей и очень убедительной. Нередко обстоятельства складывались так, что решиться на подобные выступления мог только человек, обладавший большим мужеством и принципиальностью. Друзья Игоря Евгеньевича как-то в шутку наградили его картонным орденом «За охоту на зубров», которым он очень гордился.
В 1939 г. я на полтора месяца был командирован в Москву в ФИ АН, куда И.Е.Тамм перенес свою основную деятельность из Московского университета. В его кабинете на Миусской площади после обсуждения моих научных дел разговор перешел на международные вопросы. Время {24} было тревожное, назревала война. Мне хорошо запомнилось, как Игорь Евгеньевич, завершая беседу, сказал, что если б человечество было разумнее и огромные средства, затрачиваемые на подготовку к войне, направило на решение проблемы использования внутриядерной энергии, то за десять лет проблема была бы практически решена. Создали бы десятки исследовательских институтов, построили заводы, подготовили физиков, инженеров, техников — и человечество получило бы неисчерпаемый источник энергии.
Хотя Игорь Евгеньевич большей частью занимался весьма абстрактными теоретическими исследованиями, он всегда был убежден, что настоящая наука пробьет себе путь в жизнь. Во время одной из наших встреч он с явным удовольствием рассказал, что физика элементарных частиц нашла, по-видимому, первое практическое применение: пучки мезонов оказались эффективным средством лечения опухолей.
В 1941 г. вместе с ФИАНом Игорь Евгеньевич со своими близкими переехал в Казань, где они жили во дворе университета рядом с моей семьей. Я сам осенью 1941 г. ушел в армию. На фронте я несколько раз получал от Игоря Евгеньевича очень бодрые и интересные письма, сохранить которые, к сожалению, мне не удалось.
Вскоре после приезда в Казань Игорь Евгеньевич попросил меня помочь ему найти Николая Григорьевича Чеботарева — профессора Казанского университета, одного из самых крупных советских алгебраистов. Николая Григорьевича я знал давно и был очень удивлен, когда выяснилось, что он учился вместе с И.Е.Таммом в Елизаветградской гимназии.
После возвращения из армии я настолько изголодался по физике, что немедленно засел за давно начатые мною расчеты некоторых свойств дейтрона, вытекающие из существования нецентральных сил. Через несколько месяцев рукопись статьи я повез показать Игорю Евгеньевичу. Он прочел ее при мне без всякого видимого интереса, затем достал журнал «Physical Review» за 1949 г. и быстро нашел статью Бете1, в которой содержались все мои результаты. Он не стал меня утешать, а посоветовал бросить заниматься тем, чем в Казани заниматься бессмысленно, и начать работу вместе с казанскими экспериментаторами. Сделать это было нетрудно, ибо еще до войны благодаря моему интересу к моментам ядер у меня установился научный контакт с Е.К.Завойским. Несмотря на то, что область научных интересов Игоря Евгеньевича очень далеко отстояла от того, чем все последующие годы занимались мы в Казани, при встречах со мной он проявлял живой интерес к нашей работе. {25}
И.Е.Тамм большое значение придавал научным контактам и поэтому считал очень важным участие в семинарах, всесоюзных и международных конференциях. В общении с учеными ему помогало хорошее знание английского, немецкого и французского языков. В 1934 г. в Московском университете автор классических работ по кинетической теории материи французский физик Перрен1 читал лекцию, которую И.Е.Тамм тут же быстро и точно переводил на русский.
Знания иностранных языков требовал Игорь Евгеньевич и от своих учеников. В 1933 г. он как-то предложил мне сделать сообщение на семинаре кафедры о недавно опубликованной работе Олифанта и Резерфода. Мое заявление, что я никогда не изучал английский язык (в то время основным языком-посредником физиков был немецкий) не помогло. На всю жизнь запомнилось, с каким трудом я переводил эту статью.
Много сил отдавал Игорь Евгеньевич педагогической деятельности. Мне довелось в 1933 г. слушать его лекции по квантовой механике. Они отличались ясностью изложения, доступностью и вместе с тем глубиной содержания. Игорь Евгеньевич считал, что не следует гнаться за логической стройностью курса. Важнее вскрыть физический смысл излагаемого материала, сделать его понятным студентам. С чувством удовлетворения он как-то рассказал, что ему удалось в курсе квантовой электродинамики доступно для студентов изложить теорию аномального магнитного момента электрона и при этом дать полный вывод со всеми выкладками.
И.Е.Тамм всегда ратовал за предоставление преподавателям вузов возможности вести серьезную научную работу. Его возмущали высказывания некоторых ответственных руководителей высшего образования, утверждавших, будто научной работой следует заниматься лишь постольку, поскольку это необходимо для педагогической деятельности.
Даже в последние годы своей жизни, будучи тяжело больным человеком, он упорно продолжал научную работу. Нередко он и в это время посмеивался над своим увлечением теорией элементарных частиц. Как-то он сказал, что Ландау, подшучивая над ним, называл его маньяком, кем-то вроде алкоголика, который с удивительным упрямством, несмотря ни на что, продолжает заниматься самыми трудными проблемами теории элементарных частиц. Ведь в других областях физики он сделал бы намного больше.
Игорь Евгеньевич был большим ученым и очень хорошим человеком, сумевшим оказать влияние на судьбу многих физиков.
| {26} |
Вхожу раз в московскую лабораторию Артема Исааковича Алиханьяна1 и вижу его горячо обсуждающим что-то с красивой молодой женщиной:
— Вот, знакомься с нашей сотрудницей, собираемся устроить в Ереване небольшой семинар по физике космических лучей. Будут Игорь Евгеньевич Тамм, небезызвестный тебе Аркадий Бенедиктович Мигдал2 и еще несколько человек. Поедем с нами! На Алагез подниматься не будем, поскольку сейчас зима, да ты и бывал там несколько раз3.
— Ну поедемте, что вам стоит! — попросила собеседница.
— Уж раз я взялся организовать в Грузии космику, то мне просто надо поехать.
— Вот и хорошо! — сказали они оба в один голос.
Первого января 1949 г. мы сели в международный вагон, и «семинар» вспыхнул сам собой. Пили мы чай, вино или кофе, кто-нибудь из присутствующих все время говорил о науке. Обычно Игорь Евгеньевич и Аркадий Бенедиктович садились на диван. Двое устраивались напротив в кресло, а Артюша4 садился на складную лесенку, положив ее набок. Каждый из нас рассказывал о своих экспериментах или теоретических выкладках. Наконец, подошла и моя очередь. Не будучи сведущ в ту пору в физике космических лучей и атомного ядра, своим рассказом о жидком гелии я внес большой диссонанс в общие рассуждения, однако Игорь Евгеньевич буквально воспламенился. Его эмоциональное восприятие рассказа, перебивая меня все время, подогревал Мигдал, который был свидетелем моих экспериментов и убежденным {27} пропагандистом полученных мною результатов. Я не случайно употребил такие слова, как «воспламенился» и «эмоциональное восприятие», потому что Игорь Евгеньевич действительно был образцом эмоционального восприятия в науке, во всех ее разветвлениях, очень остро чувствовал эстетику научного творчества и обладал при этом огромным темпераментом общения. Говорил он необычайной скороговоркой, часто предполагая в собеседнике большие знания, чем те, которыми тот располагал в действительности. Это немного затрудняло для меня восприятие тех глубоких мыслей, которые он обычно высказывал. Так мы и ехали три утра, три дня и три вечера, пока не доехали до Тбилиси, где на вокзале уже ждали машины, пришедшие за нами из Еревана.
В первый же вечер, глубоко «окунувшись» в физику космических лучей и в теорию ядерных сил, после окончания «семинара» в купе я начал приводить в порядок свои впечатления о Тамме. Я познакомился с ним в 1932 г., когда год спустя после окончания Ленинградского физико-механического факультета, работал в ЦАГИ1 и сгорал от желания стать теоретиком. Уже тоща я посещал знаменитые таммовские семинары на физфаке МГУ, где молодой в ту пору Игорь Евгеньевич, активно вмешиваясь в то, что говорили докладчики, объяснял собравшимся новые поразительные истины. От него мы узнали об открытии позитрона, о свойствах нейтрона, об открытии искусственной радиоактивности. Рассказывая, он сразу создавал ощущение масштаба новых явлений и открывал перед нами новые перспективы. И все это — почти экспромтом. Наконец, я расхрабрился и попросил Игоря Евгеньевича взять на себя руководство мною в области теоретической физики. Тамм вежливо и ласково согласился, попыхал папироской, вынул ее изо рта, посмотрел на дымящийся ее кончик и предложил мне прочитать статью немецкого ученого Хунда2, посвященную спектроскопической задаче, обобщить то, что сделал Хунд, и явится к нему во второй раз.
В упоении я схватил нужный номер «Zeitschrift für Physik», прочитал статью Хунда раз тридцать и понял, что ни о каком обобщении не может быть и речи прежде всего потому, что я не вполне понял, что было написано Хундом. Конечно, к Тамму я явиться второй раз не посмел. Много лет спустя, когда мне стало ясно, что я тоже могу немного разбираться в физике, я уразумел: это был тамммовский прием отбирать истинно одаренных в области теоретической физики людей, наделенных к тому же смелостью обобщения и настойчивостью. {28}
Семинар в Ереване прошел менее интересно, чем в вагоне. Не было той непосредственности. Докладывал Тамм, докладывал Мигдал, Алиханьян сделал несколько сообщений. Но, как часто бывает, в кулуарах было интереснее. А кулуарами, когда мы выезжали за город, служили нам снежные поля среди покрытых снегом гор. Недалеко от развалин древнего храма Гарни, разрушенного землетрясением в 1969 г., я остановил «виллис» у небольшой деревушки.
— Вино, хлеб, сыр есть? — спросил я колхозника.
— Есть, сколько хочешь, есть! — ответил он.
Мы купили вина, хлеба и сыра и вылезли на большой поляне. Сели на снег.
— Никогда не сидел за такой белоснежной скатертью, — сказал Тамм, отламывая кусок хлеба.
— Никогда не был тамадой за таким безбрежным столом, — сказал я.
Южное зимнее солнце так слепило глаза, что мы почти не увидели друг друга. Ощущение близости к природе спаяло нас всех. Только надвигающиеся лиловые сумерки, вытекающие на поляну откуда-то из междугорья, заставили нас встать и разойтись по машинам.
Один из вечеров провели в гостях у Артюши. Долго любовались пейзажами Сарьяна и натюрмортами Галенца. Груша с его картины осталась в моей душе. Так и езжу из страны в страну — в глазах груша Галенца как эталон прекрасной живописи. О Сарьяне уже не говорю, пронзил меня, когда мне было девять лет, — при первом посещении Третьяковки.
Сидели как-то вечером за столом в моем гостиничном номере. Болтали. Я рассказал, как мой брат Ираклий1 бросил курить и как потом из него три недели выходил никотин. Тамм переспросил:
— Три недели?
— Три недели, — авторитетно заявил я.
— Очень красочный рассказ! Я тут же бросаю курить, — и Тамм воткнул папиросу в пепельницу.
Через много месяцев мы встретились в Большой физической аудитории старого МГУ. Он протиснулся вдоль своего ряда и подсел ко мне.
— Элевтер Луарсабович! А я с тех пор так и не курю. Хочу перед вами отчитаться, — сказал он скороговоркой.
— С каких пор? — с изумлением просил я.
— Как? Вы, значит, не помните своего рассказа о том, как Ираклий Луарсабович бросил курить? Тогда дайте папиросу! {29}
Кто-то протянул портсигар, и Игорь Евгеньевич с удовольствием затянулся.
— А ведь вы были правы. Из меня никотин выходил три недели, — снова сказал Тамм.
По правде сказать, хотя я имею два таких авторитетных свидетельства, и по сей день не знаю, каким образом никотин выходит из курильщика.
Но вернемся в Армению. Конференция окончена. Снежные «кулуары» остались позади. Мы собираемся в Тбилиси. Нас ждут машины, мы ждем Алиханьяна. Алиханьян ждет важного звонка. Поездка в Тбилиси откладывается час за часом. Рассевшись по машинам чуть ли не утром, вечером, не тронувшись с места, мы вылезаем из них злые, усталые и голодные. Только Игорь Евгеньевич продолжает спор о прохождении частиц космического излучения через вещество, который он затеял с Мигдалом.
На следующее утро нас вновь ждут машины, мы ждем Алиханьяна, Алиханьян ждет звонка. Но мы, наученные горьким опытом, уже не садимся в машины спозаранку, а ведем разговор в кабинете Алиханьяна. Как обычно, я рассказываю истории из своей жизни. Меня прерывает Мигдал:
— В отличие от описательных образов твоего брата Ираклия твои образы очень геометричны. Их легко вообразить и запо..
— Едем же, наконец, товарищи, — ворвался в комнату голос Алиханьяна с интонациями, обвинительными в наш адрес. Мы устроились в машинах, и караван двинулся.
Караван? Караван! Потому что впереди ехал Алиханьян со своим научным заместителем, обсуждая результаты долгожданного звонка, за ним Игорь Евгеньевич и Аркадий Бенедиктович, а потом я и Ваган Мамасахлисов1. И, наконец, «додж 3/4», нагруженный лопатами, тулупами и прочим снаряжением, а на подножке заместитель по административно-хозяйственной части, готовый в случае сугроба или аварии немедленно соскочить и броситься помогать. Так мы достигли знаменитого озера Севан, на берегу которого стояла харчевня, славившаяся своей форелью. Мигдал и Тамм, не имея лыж, решили кататься с горы на собственных подошвах. Мигдал съехал, Тамм шлепнулся.
— Конечно, лучше было бы иметь лыжи, — сказал он, потирая ушибленное место и очищая брюки от снега, — но можно и так. И очень оптимистично полез на гору во второй раз. Но и тут ему не повезло. {30}
В Тбилиси мы в тот раз не попали, а поехали в Абастумани на гору Канобили, до которой было гораздо дальше, и очутились в гостях у Евгения Кирилловича Харадзе1 — директора Абастуманской астрофизической обсерватории. Но уже если мы с вами попали в Абастумани, скажу вам, что это самый культурный уголок в Грузии, где ни один посетитель, даже совершенно чуждый науке, не посмеет ни бросить окурка, ни плюнуть, ни громко заговорить во дворе, потому что здесь работают ученые. Погостив денек у Евгения Кирилловича, мы отправились в Тбилиси, но по дороге, в Боржоми, Тамму и Мигдалу ужасно захотелось съехать с горы Кохта, что в Бакуриани. В сильном волнении, впопыхах они покинули наш караван и кинулись к «кукушке», которая увезла их от нас. Через два дня мы заехали за ними и встретили их радостными и счастливыми:
— Вволю удалось покататься с гор и попрыгать с трамплина!
Мы вернулись в Тбилиси и вечером собрались у Вагана Мамасахлисова за столом. Все притомились, вино пилось плохо, тосты произносились вялые. Наконец, как говорят физики, критическая масса проглоченного вина была достигнута, и все как бы перевернулось.
— Товарищи, мы вышли на асфальт, — воскликнул Тамм.
И, перебивая друг друга и тамаду, мы заговорили все вместе свободно, ярко, разбирая эстетику научного творчества каждого из нас и знакомых физиков: Ландау, Капицы, Абуши Алиханова2. Этот вечер почему-то мне напомнил сцену свободного и интенсивного общения из бальзаковской «Шагреневой кожи», произведшей на меня сильнейшее впечатление в юности. Но когда я перечитал это произведение любимого мною Бальзака несколько лет спустя, оказалось, ничего похожего. Наше общество во главе с Таммом было в тысячу раз интереснее.
В следующий раз я встретился с Игорем Евгеньевичем, уже превратившись в заправского космика. Мы с молодыми научными сотрудниками строили на склонах Эльбруса на высоте 4000 м маленькое здание, предназначенное для исследования взаимодействий частиц космического излучения с атомными ядрами мишени. Тяжело нагруженная полуторка каждый день по нескольку раз, громко пыхтя, взбиралась по крутым склонам на Ледовую базу. Сюда раньше вела пешая тропинка, превращенная в период, когда строили «Приют одиннадцати», в «автомобильную тропу». Вы слышали когда-нибудь слова «автомобильная тропа»? Нет! Тем не менее это так. Грузовичок ползет по склонам Эльбруса, останавливаясь, чихая. Испытывая настоящее {31} кислородное голодание, он карабкается по склонам и огромным камням. Иногда ему просто не хватает альпенштока для того, чтобы преодолеть барьер, в особенности на последнем, Цыбулинском подъеме, уклон которого достигает на глаз 20–25°. Таких крутых поворотов я не видел нище. Машина упирается в скалу. Водитель, не глядя, пятит машину назад, камешки из-под колес сыплются в пропасть, и эта операция «вперед — на скалу» и «назад — в пропасть» повторяется несколько раз. Вдруг однажды при выезде из Терскола я слышу чей-то знакомый голос:
— Элевтер Луарсабович, вы не подбросите нас на Ледовую базу?
— Игорь Евгеньевич? Это вы! Садитесь, конечно, пожалуйста.
Вместе с ним в кузов машины забралось несколько человек, в том числе одна женщина. Первые несколько километров выше Терскола дорога вьется среди таких высоких цветов, что женщина рвала их, даже не перегибаясь сильно через борт машины. Выше Кругозора начались головокружительные повороты. В кузове кто-то отчаянно взвизгивал.
— Нервных женщин прошу не кричать! — сказал я басом, не поворачиваясь, стоя на подножке машины.
— Это не женщина, — сказал, склонившись через борт, Игорь Евгеньевич и, как всегда тактичный, добавил еле слышной скороговоркой:
— Это профессор N.: по-видимому, у него началась горная болезнь.
Игорь Евгеньевич осмотрел нашу высокогорную станцию. Любуясь Кавказским хребтом, видным с Ледовой базы во всей своей красе, мы говорили о науке. Он одобрил мои планы. Потом попрощался и, сильно согнувшись под тяжестью рюкзака, пошел догонять ушедших цепочкой своих товарищей-альпинистов. На обратном пути мы встретились снова. Я выразил удивление его ходкостью в горах, завидной для человека его возраста.
— Помилуйте, Элевтер Луарсабович! Какая же это гора — Эльбрус. На ней очень трудно проявить себя альпинисту, — сказал он.
Потом мы встречались с ним часто в разных домах в Москве, когда я приезжал из Тбилиси, и связь не прерывалась. В году 1956-м И.Е.Тамм приехал в Тбилиси. В ту пору он был очень увлечен молекулярной биологией и генетикой. В особенности его интересовала структура генетического кода.
— Вы, говорят, теперь тоже биофизикой интересуетесь? — спросил он меня.
— Да, интересуюсь.
— Какие же вопросы, разрешите узнать, увлекают вас?
— Хочу знать, чем живое отличается от мертвого с точки зрения физики. На молекулярном уровне... {32}
— Вот это задача, — сказал Игорь Евгеньевич, — И что же для этого надо сделать?
— Для этого надо измерить теплоемкость нуклеиновых кислот и белков, начиная от температуры абсолютного нуля до температуры денатурации.
— Неужели сумеете?
— Смогу.
— Когда вам это удастся, — сказал он очень искренне, — сообщите, пожалуйста, мне. Я приеду, чтобы помочь вам создать теорию этих явлений.
— Спасибо.
— А еще что вас интересует в биологии? Генетика, вероятно, тоже?
— Нет, над ней я не думал. Меня интересует рак с молекулярной точки зрения.
— Но ведь это тоже генетика.
— Нет, для меня — термодинамика.
— Интересно, интересно, — повторил несколько раз Тамм, — И вы сможете это сделать?
— Надеюсь, что смогу.
Когда мы встречались с ним потом, он спрашивал меня о моих биофизических делах. Они шли туго. И я стал от него убегать. Только спустя двадцать лет я смог дать Тамму ответы на те задачи, о которых я ему рассказывал в 1956 г. Все эти годы упрямо и последовательно я лез в гору. Казалось, мне иногда не хватало только альпенштока, чтобы преодолеть крутой подъем, но приходилось идти в обход.
Последний раз я встретил Тамма летом 1966 г. буквально выбегающим из ФИАНа, где происходили выборы в Академию наук. Благородное возмущение было написано у него на лице. Я его остановил и спросил:
— Куда вы так спешите, Игорь Евгеньевич? Почему вы так возбуждены? Может, вам нужно помочь?
— Нет, нет, мне не нужна помощь! Арцимович1 лишил меня слова, когда я хотел выступить по поводу избрания Виталия Лазаревича Гинзбурга. Это ужасно, это возмутительно!
И он скрылся за проходной ФИАНа. Войдя в здание Института, я слился с толпой, присутствовавшей на обсуждении кандидатов. На самом деле кандидатура Гинзбурга не вызывала сомнений, и Арцимович не дал Игорю Евгеньевичу слова, просто чтобы не затягивать дискуссию. Гинзбурга в тот раз и так избрали.
| {33} |
Мы все, так называемая коммуна, жили тогда на Южном берегу Крыма в имении «Саяни», в девяти километрах от Алушты. Мы снимали высоко расположенную отдельную дачу с семью или восемью комнатами и огромной террасой, увитой цветущей глицинией. Сквозь ее круглый просвет далеко внизу виднелось море. Мои родители пригласили к себе большую компанию друзей и знакомых на летние месяцы. Всего нас было одиннадцать или двенадцать человек, не считая наезжавших гостей. Каждый проводил время по своему вкусу, но питались вместе и готовили по очереди. Стирали все сами. Время было голодноватое, но недостаток в еде дополняли фрукты и овощи, приносимые в корзинах на головах местными жителями, которые проявляли большой интерес к нашей шумной коллективной жизни. Можно ли рассказать о том, что было в то веселое и необыкновенное лето?
Эти воспоминания относятся к давнему прошлому и потому отрывочны. Помню уверенно, что член нашей «коммуны» — Игорь Евгеньевич Тамм, двадцатипятилетний, живой, спортивного вида молодой человек, быстро стал душой этого разнообразного по специальностям, возрастам и наклонностям, непринужденного и многолюдного общества. Нельзя, разумеется, восстановить ни долгие научные беседы, которые он вел с моим отцом1, ни те дискуссии, или, вернее, пикировки, какие Игорь Евгеньевич имел иногда со своим коллегой и также членом «коммуны» Николаем Васильевичем Оглоблиным — профессором математики Таврического университета, человеком очень почтенным, но мрачноватым и педантичным во всем, от одежды до мытья посуды. Тамм, напротив, был широк, беззаботен, забывчив, рассеян, стремителен и импульсивен, скороговорчив и юмористичен. Он обезоруживал всех своей деликатностью, непритязательностью, предельной искренностью извинений, которые неизменно приносил в случае невыполнения возложенных на него хозяйственных поручений, легкостью общения, доброжелательностью, заразительностью и открытостью {34} своего смеха. Но иногда мрачнел, замыкался и избегал людей. Он очень тосковал по жене, Наталии Васильевне, отрезанной от него фронтом. К ней он пробрался впоследствии, рискуя жизнью. Но эти приступы проходили, и Тамм опять становился прежним — активным участником всех предприятий и развлечений, тонким и понимающим собеседником.
Кухонная работа была не в его жанре. Он не любил мыть посуду и особенно чистить сковородки. Между тем это стало почти традицией. Минувшим летом эту функцию выполнял известный геолог академик Н.И.Андрусов1, который со своей семьей жил вместе с нами на этой же даче. Горячей воды было мало, в ход шли песок и зола (от костра), но вся эта низменная механика была органически неприемлема для вольнолюбивого и инициативного духа Игоря Евгеньевича. Он предпочитал носить воду, ходить в Биюк-Ламбат за покупками, бодро неся через плечо двойной плетеный мешок (так называемый бисак), наполненный овощами и хлебом, или с энтузиазмом рубить дрова и сучья, прихватывая при этом пальцы рук и ног (отчего часто находился на излечении у моего отца).
К одежде Тамм был крайне равнодушен. Да, в сущности, все мы обладали лишь самым необходимым. А что было — берегли на осень и зиму. Молодежь все лето ходила босиком, «ad pedes apostolorum»2, по чьему-то возвышенному выражению, или «попросту в пасталах», как популярно объяснял один из наших остряков. В связи с этим запомнилась таинственно-мимическая сцена за нашим многолюдным табльдотом. Игорь Евгеньевич опаздывал к обеду. Потом он появился, смущенно улыбаясь, бережно придерживая на груди обрывки одежды; плотно держась около стены и пробираясь вдоль длинного стола, он нырнул во внутренние комнаты. Вскоре выяснилось, что очередная спортивная эскапада почти уничтожила его единственную рубашку, и она фрагментарно продолжала прикрывать его только спереди. Долгая и тщательная реставрация ненамного продлила ее существование.
Тамм был превосходным пловцом, заплывал далеко и надолго, но раз по-настоящему тонул. Он кричал об этом мальчикам на берегу, но из-за шума прибоя никто его не слышал, а взмахи рук становились все короче. Игорь Евгеньевич потом рассказывал, что повторял себе: «Не трать, куме, силы, сидай на дно», — все же истратил их до конца и выплыл. Однажды горячим и черным звездным вечером, когда не видно было, куда ступаешь ногой, он увлек всех вниз на берег, чтобы {35} полюбоваться фосфоресцирующим морем, далеко заплыл и, светясь сам с головы до ног, кувыркался в волнах для усиления этого эффекта.
Тамм принимал деятельное участие во всех развлечениях. Наши хозяева — огромная семья — увлекались музыкой, игрой на рояле и особенно пением. Но он был равнодушен к этому виду искусства. Предпочтение он отдавал живописи. В 20-х годах уже в Москве Тамм с большим интересом, собрав группу своих друзей и коллег-физиков, посещал по воскресеньям Музей изобразительных искусств, подробно знакомясь с картинами западноевропейских мастеров. Он и Дирака в бытность того в Москве водил в Третьяковскую галерею, а потом возложил эту обязанность на меня. Театр (помню, как мы хохотали над «Квадратурой круга» Катаева) и особенно кино привлекали его больше. Игра в шарады еще в те молодые крымские годы брала его всегда за живое. Забыла уже, какое загадывалось слово, но особенно запечатлелась в памяти его роль Змия в сцене «Искушение Адама и Евы». Лежа и извиваясь на низких, узловатых ветвях сливы, он, сладострастно улыбаясь, настойчиво протягивал робкой и смущенной Еве яблоко. Смех кругом стоял гомерический. Так же непосредственно и темпераментно он входил в роль одного из «Трех мушкетеров». Как-то раз, встретив нас во дворе Московского университета, рядом с нашей квартирой, Тамм, широко размахивая воображаемой шляпой с перьями, мел, казалось, землю, вздувая кругом пыль.
Крымское пребывание Игоря Евгеньевича кончилось осенью 1920 г. его отъездом к жене в Елизаветград.
| {36} |
Я хочу коротко рассказать о прекрасной дружбе, связывавшей семью И.Е.Тамма и Л.И.Мандельштама.
В 1919–1920 гг. в Симферополе, в Таврическом университете Игорь Евгеньевич работал на кафедре физики вместе с Я.И.Френкелем и Л.С.Вагиным. В университете в те годы одновременно оказались крупные ученые, представители различных отраслей знания. Напряженной научной жизнью, в частности, жила лаборатория крупнейшего биолога Александра Гавриловича Гурвича, дяди Леонида Исааковича Мандельштама. Одновременное пребывание в Симферополе А.Г.Гурвича, И.Е.Тамма и Я.И.Френкеля положило начало их длительному научному и, что не менее важно, дружескому общению, несмотря на разницу в возрасте, на большие разногласия в оценке разных сложных проблем и на не всегда совпадающие (но все же очень близкие) моральные установки. Может быть, Игорь Евгеньевич обязан и «биологической закваской», так сильно забродившей в нем в более поздние годы, контактам с Александром Гавриловичем.
К сожалению, об одесском периоде жизни Игоря Евгеньевича (1920— 1922) я знаю понаслышке, по устным рассказам своих близких и по сохранившимся семейным письмам. Они позволяют восстановить тяжелую и сложную обстановку, создавшуюся тогда в Одессе. Я имею в виду не ликвидированные еще банды, холод, эпидемии, голод, ничтожные, нерегулярные пайки, неуклонно растущие цены на продукты, приобретаемые в основном на рынке в обмен на вещи и домашний скарб.
Игорь Евгеньевич приехал к Леониду Исааковичу с рекомендацией от Александра Гавриловича. Но, собственно говоря, она не требовалась — так быстро установилось между ними взаимопонимание, научная и человеческая заинтересованность. Их научные контакты формально шли по двум линиям. Леонид Исаакович заведовал кафедрой физики в новосозданном в Одессе в 1919 г. Политехническом институте, в организации которого со дня основания принимал большое участие. Благодаря его руководству и усилиям была создана физическая {37} лаборатория и привлечены к работе одесские физики — Аганин, Цомакион и в первую очередь Николай Дмитриевич Папалекси1. В том же году в Одессе был организован радиотелеграфный завод. В заводской лаборатории под руководством Л.И.Мандельштама и Н.Д.Папалекси проводились технические испытания. На заводе изготовлялись также радиолампы типа Р-5 и более мощные. Леонид Исаакович сразу привлек И.Е.Тамма к работе на кафедре и одновременно в заводской лаборатории. В нее входила группа энтузиастов, преподавателей, студентов, называвших себя «вакуумной артелью» (вакарами). Тон в ней задавали К.В.Стахорский, Е.Я.Щеголев2, И.Е.Тамм — люди веселые, энергичные, неразлучные.
Игоря Евгеньевича и его жену Наталию Васильевну поместили в свободную комнату А.С.Исаковича, женатого на сестре Леонида Исааковича. Вероятно, бытовая близость способствовала очень быстро установившемуся тесному дружескому общению со всей семьей, насчитывающей двенадцать человек, в том числе четверых детей в возрасте от семи до одиннадцати лет (трое из них — будущие физики). Игорь Евгеньевич стал любимцем малышей. Дети не засыпали, не услышав главы из фантастической повести «Перси Соммервиль». Игорь Евгеньевич сочинял ее экспромтом и с устрашающими гримасами изображал всех действующих лиц.
Восторженное отношение детей к нему сохранилось навсегда и распространилось на последующие поколения. Помню темпераментные сражения при игре в крокет, происходившие уже значительно позже, на станции Правда, где в 1947 г. снимали дачу Таммы, Мандельштамы, Ландсберги и другие близкие им семьи. В сражениях на равных правах участвовали три поколения, и всегда над крокетным полем стоял гул взволнованных голосов.
По отношению к клану Мандельштамов, включавшему обширный круг связанных родством семей, Таммы старались осуществить наследственную передачу дружеских отношений. Игорь Евгеньевич ощущал себя не только хорошим знакомым, другом семьи, а в какой-то степени родственником, настолько близки были ему интересы всех ее членов. Своих детей, обзаведшихся семьями, Таммы приводили для знакомства. Подпись «Таммы, стар и млад» фигурировала во многих поздравлениях и приветствиях. {38}
Возвращаясь к пребыванию Таммов в Одессе, я хочу остановиться на событии, очень сблизившем жильцов обеих квартир. Игорь Евгеньевич учинил в своей комнате большой пожар. Перелив керосин из большого бидона в бутылку, он подливал его уже из бутылки в горящую лампу. Керосин содержал легковоспламеняющиеся примеси, вспыхнул огонь. Бутылка упала, и бидон взорвался у ног Л.И.Мандельштама, но пламя ударило в противоположную сторону. Пожар быстро ликвидировали. Подробное описание происшествия сохранилось в письме ко мне. Главным пострадавшим был Леонид Исаакович, пролежавший дома около трех недель с ожогами. Материальные убытки были ощутимы, а угрызения совести Игоря Евгеньевича безмерны. Для его успокоения окружающие — прежде всего сам Леонид Исаакович, — весело обсуждая происшествие, старались придать ему характер преднамеренного преступления, хладнокровно осуществленного коварным злодеем. Каждая строфа коллективно сочиненной по этому случаю поэмы заканчивалась рефреном:
|
Подобным людям опасно верить, За ними надо всегда следить. |
Игорь Евгеньевич очень рано почувствовал в Л.И.Мандельштаме не только ученого, но и человека неповторимого душевного обаяния, и это чувство возрастало с годами. Становится понятным, почему, заканчивая свое выступление на траурном заседании памяти Леонида Исааковича, он сказала: «Не знаю, кого мы больше оплакиваем — мыслителя или человека».
Мое личное знакомство с Игорем Евгеньевичем состоялось в начале 30-х года. В памяти сохранилось многое, но в порядке самоограничения остановлюсь лишь на нескольких эпизодах. Помню мимолетную встречу в 1932 г., когда мы — Леонид Исаакович с женой Лидией Соломоновной (моей сестрой) и я — столкнулись с супругами Тамм на шоссе в Домбае. Таммы путешествовали в сопровождении ослика, облегчавшего Наталии Васильевне трудности пути. Короткий разговор о тогдашнем декане, друге Игоря Евгеньевича Б.М.Гессенс1 и заболевшей его жене. Гессены в этом году тоже проводили отпуск в Домбае. Борис Михайлович окружал Леонида Исааковича очень большой заботой и вниманием. Следует ли это объяснить влиянием Игоря Евгеньевича, его близкого гимназического товарища? А впрочем, следует ли искать объяснения горячему отношению к Леониду Исааковичу в чем-нибудь ином, чем в нем самом? {39}
Но начало настоящему знакомству и общению положили встречи в Боровом1 осенью военного 1942 г. Для Игоря Евгеньевича приезд в Боровое стал маленькой передышкой от тягот казанской жизни. Бытовые условия в пансионате для академиков при всей их скромности были несравнимы с обстановкой военного времени в Казани. Игорь Евгеньевич сразу после утреннего чая прибегал из главного корпуса, где он жил, в небольшой дом, дачу № 33, где жил Мандельштам. Все утро они проводили за письменным столом.
В Боровое меня эвакуировали после первой блокадной зимы, проведенной в Ленинграде. Все ассоциации еще вели к недавнему прошлому. И когда Игорь Евгеньевич находил время пройти по туристским тропам вокруг Борового, то трудно было побороть потребность говорить о пережитом. Ведь он был не только прекрасный рассказчик, но и прекрасный слушатель. Впрочем, называть его просто слушателем было бы неверно. Он становился соучастником переживаемого.
Пребывание И.Е.Тамма совпало с приездом в Боровое Алексея Николаевича Крылова2. По-видимому, они вместе с Леонидом Исааковичем не раз обсуждали трудную обстановку, сложившуюся тогда на физическом факультете Московского университета. Через два года, выступая после смерти Леонида Исааковича на заседании, посвященном его памяти, А.Н.Крылов сказал: «Леонид Исаакович отличался прямотой, честностью, полным отсутствием искательства и лукавства и заслужил особенное уважение лучшей части профессоров Московского университета; но в последние два года сплоченная группа физиков причинила Леониду Исааковичу много огорчений»3.
Не улучшилось положение и после возвращения Леонида Исааковича в Москву. Во время пребывания Леонида Исааковича и Игоря Евгеньевича в эвакуации факультет исключил их из числа сотрудников. Заведование кафедрой теоретической физики, которой прежде руководил И.Е.Тамм, было поручено одному молодому теоретику, ранее учившемуся у Игоря Евгеньевича, и тот занял кафедру своего учителя.
Для обсуждения создавшейся в университете ситуации Мандельштам и Крылов обратились в Комитет по делам высшей школы (КВШ), ведавший всеми высшими учебными заведениями. Алексей Николаевич и Леонид Исаакович ездили на его заседание, но оно не состоялось. {40} Леонид Исаакович был тогда уже болен и выезжал из дома очень редко. К нему на дом из Комитета для обсуждения университетских дел приезжал заместитель председателя. Состоялся долгий, очень откровенный разговор. Однако перемены осуществились лишь позднее, в 1954 г.
Алексея Николаевича Крылова беспокоил и вопрос об избрании Игоря Евгеньевича в Академию наук. Сохранилась копия письма Алексея Николаевича, отправленного из Борового (13.04.1943) П.Л.Капице1, — несомненный результат бесед с Л.И.Мандельштамом. Алексей Николаевич пишет по поводу кандидатуры Игоря Евгеньевича «на кафедру физики в Академии» и указывает на значение его трудов и, в частности, на работу по теоретическому обоснованию «явления Черенкова». Письмо заканчивается фразой: «Если Вы найдете эти соображения правильными, то присоедините и Ваш голос к представлению Тамма».
В день похорон Леонида Исааковича Николай Дмитриевич Папалекси дал мне прочесть написанные им слова прощания. Мысль о необходимости официальной прощальной церемонии показалась мне чудовищной. Я бросилась к Игорю Евгеньевичу, повторяя, что весь обряд должен заключаться в молчании. Он, возможно, и не понял ничего в моих сбивчивых объяснениях, но, во всяком случае, не согласился. Игорь Евгеньевич хоронил не только Леонида Исааковича, старшего друга, он хоронил ученого, учителя. Николай Дмитриевич, взволнованный, верно, не меньше моего, сказал свое скупое, прочувствованное слово. С большой настойчивостью Игорь Евгеньевич добился у Лидии Соломоновны разрешения построить студентов и провести их через комнату, где стол гроб. Он считал, что студенты должны хоронить учителя. И повел их вокруг гроба.
Помню его частые приходы уже после смерти Леонида Исааковича. Деловые и неделовые разговоры с Лидией Соломоновной. Разбор бумаг. Смерть Леонида Исааковича сблизила его учеников с Николаем Дмитриевичем, только по внешнему виду холодным и малодоступным человеком. Биографию Л.И.Мандельштама для предполагавшегося издания трудов начал писать Н.Д.Папалекси, знавший его с 1899 г., когда они вместе обучались в Страсбургском университете. Смерть Леонида Исааковича очень сильно отразилась на нем.
В январе 1947 г. Николай Дмитриевич одновременно с Игорем Евгеньевичем отдыхал в санатории «Узкое». Вечера они часто проводили {41} за шахматами. И в один из таких вечеров, 2 февраля 1947 г., Игорь Евгеньевич позвонил Лидии Соломоновне и сказал, что во время игры Николаю Дмитриевичу сделалось плохо. Второй звонок был тревожнее первого. Лидия Соломоновна поехала в «Узкое». Николай Дмитриевич уже скончался. Биографию Л.И.Мандельштама дописывали Григорий Самуилович Ландсберг, Игорь Евгеньевич и Сергей Михайлович Рытов, разбиравший архив.
В 1958 г. мы очень оживленно отпраздновали у нас получение Игорем Евгеньевичем Нобелевской премии. Наталия Васильевна впервые в жизни приобрела роскошный вид — пришла к нам в каракулевом пальто, привезенном ее супругом. Вдова Л.И.Мандельштама Лидия Соломоновна, заботившаяся о каждом заболевшем друге, получила от Тамма все нужные для близких и бесчисленных подопечных редкие лекарства. Игорь Евгеньевич дал собравшимся полный отчет о поездке в Стокгольм. Со свойственным ему оживлением он описывал процедуру встречи с членами королевской семьи, беседы с учеными и т.п.
Приходы Игоря Евгеньевича очень часто выливались в «тематические» вечера. Многие, вероятно, помнят его рассказы о розысках снежного человека, о впечатлениях от поездки на Курилы, Камчатку, в Китай и т.д. И самым интересным было не столько то, что он рассказывал, сколько то, как он рассказывал, его энтузиазм. Особенно памятно мне изложение появившейся в «Nature» в 1954 г. работы Гамова1 о коде нуклеиновых кислот — проблемы, вероятно, для Игоря Евгеньевича новой. Увлеченно разъясняя значение и принцип кода, полностью освоив нужную терминологию, он произносил слова «аденин», «гуанин», «уратил», «тимин», как имена старых знакомых. Это вторжение физика в биологию, оттеснение биолога, которому отводилась как бы второстепенная роль в раскрытии жизненных процессов, вызвало у меня, биолога, чувство некоторого протеста. Но своим увлечением он покорял.
Оживленно прошло у нас чествование Игоря Евгеньевича после удачного завершения цикла его работ в 1953 г., избрания в академики и получения множества наград. Мы преподнесли ему макеты дачи, машины, шутливые пропуска для посещения мандельштамовского дома с соответствующими четверостишиями. Мне часто случалось по разным поводам писать Игорю Евгеньевичу шутливые стихи, неизменно встречавшие доброжелательный прием, и я с удовольствием носила звание «притаммного поэта».
| {42} |
Мне выпало счастье в течение многих лет (начиная с 1939 г. и до кончины Игоря Евгеньевича) более или менее регулярно общаться с ним. Я входил в студенческую компанию, часто собиравшуюся до войны в доме Таммов. Хотя многие авторы этого сборника гораздо полнее и лучше меня могут нарисовать образ Тамма-ученого и Тамма-человека, все же хочу привести несколько эпизодов, запомнившихся ярче других.
После войны я поступил в аспирантуру Физико-химического института им. Л.Я.Карпова и начал заниматься квантовой механикой. Изучение материалов знаменитой дискуссии между Эйнштейном и Бором об основах квантовой механики, их статей 30-х и 40-х годов, работ Шредингера1 и Фока по поводу этой дискуссии привело меня в отчаяние. Я полностью соглашался с каждым из прочитанных мною авторов и совершенно не был в состоянии избрать собственную точку зрения. Пришлось пойти к Игорю Евгеньевичу. Он сказал: «Я убежденный “копенгагенец!”» и целый вечер с энтузиазмом объяснял мне, почему в этом споре прав Бор, а не Эйнштейн. Он говорил о том, что современная физика все дальше отходит от наглядных, легко представляемых образов, от привычного людям «здравого смысла». Этот процесс будет с неизбежностью продолжаться. Физика завтрашнего дня станет еще более абстрактной, а ее законы будут еще более противоречить нашему повседневному опыту. Точнее — не противоречить, а просто не пересекаться с ним, существовать в другом измерении. У физиков появляется свой, новый «здравый смысл», не совпадающий с обычным. Поэтому писать хорошие научно-популярные книги о настоящей физике становится все труднее и скоро будет совершенно невозможно. Ощущение «понимания» рождается только на основе длительной привычки к абстрактному мышлению в системе математических и физических образов, не имеющих прямых аналогий в {43} непосредственно доступном нам мире. Вероятно, это был для меня самый важный «разговор о науке» из многих, которые мне довелось вести в жизни.
Второй эпизод, о котором мне хочется рассказать, относится ко времени известной дискуссии о теории резонанса в химии, вернее, к самому началу этой дискуссии, т.е. к концу 1949 или началу 1950 г. Теорией резонанса называли предложенный Полингом1 и развитый Уэландом способ качественного рассмотрения молекулярной структуры и свойств химических соединений, основанный на одном из приближенных квантово-механических методов расчета многоэлектронных систем. Эта теория сыграла важную роль в развитии химии, особенно органической. Фактически она выработала язык, на котором химики говорили несколько десятков лет.
В ходе этой дискуссии выступили некоторые физики, утверждавшие, что теория резонанса не только идеалистична (это был основной мотив дискуссии), но и безграмотна, так как противоречит основам квантовой механики. В связи с этим мои учителя, Я.К.Сыркин2 и М.Е.Дяткина3, против которых была главным образом направлена эта дискуссия, захватив меня с собой, пришли к Игорю Евгеньевичу Тамму, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Пожалуй, самым важным здесь было то, что никаких колебаний — к кому именно из крупных физиков обратиться — у нас не было. Абсолютная научная добросовестность, полное отсутствие «физического снобизма», неподверженность влиянию каких бы то ни было конъюнктурных соображений и природная благожелательность — все это автоматически делало Тамма едва ли не единственным возможным арбитром.
Игорь Евгеньевич в тот день был в прекрасном настроении. Во время беседы он держал в руках тяжелый бейсбольный мяч и время от времени кидал его мне или Якову Кивовичу. Он ничего не знал не только о дискуссии, но и о теории резонанса. Ему потребовалось минут десять для полного уяснения сути дела. Он сказал, что предлагаемый в теории резонанса способ описания ничему в квантовой механике не противоречит, никакого идеализма здесь нет и, по его мнению, вообще нет предмета для дискуссии. Впоследствии всем стала ясна его правота. Однако дискуссия, как известно, продолжалась. Нашлись люди, {44} утверждавшие, будто теория резонанса — лженаука. Это отрицательно сказалось на развитии структурной химии.
Мне много раз довелось слышать публичные выступления Игоря Евгеньевича. Его доклады никогда не были солидно-академическими. Он всегда говорил о том, что его увлекало, и умел увлечь слушателей. Пожалуй, наибольшее впечатление на меня произвели три его лекции, посвященные совершенно различным вопросам.
В конце 1939 (а может быть, в начале 1940) года в Большой физической аудитории (БФА) на Моховой И.Е.Тамм изложил проблемы обменной теории ядерных сил. Он рассказал о своих попытках в 1934 г. построить эту теорию на основе обмена легкими частицами (электронами и нейтрино) между протонами и нейтронами, отметив возникавшие тогда непреодолимые трудности, а затем рассказал о том, что японцу Юкаве удалось избежать этих трудностей, постулировав в 1935 г. обмен не электронами, а полутяжелыми частицами — мезонами (впоследствии действительно открытыми в космических лучах). Тем не менее было совершенно ясно, что работа Игоря Евгеньевича имела основополагающее значение.
Мне запомнился также его доклад об атомной бомбе. В конце 1945 или начале 1946 г. в той же БФА на Моховой он рассказал о двух путях создания ядерной взрывчатки (на основе урана-235 и плутония). Поразительно четко, предельно ясно он говорил об этих еще совсем мало знакомых аудитории вопросах. Игорь Евгеньевич хорошо понимал значение происшедшего и доказывал слушателям, переполнившим БФА, свою основную мысль: создание атомной бомбы знаменует новую эру не только в способах ведения войн, но и в судьбах человечества.
В 1956 г. произошло событие, сыгравшее, я думаю, принципиальную роль в развитии советской биологии. На одном из «капичников» (на семинаре в Институте физических проблем АН СССР под руководством П.Л.Капицы, много лет собиравшемся через каждые две недели) были заслушаны два выступления, посвященные генетике. Н.В.Тимофеев-Ресовский прочел блестящую лекцию об основах менделизма1. В ней в основном шла речь о генетическом действии ионизирующей радиации, но значительную ее часть составило просто изложение классической генетики. И.Е.Тамм сделал не менее блестящий доклад о роли ДНК в хранении и передаче наследственной информации (доклад был основан на работе Крика и Уотсона2 и на работах {45} по теории наследственного кода). До отказа был заполнен не только актовый зал института, но и коридор и лестница. Значение этих докладов трудно переоценить. Впервые за много лет (после сессии ВАСХНИЛ1 1948 г.) на научном заседании серьезно обсуждали проблемы генетики2. Доклад И.Е.Тамма безусловно содействовал приходу в биологию нового поколения молодых физиков и химиков, так много сделавших в последующие годы для развития в нашей стране молекулярной биологии и биологической физики.
В последние годы жизни Игоря Евгеньевича я приходил к нему, уже тяжело больному, прикованному к постели. Кончался визит всегда партией в шахматы, но начинался с вопроса: расскажите что-нибудь новенькое и интересное из вашей науки. Он радовался, услышав новое и неожиданное, удивлялся, глаза его блестели, он никогда не был равнодушным. Его интерес к биологии, как, впрочем, и ко всему занимавшему его внимание, был активным. Игорь Евгеньевич всегда хотел помочь, сделать все, что мог, чтобы новое направление развивалось, преодолевая неизбежно встававшие на пути преграды косности и равнодушия.
В 1958 г. небольшая группа третьекурсников физфака МГУ по собственной инициативе начала заниматься биологией. Сначала они слушали факультативные лекции приглашаемых ими самими специалистов. Затем студенты обратились к Игорю Евгеньевичу с просьбой помочь организовать на физфаке биофизическую специализацию. Он загорелся, обратился к ректору МГУ И.Г.Петровскому3 и смог передать {46} ему свой энтузиазм. Так на физическом факультете МГУ возникла кафедра биофизики, первая учебная кафедра не только у нас в стране, но, вероятно, в мире, где готовят специалистов биофизиков из физиков, а не из биологов. Теперь таких кафедр довольно много, однако начало было положено И.Е.Таммом. В течение ряда лет существование нашей кафедры и ее развитие были связаны с ним. Он всегда принимал близко к сердцу наши радости и огорчения. Одно то, что есть Игорь Евгеньевич, к которому можно прийти за светом, которому интересно наше стремление научиться учить физиков биологии, придавало уверенность и поддерживало в трудные минуты.
| {47} |
Игоря Евгеньевича я впервые увидел в 1946 г., когда учился на втором курсе физического факультета МГУ. Примерно за месяц до начала учебного года И.Е.Тамм прочитал доклад для широкой аудитории о задачах, стоящих перед новым Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ, тогда еще факультет Московского механического института). Несколько студентов с физического факультета МГУ, и я в том числе, пришли его послушать. Мы все тогда решали — остаться в университете или перейти во вновь создаваемый институт. Мне не так запомнился доклад, как сам Игорь Евгеньевич. Это был человек ниже среднего роста, коренастый, седой и очень подвижный. Он не стоял на месте, а непрерывно расхаживал перед доской, не гладя на аудиторию, даже когда поворачивался к ней лицом. Казалось, будто у него перед глазами был план доклада, куда он все время всматривался, не желая сбиться. Говорил Игорь Евгеньевич на редкость ясно, и нам казалось, что мы все понимаем. Он рассказывал о нерешенных проблемах, стоящих перед теоретической физикой, о возможных путях их решения, о том, как будет вестись подготовка студентов в МИФИ. Аудитория была полна, слушали очень внимательно. После лекции посыпались вопросы. Тамм отвечал очень обстоятельно даже на такие вопросы, которые мне казались глупыми. При этом, как и во время доклада, расхаживал перед слушателями, изредка поглядывая на того, кто спрашивал. Когда доклад закончился, Игоря Евгеньевича окружила плотная толпа молодежи. Пробиться поближе мне не удалось. Поверх голов было видно, как Тамм что-то кому-то оживленно втолковывал, потом короткое время внимательно слушал, потом снова начинал оживленно говорить. Глаза его блестели, он улыбался, потом лицо становилось серьезным, потом он снова улыбался. Очень выразительное было у него лицо, подвижное, как и он сам. У меня после этого доклада создалось впечатление о Тамме как о добром человеке (почему — не знаю и не могу объяснить). Смотрел на него, слушал, как он старается яснее рассказывать, как внимательно выслушивает {48} вопросы, как доброжелательно отвечает, как дружелюбно разговаривает с молодежью, и у меня возникло ощущение, окрепшее, когда я узнал его ближе, что он добрый человек.
Осталось также впечатление, будто ему чуждо чувство юмора: он ни разу не пошутил ни во время доклада, ни отвечая на вопросы. Однако впоследствии я убедился в том, что Игорь Евгеньевич обладал тонким и своеобразным чувством юмора, остро чувствовал комичность ситуации, был неистощимым рассказчиком веселых историй. Часть из них я запомнил на всю жизнь. Но это качество раскрывалось при более близком знакомстве.
В МИФИ я так и не перешел.
На третьем курсе у нас читали электродинамику. Так вышло, что за короткое время сменились три лектора. Если бы любой из них прочитал все полностью, то получился бы вполне хороший курс. Но лекторы настолько различались по своей индивидуальности, по своему подходу к различным главам электродинамики, наконец, по своей манере говорить, что у нас создалось впечатление, будто существуют три разные теории электричества. Так оно, может быть, и осталось бы до позднейших времен, но, по счастью, я купил третье издание книги Тамма «Основы теории электричества». Наряду с учебником С.Э.Хайкина «Механика» она в значительной мере определила мое развитие как физика. Теперь я понимаю, как мне повезло, что на первом курсе механику у нас начал читать Семен Эммануилович Хайкин1. При изложении предмета он исходил из тех же педагогических принципов, что и Тамм. Оба они были учениками Л.И.Мандельштама. Для них на первом месте было выяснение физики явления, анализ физических оснований теории.
Книга Тамма показывает, как глубоко он знал электродинамику, но совершенно не отражает его личного вклада в развитие этой науки. А он был значительным. Достаточно сказать, что теория излучения Вавилова–Черенкова (эту теорию Тамм разработал совместно с И.М.Франком) представляют собой одну из красивейших работ по современной теоретической физике. Только в последние годы получили признание работы Тамма по электродинамике движущихся сред. Первое его выступление по этой проблеме в 1924 г. — вообще первая опубликованная работа Игоря Евгеньевича.
После выхода из печати книги «Основы теории электричества» к Игорю Евгеньевичу стали обращаться за консультациями и советами {49} в этой области. Он никогда в совете не отказывал. Бывали и анекдотические случаи. Он сам о них рассказывал с веселой улыбкой. Приведу два из них.
Однажды Тамм встретился с двумя изобретателями. Они предложили значительно удешевить передачу электроэнергии, утверждая, будто создали особую пропитку для дерева, которая превращает дерево в хороший проводник с очень малым сопротивлением, таким же, как у металлов.
— Вы понимаете, это целая революция в деле передачи электроэнергии, — вспоминал Игорь Евгеньевич. Тут он хитро улыбался, а выражение лица у него становилось таинственным.
— Пропитайте бревно, и можно передавать электроэнергию по бревнам. Для России, где лесов много, — неслыханная экономия. Я встретился с изобретателями. Они о составе пропитки ни слова не говорят. Спрашиваю, проверяли ли они свою идею на опыте. Говорят, что проверяли и успешно. Но для дальнейших работ нужны деньги. За тем и приехали. Спрашиваю:
— На чем основано действие вашей пропитки?
Они отвечают:
— Дайте деньги — все объясним.
Говорю:
— Вы можете продемонстрировать образцы?
— Дайте деньги — мы все покажем.
Долго мы так разговаривали. Наконец, я им говорю:
— Мне кажется, что изобретение ни на чем не основано.
А они отвечают:
— Ну и пусть ни на чем не основано, а вы нам все-таки дайте деньги, и мы все сделаем.
Второй случай. Один из преподавателей физического факультета МГУ рассказал Тамму о возникшей у него идее — новом способе генерации электроэнергии. Изобретение заключалось в следующем. Возьмем намагниченный железный стержень и поместим его внутрь катушки — соленоида. Как известно, железо теряет свои ферромагнитные свойства при температуре 758°С, при так называемой температуре Кюри. Поместим катушку с намагниченным сердечником в термостат и будем поддерживать температуру, близкую к температуре Кюри, но несколько меньшую, скажем, 757°С (на 1°С меньше температуры Кюри). Увеличим температуру на 1°С. Намагничение у сердечника исчезает. При этом в катушке на мгновение возникнет электродвижущая сила индукции. Теперь охладим систему на 1°С. Намагниченность восстановится, в катушке опять возникнет ЭДС индукции. {50} Повторяя процедуру, будем каждый раз получать ЭДС индукции. По замыслу автора, коэффициент полезного действия такой установки должен быть очень высоким, чуть ли не больше единицы, ибо тепловой энергии затрачивается очень мало, стержень нагревается всего на один градус, а величину нагрева можно и еще уменьшить.
Игорь Евгеньевич выслушал изобретателя и сказал, что в принципе такая установка, конечно, будет работать, но коэффициент полезного действия сильно завышен. Термодинамика дает выражение для коэффициента полезного действия тепловой машины. В идеальном случае он равен: η = (Т1 — Т2)/Т1 — где Т1 — абсолютная температура нагревателя, Т2 — холодильника. В предлагаемом генераторе температура нагревателя равна 758 + 273 = 1031 К, температура холодильника 757 + 273 = 1030 К, поэтому коэффициент полезного действия не может превышать круглым счетом 0,001. Изобретатель не согласился с такой оценкой и даже обиделся.
— А потом он машину сделал, и она работала, — рассказывал Тамм. — Затем на одном из заседаний Ученого совета этот человек выступил и обвинил меня в том, что я препятствую техническому и научному прогрессу, возражая против нового генератора, а генератор построен и успешно работает. Я отвечал, что мои возражения относились не к принципу действия, а к малому значению КПД. Но изобретатель оставался неумолим. Про КПД он особенно не распространялся, а по-прежнему напирал на то, что я враг технического и научного прогресса. Вы помните, Моисей Александрович? — обратился Игорь Евгеньевич к М.А.Маркову, находившемуся в числе слушателей.
— Как же мне не помнить, Игорь Евгеньевич, когда я был секретарем того самого Ученого совета, — ответил он, улыбаясь.
Осенью 1950 г., на последнем курсе, я стал систематически посещать семинар Теоретического отдела, который проводился еженедельно по вторникам в старом здании ФИАНа на Миусах. Вел его Тамм. Однако в 1951–1953 гг. он был занят работами по прикладной тематике (по водородной бомбе; жил вне Москвы — в г. Сарове, Арзамасе-16) и редко появлялся на семинаре.
Мне очень понравился дух, царивший на семинаре. Никто не стеснялся задавать вопросы, часто возникали споры, в которые нередко втягивалась добрая половина присутствующих. Старшие участники, ученики и ближайшие сотрудники Игоря Евгеньевича — С.З.Беленький, В.Л.Гинзбург, М.А.Марков, Е.Л.Фейнберг — очень доброжелательно {51} относились к молодежи, а молодых было много. Ю.А.Гольфанд1, Г.Ф.Жарков1, Ю.М.Ломсадзе2, В.П.Силин1, С.И.Сыроватский, М.Л.Тер-Микаелян3, В.Я.Файнберг, Е.С.Фрадкин4, Д.С.Чернавский1 и многие другие незадолго до того пополнили состав Теоретического отдела. Регулярно приходили A.M.Балдин5, В.М.Михайлов6, М.С.Рабинович7, Ю.Д.Усачев8 — теоретики из лаборатории В.И.Векслера9. «Старики» сидели в первых рядах, молодые — сзади. Молодежь была горластая. То и дело кто-нибудь из сидящих сзади поднимался с места и в очень категоричной форме с очень уверенным видом «выкрикивал» возражение против того или иного утверждения, содержащегося в докладе (кстати, доклады на семинаре одинаково часто делали и «молодые» и «старики»). Отношение к этим «крикам с мест» было самое внимательное. Вот типичный пример.
Идет заседание семинара. Докладчик, с ног до головы измазанный мелом, пробирается через непроходимые заросли формул, которые он сам же и «наворотил» на доске. Из задних рядов раздается крик — В.П.Силин, обличительным жестом протянув руку к доске, громко {52} излагает свои возражения. Силин прокричал и сел. Воцаряется молчание. Марков, Гинзбург, Фейнберг и Беленький с озабоченным видом смотрят друг на друга. Возражение, высказанное Силиным, для них не совсем ясно (и для меня тоже). Они стараются понять, что именно хотел сказать Виктор Павлович. Первым нарушает тишину Е.Л.Фейнберг.
— По-моему, Виктор Павлович хотел сказать вот что...
И он излагает то, что, по его мнению, хотел сказать Виктор Павлович. Излагает гораздо дольше, чем сам Силин, но зато гораздо более связно и понятно. Слушая Евгения Львовича, я начинаю понимать, что хотел сказать Виктор Павлович.
Но трактовка, которую дает Евгений Львович, вызывает возражения М.А.Маркова. Он говорит:
— Женя! Вы не поняли Виктора Павловича. Он хотел сказать вот что...
И Моисей Александрович излагает свою версию. Она, эта версия, тоже очень логична и для меня более понятна, чем то, что сказал Евгений Львович. И я чувствую: прав Моисей Александрович Марков. Он точнее выразил то, что хотел сказать Виктор Павлович.
Однако Семен Захарович Беленький по-своему интерпретировал возражения Силина, совсем не так, как Е.Л. Фейнберг и М.А. Марков. И, дождавшись своей очереди, Семен Захарович объясняет, как он понимает то, что хотел сказать Силин. И я вижу, Семен Захарович вернее всех понял то, что хотел сказать Виктор Павлович.
Но оказывается, все комментарии к словам Силина не вполне точны. Это с полной убедительностью демонстрирует В.Л. Гинзбург, выдвигая свою трактовку.
Когда все окончательно и безнадежно запутывается, кому-то приходит в голову спросить Виктора Павловича, что же он сам хотел сказать. Силин не относился безучастно к попыткам интерпретировать его высказывание. Он то и дело выкрикивал фразы, пытаясь перебить каждого из выступающих. Но его никто не слушал. Наконец, ему дают выступить. И Виктор Павлович слово в слово, без каких-нибудь уклонений повторяет все сказанное им раньше. Вновь воцаряется недоуменное молчание. Затем все повторяется.
Наконец, после второго или третьего захода всем становится ясна мысль Виктора Павловича. Надо видеть, как переглядываются старшие, как они довольны тем, что поняли и оценили мысль оппонента, пусть недостаточно внятно высказанную, и теперь могут ему ответить по существу. Тогда, в те годы, я, присутствуя при подобных сценах, остро воспринимал главным образом комизм ситуации. Теперь же я вижу в первую очередь то, как внимательны были к нам, молодым, {53} наши старшие товарищи, как они старались понять наши вопросы, чтобы лучше ответить. «Все равны перед истиной», — это правило было основным. Ничего личного не вносилось даже в самые острые дискуссии, на первом месте было стремление понять доводы оппонента, разобраться в проблеме. Так вели себя старшие товарищи и так учили нас, как надо себя вести. Теперь я понимаю, что удивительная атмосфера, которая царила на семинаре, была создана И.Е.Таммом, хотя в то время он не всегда на нем присутствовал.
Он появлялся примерно раз в месяц. Неизменно бодрый, улыбающийся, он начинал заседание так, как будто он гость, так сказать, бедный родственник из провинции.
— Ну, что в мире нового? — обращался он к своим ближайшим сотрудникам. — Мы, провинциалы, ничего не знаем. Просветите нас!
— По-моему, ничего нового, Игорь Евгеньевич. Сенсаций нет, — говорил Виталий Лазаревич Гинзбург.
— А работу Гейзенберга вы читали? В «Zeitschrift für Naturforschung»? Про S-матрицу?
Выяснялось, что некоторые слышали об этой работе в недавнем выпуске журнала, но никто еще не читал.
— Ай-яй-яй! Как же так? А я-то думал от вас узнать все новости. Ай-яй-яй! — говорил Тамм.
И он начинал рассказывать сам. Повестка дня рушилась, запланированный доклад отменялся. Все участники, включая и несостоявшегося докладчика, удобнее размещались в своих креслах, предвкушая незапланированное наслаждение. Говорил Игорь Евгеньевич так же понятно, как и на первой услышанной мною его лекции для студентов. На многочисленные вопросы отвечал очень обстоятельно. Становилось очевидно: он не только прочитал излагаемую работу, но и успел все прочитанное обдумать. Если какой-нибудь вопрос из прочитанного ему самому был непонятен или вызывал возражения, то он останавливался на нем особенно подробно, пояснял, почему с тем или иным высказыванием не согласен, каким известным данным это высказывание противоречит, почему то или иное утверждение автора не укладывается в общую картину:
— Может быть, кто-то понимает вопрос лучше меня? Прошу высказаться.
Охотников разъяснить непонятное оказывалось всегда достаточно. Но большей частью получалось так, что вопрос оказывался непростым, ответ — не очень ясным, как довольно быстро показывал Игорь Евгеньевич. Когда же объяснение оказывалось простым и убедительным, он радостно приветствовал очередное продвижение. Если же Игорь Евгеньевич обнаруживал свою ошибку, то он иногда подробно {54} излагал ход мыслей, приведший его к неверному заключению. Было в таких выступлениях и нечто от самобичевания, но было и другое — Тамм хотел, чтобы никто из слушателей больше не повторял допущенной им ошибки.
Все участники семинара имели полную возможность высказать свою точку зрения. Дискуссия отличалась одной характерной особенностью. И тот, кто в конечном счете оказывался прав, и тот, кто оказывался неправ, одинаково радовались, выяснив истину. Удивительным образом тот разнобой в мнениях, который иногда возникал и который у непривычного человека создавал убеждение, что в такой путанице и разобраться невозможно, — вся эта разноголосица как раз и способствовала скорейшему выяснению истины.
Если Игорь Евгеньевич рассказывал о чьей-нибудь работе и в чем-то был несогласен с автором, он подробно обосновывал свои возражения. Он никогда не позволял себе проявлять хотя бы малейшее неуважение к оппоненту. Ошибка не повод для насмешки. Не соглашаясь с тем или иным выводом, Тамм нередко одновременно подчеркивал уважительное отношение к автору.
В 1950 г. Игорь Евгеньевич излагал на семинаре работы Гейзенберга о неэрмитовом гамильтониане. Как только он начал говорить, из задних рядов послышались громкие замечания В.Я.Файнберга. Ему тоща исполнилось 25 лет. Он был полон юношеского энтузиазма (как, впрочем, и теперь), и остановить его казалось немыслимым. Файнберг заявил, что неэрмитов гамильтониан ведет к комплексным собственным значениям, а физическая величина не может иметь комплексных значений1. Поскольку высказывания Файнберга не носили характера вопроса, обращенного к докладчику, Тамм не обратил на них внимания и продолжал говорить. Но не таков человек Володя Файнберг, чтобы молча слушать то, что ему не нравилось. Он снова громко высказывался, что неэрмитов гамильтониан, вообще говоря, не дает стационарных состояний, и что тут еще обсуждать? И опять Игорь Евгеньевич не реагировал на слова В.Я.Файнберга и продолжал говорить, расхаживая перед доской. Тоща Володя прокричал в третий раз. На это раз Тамм прервал ход своего изложения. Он и раньше, конечно, слышал замечания Файнберга, и мне даже показалось, что чем-то они {55} ему неприятны. Может быть, именно поэтому Игорь Евгеньевич и не хотел сначала обращать на них внимания. Но тут он решил ответить. Расхаживая перед доской справа налево и слева направо, не глядя на аудиторию, он сказал, что Гейзенберг — один из крупнейших ученых нашего времени, его достижения обогатили естествознание, ему принадлежат важные вклады в многочисленные разделы физики. Поэтому каждая высказанная им идея должна встречать самое внимательное отношение и, во всяком случае, не может быть отвергнута с порога. Конечно, Гейзенберг, как и все, может ошибаться, но у человека такого масштаба даже ошибки нетривиальны и поучительны. Поэтому к идее Гейзенберга и к анализу всех последствий, вытекающих из нее, следует отнестись непредвзято и со всем вниманием.
Это отступление от доклада было сделано тихим голосом и выслушано в мертвой тишине. Володя Файнберг больше не кричал (до конца семинара). Но на этом дело не кончилось. Вскоре я наблюдал следующую сцену. Она разыгралась уже вне конференц-зала. Тамм делал выговор Беленькому, Гинзбургу и Фейнбергу.
— Это ваша вина, — говорил он понуро стоявшим ученикам. — Распускаете молодежь! Никакого уважения к старшим!
Ученики виновато молчали. Я заметил, что он говорил с ними более резко, чем на семинаре, отвечая В.Я.Файнбергу.
У всех хороших людей много общего. Я вспоминаю слова Игоря Евгеньевича о его учителе Леониде Исааковиче Мандельштаме. В статье «Нильс Бор и современная физика», говоря о знаменитой дискуссии между Бором и Эйнштейном по вопросам квантовой механики, Тамм писал: «Хотел бы в этой связи заметить, что в это самое время Л.И. Мандельштам тоже очень интересовался “парадоксами” Эйнштейна. Как только появлялась статья Эйнштейна с очередным парадоксом, он сразу же ее изучал и уже через несколько дней в частной беседе разъяснял содержащуюся в ней ошибку рассуждения. Я и другие товарищи говорили ему: “Почему вы это не публикуете?!” Он отвечал: “Эйнштейн такой крупный человек, что все эти соображения должны быть ему известны. Вероятно, что-то существенное в его рассуждениях ускользает от меня”. Проходило некоторое время, и появлялась работа Бора, точно соответствовавшая тому, что говорил Л.И.Мандельштам. Я рассказываю об этом не к умалению Бора, а к возвеличению Леонида Исааковича»1. Не случайно вспоминал об этом Игорь Евгеньевич. Ему самому была близка эта черта Л.И.Мандельштама. Но, почитая его, Игорь Евгеньевич отличался от Л.И.Мандельштама {56} своим темпераментом борца. Он был по натуре борец. И он не молчал, если был с чем-нибудь не согласен.
Во всех своих полемических выступлениях Игорь Евгеньевич неизменно говорил только о существе дела, никогда не унижался до брани или до высказываний, порочащих оппонента. Но не всегда так вели себя его противники. Вот один из примеров.
В 30-х годах Тамм, сам серьезно занимавшийся марксистской философией, поместил в журнале «Под знаменем марксизма» статью «О работе философов-марксистов в области физики». В статье речь, в частности, шла о том, что нельзя заниматься философией и методологией физики, не овладев конкретными физическими знаниями. Приводились в статье примеры безграмотности некоторых философов в области физики. Был и такой пример. Один философ предложил изгнать из ньютоновской механики понятие силы, как идеалистическое. Силу же он предложил заменить работой, производимой на единице пути. Понятие работы в отличие от понятия силы этот автор считал материалистическим. Тамм по этому поводу заметил, что есть в природе и такие силы, которые не совершают работы, например центробежная сила или еще сила, действующая на движущийся заряд в магнитном поле. Как быть с такими силами? Вывод его состоял в том, что для философского осмысления физики нужно изучать не только философию, но и физическую науку1.
Сразу же после статьи Тамма, на следующей странице журнала, начиналась статья: «Как И.Е.Тамм критикует марксистов». Она была написана тем самым человеком, который хотел изгнать силу из механики. Уже из самого заглавия ясно, на что хотел обратить внимание читателей обиженный философ. В тексте же он прямо писал, что Тамм критикует марксистов с идеалистических позиций: «В Советской стране идеализм не может выступать открыто, так как всякое такое выступление явно обречено на неудачу. Несравненно чаще мы встречаемся с идеализмом завуалированным, прикрывающимся иногда даже марксистско-ленинской фразеологией... И в этой связи статья И.Е.Тамма заслуживает самого пристального внимания»2. Эти слова никак нельзя было рассматривать как ответ по существу.
И в этом случае, и во многих других, каждый раз, когда И.Е.Тамм видел проявления лженауки, был свидетелем несправедливого восхваления одних и несправедливого осуждения других, он неизменно и бесстрашно бросался в борьбу за восстановление подлинной науки, за справедливость. Это принесло ему помимо научного большой моральный {57} авторитет, уважение и популярность не только среди ученых-физиков, но в значительно более широких кругах1.
После окончания университета меня направили на работу в ФИ АН, в лабораторию В.И.Векслера. В связи с разработкой предложенных им новых методов ускорения заряженных частиц мне пришлось изучить классическую теорию прохождения заряженной частицы через преломляющую среду. Она, по существу, разработана в знаменитом исследовании И.Е.Тамма и И.М.Франка (1937 г.), где было объяснено излучение Вавилова–Черенкова3. Позднее, в 1939 г., Тамм более детально проанализировал эту задачу4.
Увлечение покоящегося заряда движущейся средой, разобранное Таммом на примере черенковского излучения, имело большое значение для понимания механизма когерентного ускорения, предложенного В.И.Векслером, который во многих обсуждениях неоднократно ссылался на анализ И.Е.Тамма.
В 1953 г., после нескольких лет занятий проблемами, находившимися вне основной тематики ФИАНа, хотя и зародившимися целиком в Отделе, Тамм вновь полностью погрузился в теорию элементарных частиц. В том же 1953 г. он был избран в действительные члены Академии наук, а в 1954 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда, получил Государственную премию СССР. Однако никаких изменений в его поведении, связанных с этими отличиями, мы не заметили. До этого многие, болея за него, считали, что его несправедливо обходят наградами, академическими званиями, премиями. Сам он ко всему этому относился весьма спокойно.
Годы, последовавшие за возвращением Тамма в Теоретический отдел ФИАНа, стали эпохой бурного количественного и, главным образом, качественного его роста. {58}
За предыдущие годы в квантовой электродинамике были достигнуты огромные успехи. Поэтому прежде всего началась учеба. Игорь Евгеньевич организовал нечто вроде «ликбеза»1 в области квантовой электродинамики и вообще квантовой теории поля (он сам так и говорил — «ликбез»). В отделе организовал курс лекций, проводившихся наиболее подготовленными сотрудниками. Цель была — выйти, как теперь говорят, «на уровень лучших мировых стандартов».
Я не специалист по квантовой электродинамике. Поэтому могу только писать о своих впечатлениях. Игорь Евгеньевич внимательно слушал, старательно записывал, задавал много вопросов, много спорил. Было ему тогда около шестидесяти лет, но по живости, подвижности, остроте реакции на то или иное высказывание он ничем не уступал молодежи.
Почти одновременно с «ликбезом» начались работы по теории ядерных сил. Помню, как Игорь Евгеньевич в конце одного из семинаров вышел вперед и сказал: «Товарищи! Есть проблема, нужны добровольцы». В добровольцах недостатка не было. Первоначальная идея работы и инициатива в деле ее выполнения, как правило, принадлежали Тамму. Все участники вели вычисления параллельно, причем сам он проводил очень трудоемкие расчеты, опережая молодых соавторов, хотя был не менее чем на тридцать лет старше каждого из них.
В 1955 г. я перешел из лаборатории В.И.Векслера в Теоретический отдел. С этим переходом для меня мало что изменилась: с первого дня, как попал в ФИ АН, я дневал и ночевал в Теоретическом отделе.
Хорошие это были годы. Любой сотрудник — молодой или постарше — мог обратиться с любым вопросом к любому коллеге или к самому Тамму, и происходило почти чудо. Тот, к кому ты обратился, бросал свои дела и задумывался над вопросом. Потом начинал излагать свои соображения, большей частью неправильные или не имевшие отношения к заданному вопросу. Разгорались споры, многочасовые (а иногда и многодневные) обсуждения у доски или в коридоре. (Между прочим, были среди администрации ФИАНа такие люди, которые теоретиков считали бездельниками именно из-за этих длительных коридорных обсуждений.) После этого обсуждения в голове воцарялся полный ералаш. Прежние слабые проблески угасали под загромождением противоречащих одно другому высказываний. Но проходили дни, и выяснялось, что очень многое из услышанного было вовсе не так уж бессмысленно. Скорей наоборот, это ты не понимал того, что втолковывали так горячо и с такой убежденностью. Может быть, советчики {59} и не исчерпывающе продумали проблему, но они дали какую-то ниточку. И, держась за нее, можно было самому выбраться из лабиринта. Это не удивительно. Никто не ответит полностью на интересующий вас вопрос. Вернее, ни один ответ не будет удовлетворять, пока сам не доберешься до сути дела. Потому-то мы так часто ошибаемся именно там, где до нас ошибались другие. Конечно, бывало и так, что за вопросом сразу же следовал четкий, ясный и недвусмысленный ответ, особенно если обратиться к И.Е.Тамму или В.Л.Гинзбургу. Но нередко возникали дискуссии и с их участием.
Творческая атмосфера помогала четко сформулировать постановку задачи. Иногда не так просто понять, что именно является непонятным. Даже если ответ сразу не давался, все равно после обсуждения всегда приходило облегчение. Наконец, делалось понятно, на какой именно вопрос надо дать ответ (по теории психоанализа, если объяснить человеку, что именно его мучает, ему уже станет легче). Такое обсуждение почти всегда было результативным, хотя результаты проявлялись не сразу, а некоторое время спустя. Наконец, пожалуй, не менее, а более важно внимание каждого к поискам коллеги. Оно имеет огромное нравственное значение. У человека своих дел по горло, но их откладывают, чтобы прийти на помощь. Такова традиция школы Л.И.Мандельштама, традиция, которую в Отдел принес Тамм1.
Квантовой теорией поля я не занимался, на «полевых» семинарах присутствовал безгласно, многое из того, чем я теперь восхищаюсь, принимал как должное. Работа моя не имела отношения к «полевой» тематике, которая поглощала все интересы Игоря Евгеньевича. Я хорошо знал его работы, посвященные прохождению заряженных частиц через преломляющую среду, и во многом опирался на его результаты, но они в то время уже были ему неинтересны: когда он сосредоточивался на очередной проблеме, то она полностью его поглощала и он забывал обо всем остальном. Однако Игорь Евгеньевич знал о моих интересах. Летом 1956 г., встретив меня у входа в институт, он таинственно оглянулся по сторонам и, столь же таинственно улыбаясь, сказал:
— Идемте ко мне, у меня для вас есть кое-что интересное.
И побежал по лестнице к себе в кабинет. Он не шел, а именно бежал: не перепрыгивал через ступеньки, а часто-часто переступал со ступеньки на ступеньку, как будто не поднимался, а спускался. Его кабинет находился под самой крышей ФИАНа (примерно на пятом этаже). Всю дистанцию Игорь Евгеньевич пробегал, не замедляя темпа, так что мало кто мог за ним угнаться, не запыхавшись. {60}
В кабинете он показал мне заснятый В.П.Зреловым1 в Дубне спектр излучения Вавилова–Черенкова. Фотография потом стала широко известна. Через два года П.А.Черенков показал ее в своей нобелевской лекции. Она очень красива — на черном фоне концентрические цветные кольца, цвет которых по мере увеличения радиуса непрерывно переходит от красного к фиолетовому. Вместе с тем фотография также очень иллюстративна с чисто физической точки зрения; она показывала зависимость угла излучения от частоты света. Игорь Евгеньевич был очарован ею и ждал от меня ответного восторга. Он смотрел то на фотографию, то на меня, улыбался и говорил:
— Очень здорово!
Я не сразу понял, что изображено на снимке, а когда понял его объяснения, тоже пришел в восхищение.
— Эту фотографию я повезу в Женеву, — сказал Игорь Евгеньевич.
Через несколько недель в Женеве должна была состояться Международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Тамм принял в ней активное участие. В частности, он прочел на пленарном заседании лекцию об излучении Вавилова–Черенкова, где и показал фотографию, сделанную В.П.Зреловым. Лекцию выслушали с большим вниманием. Но главным для Игоря Евгеньевича были другие вопросы: теория ядерных сил, квантовая теория поля. Он сообщил о выполненных работах, участвовал в обсуждениях.
Рассказывая на семинаре об итогах конференции, как всегда, он говорил не только о науке, но и обо всем ему интересном. В числе прочего он рассказал и о том, как научился кататься на водных лыжах.
— Мы гуляли по берегу Женевского озера, и я увидел такую картину. Представьте себе пристань. На краю пристани, свесив ноги в воду, сидит человек. На ногах у него водные лыжи, в руках — веревка. Другой конец веревки привязан к катеру, который стоит рядом. Веревка длинная и провисает в воду. Но вот катер набирает скорость и отходит от берега. В какой-то момент веревка натягивается, человека сдергивает с пристани, и он начинает скользит по поверхности воды на лыжах. Я постоял, посмотрел, потом узнал, что и я могу прокатиться, только надо заплатить. Надел лыжи, сел на край пристани, взял в руки конец веревки. Катер стал уходить от меня, веревка натянулась и сдернула меня с пристани. В следующий момент я уже барахтался в воде — не смог устоять на лыжах. Решил повторить. Со второго раза поехал. {61}
Последнюю фразу он произнес с гордостью. Потом мне передали, как эту же историю излагал один из руководителей нашей делегации:
— Игорь Евгеньевич на конференции был одним из самых популярных ученых. Ему там все в рот смотрели. При таком отношении надо себя держать солидно. А он? Выходит на берег Женевского озера, раздевается и на глазах у всех начинает учиться водным лыжам. И с первого раза с шумом и брызгами плюхается в воду...
Примерно тогда же или немного раньше Игорь Евгеньевич увлекся генетикой. Его интерес к генетике и вообще к биологии не случаен. Борис Михайлович Завадовский1, ставший впоследствии крупным биологом, был его гимназическим товарищем. Старший брат Завадовского, Михаил Михайлович, выдающийся эмбриолог и эндокринолог, учился в той же гимназии четырьмя годами раньше. После года учебы в Эдинбурге Тамм перешел в Московский университет, где уже учились братья Завадовские, и их дружба возобновилась. Б.М.Завадовский, бывший очень хорошим знатоком эволюционной теории Дарвина, безусловно, оказал существенное влияние на интерес Игоря Евгеньевича к современным проблемам биологических наук. Позднее, в 1918–1920 гг., И.Е.Тамм познакомился с А.Г.Гурвичем, известным биологом. Их дружба продолжалась всю жизнь. Игорь Евгеньевич очень интересовался его работами. Проблемой жизни И.Е.Тамм в те годы увлекался как физик. В воспоминаниях о Я.И.Френкеле он упоминает, как в годы совместной работы в Таврическом (ныне Симферопольском) университете они не раз обсуждали вопросы термодинамики живых систем, которыми Яков Ильич тогда занимался2.
С конца 40-х годов работы по классической генетике у нас в стране почти не велись. Однако жизненная необходимость генетических исследований ломимо прочего возросла еще и потому, что в послевоенное время резко расширился фронт работе радиоактивными веществами и другими источниками излучений (физика ускорителей, техника реакторов и т.д.). Было необходимо как можно быстрее выяснить, какое влияние на наследственность оказывают все эти факторы. По инициативе Тамма И.В.Курчатов создал в своем институте биологический отдел, который возглавил В.Ю.Гаврилов3. {62}
В ФИАНе также стал работать биологический семинар, в создании которого Игорь Евгеньевич сыграл решающую роль. На семинаре обсуждались различные вопросы биологии — генетика наследственных заболеваний, вопросы регуляции процессов в живых системах и т.д. Игорь Евгеньевич не пропускал ни одного заседания. Интерес Игоря Евгеньевича к биологии имел много причин. Он восхищался великими открытиями, такими, как расшифровка структуры ДНК, расшифровка генетического кода. Он сравнивал эти открытия по важности с овладением ядерной энергией. Как всегда бывало у Игоря Евгеньевича, если он чем-нибудь увлекался, то приобщал к этому всех, с кем соприкасался; было тут и стремление обратить достижения биологии во всеобщее достояние. Он сам делал интереснейшие сообщения на своем семинаре (и не только там) по всем новостям в биологии1.
С этими семинаром у меня связаны любопытные воспоминания. Мои друзья попросили меня привести на семинар одного биолога. На семинаре мы слушали интересный доклад Д.С.Чернавского об автоколебаниях в биологических системах. В ходе оживленной дискуссии некоторые положения доклада оспаривались, другие уточнялись. Особенно интересным было, помню, выступление М.М.Бонгарда2. Гость, которого я привел на семинар, очень внимательно слушал и не проронил ни слова. Он только в начале семинара спросил меня, присутствует ли на семинаре академик Тамм. Я показал, где он сидел. Потом на протяжении всего семинара гость нет-нет да и поглядывал в сторону Тамма, как глядят на знаменитость. После семинара я проводил гостя. По дороге он расспрашивал меня о том, кто докладчик, физик или биолог, много ли вообще было на семинаре физиков, а потом задал такой вопрос:
— Скажите, пожалуйста, имеет ли докладчик приоритет на основные положения своего доклада?
Я не понял вопроса и попросил пояснения.
— Ну, опубликовал ли он уже то, о чем рассказывал?
— Нет еще. Он собирался свои результаты предварительно обсудить, выслушать возражения, замечания, а потом с учетом всего этого и писать статью. {63}
— Ваш товарищ очень рискует, — сказал гость. — Как он не боится докладывать, если еще не отослал свой доклад в печать? Его же могут опередить!
«Опередить» — это означало обворовать. Я объяснил, что такого у нас не водится. Собеседник слушал с недоверием. Как мне стало потом известно, в том институте, где он работает, научное сообщение на семинаре обычно делают лишь после того, как соответствующая статья отослана в журнал и оттуда письменно подтвердили получение (иначе докладывать опасно — могут, так сказать, «на ходу срезать подметки», «опередить»).
Вопросы научной этики в Теоретическом отделе ФИАНа никогда не обсуждались. Никаких по этому поводу советов, поучений, наставлений мы ни от Тамма, ни от старших сотрудников отдела — его учеников — не слышали. Мы просто были каждодневными свидетелями их работы, их уважения к авторству. Это были живые традиции школы Мандельштама.
Приведу характерный рассказ о самом Мандельштаме. Леонид Исаакович дал своему аспиранту одну задачу. Тот некоторое время повозился с ней, нашел, как ему казалось, решение и пришел с ним к своему руководителю. Мандельштам ознакомился с решением, довольно быстро в присутствии аспиранта посмотрел, какие выводы следуют из полученных формул в некоторых предельных случаях, когда ответ, можно сказать, заранее известен. Но оказалось, что формулы, выведенные аспирантом, не давали правильных результатов в этих простых частных случаях. Это означало, что задача решена неверно. Весь анализ Мандельштама был для молодого ученого необычайно поучителен. Аспирант ушел, еще некоторое время возился с задачей, снова, как ему казалось, нашел решение и пошел к своему руководителю. И снова разбор решения, проведенный Леонидом Исааковичем, показал, что решение неполной нуждается в уточнении. Так повторялось несколько раз. Наконец, когда в очередной раз аспирант принес свои результаты, Л.И.Мандельштам внимательно их изучил, на этот раз молча, потом выдвинул ящик своего письменного стола, вынул оттуда тетрадь, открыл ее и сравнил формулы, принесенные аспирантом, со своими, после чего сказал: «Теперь у вас все правильно. Пишите статью».
В своих воспоминаниях я не придерживаюсь хронологического порядка. Это трудно сделать. Вспоминаешь какую-нибудь черту характера Игоря Евгеньевича, и на память приходят события, происходившие в разные годы, но объединенные тем, что все они ярко показывают именно эту черту характера. {64}
Как заведующий Теоретическим отделом Игорь Евгеньевич не вникал в административные мелочи. На совещаниях административного характера он сидел против обыкновения молчаливый, усталый после рабочего дня и внимательно слушал, задавал редкие вопросы. Но он всегда очень внимательно относился к тем делам, которые по той или иной причине становились существенными. На обсуждение таких дел он не жалел времени. Помню неоднократно и по разным поводам повторявшуюся им фрау: «Что я должен сделать?» Он не говорил: «Что я могу сделать, чтобы помочь?», а именно: «Что я должен сделать?» И если выяснялось, что он может сделать что-то, то уже сам считал это для себя своим долгом. А дела эти были самые разные и зачастую не имеющие никакого отношения к науке. Скажем, сотрудники отдела нуждались в жилье. Игорь Евгеньевич много сил потратил на то, чтобы добыть жилье для нуждавшихся. У него был большой научный и моральный авторитет, и он использовал этот авторитет, чтобы помочь всем, кому мог. Это было его органическим свойством. Игорь Евгеньевич и «выбивал» ставки для сотрудников отдела, и неоднократно стремился обеспечить участие того или иного сотрудника отдела в очередной международной конференции. Помню даже такой случай: однажды он заглянул к нам в комнату и справился у молодого сотрудника, почему тот решил не ехать за границу на международную конференцию. Оказалось — не было денег: поездка стоила дорого. Игорь Евгеньевич тут же сказал: «Езжайте, я вам дам деньги».
С 1958 г. мы жили в одном доме с Таммом и встречались с ним не только на работе, но изредка и дома. Он неизменно был внимателен, приветлив и доброжелателен. Впрочем, один раз я его рассердил. Как-то вечером я задержался в институте (было срочное дело), а часов в 9 вечера собрался домой. Проходя мимо кабинета Игоря Евгеньевича, я вдруг на усталую голову подумал: если он еще здесь, можно его попросить довезти меня домой — его ведь ждет машина. Открываю дверь кабинета. Он сидел за столом и что-то писал. Спрашиваю: — Игорь Евгеньевич, вы домой не собираетесь?
— А что такое?
— Хочу попросить, чтобы вы довезли меня домой. Рассердившись, что его отвлекли от работы, он, не глядя на меня,
сказал скороговоркой:
— Когда поеду, тогда поеду. А сейчас я работаю. А вы мне не мешайте!
Я извинился, попятился и закрыл за собой дверь. Извинился чисто машинально, потому что сначала не видел в своих действиях ничего предосудительного. Однако по дороге домой уже понял причину, вызвавшую его недовольство. Получилось так, что я пришел к нему и {65} сказал: кончайте работу и отвезите меня домой. Это, конечно, было, мягко говоря, не совсем хорошо. Мне стало очень неудобно. Но, наверное, и Игорь Евгеньевич, сделав мне выговор, тоже потом посчитал его слишком резким. На следующий день после работы, когда я уже уехал из ФИАНа, он, собираясь домой, как рассказывали сотрудники, искал меня, чтобы захватить с собой.
Игорь Евгеньевич создал школу физиков-теоретиков. Что характерно для него как для научного руководителя? Полного ответа дать не могу, ибо не являюсь его непосредственным учеником. Но некоторые соображения все же высказать хочу. Он был очень добрым, внимательным и доброжелательным руководителем. Не пишу «научным руководителем», потому что речь идет не только о научном руководстве, но и о нравственном. В вопросах поведения он был для своих учеников живым примером. Многие из знавших его даже и теперь, спустя годы после его смерти, в трудных жизненных ситуациях задают себе вопрос, как бы он поступил в подобном случае.
Тамм не стриг учеников под одну гребенку, а, наоборот, способствовал полному раскрытию индивидуальности каждого. Он неизменно радовался всякой новой идее, возникавшей у его молодого коллеги, любому успеху, и эта радость всегда была бескорыстной. Критика его была бескомпромиссной, но, удивительное дело, она не только не вызывала обиды, не убивала веры в свои силы, но, наоборот, пробуждала желание работать и преодолевать трудности. Он видел в своих учениках такие ценные качества, каких они сами в себе не видели. Поэтому можно даже сказать: на первых порах он относился к ученикам лучше, чем они относились к себе сами. Так создавалось окрыляющее чувство уверенности в силах, столь важное для формирования научного работника. Конечно, он и знал много, и работал на переднем крае науки, а это тоже необычайно важно для научной молодежи — получать знания из первых рук. Но все же, мне кажется, тот факт, что столько известных ученых являются его учениками, объясняется не только научными, но просто человеческими качествами Тамма.
Мне вспоминается, как весной 1961 г. в Москву приехал Н.Бор. В конце апреля в Институте физических проблем состоялась встреча Н.Бора с московскими теоретиками. Бор в своем выступлении рассказал о принципе дополнительности, а потом отвечал на вопросы. В числе вопросов был и такой (его задал П.Л.Капица):
— Вы воспитали множество знаменитых физиков в области квантовой теории и физики атомного ядра. В чем секрет вашего воспитания?
Бор подумал и ответил: {66}
— Секрета, пожалуй, нет. Может быть, дело в том, что в беседе с учениками мы никогда не боялись показаться дураками.
Смысл этой фразы настолько удивил переводчика, что он не поверил своим ушам и перевел так:
— Бор не боится в беседе с учеником сказать, что ученик — дурак. Из аудитории понеслись выкрики: «Он не так сказал!» Переводчик посовещался с Бором и исправил свою ошибку. Бор продолжал:
— Второе, что я хочу отметить, это следующее. Как бы велик ни был успех, достигнутый учеником в решении той или иной проблемы, я стараюсь обратить его внимание на то, что возникают новые вопросы, работа не закончена, что еще много предстоит сделать.
Насколько мне известно, сам Игорь Евгеньевич никогда не анализировал свои качества как научного руководителя и, скорее всего, даже не задумывался над этим. Вероятно, никто не спрашивал его о секретах создания школы, а если бы его спросили, так, я думаю, он бы затруднился с ответом. Но я рассказываю об этом эпизоде потому, что слова, сказанные Бором, очень хорошо отражают образ действий Тамма.
Об отношении Игоря Евгеньевича к своим младшим коллегам можно долго рассказывать. Приведу только один пример. Защищал докторскую диссертацию один сотрудник нашего отдела, ученик Тамма, обязанный ему не только как наставнику, но и тем, что вообще получил возможность заниматься научной работой. В выступлении на защите Игорь Евгеньевич высказал высокое мнение о диссертации и в заключение сказал:
— В течение последних трех лет я работаю над квантованием пространства и времени на основе гипотезы о кривизне импульсного пространства. В процессе этой работы я необычайно много помощи получил от диссертанта, и не только ряд ценных советов, но в подлинном смысле слова руководящие указания. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить его за эту помощь.
Слова Тамма в полной мере определяют человека, к которому они относятся. Но не в меньшей степени они характеризуют и самого Игоря Евгеньевича. На многих защитах пришлось мне побывать, и хорошие защищались работы, и хорошие физики их защищали, но таких слов, которые я привел выше, я больше ни от кого не слышал.
В своих рассказах Игорь Евгеньевич нередко был безжалостен к самому себе, говоря же о других людях, никогда не преступал некой границы: даже если он был низкого мнения о человеке, он никогда не унижался до брани, а только старался показать, что именно в словах и делах этого человека вызывает его протест. Не скупился он и на похвалы, {67} если человек того стоил. Я помню, как светлело его лицо, когда речь заходила об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Иногда при этом он как бы отключался от беседы и несколько раз повторял растроганным голосом:
— Удивительный человек — Андрей Дмитриевич Сахаров! Удивительный! Удивительный!
Он произносил эти слова необычно торжественно и медленно. Он вообще-то очень быстро говорил, почти скороговоркой, а эти слова произносил медленно. Потом он замолкал и задумывался, не сразу возобновляя беседу. Иногда он еще добавлял:
— Золотая голова! Природный талант!
Андрей Дмитриевич Сахаров тоже любил своего учителя. В одном из писем А.Д.Сахаров писал: «Я ученик академика Тамма, и не только по физике».
Алексей Алексеевич Тяпкин рассказал мне историю, которую с его разрешения я здесь приведу. Этой истории предшествовали события, свидетелем которых был я сам.
В конце сороковых годов на физическом факультете МГУ прошла дискуссия по теории относительности. Дискуссия проходила на открытых заседаниях Ученого совета Физического факультета. Я на эти заседания ходил и многое помню. Основой для обсуждения послужил большой доклад профессора Н.А.Леднева. В этом докладе теория относительности Эйнштейна была подвергнута критике с разных сторон и была предложена новая теория относительности, лишенная тех недостатков, которые Леднев усмотрел в эйнштейновской теории. Надо ли говорить, что и критика была несостоятельной, и новая теория не выдерживала никакого сравнения со старой. Но в то время немало физиков и философов, возмещая свое невежество громогласием, объявили теорию относительности ошибочным антинаучным идеалистическим учением. Спорить, противостоять этому валу крикливого невежества было опасно, поэтому выступлений в защиту эйнштейновской теории было немного. Но все же такие выступления были. Особенно резко против аргументов Леднева выступил профессор Дмитрий Дмитриевич Иваненко. Он, помню, сказал среди прочего:
— Если Эйнштейн — идеалист, пишите меня рядом с Эйнштейном.
Чтобы так сказать в то опасное время, нужно было мужество. Но все же мало кто на этих заседаниях Ученого совета спорил с хулителями Эйнштейна.
К чести Николая Андреевича Леднева следует сказать, что он позднее признал, что предложенная им теория была неверной, и сожалел, что его доклад дал повод для весьма сомнительной дискуссии.
На втором или на третьем заседании Ученого совета слово попросил {68} неизвестный никому молодой человек. Слово ему было предоставлено, он вышел вперед, встал между демонстрационным столом и уходящими вверх рядами Большой физической аудитории и сказал примерно следующее:
— Меня поражает, что в середине двадцатого века, в храме науки — Московском Государственном Университете — мы с вами являемся свидетелями такого мракобесия.
После этих слов председатель Ученого совета профессор А.А.Соколов поднялся со своего места и сказал, обращаясь к выступавшему:
— Вы оскорбляете членов Ученого совета. Прошу Вас покинуть аудиторию.
Молодой человек был студентом МИФИ, фамилия его была Тяпкин. В то время он выполнял дипломную работу на кафедре теоретической физики, а заведовал этой кафедрой Игорь Евгеньевич Тамм.
После слов А.А.Соколова Тяпкин сказал:
— Хорошо, я ухожу. Но если вы захотите понять теорию относительности, приходите к нам в МИФИ на лекции Тамма.
Это все я видел и слышал сам. А вот Алексей Алексеевич Тяпкин много лет спустя рассказал мне продолжение этой истории.
Когда Игорь Евгеньевич узнал о выступлении Тяпкина, он был очень обеспокоен, не за себя — за Тяпкина. Игорь Евгеньевич боялся, что эта история может повредить А.А.Тяпкину. Он вызвал Тяпкина и сказал ему:
— Алексей Алексеевич, зачем Вы лезете в политику?
Тяпкин ответил:
— Игорь Евгеньевич, это же не политика, это наука. Невежды с университетской кафедры громогласно поносят правильную физическую теорию, а слушатели молчат и ничего не понимают.
Игорь Евгеньевич сказал:
— Там есть много людей, которые все понимают, а почему они молчат, я Вам могу объяснить. Если они выступят и скажут то, что думают, им будут грозить большие неприятности. Могут объявить им взыскание, понизить в должности, снять с работы. И это еще не самое худшее из того, что им грозит. И у Вас могут быть неприятности в связи с Вашим выступлением. Могу г Вам объявить выговор по комсомольской линии, могут даже поставить вопрос об исключении из комсомола. Вам грозит плохое распределение на работу после окончания Института, Вам могут не дать рекомендации в аспирантуру. Поэтому я настоятельно советую: не лезьте в политику. Берите пример с моего лучшего ученика Андрея Дмитриевича Сахарова. Он только наукой и интересуется. {69}
В то время А.Д.Сахаров был аспирантом И.Е.Тамма. И действительно, в то время А.Д.Сахаров был далек от «политики» и всецело поглощен наукой.
Совет Игоря Евгеньевича держаться подальше от «политики» был обусловлен тревогой за будущее студента-старшекурсника. Но сам Игорь Евгеньевич в свои молодые годы очень активно занимался «политикой». Так что совет его держаться подальше от «политики» противоречил его собственному темпераменту. А призыв следовать примеру А.Д.Сахарова и заниматься только наукой, теперь, по прошествии многих лет, нельзя вспоминать без улыбки.
Игорь Евгеньевич охотно рассказывал о людях, с которыми судьба его сводила, о событиях, участником или свидетелем которых ему довелось быть. А судьба его сводила со многими замечательными людьми и повидал он многое на своем веку. Поэтому все его воспоминания были мне интересны. Некоторые я записал.
Он неоднократно возвращался к временам массовых репрессий 1937–1938 гг. Из его рассказов было видно, что он в те времена пытался найти какое-то рациональное «объяснение» происходящему, но не мог этого сделать.
На рубеже 20-х и 30-х годов у Игоря Евгеньевича был ученик — Семен Петрович Шубин. Позднее он работал в Свердловске, в Уральском физико-техническом институте, где заведовал теоретическим отделом. В 1938 году он был арестован и вскоре расстрелян. Игорь Евгеньевич его любил и часто вспоминал. Пятнадцать лет спустя после гибели С.П.Шубина Тамм писал его вдове и детям:
«...У всякого человека, прожившего такую долгую, разнообразную и нелегкую жизнь, как моя, постепенно создается свой собственный незримый Пантеон. В нем Семен Петрович заполняет совсем особое место. Во-первых, я всегда считал его самым талантливым не только из моих учеников — а я ими избалован — но из всех наших физиков, по своему возрасту соответствующих моим ученикам. Только в последнее время появился Андрей Сахаров — трудно их сравнивать и потому, что научный склад у них разный, и потому, что Сахаров полностью сосредотачивает все свои душевные силы на физике, а для С.П. физика была только “prima inter pares” — и поэтому можно только сказать, что по порядку величины они сравнимы друг с другом.
Но, помимо всего этого, С.П. был одним из самых близких мне людей по своему душевному складу — хотя мы с ним были очень разные люди, но ни с кем из моих учеников — а я многих из них очень люблю — у меня уже никогда не создавалось такой душевной близости. {70} И поэтому из всех, ушедших примерно одновременно, мне всегда острее всего в памяти двое — мой брат и С.П....»
Отрывок этот содержит много информации. Погиб человек, сравнимый по своим научным данным с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. С полным основанием можно верить Игорю Евгеньевичу, когда он сравнивает Шубина и Сахарова. А сколько людей такого уровня погибло в те годы. Леонид Евгеньевич Тамм, брат Игоря Евгеньевича (о нем идет речь в приведенном отрывке) тоже был арестован в эти годы и погиб. И он тоже был незаурядным человеком, известным инженером.
Игорь Евгеньевич рассказывал, как С.П.Шубин приезжал в Москву незадолго до своего ареста:
— Мы с ним обо всем говорили. И об этой волне арестов, когда многие наши знакомые и друзья пропадали, а мы гадали, в чем они виноваты. Тогда Семен Петрович мне сказал: «Я думаю, что зря людей не сажают. Если человека посадили, значит он виновен. Вот возьмите меня: я ведь в конце двадцатых годов примыкал к троцкистской оппозиции, и это многим известно. А все же меня не трогают, я спокойно работаю». Я тогда с ним соглашался. Он уехал к себе в Свердловск, и вскоре его арестовали, а я здесь бегал по всем инстанциям, хлопотал, чтобы ему разрешили в тюрьме работать по специальности. И не успел ничего сделать — с ним быстро расправились.
Своего брата Игорь Евгеньевич очень любил, и когда того арестовали, болезненно переживал это событие. Он не думал о том, что арест брата ставит под угрозу и его самого — ведь Игорь Евгеньевич, как брат «врага народа», тоже легко мог быть арестован. Он понимал, что такая опасность вполне реальна, но не это его занимало. Он вспоминал:
— Я Леню очень любил. Он был замечательный во всех отношениях человек. Я от него многому научился. Больше тридцати лет прошло с тех пор, как он погиб, а я до сих пор, если попадаю в трудное положение, думаю о том, какой выход выбрал бы Леня на моем месте. Когда его арестовали, я мучился, старался понять, в чем он мог быть виноват. Я не мог представить себе, что он совершил дурной поступок. Он был на это неспособен. Но, с другой стороны, я не допускал мысли о том, что могут посадить невинного человека. Так я мучился, пока не нашел удовлетворительного, как мне казалось, объяснения. Я подумал: Леня никогда не мог бы совершить ничего плохого. Но, может быть, он что-то знал о преступлениях других людей и не донес. Он был благородный человек, он бы никогда и ни на кого не донес. А в то время недоносительство преследовалось по закону, и довольно сурово. Вот его и арестовали. Когда я все это придумал, мне стало намного легче. {71} И только гораздо позднее я понял, что он совсем ни в чем не был виноват.
Василий Федорович Сенников мне рассказывал, что Игорь Евгеньевич написал письмо Сталину в защиту своего брата. Письмо до Сталина не дошло, может быть, и к лучшему. Оно уже не могло помочь Леониду Евгеньевичу, тот был, по всей видимости, еще в 1938 году «расстрелян без права переписки» (выражение проф. М.А.Миллера), а письмо было написано в годы войны или в первые послевоенные годы. Но это письмо могло привлечь к Игорю Евгеньевичу повышенное внимание органов госбезопасности, а он и так был на заметке. Профессор Физического факультета МГУ Иван Алексеевич Яковлев рассказывал мне, как Игоря Евгеньевича «прорабатывали» на общем собрании сотрудников Физического факультета. Незадолго перед этим был арестован декан Физического факультета Б.М.Гессен, с которым Игорь Евгеньевич был в дружеских отношениях. Выступавшие все в один голос клеймили «врага народа» Б.М.Гессена, не зная, в чем тот обвинялся. Досталось и Игорю Евгеньевичу, как «другу врага народа». Упомянули на собрании и о том, что родной брат И.Е.Тамма также арестован. Игорь Евгеньевич должен был ответить на высказанные «обвинения». Он понимал опасность своего положения, держался напряженно, был необычно бледен. В то же время он отвечал на обвинения, не говоря ничего плохого ни про Б.М.Гессена ни про своего брата.
Малое время спустя Игоря Евгеньевича прорабатывали и на собрании в ФИАНе. На это собрание специально пришел сотрудник Физического факультета МГУ и повторил те обвинения, которые были высказаны на факультетской проработке. Но на собрании в ФИАНе против И.Е.Тамма было высказано еще одно обвинение. Незадолго до этого собрания был арестован Владимир Александрович Фок, знаменитый ленинградский физик, с которым Игорь Евгеньевич тоже был в дружеских отношениях. И Тамма обвинили в связях с врагом народа Фоком.
— Но тут меня случай спас, — улыбаясь, рассказывал Игорь Евгеньевич. — Счастливый случай. Как раз в день собрания Фока освободили, и он рано утром прямо с Лубянки пришел ко мне домой, чтобы одолжить денег на билет до Ленинграда. Поэтому на собрании, после всех обвинителей, я выступил и сказал, что происходит какое-то недоразумение. Фок не находится под арестом, он на свободе и сегодня приходил ко мне в гости. Обвинители притихли, а собрание отнеслось к моим словам вполне сочувственно. Пронесло.
Тем не менее, еще довольно долго после этого Игорь Евгеньевич ходил в «неблагонадежных».
А что касается мнения Игоря Евгеньевича о Сахарове, то слова из письма: «...Сахаров полностью сосредотачивает все свои душевные {72} силы на физике...» — для того времени, когда это письмо писалось, были, по-видимому, справедливы. Теперь же, после того, как и учитель и ученик завершили свой жизненный путь, приведенные слова могут вызвать улыбку. Кстати говоря, Игорь Евгеньевич дожил и до того времени, когда Андрей Дмитриевич Сахаров активно включился в общественную жизнь, и восхищение Игоря Евгеньевича своим учеником отнюдь не уменьшилось.
Игорь Евгеньевич несколько раз в разговорах со мной с похвалой отзывался о М.В.Келдыше, который тогда был Президентом Академии Наук СССР. Он говорил:
— Мстислав Всеволодович — настоящий ученый. Конечно, он панически боится начальства. Он перед Трофимом на коленях стоял, умоляя не губить Академию (Трофим — это Т.Д.Лысенко. Игорь Евгеньевич имел в виду общее собрание Академии летом 1964 года, на котором прозвучали резкие выступления против «школы» Лысенко. В числе выступавших были и Тамм и Сахаров. Т.Д.Лысенко обвинил тогда Академию в том, что она выступает против линии партии. М.В.Келдыш, конечно, на коленях перед Лысенко не стоял, но старался Трофима Денисовича успокоить, чтобы тот не жаловался Хрущеву на Академию — Б.Б.). Но М.В.Келдыш — это настоящий ученый. Когда мы работали на объекте, к нам нередко приезжали высокопоставленные «гости», чтобы ознакомиться с ходом работ. Как правило, мне поручали водить их по объекту и давать пояснения. Считалось, что мои объяснения — самые понятные. Гости обычно выслушивали все, что я говорил, и не задавали никаких вопросов. Мстислав Всеволодович был единственный, кто сразу начинал спрашивать, причем вопросы его были как раз такие, над которыми мы сами ломали голову.
Очень ярко характеризует Тамма его отношение к собственным юбилеям. Когда ему исполнилось пятьдесят лет, это событие было отмечено на его семинаре. По случайному совпадению именно в день юбилея на заседании должен был выступать с докладом Тамм. Перед началом семинара Е.Л. Фейнберг произнес короткую речь и вручил Игорю Евгеньевичу подарок — шахматную доску с фигурами. Принимая подарок, Игорь Евгеньевич мрачно пошутил:
— Есть такие племена, где стариков, которым исполнилось 50 лет, убивают.
На это Евгений Львович ответил:
— Я знаю другой обычай: когда вождю племени исполняется 50 лет, его загоняют на дерево и потом всем племенем трясут это дерево. Если вождь упадет — его съедают. Если удержится — он {73} остается вождем. А теперь, Игорь Евгеньевич, покажите, как вы держитесь на дереве.
Вот и весь юбилей. «Виновник торжества» остался очень доволен.
А шахматы были подарены ему не случайно. Тамм очень любил играть в них. Нередко после работы он приходил в комнату, где молодые сотрудники играли молниеносные партии-пятиминутки «на вылет». Тамм вставал в очередь и ждал, внимательно следя за игрой, радуясь удачным ходам и огорчаясь от «роковых ошибок» игроков (иногда, правда, «роковые» ошибки вызывали у него, как и у всех нас, не огорчение, а громкий смех). Он сам не был игроком высокого класса, но процесс игры доставлял ему явное наслаждение. У себя дома Игорь Евгеньевич так увлекался игрой, что забывал обо всем, и, бывало, досадливо отмахивался, когда его звали обедать. Закончив партию, он говорил: «Ну, теперь реванш», — независимо от того, кто выигрывал. Он, конечно, всегда стремился к выигрышу. Но его не в меньшей степени увлекал сам процесс игры: противоборство, нападение, оборона, преодоление трудностей. Он был игрок комбинационный. Обдумав комбинацию и приступая к ее осуществлению, он обычно говорил: «Будем делать глупости!» — и двигал фигуру. Сделав сильный, по его мнению, ход, он на некоторое время переставал смотреть на доску и с любопытством следил за выражением лица своего партнера. Если же ему случалось выбрать неудачный ход или допустить «зевок», он хватался обеими руками за голову и был полон самого неподдельного отчаяния.
Когда Тамму исполнилось шестьдесят лет, снова возник вопрос о юбилее. Он всячески старался избежать торжественного заседания, а убедившись, что это трудно сделать, уехал из Москвы как раз в дни намечаемого чествования.
Прошло еще десять лет. Все желали отметить его семидесятилетие. Сначала он снова категорически отказался от торжественного заседания. Но в конце концов он согласился прийти на юбилей, поставив обязательное условие: «Если будет хоть одна серьезная речь, я встану и уйду».
Условие безоговорочного приняли. Вечер оказался очень веселым и необычным. Было много шутливых выступлений, стихов и песен. Все присутствовавшие — а их было очень много, полный конференц-зал ФИАНа — весело смеялись. В первом ряду сидел довольный юбиляр и смеялся больше всех. Выступали друзья Игоря Евгеньевича, его ученики, ученики его учеников. Разные собрались люди, но всех их объединяла любовь к Тамму, и это определяло всю атмосферу. А потом, в конце, Тамм вышел на сцену и, переждав громкие и долгие аплодисменты, сказал: {74}
— В последнее время я много занимался биологией. Мне удалось установить один очень важный закон, определяющий развитие нервных клеток в головном мозгу. Эти клетки называются нейронами. Так вот, я установил, что к 70-летию нервные клетки распадаются, остаются «дуроны». — И он постучал себя по лбу. В этих словах отразилось недовольство Игоря Евгеньевича собой, овладевшее им именно в тот период. Он тогда развивал квантовую теорию поля в криволинейном импульсном пространстве. По его словам, в этой работе взлеты сменились падениями (так, впрочем, нередко бывало и раньше). Как раз ко времени юбилея наступил трудный период.
Как-то я сидел около его кровати в больнице, а он в пижаме уселся на кровати и рассказывал очередную неповторимую «байку», рассказывать которые он был большой любитель и великий мастер. Игорь Евгеньевич говорил с таким же оживленным видом, как и всегда, но видно было, что теперь это дается ему с трудом — он слегка задыхался. Во время рассказа в палату вошла пожилая женщина — знакомая или родственница Игоря Евгеньевича, не знаю. Я встал со стула и уступил ей место. В тот же миг Игорь Евгеньевич соскочил с кровати — движения его были такими же живыми и быстрыми, как и до болезни, — придвинул к кровати большое тяжелое кресло, стоявшее в дальнем углу, и предложил посетительнице сесть. Поступок оказался на пределе его сил. Он в течение нескольких минут не мог отдышаться, но сидел с довольной улыбкой.
За несколько лет до смерти Игорь Евгеньевич беседовал с корреспондентом одной из центральных газет. Он говорил о современной физике, ее достижениях и проблемах. Свой рассказ он закончил такими словами:
— Я мечтаю дожить до появления новой теории и быть в состоянии ее понять.
Мнение о том, что для решения существующих трудностей нужны радикально новые теоретические взгляды, что старыми представлениями здесь не обойтись, — это мнение разделял не только Игорь Евгеньевич. Такие идеи неоднократно высказывал и Л.Д.Ландау1. Оба они {75} были свидетелями и прямыми участниками научной революции, которая поразительно расширила наше понимание в результате появления теории относительности и квантовой механики. Обе теории в своих основах радикально отличались от доквантовой и дорелятивистской физики. Поэтому квантовая механика и теория относительности казались сначала лишенными наглядности, нелогичными и даже безумными. Шли годы. Релятивистская и квантовая физика утвердились, стали для всех привычными и само собою разумеющимися. Иначе и быть не может — так теперь считают почти все. Мы все, конечно, понимаем, что рано или поздно и эти теории уступят свое место новым концепциям, радикально отличным, более общим и позволяющим понять более широкий круг явлений. Но когда придет время новой теории?
Кто знает? Игорь Евгеньевич был одним из тех, кто пытался приблизить его подвижническим трудом.
Иногда думаю: как мне повезло, что я мог общаться с Игорем Евгеньевичем Таммом. Каким должен быть человек, какие он в себе должен воспитывать качества, понять из словесных поучений невозможно. Надо видеть такого человека в жизни и стараться затем быть достойным его. Мне повезло. Я видел несколько таких людей. Одним из них был Игорь Евгеньевич. Надеюсь еще встретиться в жизни с новыми, такими же прекрасными людьми и быть в состоянии это понять.
Хотел бы закончить воспоминания описанием одной сценки, в которой Игорь Евгеньевич выглядит таким, каким он жив в моей памяти. Случилось это году в 1959–1960-м. В Теоретическом отделе ФИАНа вечно было очень тесно, сотрудники работали по 3–4 человека в небольших комнатах. Поэтому в отсутствие Тамма его кабинет никогда не пустовал. Обычно там работали В.И.Ритус и Д.А.Киржниц. Время шло к обеду, и я зашел позвать их в столовую. Через несколько минут после меня вошел хозяин кабинета. Временные обитатели после взаимных приветствий стали собирать свои книги и бумаги — надо было куда-нибудь перебираться, чтобы не мешать.
— Пожалуйста, не беспокойтесь, пожалуйста, оставайтесь, прошу не беспокоиться, я сейчас уйду. Я только почту просмотрю и уйду, — сказал Игорь Евгеньевич. — Садитесь, пожалуйста.
Но перед тем, как взглянуть на почту, он спросил:
— Какие новости? Что нового?
Каждый из нас очень радовался, если мог рассказать ему что-нибудь интересное. Интересовало его все — научные новости, политические, дела Теоретического отдела и вообще все на свете. Но сообщить ему новость было необычайно трудно, почти невозможно. Он вежливо {76} и внимательно выслушивал то, что ему говорили, кивал головой, а потом начинал говорить сам. И дополнял высказанную вами весть несколькими подробностями, и тут же комментировал услышанное. Становилось ясно, что новость ваша для него совсем не новость и он ее уже продумал, а может быть, и обсудил с кем-нибудь. Мы все это знали, но тем не менее рассказывали Игорю Евгеньевичу все, что казалось новым. Расчет был беспроигрышный. Если наша новость ему известна, мы от него сами узнаем целый ряд дополнительных подробностей, а кроме того, и его отношение к обсуждаемому событию. А если Тамм нашей новости не знает — очень хорошо. Трудно представить себе более внимательного и доброжелательного слушателя, более глубокого и остроумного комментатора. Рассказывать ему — одно удовольствие. На этот раз никаких новостей у нас не было. На вопрос «что нового» отвечать нам было нечего. В.И.Ритус после недолгой паузы сказал:
— Вот, Болотовский занимается гимнастикой йогов.
— Правда? — спросил Игорь Евгеньевич. — И каких высот вы достигли? Можете регулировать частоту пульса?
— К сожалению, я еще ничего не могу регулировать, — сказал я. — Только еще начинаю.
— Мне недавно рассказали такую историю... — сказал он.
Мы поплотнее уселись на своих местах. Представьте себе такую сцену. Комната, у одной стены стоит письменный стол, у противоположной стены — диван. На диване сидят трое и внимательно слушают, не пропуская ни одного слова. А Игорь Евгеньевич ведет рассказ и ходит от окна к двери, от двери к окну, между столом и диваном. И ходит довольно быстро, частыми маленькими шажками, как бы семенит. Голова упрятана в плечи, руки сложены за спиной. Время от времени рассказ подкрепляется жестом. Рука или обе руки извлекаются из-за спины, а потом укладываются обратно. Лицо у него оживленное, как будто он видит то, о чем рассказывает. Я думаю, он и правда во время рассказа видел перед собой то, о чем рассказывал, во всех подробностях. В самых оживленных местах рассказа он ускоряет шаг, вот он уже не ходит, а почти бегает.
В тот раз рассказ был о том, как в больницу привезли человека с сильным приступом стенокардии. Больному сделали несколько уколов морфия и сняли приступ. Через несколько дней приступ повторился. Пришлось снова вводить морфий. А еще через несколько дней больной пришел в кабинет дежурной сестры и сам попросил сделать ему укол морфия, у него снова начались боли в сердце. Сестра отказалась делать укол. Тогда больной кинулся на нее с кулаками, крича: «Убью, гадина!» {77} На этом месте рассказа Игорь Евгеньевич, размахивая кулаками, бегом понесся к дверям кабинета и тоже закричал: «Убью, гадина!»
Как раз на этом месте рассказ оказался прерванным. Дверь открылась — и в кабинет вошел Г.М.Ваградов, теоретик из лаборатории И.М.Франка. Ваградов остановился в дверях. Прямо на него из глубины комнаты мчался лауреат Нобелевской премии, академик Тамм. Он мчался, низко наклонив голову, как будто хотел его забодать, он размахивал руками над головой и грозно кричал. Долю секунды Ваградов смотрел на неуклонно надвигающуюся опасность. Затем, не дожидаясь столкновения, он сказал: «Извините!» — выскочил из комнаты и захлопнул дверь.
В следующую секунду Тамм добежал до двери, но на этот раз не повернул обратно, а выбежал из кабинета. Не успели мы обменяться взглядами, как он, снова бегом, вернулся. За руку он тянул покорного Ваградова.
— Извините, пожалуйста, — сказал Тамм. — Вы, наверное, подумали, что это я на вас кричал. А я тут рассказывал, как один морфинист мог по собственной воле вызывать у себя приступы стенокардии. Он настолько хорошо натренировался, что, когда хотел, тогда и вызывал спазм венечных артерий. Ему тогда делали укол морфия, а ему того и нужно было.
Ваградов выслушал объяснения с серьезным лицом, кивая головой, и, как только Игорь Евгеньевич отпустил его руку, медленно двинулся к двери.
— Очень неудобно получилось, — сказал Игорь Евгеньевич.
| {78} |
|
И должен ни единой долькой Не отступаться от лица... Борис Пастернак |
Так уж получается, что у каждого человека есть дедушка. Игорь Евгеньевич был моим дедом... Мне посчастливилось провести 22 года рядом с ним. Разумеется, за четыре года раннего детства не сохранилось почти никаких воспоминаний, а впечатления следующих трех лет или отрывочны, или нечетки. Но именно первые семь лет почти ежедневного общения запечатлели в моей памяти образ деда, который мне до сих пор особенно дорог и близок. Да, он, конечно, был самым уважаемым и авторитетным человеком в семье, но я помню деда Гору моего детства самым веселым, самым быстрым и самым простым. Дети обладают способностью, еще отчетливо не понимая, верно угадывать свойства людей. В деде мне нравилось все — пример для подражания, необходимый ребенку, находился у меня перед глазами. С каждым следующим годом, взрослея, я все больше находил в нем не только деда, но и друга. Он почти незаметно для меня становился и моим учителем во многих, очень многих вещах, ведь я общался с ним постоянно больше, чем с кем бы то ни было. Это были очень счастливые годы.
Должен назвать те качества, без которых не могу представить Игоря Евгеньевича ни в то время, когда я уже был на свете, ни в любой другой период его жизни. Это щедрость и деликатность, постоянная увлеченность работой и искренний интерес ко всему неизвестному, новому, настоящему. И еще два свойства — способность к истинной дружбе и внимательная доброжелательность к любому собеседнику. Конечно, мне не сразу довелось их понять. Воспринимая это как нечто естественное, я привык к ним. И мне долго представлялось, что эти качества присущи всем людам.
Лучше всего мне запомнились разговоры с дедом и его рассказы 1963–1971 гг. Игорь Евгеньевич всегда судил о людях по себе и с {79} 13–14 лет стал считать меня взрослым. Поэтому наши беседы сделались серьезными. Он горячо интересовался всем, что занимало, притягивало и волновало меня. Я находил у него справедливый суд, беспристрастную оценку или необходимую поддержку. В трудные часы я советовался с ним и только с ним. Как удивительно теперь то, что он находил для меня уйму времени. Тогда это не казалось мне странным. Наоборот! Иное было невозможно. Естественно, и меня все больше увлекали его интересы. Многими из них я «заразился». Меня увлекали «дела минувших дней», героические и трагические периоды истории, жизни, науки. Полная широких интересов, приключений и путешествий жизнь деда — жизнь «высокого напряжения» — страстно влекла меня. Вспоминая те дни, я теперь вижу, что общение с дедом было и осталось для меня самым большим и ярким впечатлением того времени. В годы его болезни появилось только больше заботы, может быть, иногда тревоги, но сам факт — тяжелая болезнь — очень скоро стал для меня почти незаметен: дед так же много рассказывал, мы еще больше говорили. Только одно новое условие появилось — привязанность к месту. Очень тяжелое для него условие, но он мужественно принял его.
Году в 1968-м Игорь Евгеньевич узнал, что поставлен вопрос о написании его биографии. Известие очень смутило и огорчило его, мысль об издании прижизненной биографии была ему совершенно чужда и страшно непонятна. И, как от всего неприятного и несерьезного, он отмахнулся от нее и забыл. Но вскоре вопрос о ней был поставлен перед ним вторично (по-видимому, АПН)1. Помню, как огорченный Игорь Евгеньевич растерянно стал расспрашивать советов: как же он должен поступить? Может быть, все-таки можно найти какой-нибудь способ отказаться от этой высокой, но такой неприятной чести? Но против самого простого решения — игнорировать проблему — все близкие возражали: «Хочешь, чтобы о тебе написали и напечатали неизвестно что?» Предлагалась кандидатура знакомой {80} писательницы, он не соглашался. Был разговоре В.Я.Френкелем (написавшим большую биографию отца, Якова Ильича, очень понравившуюся Игорю Евгеньевичу).
По-моему, именно Виктор Яковлевич Френкель и сумел убедить деда, что раз уж написания биографии избежать нельзя — будут ведь написаны биографии всех Нобелевских лауреатов, — так надо все-таки, чтобы книжка получилась правдивой и без путаницы. Игорь Евгеньевич согласился (очень неохотно) и смирился. А вечером, совершенно неожиданно, дед вдруг предложил мне написать его биографию: «Есть у тебя желание ею заняться?»
Меня озадачила эта идея, хоть я убеждал деда накануне в необходимости его собственного участия в работе над биографией, но, конечно, загорелся и, не очень раздумывая, согласился. Вслед за тем пришла неуверенность в своих силах и опасения, что я слишком еще юн для этой серьезной и нелегкой работы. Но дед ободрял меня. Таков он — весь! От слов — к делу. Решенное — выполняется. А еще несколько часов назад не он ободрял, а его убеждали.
— Тебе будет проще, чем кому-нибудь другому, — ведь я тебе много уже раньше рассказывал... Кое-что из моих воспоминаний ты, наверно, теперь лучше меня помнишь... А если что забыл — спрашивай, буду вспоминать с тобой вместе, уточнять... Так и мне ведь будет гораздо проще тебе, чем другим, все заново рассказывать...
Решили постепенно — изо дня в день — понемногу заниматься этим вместе. Двигаясь в хронологическом порядке, как бы составляя конспект. Таким образом выяснится, о чем я раньше не слышал, и дед будет мне об этом подробно рассказывать. Параллельно я стал разбирать отдельные «пласты» его бумаг. Настоящего архива у Игоря Евгеньевича никогда не было — он просто не думал о нем, «не заводил» его. Но архив, правда очень сумбурный, завелся сам. Например, сохранилось очень много писем к нему, в разной степени интересных, отдельные черновики его собственных писем, многие записные книжки и просто листки с записями. Дед шутил, что вот, наконец, и у него появился «личный секретарь». Он относился к моей работе очень серьезно и требовательно. Увы, занятия все-таки были нерегулярны — ведь болезнь брала свое...
Прошли годы, но, вспоминая деда, я снова слышу его рассказы, а среди его бумаг и писем нашел очень интересные дополнения к слышанному. «Не надо заводить архива...»,1 — и его действительно не {81} было. А было столпотворение бумаг, рукописей, писем — на столе, столике, подоконнике, диване, в ящиках стола, между книгами. Сегодняшнее перекрывало вчерашнее, а позавчерашнее терялось. Во время отъездов, когда приводился в относительный порядок его кабинет, при переездах на дачу и с дачи рукописи (старые) и записки тасовались, собирались в стопки — что-то всплывало на поверхность, а что-то уходило вглубь — в стенной шкаф, на антресоли. Вместе с порванными письмами, черновиками и перечеркнутыми крест-накрест страницами вычислений — что-то выбрасывалось совсем, пропадало. Такой «архив» разбирать необыкновенно интересно, а архив своего деда — особенно. Не терялось только то, над чем он работал сейчас. Под рукой были «нужные» листки. Пронумерованные «континенты» еще не законченной работы и «островки» стихотворных набросков, строк плавали в текучем хаосе бумаг кабинета...
Но вот беда — пытаясь воспроизвести рассказанное на бумаге, наталкиваешься на препятствие, порой непреодолимое: истории, даже несколько раз слышанные, пересказать подчас не удается — они тускнеют, иногда остается одно впечатление. Чувствуешь себя беспомощным: вроде бы все верно, но что-то не так и чего-то не хватает. И тут понимаешь: не хватает главного — самого Игоря Евгеньевича, его дара очень просто и ярко рассказывать. Записать воспоминания о нем трудно. Почему? Видимо, происходит то же, что и с его историями: четырехмерные впечатления не укладываются на двумерную бумагу. За ее рамками остается движение, исчезает выпуклость. Иногда мне приходилось слышать такие рассказы — выходит вовсе не дед, а эдакий Эдварде Лир1 — физик..
Чем ближе человек знал Игоря Евгеньевича, чем чаще встречался с ним, тем труднее ему писать: слишком интенсивным, непривычным для обыденной нашей жизни было это общение... Пласты ежедневного, еженедельного, ежемесячного общения часто оказываются трудноразделимыми: такими насыщенными, «спрессованными» они были. Целое, незабываемое впечатление почти невозможно разделить на составляющие... Нет, не впечатление, а что-то гораздо большее. Слишком многое, давно уже ставшее вашим, оказывается, идет от Игоря Евгеньевича...
Письма Игоря Евгеньевича иногда похожи на сжатые и открытые конспекты его рассказов. Но и в них, как и в рассказах, много необычных или характерных деталей, интерес к самым разным сторонам жизни стран и быта людей. Только места в письме и времени на письмо слишком мало, а впечатлений слишком много, и они не помещаются. {82}
Стиль Игоря Евгеньевича очень прост. В рассказах, письмах, статьях и записях для себя, в записных книжках он почти одинаков. Игорь Евгеньевич всегда и во всем стремился к ясности. Подобно тому, как он однажды отметил, что всегда стремится «привести вычисления в нравящуюся» ему «изящную форму»1. Игорь Евгеньевич заботился о простоте и понятности — т.е. той же «изящности»! — всего, что говорил и писал. Ясность мысли, изложения и образность отличают его популярные статьи, многие его лекции и доклады.
К сожалению, в отличие от статей, которые сохранились почти все, и докладов, многие из которых были записаны, писем деда осталось немного. Во время Великой Отечественной войны в Киеве погибли почти все письма к родителям, написанные с 1913 по 1941 г. Судя по сохранившимся ответам, Игорь Евгеньевич вел оживленную переписку со многими голландскими и немецкими теоретиками (в конце 20-х — начале 30-х годов), частично возобновившуюся в послевоенные годы, с Полем Дираком и приятелем по Эдинбургскому университету, альпинистом Беллом. Позднее (в основном в 50–60-е годы) — с английскими, японскими и американскими учеными, в частности с генетиком Ледербергом2. Из переписки с Нильсом Бором (письма Бора к Тамму хранятся в архиве семьи Игоря Евгеньевича) уцелело только три письма И.Е.Тамма, относящихся к 1936 г. Ответов же Игоря Евгеньевича на письма Бора 1932 и 1934 гг. нет и в архиве Бора в Дании, как выяснилось из письма (от 02.02.1977) профессора Оге Бора3.
С большинством из перечисленных выше адресатов Игоря Евгеньевича связывали дружеские отношения. Его переписка, безусловно, интересна не только как биографический материал, но и для истории науки. Поэтому особенно жалко, что письма Игоря Евгеньевича еще не удалось собрать, а многие, увы, не уцелели.
В особенности это относится к заграничной переписке предвоенных лет. В августе 1970 г. на дачу к больному Игорю Евгеньевичу приехал его старый друг, известный физик-теоретик Виктор Вайскопф4. Вспоминая прошлое, он рассказал присутствовавшим А.Д.Сахарову и Е.Л.Фейнбергу (ученикам И.Е.Тамма), как после прихода Гитлера к власти {83} он был вынужден покинуть Германию и стал работать с Паули1 в Цюрихе. Швейцарские власти в то время трепетали перед Гитлером, и полиция, не стесняясь, перлюстрировала все письма «подозрительных» лиц. Однажды в 1934 г. Вайскопф был вызван в полицию, где ему предъявили письмо И.Е.Тамма, приглашавшего своего друга приехать в СССР и жить у него, поскольку Игорь Евгеньевич как раз переехал в новую четырехкомнатную квартиру. «В Советском Союзе только крупные коммунисты имеют хорошие квартиры. Значит, вы тесно связаны с коммунистами и поэтому вам немедленно надлежит покинуть Швейцарию без права когда-либо в нее возвратиться», — заявил полицейский чин. Паули с трудом выхлопотал отсрочку на месяц, чтобы Вайскопф закончил курс лекций, которые он читал.
Самое забавное, что через треть века Вайскопф, ставший американским гражданином, был приглашен в ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований), расположенный в пригороде Женевы, в качестве Генерального директора и научного руководителя. По приезде он явился в полицию и спросил, как ему быть, поскольку ему навсегда было запрещено возвращаться в Швейцарию. Чин, конечно, уже другой, только смущенно улыбнулся и попросил забыть старое. Добавим, что в течение пяти лет Вайскопф блестяще руководил ЦЕРНом.
«Аграфия» же, на которую любил ссылаться Игорь Евгеньевич, стала прогрессировать в последние годы (с 1958 г.), когда на его имя поступало уже так много писем, что отвечать на все он физически был просто не в состоянии.
Только теперь, когда его бумаги разобраны, большая часть писем иностранцев к нему переведена, когда удалось разыскать некоторые письма самого Игоря Евгеньевича, зарождается оптимизм найти еще многие его письма. Появляется надежда сдержать обещание, данное деду, и написать его биографию. То, что написано для данного сборника, все же не отрывки из будущей книги. Это лишь отдельные рассказы моего деда, некоторые документы, характерные (на мой взгляд) эпизоды, отрывочные воспоминания о нем и вызванные ими размышления о его удивительной жизни.
В моей памяти четче других возникают два очень несходных между собой образа Игоря Евгеньевича — в кабинете и вне его. В двух полярных состояниях — почти полной неподвижности и постоянного движения. Вот он представляется мне сидящим в кресле за письменным столом, спиною к дверям, совершенно не шевелясь, склонившись над {84} листом бумаги, по которому быстро движется его рука с авторучкой. Таким я видел его на протяжении многих лет, заглядывая к нему в кабинет. Можно простоять в дверях пять, десять минут и не заметить ни единого движения, кроме бега руки — то чуть замедляющегося, то убыстряющегося вновь. Только переворачивался лист или откладывался и брался другой. Этого движения можно было дождаться, и опять полная неподвижность спины, плеч, головы. Иногда — два резких взмаха руки: только что написанное зачеркивалось крест-накрест, и тогда на чистую бумагу выписывалась последняя перед «крестом» формула, потом чиркала спичка и возникала левая рука с дымящейся папироской. Я заставал деда Гору за работой и днем, и поздно вечером. Часто уже глубокой ночью все еще падала полоса света от дверей его кабинета. Он обычно работал по 12–14 часов в сутки. Страницы его вычислений помечались астрономическими цифрами. Не раз в разговорах о творчестве, как научном, так и художественном, дед высказывал глубокое убеждение о том, что художнику, как и ученому, одних способностей, одного «голого» таланта мало, ему необходим еще напряженный труд и сильная воля. Он часто повторял восхищавшие его слова Эдисона: «Ten percents inspiration, ninety percents perspiration» (гений складывается «из десяти процентов вдохновения и девяноста процентов потения»).
— Понимаешь, даже гений!
А гениями науки он считал очень немногих: Ньютона, Фарадея, Менделеева, Эйнштейна, Бора, Дирака...
Вне кабинета же представить себе Игоря Евгеньевича даже в относительной неподвижности невозможно. Движение было его стихией. Он — само ее воплощение: в постоянном движении тело, в постоянном движении лицо. Фотографии Игоря Евгеньевича почти всегда не удавались, на фотографиях он становился непохожим: его лицо, все время меняющееся, получалось непривычно строгим и неестественно скованным; жесты, столь характерные для него, застыв, выходили утрированными или просто смазанными. Мгновение фотоснимка порою оказывалось для него слишком медленным и невыносимым! Когда Игоря Евгеньевича рисовали или лепили скульптурный портрет, выходило еще хуже. Только шуточные изображения в шаржированном движении похожи. Он стремительно двигался в любую свободную от работы минуту — принимая гостей, разговаривая по телефону: очень быстро ходил с трубкой в руке, правда, телефонный шнур максимально сужал радиус его «пробежек». Ходил, думая, от окна к двери, иногда дальше — за двери кабинета, в коридор. Когда в комнате слишком сгущались слоистые облака табачного дыма, выходил на балкон или — {85} вниз по лестнице — во двор, вокруг дома, по набережной, от моста — к мосту. На даче — вокруг поселка — один «кружок», второй, третий, иногда — в лес. Он всегда очень любил пешие прогулки, не мешавшие размышлять.
Все, что делал Игорь Евгеньевич, он делал очень быстро. Его движения, жесты, мимика были гармоничны. Он двигался, не суетясь, не раздражая, а заражая своей подвижностью. Когда я вспоминаю обычные разговоры с Игорем Евгеньевичем, он представляется мне рассказывающим что-нибудь за столом, для наглядного объяснения привлекаются вилка, нож, ложка, идут в ход солонка, хлебница, коробка спичек. Могу представить себе разговор с ним о чем угодно — о новейших опытах на мышах, телепатии, йети (снежном человеке). Могу представить себе разговор Игоря Евгеньевича с кем угодно, но его всегда интересовало в человеке главное: чем он увлечен?
На вопрос, чем был увлечен он сам, кроме физики, мне очень трудно ответить. Скорее всего, я бы ответил не задумываясь — всем! Но тут же поправил бы себя — почти всем.
Меня восхищала широта его интересов. Лишь две области никогда, видимо, не увлекали его: музыка1 и «чистая» техника. О своих музыкальных занятиях он вспоминал с веселой улыбкой. В первых классах гимназии его попытались учить игре на фортепиано. Мать Игоря Евгеньевича, Ольга Михайловна, очень музыкальная и сама хорошая пианистка, пригласила первоклассного педагога. Хотя сын не проявлял к урокам музыки никакого энтузиазма, он, по мнению преподавателя, делал успехи. Однажды во время урока Ольга Михайловна сидела в соседней комнате и слушала. Ей особенно понравилось исполнение одной из пьес Мендельсона. Когда учитель ушел, она попросила сыграть песню еще раз.
— Какую?
— Вот эту, — и она напела мотив. Игорь, нахмурившись ответил:
— Никогда не слышал, не учил и не знаю.
Ольга Михайловна, очень удивившись, подошла к инструменту, нашла в стопке нот только что игранных на занятиях пьес «Песню» Мендельсона. Сын сыграл ее безошибочно. Но из его ответов на расспросы озадаченной матери открылась ужасная тайна: Горочка играет не на слух (оказалось, он его начисто лишен), а по зрительной памяти, прекрасно запомнив, по какой клавише надо ударять и в какой последовательности. И так со всеми разученными пьесами! Сыграть же вещь, которую он не видел, как нужно играть, он не в силах... С этого дня занятия музыкой навсегда прекратились. {86}
Позднее, несмотря на тонкую музыкальность Наталии Васильевны, в концертах он никогда не бывал. Но они вместе слушали оперы — и в гимназические годы в Елизаветграде, и в студенческие годы в Москве. Одна опера очень нравилась Игорю Евгеньевичу всю жизнь — «Пиковая дама» Чайковского. Но любил он песни — украинские, слышанные им в детстве и юности, революционные (особенно «Варшавянку» и «Марсельезу»), песни «бардов», появившиеся в начале 60-х годов... Как правило, Игорь Евгеньевич любил песни из-за слов. У него не хватало терпения даже недолго послушать «голую» музыку, но когда она сопровождала действие или когда ее сопровождали слова, ему было уже интересно.
Театром, поэзией, литературой Игорь Евгеньевич увлекался всегда. И при отсутствии каких бы то ни было способностей к рисованию очень любил живопись, скульптуру, а также с огромным удовольствием и энтузиазмом принимал самое живое участие в любительских спектаклях, шарадах. О том, насколько он «входил в образ» и переносился в место воображаемого действия, может свидетельствовать следующий эпизод. В одной из шарад Игорь Евгеньевич с Борисом Смирновым (инженером, старым приятелем — еще по предреволюционному времени) должны были изобразить по ходу действия, как прыгают в переполненный трамвай. В самой большой комнате, где обычно устраивались шарады, на стене висела самодельная полка, на которой в два рада была размещена энциклопедия Брокгауза. Показывая, будто цепляются за поручни в трамвае, они вдвоем ухватились за край полки, и она — с 80 томами Брокгауза — рухнула. Оба совершенно не предусмотрели, что все-таки находятся не в трамвае.
До сих пор помню его уморительные перевоплощения, хотя это и было в конце 50-х годов. Да и рассказывавшиеся им истории нередко превращались в спектакль с одним актером.
Помню увлекательную игру, которую дед затеял для нас, внуков, на даче на Николиной Горе летом 1956 г. Ей предшествовала красочная повесть о герое Шамиле1, якобы скрывающемся теперь в глухих лесах... Подмосковья. Разумеется, она была рассказана после находки внутри дупла трухлявого пня во время одной из прогулок таинственной зашифрованной записки. Разгадывали шифр втроем — мы (внуки) и дед Гора. Когда нам наконец удалось ее прочесть, мы совершенно не догадывались, что дед не только заранее знал шифр, но и сам писал эту записку. Внизу стояла подпись «Шамиль». Тогда-то и была нам рассказана фантастическая история, принятая нами всерьез. Переписка {87} продолжалась, менялись шифры. В конце каждого послания указывались ориентиры следующего «почтового ящика» и условный час, обыкновенно в темное время суток. Поиски тренировали внимательность, сообразительность и смелость внуков, а расшифровка требовала решения настоящих головоломок. Она очень увлекла нас и доставляла большое удовольствие самому Игорю Евгеньевичу. Кончилось лето, мы переехали на другую дачу, но «переписка с Шамилем» продолжалась еще не один год, а настоящая роль в ней деда так и не была разгадана.
Захватывающих игр всегда было множество. Игорь Евгеньевич любил необыкновенные игры, в которых требовались смекалка, смелость и надо было преодолевать трудности. И он придумывал их для нас. Может удивить, откуда у него находилось время на них? При необыкновенной интенсивности работы ему требовался столь же интенсивный, насыщенный до отказа отдых. Все, что он делал, он делал с полной самоотдачей. Поэтому так интересно было играть с ним. Никакой назидательности старшего: дед Гора, казалось, почти равен нам и невероятно изобретателен. Не только внуки, все дети тянулись к нему и очень его любили. Его память была неистощима на забавные, занимательные и самые любимые им «страшные» истории. Их с равным удовольствием слушали и взрослые и дети. Например, возвратившись из очередного путешествия, дед в течение нескольких вечеров — за общим чаем — преподносил целый «цикл» впечатлений, зарисовок, легенд, множество случаев, услышанных им от спутников и людей, с которыми ему довелось повстречаться. Видимо, интенсивность общения и неиссякаемая любознательность были всегда очень характерны для Игоря Евгеньевича. Чуждого не существовало. Очень похожи на рассказы некоторые письма из путешествий. В них перемежались описания природы и городов с зарисовками нравов людей и стран. Они были насыщены приключениями и рассказами про извержения сопок, про смелых моряков и про маленьких мальчиков, похищаемых медведями...
Звонок у дверей: на пороге человек в громадной, страшной маске — красное зверское лицо с выпученными глазами и высунутым языком, надо лбом кокошник с изображениями каких-то белых черепов, в ушах — огромные золоченые серьги... Дед Гора смеется, бережно снимая с себя маску. По бокам стоят два чемодана.
— Я так, надев ее, и летел всю дорогу в самолете. Она хрупкая, из папье-маше, побоялся спрятать в чемодан — багаж надо было сдавать. {88} Могла поломаться! Это ритуальная маска с Тибета. Еле уговорил мне ее продать. Правда, чудесная маска? Мне очень понравилась!
Маску повесили в кабинете, над дверью. Возвращаешься вечером домой и, коща сворачиваешь с улицы во двор, четким красным пятном хорошо видишь маску сквозь окно освещенного кабинета.
От Игоря Евгеньевича очень часто можно было услышать какое-нибудь полюбившееся ему стихотворение — большое или всего в несколько строк, отрывок, строфу понравившейся ему песни. Среди его бумаг, в записных книжках, всегда было много переписанных для памяти стихов, афоризмов, пословиц. Приведу несколько таких характерных записей, относящихся к 40–60-м годам.
Записи на тетрадях «Гидродинамика тяжелых ядер» 23.11.1943 г. и «Звук в мелком водоеме» 1.IV.1943 г.:
«Наука развивалась в противоположность знаменитому афоризму Гиппократа: “Искусство долговечно, жизнь коротка, опыт опасен, рассуждения ненадежны”.
Французский философ конца XVIII века: “Без теории не знают ни что говорят, когда произносят, ни что делают, когда действуют”»1.
Из записной книжки 1932–1954 гг.: «Ученик не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь!»
Из последней ходовой записной книжки 1958–1964 гг.: «Новые километры за спиной делают человека богаче. Конечно, не безумные километры. Дорога без цели не ведет никуда.
|
Когда кончается девичество Игравших в Качество наук, Его Величество Количество Их приближает ко двору... Ю. Зимин». |
Игорь Евгеньевич довольно часто на протяжении всей жизни сочинял сам. В большинстве это стихи для детворы или «на случай», шуточные или лирические наброски и отрывки. Разумеется, он никогда не относился к ним серьезно — поэтому очень многие из них потерялись. И теперь, когда я, разбирая его бумаги, нахожу листок с выписанными на нем острым почерком Игоря Евгеньевича строчками, мне отчетливо вспоминается, как он когда-то читал эти стихи...
Чаще других переписывались рубайи Хайяма. Дед Гора очень любил их. Также любила их и бабушка. Деду особенно было близко {89} хайямовское жизнелюбие, неистребимый оптимизм. Нравилась его афористичность и изящная законченность мысли...
|
Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрей? Не делай больно мудростью своей. С обидчицей-судьбой — воюй, будь дерзок, Но сам клянись не обижать людей. |
Игорь Евгеньевич с удовольствием часто читал рубайи в классическом переводе на английский Эд.Фитцджералда и двух переводчиков на русский — И.Тхоржевского, а также О.Б.Румера, с которым был немного лично знаком.
Сохранился переписанный дедом в 40-е годы «Реквием» Анны Ахматовой. Самым любимым из стихов Пастернака были последние строфы стихотворения «Марбург»:
|
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, Бессонницу знаю. У нас с ней союз... |
И Игорь Евгеньевич понимал здесь «бессонницу» не как болезнь, а как увлекательную работу, заведшую за полночь, — не оторваться!
|
Ведь ночи играть садятся в шахматы Со мною на лунном паркетном полу... |
Многократно переписанные, эти стихи можно было найти среди его физических расчетов. В них была квинтэссенция близкого ему: шахмат, бодрствования, формул и оптимизма. Разряжение шахматной партии, выход из кризиса, выигрыш:
|
И тополь — король. Я играю с бессонницей. И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью... |
Поэзию Пастернака Игорь Евгеньевич сравнивал с «Алисой в Зазеркалье» Кэрролла, по-видимому, он имел в виду его ранние стихи. Поздние стихи Пастернака нравились деду ясностью, яркостью и «неслыханною простотой». Мне запомнилось, как прекрасно читал вслух Игорь Евгеньевич три стихотворения, напечатанные в только что полученном номере «Юности»: «Сказку» ("Встарь, во время оно.."), «Божий мир» ("Тени вечера волоса тоньше...") и «Август» ("Как обещало, не обманывая..")1, позднее самыми любимыми стихами деда стали пастернаковское философское «Быть знаменитым некрасиво...» и язвительное «Ходит спесь, надуваючись...» А.К.Толстого. В восприятии многих близких к Игорю Евгеньевичу людей «Быть знаменитым...» было и до сих пор осталось связанным с дедушкой. Не случайно оно {90} было приведено его учениками в статье о нем1. А в «Ходит спесь, надуваючись...» было прекрасно выражено совершенно «таммовское» отношение к этому явлению. Ведь эти два стихотворения — как решения одной дилеммы.
Алексей Константинович Толстой стал с детских лет одним из самых любимых поэтов Игоря Евгеньевича наряду с Лермонтовым. Очень любил он Котляревского и большие отрывки из веселой «Енеиды» отлично помнил наизусть. Огромный том Полного собрания сочинений А.К.Толстого, которым наградили его мать по окончании Павловского института, был им зачитан, что называется, до дыр и тщательно подклеен... Очень нравились деду стихи Н.Гумилева (например, «Капитаны»). О.Мандельштама (особенно 30-х годов), Э.Багрицкого («Дума про Опанаса», «Контрабандисты»), Д.Кедрина («Конь», «Кофейня», «Фирдуси»). Его интересовали «научные стихи», особенно Ю.Зимина, с которым у него были близкие и добрые отношения.
Английскую, французскую и немецкую поэзию дед всегда читал в подлинниках. Чаще других он перечитывал Бернса, Шекспира и Гейне, Шиллера и По, Бодлера и Уитмена. Иногда ему хотелось восстановить в памяти то, что начало забываться. Помню, это было в самом конце 1967 г., когда я приходил к нему в больницу. Мы часто разговаривали о поэзии. Захотели прочитать «Перчатку» Шиллера, но оказалось, что ни он, ни я дальше первой строфы ее не помним. Первым же делом к следующему моему приходу стало переписать «Перчатку» для деда. Помню, как я мучился, переписывая это длинное стихотворение с ненавистного мне «готического» издания (другого в спешке найти не удалось). Позднее, год или два спустя, ему страшно захотелось вспомнить «Марсельезу». У нас дома не было ее по-французски... Но скоро, к огромной радости деда, «Марсельезу» ему принесли друзья, даже два экземпляра!
Чем больше ему приходилось отдыхать, не работать (не работать — деду!), тем больше появлялось времени на чтение и «пустяки». Помню, как в самые тяжелые дни, когда ему приходилось лежать целыми днями в кровати, — вставать и сидеть еще запрещалось, дед увлекся {91} построением своеобразных стишков определенной формы, существующей в немецкой народной поэзии. Сочинено их было великое множество. Детство и юность, проведенные на Украине, как-то сами собой навеивали стихи на украинском (их, набело переписанные, он преподносил бабушке, Наталии Васильевне).
Чтение беллетристики, поэзии и «свежих» детективов Агаты Кристи и Сименона было повседневным любимым отдыхом Игоря Евгеньевича. Читал дед очень быстро, но детектив любил «растянуть» на несколько дней. Он всегда читал много книг и статей по археологии, истории, социологии и биологии, которыми очень увлекался. Он живо интересовался всем новым и неизвестным в самых разных областях знаний.- И круг его чтения всегда бывал необычайно разнообразен.
Из других увлечений Игоря Евгеньевича надо отметить альпинизм. Сорок лет спустя дед любил вспоминать о своем первом (и неудачном) альпинистском крещении — о летнем путешествии на Алтай в 1926 г. Он отправился туда вместе с компанией, в которой все были моложе его, — студенты и аспиранты. Его спутниками были: Михаил Александрович Леонтович (физик-теоретик) с женой Татьяной Петровной и ее двумя сестрами. Петр Сергеевич Новиков (математик), Николай Николаевич Парийский (астроном) и его жена Лидия Викторовна, Екатерина Леонидовна Старокадомская (физик) и ее брат композитор Михаил Леонидович Старокадомский1 и другие. Дружба с этими людьми и их семьями сохранилась на всю жизнь. Почти все они впоследствии, включая их детей, стали неизменными участниками традиционных трехдневных лодочных походов в майские праздничные дни по подмосковным рекам, еще очень холодным после зимы, иногда не вполне очистившимся ото льда. Многие из них впоследствии не раз ходили вместе в альпинистские походы. Вот как вспоминал о путешествии 1926 г. Игорь Евгеньевич (в 1964–1965 гг.):
«На Алтае тогда только кончилась война. Гражданская, партизанская. И на нас смотрели, как на диво:
— Вы — москвичи?! Значит, все наркомы? Здесь свои порядки завести хотите?
Но это все не так важно, до гор мы добрались. Снаряжение у нас было «первоклассное»: высокие сапоги, подбитые морозками, легчайшие палочки в руках, но самое главное — бельевая веревка на всех. {92} Заночевали мы у ледника и утром вступили на ледник. Перед нами зияли трещины, а пониже их, на хребтах, море огня — полыхали маки. Поднялись мы невысоко: скользили и падали, смеялись. И хоть нам пришлось отступить, первый урок альпинизма мы назубок вызубрили. Потом долго скитались по чудесным безлюдным местам, а на средней Катуни зашли к кержакам. Нам сдали светелку, но убрали из нее иконы. Вход в дом запрещен — «опоганите».
— Вы ведь петровские нехристи, грамотеи, гордецы! И у нас на селе тоже есть грамотей, но не грешит он, как вы, — пишет кириллицей.
Мы спросили, сколько верст до развилки?
— А вы какими путь считаете — петровой верстой либо катерининой?!
С того двадцать шестого горы вошли в мою жизнь...»1.
Едва ли не самым крупным успехом, достигнутым Игорем Евгеньевичем в овладении техникой, было управление автомобилем с 1931 г. (под руководством Поля Дирака, которому принадлежал и сам автомобиль). Обучение происходило во время их совместного путешествия по Англии и Шотландии. По окончании путешествия, в Кембридже довольный Дирак уговорил его сдать экзамен и получить права. Игорь Евгеньевич гордился водительским удостоверением, выданным в Кембридже. На протяжении последующих 18 лет Игорь Евгеньевич за руль ни разу не садился (несмотря на то что в 30-е годы у его младшего брата, Леонида Евгеньевича2, был автомобиль, которым его премировал Серго Орджоникидзе). Но в 1949 г., после покупки «Победы», Игорь Евгеньевич восстановил под руководством сына ставшие забываться навыки. И несколько раз с увлечением и гордостью управлял машиной...
Во время путешествия по Шотландии уроки автомобилевождения перемежались уроками скалолазания. (Игорь Евгеньевич тогда в одиночку повторил пройденный ранее него только один раз скальный маршрут высшей категории трудности (по британской номенклатуре — 4) «Роковая трещина»3 на острове Скай (Гебридские острова у берегов Шотландии). В то время он был почти новичком в альпинизме — свое скалолазание в Германии в 1928 i. он никогда не считал серьезным, и за спиной у него было всего три восхождения на Центральном Кавказе: на Фитнаргин (первовосхождение, И.Е.Тамм руководил группой) в 1929 г., на Тютюргубаша (первовосхождение) и на Башиль-тау (для {93} наших альпинистов — первовосхождение и первое вообще по северовосточному гребню) в 1930 г.... Интересно, что Дирак с удовольствием ходил в горы только вместе с Игорем Евгеньевичем. И Игорь Евгеньевич не оставлял попыток «приобщить Дирака к альпинизму», как говорил он, и позднее, во время приездов Дирака в СССР. Вот забавный отрывок и письма К.К. Тихонова1 к И.Е.Тамму (от 05.02.1967): «...Лето 1936 года, Кавказ, Эльбрус. К группе студентов МИИТа, которую я вел на Эльбрус, в Кругозоре присоединились двое ученых: советский физик Тамм и английский физик Поль Дирак. Через два дня, после акклиматизации на Приюте Одиннадцати, мы были на восточной вершине Эльбруса... Помню и наши с Вами неудачные попытки тогда получить для Поля Дирака значок «Альпинист СССР» за это восхождение... (...) А что если получить этот значок для Дирака сейчас, 30 лет спустя? (...) Несколько лет назад я получил от Дирака небольшое приветственное письмо: он помнит это восхождение..»
Все остальные (кроме автомобилевождения) успехи Игоря Евгеньевича в области техники были еще скромнее: пока дочь и сын были маленькими, он менял перегоревшие пробки и ставил «жучка» не только в своей квартире, но и охотно помогал в этом всем соседям. Вообще забавно, что Игорь Евгеньевич, написавший курс теории электричества, всю жизнь с некоторым недоверием относился к самой обыденной электросети и бытовым электроприборам. Я думаю, что это объяснялось печальным опытом, ведь он принадлежал к тому довольно распространенному типу теоретиков, у которых эксперименты фатально не удаются2. Хотя его очень интересовали, «притягивали» эксперименты, он с середины 20-х годов навсегда оставил попытки самому участвовать в них.
За археологией он тоже не только следил по журналам... Интерес к новым открытиям, находкам, а подчас и жажда чуда, даже положительная авантюрность и азарт первооткрывателя влекли его в экспедиции3. Поиск легендарных сокровищ царицы Тамары, неисследованные развалины древнего монастыря, — может быть, того о котором упоминает в своей «Географии Грузии» царевич Вахушти, — притягивали.
А в 60-е годы, обнаружив километрах в пяти от дачи группу курганов, он решил получить на их раскопки открытый лист.
Все его увлечения были страшно заразительны. И мое увлечение археологией выросло под влиянием его интереса к ней. {94}
Игорь Евгеньевич любил читать вслух. Из популярных журналов он отдавал предпочтение «Scientific American». Чтение чаще всего было не совсем обычным. Должен заметить, что дед обладал великолепной способностью к языкам. Часто, отдыхая полчаса-час после обеда, он читал бабушке. Чередовались занимательные статьи, романы и детективы. Причем читал дед по-русски и бегло, в редком месте на минутку останавливаясь, хотя книга была написана по-английски, по-французски или по-немецки. Когда книга читалась специально для детей, это происходило иначе: весьма быстро молча пробегал глазами некий кусок — страницу, небольшую главу — и сразу пересказывал, разумеется, уже по-русски, что выходило даже увлекательнее «прямого» чтения. Когда ему подарили книгу Ады Негри1, итальянского языка он, по сути, не знал, дома были только итало-немецкие словари да весьма тощий старый самоучитель. Вскоре стали происходить еще более удивительные чтения: дед читал по-русски «с листа» — с ассонансными сымпровизированными рифмами — итальянские стихи Ады Негри! Овладеть итальянским, как он с удовольствием отмечал, помогла ему гимназическая латынь.
Дед всегда пользовался любой возможностью сыграть несколько партий в шахматы. Они были, кроме чтения, самыми любимым видом «статичного» отдыха. Основываясь на определении, данном Мариной Цветаевой игре в шахматы: «Игра в шахматы — творчество, обратное сочинению стихов», мне хочется сформулировать три составляющих дедушкиного увлечениями ими. Первая — возможность на время полностью отключиться от всего иного, «перейти на доску» — совершенный активный отдых интеллекта. Вторая — возможность наслаждения. Третья — азарт, основанный не на случайности, — благородное соперничество. Углубленное придумывание и продумывание своей красивой атаки приводило деда к необходимости «отчаянной» обороны из-за вовремя не замеченной угрозы противника и к плачевному результату. Тогда дед требовал «реванша» — ему хотелось продлить удовольствие и в новой партии попробовать осуществить то, что — вот обидно! так не вовремя! — ему не дали сделать... Но и когда выигрывал он, Игорь Евгеньевич весело спрашивал: «Ну как? Теперь — реванш?».
В спорте явственно проявлялись две черты И.Е.Тамма — мужество и детскость. Азарт являлся следующим их звеном. Альпинизм, плавание с аквалангом, верховая езда, лыжи. Главным требованием, предъявлявшимся им к спорту, было — как можно больше движения! Гребля, теннис, волейбол... {95}
Летом 1954 г.1 дед отдыхал на Алтае. Сохранилась забавная справка:
«Тов. Тамм И.Е. за время нахождения в учебном альпинистском лагере «Ак-Тру» ДСО «Наука» в Сев.- Чуйском хребте с 14 июля по 2 августа 1954 г. совершил восхождение:
31.VII, Пик Тамма, категория трудности — 16, маршрут — снежный»..»2
Возвращаясь в Москву, он добирался через Бийск до Новосибирска местными линиями. В аэропорту в Новосибирске толпились люди, в кассы были громадные очереди, а Игорь Евгеньевич очень торопился. Достав свое «геройское» удостоверение, он спрашивал, нельзя ли ему получить билет вне очереди? Поглядев на его внешний вид: загорелый, небритый, обветренный, седой, в мятой клетчатой ковбойке и в грубых ботинках, с обтертым выцветшим рюкзаком (тогда туризм был еще очень слабо развит, особенно в тех местах, и догадаться, что это турист, было трудно), — ему ответили: «Можно, дедушка, вон там и объявление висит, да вы, верно неграмотный, давайте мы вам прочтем...» Игорь Евгеньевич с удовольствием вспоминал этот эпизод, гордясь, что его по-видимому приняли за знатного чабана...
Игорь Евгеньевич часто говорил о том, что формирование человека как личности, его мировосприятия и убеждений завершается очень рано. По его мнению, черты характера, моральные качества и основные интересы могут эволюционировать только в слабой степени, а главные определяющие черты личности, раз сложившись, остаются в течение всей жизни неизменными. Конечно, это убеждение было основано на осмыслении им собственной жизни. Поэтому вдвойне интересны юношеские записи Игоря Евгеньевича. Многое из того, что было высказано им в последние гимназические годы или в студенчестве — в Эдинбурге и в Москве, действительно хорошо согласуется с тем, как он поступал до конца своих дней. Я буду перемежать некоторые рассказы Игоря Евгеньевича небольшими отрывками из его нечастых дневниковых записей. Постоянного дневника у него после 1914 г. никогда не было, но он выписывал понравившиеся ему отдельные места и афоризмы из прочитанных книг, иногда записывал свои размышления — в юности в тетради, а с 30-х годов в записные книжки. {96} Записи всегда были отрывочны, но они характеризуют его убеждения и интересы.
Игорь Евгеньевич вспоминал, что еще в первых классах гимназии понял, что бога не существует. Он стал систематически прогуливать уроки «закона божьего». Довольно долго это ему сходило с рук; как оказалось впоследствии, «батюшка» считал Тамма из-за фамилии лютеранином, а иноверцы не должны были посещать эти уроки. Но однажды, когда его отец, Евгений Федорович, был вызван совсем по другому поводу, случайно выяснилась правда о вероисповедании. Игоря обязали под страхом исключения из гимназии посещать, и притом регулярно, ненавистный ему урок. Но атеизм сына перестал быть тайной для семьи. «Родители говорили со мной на эту тему только один раз, — вспоминал Игорь Евгеньевич, — они сказали мне, что я имею право на любые убеждения, но, если я хочу окончить гимназию, должен присутствовать на “законе божьем” и не доводить дела до “волчьего” билета (т.е. исключения из гимназии без права поступления в другое учебное заведение)».
Процитирую здесь «Срочную ведомость» (то, что теперь называется «Табелем») «об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика 7-го (предвыпускного. — Л.В.) класса Елизаветградской гимназии Тамма Игоря за 1911/12 учебный год»: «Годовая отметка:
русский язык — 3; латинский язык — 31; алгебра — 5; тригонометрия — 4; физика — 4; история — 4; немецкий язык — 4; французский язык — 4; поведение — 4. Постановление педагогического совета: переводится в VIII класс. (Замечания на обороте) — 2 ч. (четверть). Уклонение от посещения утренней молитвы и богослужения, частые опоздания к урокам. 3 ч. Частые опоздания на молитву (31), нарушения порядка и постороннее чтение на уроках...». Прошло пять лет со времени первого конфликта с «батюшкой», угроза исключения миновала, и Игорь перестал заставлять себя посещать никчемные молитвы.
Вот запись 13-летнего Игоря Евгеньевича. Из «К звездам» Л.Андреева:
«[Трейч]: Надо идти вперед. Здесь говорили о поражениях, но их нет. Я знаю только победу. Земля — это воск в руках человека. Надо мять, давить — творить новые формы... Но надо идти вперед. Если встретится стена — ее надо разрушить. Если встретился гора — ее надо срыть. Если встретится пропасть — ее надо перелететь. Если нет крыльев — их надо сделать... Если небо станет валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его. Но надо идти вперед, пока светит солнце.
[Лунц]: Оно погаснет, Трейч! {97}
[Трейч ]: Тогда надо зажечь новое... И пока оно будет гореть, всегда и вечно — надо идти вперед. Товарищ, солнце ведь тоже пролетарий!»1 (Записано в марте 1909 г.).
Записи в «Календаре для учащихся на 1909–1910 уч. г.» (Воспитанника 5 кл. Елизаветгр. гимназии Игоря Тамма):
«Онтогенез представляет собою укороченное повторение филогенеза» (Э.Геккель. «Биогенетика»).
“Психические явления в царстве протистов образуют мост между неорганическими химическими процессами, с одной стороны, и духовной жизнью высших животных — с другой» (Ферворн. «Общая физиология»).
Вот два эпиграфа и начало статьи Игоря Евгеньевича 1909 г. (ему было 14 лет!):
«Единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время — есть тюрьма» (Л.Н.Толстой).
«Война священна только за свободу» (Дж.Байрон):
«6.XI. Я знаю, многие сочтут мою статью не соответствующей времени. Но я убежден в ошибочности этого мнения. Социально-политические идеи интеллигенции и сознательной части массы накануне пятого года коренятся в глубокой древности...»
«10.XI... Говорили и говорят, будто «увлечение» социализмом прошло навсегда, будто сам он канул в вечность. Так ли это? Доктрина исторического экономизма (материализма) является теперь, можно сказать, общепризнанной...»
«11.XI. Кто не согласен с тем, что час капитализма в передовых в экономическом отношении странах уже пробил? Что агония уже наступила, хотя она и продолжится, по всей вероятности, очень и очень долго?».
«11.XI.1909....Разве Земля не прогрессировала, превратившись из массы сгущенных паров в покрытый охлажденной корой тар? Разве не прогрессировала организованная природа, пройдя стадии биофории, монеры, амебы, простейших, кишечнополостных и т.п. до млекопитающих и Человека Разумного включительно? А ведь последний появился только 2 миллиона лет тому назад2, бесконечно малая величина в жизни Земли...» {98}
«Успех социализма можно считать прогрессом, так как общество, которое сменит общество капитала, будет обществом социалистическим» (1909–1910).
«(Осень 1910)... Весною этого, 1910 года я, стоя у кафедры на уроке латыни прочел брошюру Гэда1 «Коллективизм», где мне очень понравилась следующая мысль. На заре человечества все занимались физическим трудом. В древности, во времена восточных монархий, Греции и Рима, рабы, проводя жизнь в тяжких трудах, давали тем самым господам возможность двигать «культуру». В средние века роль древних рабов исполняли крепостные, в новое время — пролетарии. В будущем же рабом станет машина, и ее работа даст всему человечеству возможность наслаждаться радостями жизни и возможность умственной работы».
«27.XI.1910 г....Необходимой предпосылкой моей этики является полный материализм, т.е. отрицание Божества, души и ее бессмертия, словом, сведение всех явлений к физико-химическим...»
«29 мая 1911 г... Я хочу (и хотел всегда) быть правдивым с самим собой. Всегда и во всем».
«11 марта 1912 г.... Нужно новое обоснование жизни... Я, как крайний оптимист, все думаю, что новое, всецело меня поглощающее, скоро придет... Чем может быть «новое поглощающее?» Наука меня не удовлетворит... мещанином не буду. Остается только революция. Но сможет оно («новое поглощающее». — Л.В.) оказаться всецело поглощающим? Вопрос. Примат чувства над мыслью».
«18 марта 1912 г. “Всяк кузнец своего счастья”. Как результат ковки зависит от кузнеца, так и жизнь человека зависит от него самого, от его поступков. Но тут надо сделать оговорку. Как кузнец не может из металла создать все то, что он, быть может, хочет создать, так и человек не всегда может сделать свою жизнь такою, какою хотел бы сделать. Работа человека во всех отношениях тяжелее работы кузнеца. Кузнецу не понравится сделанная вещь, он ее отбрасывает и начинает другую. Не то человек. Если жизнь не удалась, ее нельзя отбросить и начать другую — жизнь прошла, пропала, и ее не воротишь. Значит, каждый человек еще в начале жизни должен решить, что ему сотворить из нее. “Всяк кузнец своего счастья”. Всякий должен делать себе счастье, а не ждать, пока оно повалится с неба. Но для этого надо обладать верой в себя, в свои силы. Пусть счастье недостигаемо, пусть оно даже не истинное счастье, но сам процесс “делания” его — доставляет счастье. Индивидуальное развитие личности и стремление {99} ее завоевать счастье идет наряду с общим стремлением человечества улучшить свое положение, хотя многие индивиды здесь действуют бескорыстно, только для блага будущих людей».
Записи 1912–1913 гг.:
«Прежде чем работать над другими, работай над собой».
«На чувстве философской системы нельзя основать, так как, как бы ни сильна была вера, всегда появится сомнение, требующее опровержения доводами от разума».
«Христианство гибнет, так как мысли в нем слишком мало места».
«Основная идея: «Добро, красота и истина существуют».
«Везде, всегда, во всем происходит эволюция. Человеческий индивидуум, как и все человечество, может только замедлять или ускорять эволюцию. Задача человека — способствовать эволюции. В социальном вопросе: против существующего порядка вещей, так как: 1) он противоречит основной идее; 2) эволюция социального быта уже назрела...»
«Делай, что нужно делать сейчас, и не думай о будущих действиях» (Л.Н.Толстой).
Расскажу со слов Игоря Евгеньевича, почему он после окончания гимназии поступил в Эдинбургский университет. В последних классах он занялся подпольной деятельностью, ходил в марксистский кружок рабочих завода Эльворта, участвовал в маевках и митингах... Родители, хорошо знавшие решительный характер сына и его способность к отчаянным действиям, очень боялись за него. Они особенно опасались, как бы, если Игорь поступит в Московский или Петербургский университет, его учеба не закончилась арестом и поселением в «местах, не столь отдаленных». Они горячо убеждали его ехать учиться за границу, аргументируя тем, что ему будет полезно расширить свой кругозор и, кроме изучения наук, освоить еще один язык. Поэтому предлагался не какой-нибудь из немецких или французских университетов, а шотландский (немецкий и французский язык изучался в гимназии). Против Лондонского же университета родители возражали, обосновывая это тем, что «жизнь такого огромного города будет отрывать от серьезных занятий». Более серьезной, невысказанной причиной их возражений было, конечно, то, что Лондон в те годы «бурлил». В нем были очень сильны революционные настроения, в частности среди многочисленных русских политических эмигрантов. Это не был приказ, но горячая просьба матери — Ольги Михайловны. Она сказала сыну, что очень беспокоится за его отца, Евгения Федоровича, у которого такое плохое сердце, если с Горой что-нибудь серьезное из-за политики случится. И, как ни тяжело было ему поступиться {100} решительным и открытым участием в настоящей политической жизни, ее просьбу он выполнил.
В 1913/14 академическом году он только «наездами» бывал в Лондоне, встречался с русскими политическими эмигрантами, однако тайно от родителей (хотя это все и не могло угрожать ему репрессиями). Из тихого Эдинбурга он все время рвался к революционной жизни: сначала Лондона, — думал о переходе в Лондонский университет (конец 13-го — начало 14-го года), потом — Петербурга или Москвы (с весны 14-го года). Наконец, он не выдержал и написал матери о своем непреклонном решении с осени продолжать учебу уже в России.
Добавлю еще одну любопытную подробность — в Эдинбурге в 1913 г. Игорь Евгеньевич поступил на химический факультет. Кроме первого курса химии, он должен был прослушать вводный курс инженерного дела (летний семестр), математику (первый курс), заниматься в химической лаборатории (три семестра) и физической лаборатории — практической физикой (50 занятий). Математику читал знаменитый Эдмунд Тейлор Уиттекер1. Вскоре Игорь Евгеньевич, кроме первого курса, взял по математике дополнительно переходный курс (со сдачей экзаменов в течение трех семестров) и второй (три семестра). Но он не ограничился и этим, хотя математика второго курса была для него уже действительно сложна (как он с самоиронией вспоминал), и посещал еще лекции по английской литературе, французскому и немецкому языкам. Выбор физики определился окончательно только летом 1914 г. В конце мая 1914 г. пришло письмо от Ольги Михайловны. Вот несколько строчек из него: «...очень грустные мысли о твоем будущем, мысли, которые, собственно, ни днем, ни ночью не дают мне покоя. (...) Пришли мне для пересылки в Политехникум прошение с удостоверением, что ты учишься в Эдинбурге, — копии твоего аттестата приготовляем» (13.V.1914 г.)».
Возвращаясь на летние вакации в Россию, Игорь Евгеньевич уже твердо знал, что ничто не заставит его вернуться в Эдинбург, в этот «лучший город в мире», как он писал про него 30 августа 1913 г., по крайней мере вернуться для того, чтобы продолжать учиться в стенах его старинного университета! И на пути в Россию он еще не решил, где для него начнется следующий учебный год — в Петербурге? в Политехникуме? в Москве? В Московском университете? И теперь он уже не хотел, как мечтал всего несколько месяцев назад, чтобы его занятия продолжались даже в Лондоне!
Приведу несколько выдержек из писем Игоря Евгеньевича к Наталии {101} Васильевне из Эдинбурга, важных для понимания его мировоззрения:
[Без даты. Начало сентября (август ст.ст.) 1913]. «Относительно того, чтобы здесь совсем остаться, у меня и мысли не бывает. Хорошо это здесь годик провести, а за большее покорно благодарим».
«8.IX (26. VIII). Принимаю живейшее участие в политической жизни страны — моей второй родины. Вчера голосовал резолюцию, выражающую строжайшее порицание английскому правительству.... Был официальный митинг рабочей партии (J.L.P.), на котором была принята резолюция, о которой я только что писал и за которую голосовал поднятием руки. Между прочим, к ирландской полиции, избившей рабочих в Дублине, было применено определение «русские хулиганы». Я очень обрадовался упоминанию о родине...»
«20/7.IX....Был в воскресенье на митинге “мужского союза борьбы за избирательные права женщин”...»
«23./10.IX....C “цветными” студентами не имеют дел, чуждаются. Объясняют это тем, что они народ безнравственный, но я уверен, что это просто кастовые предрассудки. Я, конечно, буду с ними демонстративно знакомиться при случае».
«12.X/29.IX....Слушали уже две лекции ... Поразила меня аудитория — лица, за исключением цветных, как на подбор глупые — да и понятно — все аристократы».
«11.IX....Поступил членом в студенческий социалистический кружок (дома этого знать не должны). ... Поражает состав членов — все милые, симпатичные люди, совершенно непохожие на обыкновенных английских студентов с их странной смесью развязности с чопорностью и с единственным кумиром — спортом.... Очень часто и подолгу видимся с Дмитриевым... образованный очень, кончает медицинский и едет в Россию, чтобы крестьян бунтовать: “А медицина моя, — говорит, — в ссылке пригодится”».
«20/7. XI.... Начал читать “Капитал” Маркса. Жалею только, что не мог достать его по-немецки».
«18/5.I.1914....В отношении экономики расшевелился — Лондон расшевелил. Там попал в русскую библиотеку и очень много времени в ней проводил. Подчитал нелегальщины...
Только социалист может быть последовательным антимилитаристом».
«22/9.II. Повел меня знакомый армянин в Международный Клуб. В нем представлены 26 различных национальностей и стран.... негр из Тринидада — рассказывал о положении негров в Америке, я ему — о евреях в России... Шел домой с голландцем с трехаршинной умопомрачительной фамилией и негром Вост. Африки. Как-то случайно {102} упомянул о том, что я враг не только официального христианства, но и религии вообще. Смотрю, мой голландец краснеет. Оказывается — тоже будущий миссионер — третий за вечер.... Но лучше всех — отдай все, да мало — негр (второй). Я в последнее время все слышу, что англичане творят невероятные гадости в своих колониях. Но все не мог получить сведений из первых рук. Мой негр — сама ярость. Захлебываясь, говорит об убийствах цветных, грозит, что скоро цветной мир проснется и сметет поработителей, так что и духу их не останется; говорит, что каждый негр уезжает из Англии с ненавистью в душе и с мечтами о мести ... Так много разных людей в один вечер... Одна из очень и очень немногих хороших вещей в этой ненавистной добровольной ссылке».
Запись в тетради: (Эдинбург, январь, 1914 г.)... Цель жизни теперешних поколений — познание смысла жизни. Многочисленные мыслители, художники, ученые, писатели и т.п. стараются подойти поближе к этой цели. Чем больше знания, тем легче познать смысл жизни. Поэтому не лишние никакие исследования, никакие науки, даже называемые “бесполезные”. Но ведь познание смысла жизни самый насущный вопрос. И вопрос о времени достижения, или даже только приближения к цели, есть вопрос жизни и смерти, как духовной, так и физической, для многих и многих поколений».
Началась первая мировая война. Вопрос о продолжении учебы за границей окончательно отпал. Наконец был, теперь же совершенно самостоятельно, избран физико-математический факультет Московского университета. Прочитанные за лето серьезные книги по физике увлекли его. Еще очень мало известная ему область современной физики немного приоткрылась и манила. А Московский университет был выбран потому, что в Москве учились друзья-елизаветградцы — Наталия Шуйская, Борис Завадовский и Борис Гессен... Тамм уехал в Москву и поступил в университет. Год в Эдинбурге был ему засчитан.
Записи (Москва, 1915 г.): «...Смогу ли я бросить несущественную еще “политику”? Я замалчивал перед собой страх перед наполненной бедствиями “политической” жизнью. Да, так вот, я допускал будущее, посвященное науке. И я не видел, что это было бы смертью души. В конце концов тем же интеллигентным мещанством, страх перед которым, может быть, единственный глубокий страх во мне. Очень легко помириться с необходимостью отложить всякую “политику” на год. О начале своей “политики” думал — правда, неясно — как о пробе и сожалел, что проба такова, что приходится сжигать за собой корабли. Вообще я совершенно не заметил, как измельчал...» {103}
Эта запись примечательна. Игорь Евгеньевич еще в Елизаветграде вступил в РСДРП и вскоре присоединился к течению меньшевиков-интернационалистов. На мой вопрос, почему он, вступая в РСДРП, стал именно меньшевиком, а не большевиком, дед очень просто ответил, что он не разбирался в оттенках партийных программ, а большевистской фракции РСДРП до осени 1917 г. в Елизаветграде вообще не было1.
В 1914–1915 гг. война у многих еще вызывала оборонческие настроения. У других, настроенных революционно, она зарождала надежду, что война приведет воюющие страны к революционной ситуации внутри каждой из них. Ко вторым относился и Игорь Евгеньевич. В том, что война неизбежно приведет к революции, он был убежден уже с осени 1914 г. Игорь Евгеньевич всегда был убежденным интернационалистом. Он верил, что революция вспыхнет и в России, и в Англии, Германии, Австро-Венгрии... Он думал о том, что и ему надо бы попасть на фронт — пропагандировать солдат. Тяжелые потери на фронте вызывали и иное чувство: он должен что-нибудь в меру своих сил сделать для спасения раненых — этих неоправданных жертв несправедливой, враждебной интересам простого народа войны.
Весною 1915 г. Игорь Евгеньевич вступил во Всероссийский земский союз Красного Креста. Многие университетские товарищи сделали то же.
Вот одна из записей в записной книжке 15-го года: «Май. 5 — Реутово. Артиллерийская дуэль — батарея. Неудавшаяся поездка за ранеными.. — Безумная ночь. 300 раненых. 10 — окопы... 24 — первый обстрел (шрапнель). 27 — второй обстрел (гранаты). 27–28 — послан относительно бани и путей. Окопы...»
В 1916 г. начались призывы в действующую армию студентов. Оказаться на фронте, но уже не «братом милосердия» и не пропагандистом, а солдатом Игорю Евгеньевичу, чуждому «оборонческих» чувств, казалось ужасно глупым. Выход для него был только один — записаться добровольцем в какое-нибудь военное учебное заведение, готовящее офицеров, с тем чтобы максимально протянуть время. Уверенность в том, что революция уже не за горами, не оставляла его. И он (так же сделали и некоторые его товарищи-студенты) отправился {104} поступать в Артиллерийское училище. Добровольцы проходили земскую врачебную комиссию. Комиссия его забраковала. И.Е.Тамм, беспокоясь, что, не принятый сейчас в училище из-за непрохождения врачебной комиссии, он позже будет призван обычным порядком на фронт, бросился в другое земство. Теперь, на следующей земской врачебной комиссии, его вторично забраковали и строго предупредили, чтобы больше проходить комиссию в других местах не пробовал. Оказалось, что он сразу же — еще первой комиссией — был освобожден от призыва полностью и бесповоротно. Можно было вновь, теперь уже не опасаясь никакого призыва, спокойно — как мог в 1916 г. спокойно студент-марксист, ожидавший революции с уверенностью и нетерпением, — посещать университетские занятия.
Хочется привести отрывок из одного письма1, полученного Игорем Евгеньевичем в 1953 г.:
«Глубокоуважаемый Игорь Евгеньевич!
Я Вас хорошо знаю и помню. В 1917 г. в первые дни февральской революции Вы прибыли, как первая ласточка, в Елизаветград... Вы самоотверженно и вдохновенно выступали на уличных, летучих митингах, особенно возле завода Эльворта, громили правительство Керенского и трусов-меньшевиков!...2 В некоторых местах, по молодости и энтузиазму, Вы даже взбирались на дерево и оттуда произносили зажигательные, вдохновенные речи!... Вы, под кличкой “Игорь”, пользовались большим авторитетом, и где Вы ни появлялись — Вас охотно все слушали! Я тогда жил в Елизаветграде и работал на Нефтебазе... Вашего отца хорошо знал по совместной работе в Городской Управе гор. Елизаветграда...»
В апреле 1917 г. Игорь Евгеньевич был «избран членом Бюро Исполкома СРКСД г. Елизаветграда»3, а в мае направлен в Петроград. Игорь Евгеньевич являлся депутатом (с решающим голосом) от Елизаветграда на I Всероссийском Съезде Советов рабочих и солдатских {105} депутатов, состоявшемся в Петрограде 3–24 июня (16 июня — 7 июля) 1917 г. На съезде И.Е.Тамм, как и вся фракция меньшевиков-интернационалистов, голосовал против «перехода в решительное наступление на всем фронте» и продолжения войны1. Из Питера Игорь Евгеньевич вернулся в Елизаветград, откуда в сентябре «выбыл для завершения образования в г. Москву...»2.
Об осени 1917 г. Игорь Евгеньевич кратко рассказал в письме писателю К.Г.Паустовскому, написанном в конце 1957 г. Вот отрывок из письма Игоря Евгеньевича к Константину Георгиевичу: «Читал Вашего “Тараса Шевченко” в палатке на леднике Сагран, на Памире......
Поразительный параллелизм наших судеб выявился теперь в “Начале неведомого века"3. Дни Октябрьской революции в Москве я провел в каких-либо 50 метрах от Вас, в доме 22 по Никитской улице...4 Вечером первого дня я хотел выбраться из него в Совет, но был задержан белым патрулем, который стибрил у меня револьвер и водворил в дом (сказалось ли то, что я был в студенческой форме?). Пожар дома Коровина по ночам освещал нашу комнату на 6-м этаже...» В ночь на 3 (16) ноября белогвардейцы были разбиты. В Москве установилась власть Советов. Усидеть на месте было невозможно, тянуло в родной город, все в жизни менялось.
И Игорь Евгеньевич уехал к родителям. В январе 1918 г. он был «назначен помощником заведующего биржей труда и инструктором профсоюзов г. Елизаветграда»5.
Но недолго Игорь Евгеньевич Тамм пробыл и в родном Елизавет-граде — город заняли белые. Вот еще несколько кратких, но очень интересных записей из «Трудового списка» Игоря Евгеньевича: «1918, май. Назначен инструктором Центрального Бюро профсоюзов г. Киева» (запись 5).
«Июль. Аресты (4 дня) оккупационными немецкими войсками по обвинению в организации всеобщей забастовки» (запись 6). «Август. ... Выбыл... из г. Киева для завершения образования в г. Москву» (запись 7).
Вот отрывки из письма Игоря Евгеньевича Ольге Михайловне в Елизаветград: «Я очень много работаю. ... Профессор окончательно сказал, что, как только закончу государственные экзамены... он представит факультету на утверждение в качестве оставленного при кафедре. Мельком упомянул, что меня надо будет командировать в {106} Англию для усовершенствования — но это, конечно, пока лишь слова.... С преподавательским местом много возможностей, но пока они возможностями и остаются. ... Возился с экзаменами и, главное, с сочинением.
... Некогда было искать место. Все же приходиться начинать жить пока в долг. Как оставленный при университете буду получать около 500, но когда это еще будет. Продолжаю жить в мире книг, нигде не бываю, и жизненный поток течет мимо. Хочу к Рождеству окончательно выйти в люди, чтобы можно было спокойно работать над физикой, и притом самостоятельно, а не по указке. На Рождество обязательно, хоть через фронт, приеду — уже сейчас стосковался.... 15 октября нов. стиля».
«Октябрь. 30. 1918. Оставлен при Московском гос. университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре физики» (запись 8).
«Свидетельство физ.-математ. Испытательной комиссии от 31.Х.1918 № 122 в том, что И.Е.Тамм выдержал испытания по окончании курса Моск. Унив. и удостоен диплома 1-й степени».
Еще отрывок из того же письма Игоря Евгеньевича Паустовскому:
«... Как и Вы, я без пропуска пробирался зимой 18-го года из Москвы на Украину, только мне пришлось из Зернова в объезд вокруг Михайловского на телеге ехать прямо до станции Кролевец...»
Запись 9 из «Трудового списка»: «1919, февраль. Назначен заведующим Отделом внешкольного образования Наробраза г. Елизаветграда».
И снова — ненадолго — в Москву. 6 мая в Доме Союзов (Б. Дмитровка, д. 1) открылся I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. И.Е.Тамм был делегатом этого съезда. Здесь ему довелось слышать В.И.Ленина (в частности, знаменитую «Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства») и А.В.Луначарского...
Приведу его рассказ по записи, сделанной мною с его слов 31 июля 1968 г.: «Ленина ни в президиуме, ни в зале не было. Выступал какой-то оратор, очень нудно и долго говоривший о каких-то пустяках. И вдруг (мне было видно с моего бокового места) — небольшая дверь за сценой отворилась и вошел Ленин. Он пригнулся, чтобы не обращать на себя внимания, зашел за колонну и присел за ней на приступок. Из зала он почти никому не был виден, лишь сидевшим с того же края, где и я. Но из президиума его, конечно, увидели и стали знаками приглашать за стол. Ленин только еще ниже пригнулся и отрицательно помахал рукой. Его еще настойчивее звали занять освободившееся место в центре — там подвинулись. Но он так же упорно отказывался, а потом вообще перестал поднимать голову и стал сосредоточенно перебирать листки с записями, лежавшими у него на коленях. Все, кому был виден {107} Ленин, совсем бросили слушать выступавшего и глядели на Ленина. Оратор давно исчерпал регламент, за столом президиума нервничали, а Ленин терпеливо сидел за колонной с записями на коленях. И лишь когда выступавший, наконец, сошел со сцены, Ленин вскочил и стремительно поднялся на трибуну. Зал зашумел, приветствуя его, но едва он поднял руку — мгновенно затих...»1.
Из «Трудового списка»: «1919, август. Эвакуировался в г. Киев ввиду приближения белых (запись 10). И последний отрывок из письма к Паустовскому: «... осенью 19-го года я, как и Вы, жил в Киеве (в советские дни на Шулявке), и когда была объявлена мобилизация2, я, как и Вы, перебрался в Одессу, а оттуда в Крым — с чемоданом и липовыми бумажками о том, что я еду ассистировать физику в Крымский университет.
На этом пути (и потом в 20-м году, когда я через фронт пробирался из Крыма на север) я испытал столь большое число невероятных приключений, что редко кто верит моим рассказам о них...»
Об одном из этих приключений, и едва ли не самом драматическом из всех, расскажу со слов деда. Летом 1920 г. он из врангелевского Крыма решил выбраться в Елизаветград, уже освобожденный красноармейскими частями 14-й и 1-й конной армий. Шел Игорь Евгеньевич специально без документов. Они не годились ни для оправдания ухода с территории, занятой белыми, ни для перехода к красным. Перебрался через линию фронта благополучно, да сплошной линии и не было. На ночлег вместе со случайным попутчиком решили остановиться в пустом доме какой-то брошенной хозяевами усадьбы... Тут-то их и задержал красный отряд. Документов ни у того, ни у другого. Ясное дело — белые лазутчики — расстрелять! На счастье деда, командиром отряда оказался недоучившейся студент. Он мрачно усмехнулся, услышав объяснение Игоря Евгеньевича, что он, мол, окончил физико-математический факультет Московского университета.
— Ах, ты — математик! Врешь, наверное? Но мы тебя проверим. Вот! Выведи мне формулу разложения функции в ряд Тейлора. И вид остаточного члена! Сумеешь — освободим. Не сможешь — тебя с твоим приятелем — к стенке.
Игорь Евгеньевич получил карандаш, клочок бумаги и свечку. Притащили им охапку свежего сена и заперли. {108}
— Спутник мой успокоился и быстро дал храпака... А мне было не до сна: снаружи у двери — часовой, и сроку — до утра.
Игорь Евгеньевич нервничал — на карте стояла не только его собственная жизнь, но и жизнь его «ни в чем не повинного товарища».
— Я волновался, и поэтому у меня ничего не получалось. Правильный путь решения я наметил, но где-то ошибся и запутался. До рассвета проклятая ошибка никак не находилась!
Утром, хотя вывода так и не было, командир убедился, что вычислял, безусловно, человек, знающий математику. Игорь Евгеньевич попросил указать на его ошибку.
— Знаешь, — ответил командир, — я сам-то разложить функцию давно не могу... Все позабыл — третий год, как университет бросил. Это я тебе просто так вчера строго сказал.
Спутника деда отпустили, а его самого — нет, хотя и накормили. Белые перешли в наступление, и Игорь Евгеньевич вместе с этим красным отрядом, где он был на положении «пленного», попал вместо Елизаветграда в Харьков. В Харькове одному из солдат было поручено сдать его в ЧК.
— В ЧК с тобой быстро разберутся...
— Так мы и пошли вдвоем — я, без документов, в городе, где у меня никаких знакомых не было, и рядом — конвоир с ружьем. И вдруг в одной из газет, расклеенных на улице, попалась знакомая фамилия: Гайсинский — раньше он у нас в Елизаветграде был редактором в «Голосе Юга», хороший папин знакомый и меня знавший прекрасно. Его адрес я успел запомнить...
Конвоир, как выяснилось, родом из Мелитополя, Харькова не знал, поэтому выбирать дорогу он предоставил самому Игорю Евгеньевичу.
— Где находится ЧК, нам объяснили, Харьков я помнил неплохо и, узнав адрес Гайсинского из газеты, сразу же решил сделать крюк, чтобы попытаться зайти к нему.
Когда они поравнялись с нужным домом, Игорь Евгеньевич уговорил солдата «на один момент» зайти. Позвонили — открыла жена Гайсинского, которая тоже его хорошо знала. Игорь Евгеньевич стал объяснять, что с ним случилось, а конвоир торопил:
— Пошли, — говорит, — твой момент прошел!
— Он торопился, сдав меня, успеть поскорее на вокзал — ехать в Мелитополь — хотел успеть туда прежде, чем белые возьмут город. Но я все жене Гайсинского успел рассказать, и то, что сейчас ведут меня в харьковскую ЧК...
С идентификацией личности помогли супруги Гайсинские и спешно приехавший из Елизаветграда брат Игоря Евгеньевича — Леонид Евгеньевич. Так окончилась эта «одиссея», и он был освобожден. А в {109} ноябре с рекомендательным письмом от Александра Гавриловича Гурвича И.Е.Тамм был уже у Леонида Исааковича Мандельштама в Одессе.
Недолгий период жизни Игоря Евгеньевича, связанный с техникой, — самое начало 20-х годов. После года работы в Симферополе, где с ноября 1919 г. по август 1920 г. он был «старшим ассистентом физики Симферопольского университета», как только что было сказано, Игорь Евгеньевич перебрался в Одессу. Здесь, поработав несколько месяцев сотрудником Наробраза г. Одессы и заведующим Губпрофобром Одесской губернии, И.Е.Тамм в январе 1921 г. был назначен ассистентом кафедры физики Одесского политехникума. Но в голодных 1921–1922 гг. преподавание не могло обеспечить даже прожиточного минимума. Небольшой группе ученых, преподававших в Политехникуме, приходилось искать дополнительную, «хлебную» работу. Для физиков такая возможность работы по специальности была на Одесском радиотелеграфном заводе, организованном в 1919 г. и просуществовавшем до 1924 г. При помощи Л.И.Мандельштама (принявшего живое участие в его судьбе и рекомендовавшего Тамма на кафедру физики) 31 января 1921 г. Тамма зачислили лаборантом Государственного радиотелеграфного завода г. Одессы. В заводской лаборатории под руководством Леонида Исааковича Мандельштама и Николая Дмитриевича Папалекси проводились технические испытания. Группа энтузиастов из числа студентов и преподавателей, входивших в заводскую лабораторию, организовала починку рентгеновских трубок. Они назвали свою группу «вакаром» — вакуумной артелью. Но вскоре у «вакаров» осложнились отношения с администрацией завода. Всех энтузиастов уволили. В письме домой от 28.01.19221 Игорь Евгеньевич писал: «...С заводом дела почти выяснились — под видом сокращения штатов уволен сегодня я, Щеголев, Стахорский, Бек... и целый ряд других. <...> Идут еще переговоры об организации нами под руководством профессора починки рентгеновских трубок на заводе, но я уверен, что это не пройдет... <...> И так ровно год я прослужил на нем, порядочно подучился, так что в будущем, при лучших условиях, смогу себе найти радиотелеграфный заработок, но службу эту возненавидел — сплошное двуличие и интриги. <...> Первопричиной этому м.б. была организация нами «вакара», который рассматривается как конкуренция заводу. Теперь приложим все силы — Губздрав дает нам хороший рентгеновский кабинет, насосы и около 3-х мил[лионов] {110} на оборудование. Месяца два-три поживем на свои запасы, с помощью Политехникума, а жалованья (на днях получил 500 т[ысяч]) получаю по 2 ф[унта] хлеба в день аккуратно (а хлеба нет дешевле 30 т[ысяч]. <...> Работа все чрезвычайно интересная, отрасль такая, что приобретенные нами знания и опыт будут впоследствии очень высоко цениться. Прощай, опостылевший завод, да здравствует новый этап жизни».
Временно для «артели» был отведен крохотный закуток в помещении института. Но вскоре все опять переменилось. Заводу был поручен срочный правительственный (военный) заказ. Снова понадобились «вакаровцы». Вместе с другими Игорь Евгеньевич вновь зачислен лаборантом Радиотелеграфного завода 1 апреля 1922 г. Теперь «вакаровцы» занимались исследованием и разработкой радиоламп (типа Р-5 и более мощных) для нужд Черноморского флота. Работа начиналась под руководством Леонида Исааковича и Николая Дмитриевича. Но 13 октября Игорь Евгеньевич снова уволен с завода «за сокращением штатов», правда, с лестной характеристикой в выданном ему «Удостоверении»: (...) За время своей службы гр. Тамм проявил глубокие знания по радиотелеграфии и теоретической физике, вел самостоятельно ряд исследовательских работ, которые доводил до успешного конца. Последнее время гр. Тамм работал по исследованию катодных ламп и по организации производственной вакуум, мастерской». «Сокращение» объяснялось уходом с завода Л.И.Мандельштама перед его переездом в Москву. В тот же день, 13 октября 1922 г., И.Е.Тамм был «освобожден от должности ассистента Одесского политехникума по собственному желанию». Распрощавшись с одесскими товарищами, Игорь Евгеньевич отправился навестить родных в Елизаветграде, чтобы потом двинуться вслед за Леонидом Исааковичем в Москву.
Далее, думаю, будет интересно привести несколько выдержек из писем Игоря Евгеньевича 1922–1925 гг. домой.
Сразу же по приезде в Москву (понедельник, 6/XI.22): «... за 2, 5 дня в Москве у меня столько впечатлений, что мог бы написать целую книгу. А так как это невозможно и чтобы не задерживать письма, то напишу только о случайных вопросах, меня особенно в данную минуту занимающих. (...) ... из Харькова ехал батумским скорым. Несмотря на порчу паровоза и трехчасовой простой в поле, в общем ехал неполных двое суток. (...) Остановился в первую ночь у Завадовского, но так как у него уже остановился ректор Туркенстанского университета, то на неделю переехал в «Метрополь» к Смушковым1 — у них тоже три {111} комнаты, хотя и в разных этажах. ( ... ) Встретился со всеми своими очень хорошо. Теперь главное — пока у меня два больших разочарования. Во-первых, Мандельштам не только еще не приехал, но квартира его еще не обставлена, его еще, оказывается, окончательно не вызывали, и приедет, по мнению треста, в середине ноября, значит, фактически, дай бог, в конце месяца. Во-вторых, мне сразу предложили оба Бориса1 место научного сотрудника Научной Ассоциации при Свердловском университете. Паек, комната, жалованье, в общем — материальная обеспеченность и занятие своей научной работой и только — может быть, не больше 4-х часов в неделю лекций. ... Пойду сегодня к Предводителеву2 порасспросить его, и после начну знакомиться. Может быть, устроюсь прочно лишь через несколько недель, после приезда Леонида Исааковича. Но устроюсь-то, я, конечно, в конце концов прочно и хорошо, и я очень, очень рад, что переехал сюда. Здесь не прозябание, а интеллектуальная жизнь бьет действительно ключом.»
Здесь, в Москве, в ноябре 1922 г. Игорь Евгеньевич Тамм был назначен преподавателем физики Коммунистического университета им. Я.М.Свердлова, в феврале 1923 г. преподавателем физики Института инженеров путей сообщения (впоследствии Московский институт инженеров транспорта, МИИТ), а 1 мая 1923 г. — преподавателем физики 2-го МГУ (ныне Московский Государственный педагогический университет). Здесь в Москве, в 1923 г. Игорь Евгеньевич закончил свою первую научную работу «Электродинамика анизотропной среды в специальной теории относительности», начатую еще в 1922 г. в Одессе. В 1923 г. ему исполнилось 28 лет.
А вот что писал И.Е.Тамм в апреле 1925 г. в письме родителям (сохранился его черновик): «... у меня много приятного за это время, и я начну сейчас безбожно «хваштать», и притом по порядку. Не знаю, писал ли я вам, что ... с осени должна освободиться кафедра... во II-м Университете. ... Прочили меня на нее довольно уверенно, хотя у самого меня уверенности в этом не было. ... Последнее время что-то перестали говорить о том... но у меня есть ряд вполне достаточных утешений. Первая и давнишняя моя работа по относительности наконец переслана в Германию, передана была «самому» Эйнштейну, он нашел ее «sehr hübsch»3 и принял к напечатанию в «Mathematische {112} Annalen»1... Работу о магнетонах закончил, она уже получена редакцией «Zeitschrift für Physik»2, и думаю, что месяца через 2–3 она будет там напечатана. С работой этой была такая история. Я ее докладывал 3 институте у Лазарева3, случайно попал как раз на доклад приехавший из Питера акад. Иоффе4, который вступил со мной в очень упорную дискуссию, которая меня очень депрессировала. А затем выяснилось, что в Питере он рассказал о моей работе в совсем иных тонах, так что тамошний физик, занимающийся магнетонами, срочно меня о ней запрашивал и теперь, после личного свидания, отказался от своей теории и стал на мою точку зрения. ... Вообще мне бывший здесь Френкель говорил, что питерцы, и в частности — Иоффе, жалеют теперь, что не перетянули меня к себе осенью... Френкель, едущий в этом году на стипендию Карнеджи за границу (на год...), заявил, что он уверен, что во вторую очередь, в 1926 году эту стипендию дадут мне. Распределение стипендий в значительной мере зависит от бывшего в России осенью Эренфеста, а Эренфест отметил из ... московских физиков ... Фрумкина5 и меня. Фрумкину уже стипендия выхлопатывается. ... Будет ли это действительно так, конечно, еще большой вопрос, но мысль об этом будет меня ободрять. Дальше, есть у нас в Главэлектро6 два математика, которым я рассказал о своей работе, и в результате получил сегодня без всякой просьбы со своей стороны двухнедельный отпуск вне очереди, не в счет летнего годичного отпуска, специально для того, чтобы написать работу и развить мой метод! Неожиданность полная. Об этом можно говорить как о лучшей иллюстрации культурности советской власти...»
| {113} |
Здесь мне хочется сделать небольшое отступление. Я хочу привести цитаты из Чарлза П. Сноу1, который писал, конечно, не о советской физике, а о науке вообще. Но эти его слова мне кажутся знаменательными: «Ученые, которые пришли в науку до 1933 года, помнят атмосферу того времени.... Я рискну вызвать ваше раздражение... и скажу, что тот, кто не занимался наукой до 1933 года, не знает радостей жизни ученого. Мир науки 20-х годов был настолько близок к идеальному интернациональному сообществу, насколько это вообще возможно. Но не думайте, что ученые, входящие в это сообщество, относились к породе сверхлюдей или были избавлены от обычных человеческих слабостей ... Но научная атмосфера 20-х годов была насыщена доброжелательностью и великодушием, и люди, которые в нее окунались, невольно становились лучше2». Эти слова вводят нас в прекрасный мир дружественных и очень плодотворных — непосредственных — научных контактов между всеми большими учеными, в единый научный мир, существовавший до прихода фашистов к власти в Германии, Италии и Японии, до трагических событий второй мировой войны. Без этого короткого введения (а сказать короче и проще, чем Сноу, я не берусь!) кое-что в письмах Игоря Евгеньевича могло бы показаться странным и не очень характерным.
Еще в сентябре 1924 г. П. Эренфест слушал доклад И.Е.Тамма по релятивистской электродинамике. И доклад, и сам докладчик, по-видимому, понравились Павлу Сигизмундовичу (так Эренфеста называли русские физики). Когда был создан фонд Лоренца (в 1925 г. на пожертвования организаций и частных лиц, собранные во время празднования 50-летнего юбилея защиты Г.А.Лоренцем докторской диссертации), по предложению Эренфеста стипендия фонда была предоставлена И.Е.Тамму.
Из «Трудового списка»: «1928. 2 января. Отбыл в заграничную научную командировку в Голландию и Германию по приглашению и на средства Международного научного фонда им. Лоренца» (запись 33).
И.Е.Тамм прибыл в Лейден в конце января. Вот отрывки из нескольких писем родным из Голландии:
«(4.III.28) — Неделю заставлял себя работать бесплодно и злился, затем неделю махнул рукой на работу, ходил в кино, играл в шахматы, бильярд и теннис, ездил в Амстердам к Зееману, в Эйндховен на съезд {114} физиков, очевидно, отдохнул и развлекся и теперь опять в хорошем рабочем настроении. В ближайшие дни мы вчетвером (Шубниковы, Таня Эренфест и я) отправляемся в недельную поездку на велосипедах на юг, и я, раньше ожидавший эту поездку с нетерпением, даже недоволен, что придется оторваться от работы. Но, конечно, поеду... В сущности, я поступаю неправильно, что ничего еще из сделанного не написал для печати, но новые темы и результаты развертываются с такой быстротой, что для скучной ... подготовки к печати времени не остается. ... Как ни странно, но я все еще продолжаю расти в глазах Эренфеста, и он определенно делает мне рекламу.... Лоренц-фонд ... предварительно «купил» мое «согласие» остаться на лишнее время в Лейдене за 300 гульденов (250 рубл.), что только совпадает с моими собственными желаниями. В общем, может быть, самое важное, что эта поездка за границу укрепила во мне уверенность в собственных силах, или, вернее, породила эту уверенность.... Окончательно выяснилось, Дирак приедет 23-го апреля на 3 месяца — поучусь у гениальнейшего представителя молодой физики. Правда, говорят, что Дирак великий молчальник, что выудить у него слово стоит громадных трудов и что беседует он только с детьми не старше 10 лет.... За последнее время довольно близко познакомился с эренфестинятами. Павлик очень живой приятный мальчик; Таня ... робкая, во многом ребенок, несмотря на 22 года, но славная.... Хорошая математичка.... На съезде физиков в Эйндховене было очень интересно и оживленно. Я во время предшествующих своих поездок по Голландии познакомился с таким количеством физиков, что чувствовал себя среди знакомых, почти как на съезде русских физиков. ... Я великолепно понимаю французские доклады, но говорить совершенно не могу.... Сегодня я получил ответ от Белла на мое письмо (шотландец, знакомый по Эдинбургу), переписка развивается неожиданно интересно и дружески. Как странно, что у нас столько совместных интересов — научные (впрочем, он инженер-химик), примерно одинаковые политические взгляды и альпинизм ... предлагает совместно полазить в Альпах в начале августа.
Не знаю, хватит ли у меня денег и времени, но перспектива соблазнительна...»
«(8.III.28) ... Работа, которую делал с Эренфестом, отошла на задний план — он торопит ее печатанием, а мне не до нее. Позавчера докладывал ... большую свою работу Эренфесту и Клейну. Получила полное одобрение.... Клейн просил разрешение рассказать ее Дираку, к которому он едет на несколько дней в Кембридж. Тот же Клейн высказал предложения о возможности сделать из нее дальнейшие чрезвычайно важные выводы.... Я над ними сейчас работаю......Эренфест заявил, что об этом нужно немедленно написать Эйнштейну, я {115} воспротивился впредь до того, пока предположения подтвердятся строгими вычислениями... Я вообще в упоении, вчера докладывал Крамерсу, Эренфесту, Фоккеру, Клейну, Кронигу1 работу Дирака—Эренфест очень доволен. Сегодня был у Фоккера в Гаарлеме, послезавтра у Крамерса в Утрехте, на днях приедет Шредингер, познакомился с Бором. Эренфест не хочет отпускать меня из Лейдена до июня. Во всяком случае, я не оскандалился».
«(26.IV.28) ... Последнюю неделю мы целыми днями работаем с Эренфестом над одною проблемой, которая, по-видимому, однако, не разрешается, что Эренфеста огорчило гораздо больше, чем меня.... Он все время продолжает оставаться в подавленном состоянии, жалуется на отсутствие вкуса к жизни. Иногда мы с ним гуляем и вообще много говорим по душам — мне начинает казаться, что я, быть может, сейчас самый близкий ему человек в Лейдене. Жалко его очень. Последнее время у меня все неудачи в работе (не только в той, которую делали совместно с Эренфестом). По-видимому, меня пригласят на несколько дней в Гронинген — самый север Голландии — в физический институт. Завтра вечером приезжает Дирак».
(Черновик — без даты): «У меня в последнее время состояние похмелья — последняя работа, над которой сидел свыше месяца, не вышла...... По вопросу о первых моих работах здесь у меня тоже
зарождаются смутные сомнения. Таким образом, почти никаких положительных объективных результатов моего здесь пребывания. Конечно, я очень многому здесь научился, но могло бы быть больше. Чувствую себя идиотом. Быть может, частичная причина лежит в том, что мои критерии все повышаются — критерий Эренфеста для меня уже недостаточно высок (хотя это вовсе не значит, что я его превысил), теперь критерий — Дирак, а я чувствую себя по сравнению с ним глупым младенцем. Конечно, еще глупей вообще сравнивать себя с гением».
(Черновик — без даты): «... Дирак с большим терпением учит меня уму-разуму; мы с ним подружились, чем я очень горжусь...»
Отрывок из (черновика) письма Игоря Евгеньевича к В.И.Яковлевой2 по возвращении из заграничной командировки: «Влахернская (под Москвой), 4.Х.28.... Еще ранней весной мой патрон (Мандельштам) и мы, его сотрудники, получили приглашение в Питер к Иоффе. С той поры и по сегодняшний день длится состояние полной неопределенности — переезжаем, остаемся, переезжаем, остаемся и т.д. Вопрос десятки раз решался и перерешался; по-видимому, все же остаемся в {116} конце концов. Мандельштаму дают исследовательский институт, устраивают площадь под лаборатории, дают деньги; нашему теоретическому «уклону» — работу. За границей прожил 5 месяцев в Голландии и 2 — в Германии. Лучшие надежды остаются всегда неосуществленными — таков, по-видимому, закон природы, но все же очень доволен, особенно первой половиной пребывания за границей, когда работалось особенно хорошо. Последние же месяца два больше разъежал по съездам и просто для «sight seeing»1 лазал по Баварским «Альпам», бродил по Гарцу, Нюрнбергу, Мюнхену, Гамбургу и т.д. Особенно же рад тому, что близко сошелся и три месяца прожил вместе с истинным гением — Дираком. Не улыбайтесь высокопарному слову — оно точно соответствует действительности, и я знаю, что в старости буду внукам с гордостью рассказывать об этом знакомстве. А Вам надеюсь рассказать в гораздо более близком будущем. На наш русский съезд я опоздал. ... Гвоздем его было весьма важное открытие Ландсберга и Мандельштама, сделанное одновременно с индусом Раманом...»
В 1930 г. Игорь Евгеньевич совершил восхождение на кавказкую вершину в хребте Каргашили-тау, находящуюся в верховьях ледника Тютюргу (4304 м), «Тютюргу-баша». В этом альпинистском путешествии по Кавказу, кроме Николая Николаевича Парийского (руководителя группы), математика Бориса Николаевича Делоне2, Михаила Александровича Леонтовича и других, был и друг Тамма шотландец Джеймс Белл. О том, как они вдвоем с Беллом, возвращаясь из этого путешествия, по дороге в Москву решили навестить Марию Карловну Краузе, тетю Игоря Евгеньевича, жившую в Новороссийске, дед очень любил вспоминать: «Пропыленные и усталые, мечтая поесть, умыться и переодеться, мы очутились наконец у дома тети Мару си и позвонили. Домработница отворила, но, увидев на пороге двух подозрительных небритых людей в истрепанных костюмах, да еще с вещмешками, тут же захлопнула дверь у нас перед носом. Позвонили снова. Дверь приотворилась, теперь уже была навешена цепочка, и оттуда послышалось: «Кто вы такие?» Стал объяснять, что я племянник Марии Карловны, специально заехал ее повидать, что нам с моим другом негде больше остановиться, мы в городе никого не знаем... Еще раз оглядев нас с ног до головы через щелку, женщина строго сказала: «В дом я вас не пущу. Марии Карловны нету — она на службе. — И уверенно {117} прибавила: У Марии Карловны не может быть такого племянника-оборванца!» Дверь теперь уже окончательно захлопнулась. Было страшно жаркое утро. Денег у нас не осталось не копейки. Голод нас одолевал волчий! И пришлось нам сидеть с Беллом перед домом до вечера и ждать, когда тетя Маруся вернется с работы.»
29 апреля 1931 г. Игорь Евгеньевич во второй раз уехал в заграничную командировку, на этот раз в Кембридж (Англия) и Росток (Германия). Сохранился его отчет об этой поездке. Вот несколько мест из него: «Берлин — 1–2 мая, Лейден (Голландия) — 3—7 мая. В Лейдене, где я задержался по просьбе Института теоретической физики для доклада на коллоквии института и для бесед с сотрудниками... ознакомился с работами по теории металлов, ведущимися как в Лейдене, так и в Гронингене (проф. Р. Л. де Крониг приезжал повидаться со мной), и с экспериментальными работами Института экспериментальной физики, в частности — по сверхпроводимости и по магнитным и тепловым свойствам металлов при низких температурах.
Лондон — 8-го мая, Кембридж с 9 мая по 3-е июля с отлучками для поездки в Лондон и т.п. В Кембридже вошел в курс практически ведущихся там работ по теоретической физике. Особенное значение имело для меня тесное общение с д-р. Дираком — одним из руководящих современных физиков — и беседы с ним по принципиальным проблемам теории квантов и актуальным задачам, стоящим перед ней. В связи с его последней работой я в Кембридже сделал одну работу — «Об обобщенных шаровых функциях и т.д.». Задача ее — математическое исследование движения электрона в поле изолированного магнитного полюса, возможность существования которого отрицается классической теорией, но в последнее время вновь приобрела вероятность в связи с новой работой Дирака, доказавшего, что существование подобных полюсов не противоречит квантовой теории, и полагающего, что они могут играть существенную роль в построении ядер тяжелых атомов. ... Я много беседовал по научным вопросам с проф. Капицей, д-рами Моттом, Блэкеттом, Гэрни, с бывшими в Кембридже американскими физиками Морсом, Хустоном, Деннисоном и Дикэ1.... Росток — с 8-го июля по 29. В Ростоке... основное значение для меня имела совместная работа с проф. Иорданом по вопросам теории квантов. К сожалению, ограниченность имевшегося в моем распоряжении времени {118} позволила развить только математическую сторону вопроса, наиболее важное и интересное применение разработанных математических методов к интересовавшей нас физической проблеме остается делом будущего. Физическая проблема заключается в разыскании реального, а не формального только синтеза теории квантов и теории относительности, выполненная же нами математическая работа состояла в построении неассоциативной алгебры (вернее — алгебры «смягченной» ассоциативности), которая будучи интересной с чисто математической точки зрения, может, как нам представляется, оказаться необходимой при разрешении физической проблемы. ... Со стороны всех я встретил самое внимательное и предупредительное отношение, а со стороны Дирака и Иордана — прямо заботливое. Отношение ... к СССР прежде всего характеризуется чрезвычайно острым интересом, в ряде случаев (например — Блэкетт, Вирсма и др.) — весьма сочувственным. Многие из них уже бывали в СССР ... даже по нескольку раз, все стремятся посетить СССР, а некоторые склонны переехать к нам на постоянную работу (Эренфест, Вирсма, Гэрни). Конечно, мне приходилось встречаться и с резко отрицательными отношениями к СССР, но — странным образом — не среди физиков!... По приглашению Общества культурной связи с СССР я выступил на организованном этим обществом в Лондоне собрании с докладом... и повторял... доклад... в Кембридже.... Я придаю основное значение даже не столько непосредственно выполненным... работам... как ознакомлению с развитием работ по теоретической физике, с постановкой новых проблем... и непосредственному научному обобщению, беседам, дискуссиям... с рядом виднейших физиков. Эти результаты не могли бы быть достигнуты ни путем чтения научных журналов, ни путем личной переписки с заграничными учеными.» (21 октября 1931 г.).
В 1934 г. Павлом Алексеевичем Черенковым, в то время аспирантом Сергея Ивановича Вавилова, был открыт новый вид свечения, получивший название излучения Вавилова–Черенкова. Через три года (в 1937 г.) Игорь Евгеньевич и Илья Михайлович Франк полностью объяснили это явление. Они показали, что источником свечения являются быстрые электроны, пролетающие через вещество с постоянной скоростью, превышающей скорость света в веществе. После создания теории относительности все до Франка и Тамма считали такое излучение невозможным. Вот отрывок из нобелевской лекции, прочитанной И.Е.Таммом в Стокгольме 11 декабря 1958 г.: «Когда наша работа была уже в основном закончена, акад. А.Ф.Иоффе указал {119} нам на работу А.Зоммерфельда1, опубликованную в 1904 г., в которой рассматривалось поле электрона, движущегося с постоянной скоростью, большей, чем скорость света, и была вычислена сила сопротивления такому движению, вызванная испускаемым электроном излучением. Однако Зоммерфельд рассматривал движение электрона только в вакууме. Годом позже возникла теория относительности; движение, рассмотренное Зоммерфельдом, оказалось, согласно этой теории, невозможным, и работа Зоммерфельда была совершенно забыта. Впервые за много лет после опубликования она была процитирована в нашей работе 1937 г.»2.
Оттиск этой работы3 И.М.Франк и И.Е.Тамм послали Арнольду Зоммерфельду в Мюнхен. Скоро Игорь Евгеньевич получил от Зоммерфельда ответное письмо и несколько оттисков его работ4. Приведу здесь письмо А.Зоммерфельда к И.Е.Тамму полностью (в переводе):
Проф. Арнольд Зоммерфельд
Мюнхен, 8 мая 1937
Дунанштрассе, 6
Глубокоуважаемый коллега!
Уже несколько недель назад мое внимание обратили на Вашу захватывающую работу относительно излучения при «сверхсветовой скорости», и я достал ее для себя в библиотеке (экземпляры, которые я получаю как член Вашей академии, последнее время приходят со значительными пропусками). Поэтому мне очень приятно получить от Вас отдельный оттиск.
Я никогда не думал, что мои вычисления в 1903 г., когда-нибудь смогут найти применение физического характера. Этот случай доказывает также, что математическая сторона теории переживает смену физических представлений. Разумеется, мое вычисление не согласуется прямо с наблюдениями Черенкова, и для этого более подходит Ваш метод разложения в ряд Фурье. С другой стороны, в моем изложении явление, вероятно, открывается в наиболее простой форме.
Я посылаю Вам это письмо и несколько отдельных оттисков через одного венского друга для того, чтобы избежать всех трудностей, связанных с предельным переходом5. Я очень сожалею об этих трудностях и надеюсь еще дожить до того, когда политические отношения в Европе вновь станут нормальными.
С искренней благодарностью за Ваше дружеское послание.
Ваш А.Зоммерфельд.
| {120} |
Пожалуй, ничто подлинное не оставляло Игоря Евгеньевича безразличным, а подчас и безучастным. Во время обсуждения новейших проблем биологии он однажды сказал: «Я дилетант, а недостаток дилетанта прежде всего в том, что у него ничтожное количество знаний, но вместе с тем иногда бывает и преимущество. Можно более широко, не глядя на детали, видеть, что происходит в смежной, интересующей нас области науки...»1. И это его «дилетантское» мнение часто вызывало живейший интерес в кругу специалистов. В 1956–1957 гг. Игорь Евгеньевич несколько раз выступал с докладом о генетике и лекцией на тему: «Физика и генетика». Вот отрывки из письма известного цитофизиолога Дмитрия Николаевича Насонова2 к Игорю Евгеньевичу: «... до нас дошли сведения о Вашем интереснейшем докладе.... Тема этого доклада нас весьма живо затрагивает. Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы нашли возможным прислать мне текст этого доклада.... Если Вы предполагаете быть в Ленинграде, то мы были бы очень рады заслушать Вас у себя в лаборатории.» (1.III.1956 г.)
На это письмо Тамм ответил:
«Я рад, что мой доклад вызвал поразительно широкий интерес, ... рассматриваю мой доклад только как затравку — теперь очередь за специалистами. ... Я же ведь не только дилетант, но и не собираюсь переквалифицироваться. Попросту я прочел ... две статьи — Крика (октябрь 1954 г.) и Гамова (октябрь 1955 г.), которые настолько меня заинтересовали, что я прочел действительно большое количество научных статей и не меньшее число страниц в учебниках и монографиях, поговорил с биохимиками. У меня создалось следующее впечатление... впервые данные генетики, полученные часто чрезвычайно окольным путем, начинают непосредственно связываться с совершенно определенными химическими структурами и процессами...».
И наконец несколько фрагментов из лекции Тамма в ЛГУ: «...мы живем в век биологии. Биология будет во второй половине века во всех отношениях ведущей наукой. Здесь будут сделаны существенные успехи в понимании основных законов природы. Биология будет оказывать такое же влияние на жизнь человека, на развитие новых областей техники, как оказывала физика.... Сейчас биология находиться накануне века великих открытий. Это процесс превращения описательной науки в точную. Теория Дарвина — величайшее достижение человеческого {121} ума. Некоторые наши ученые недооценивают роль биологии, но все-таки переход на новый уровень выяснения основных макроскопических закономерностей является правильным переходом. Физика должна быть связана с биологией не только потому, что физика дает новые средства наблюдения: меченый атом, рентгеновские лучи и другие, но и потому, что физика в течение последнего периода времени как раз сосредоточила свое внимание на том, чтобы выяснить основные элементарные закономерности, лежащие в основе очень разветвленного комплекса явлений.»1.
К 1958 г., к двум Женевским конференциям2, относится забавный рассказ Игоря Евгеньевича. Незадолго до того появилась песня на слова Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны?». Деду она очень понравилась, он записал слова и выучил ее. Как-то, разговаривая в кулуарах конференции с одним знакомым американским физиком, он привел ее как пример широких русских антивоенных настроений. И, переведя текст на английский, Игорь Евгеньевич очень удивился непонятной реакции собеседника: тот помрачнел и довольно быстро закончил разговор. Несколько дней спустя недоумевающий Игорь Евгеньевич решил спросить американца: что же все-таки случилось? И тут выяснилось — американский собеседник понял, что на вопрос «спросите вы у тех солдат, что под березами лежат» в строках «и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны» подразумевается ответ: да, хотят! Игорю Евгеньевичу пришлось снова очень точно пересказать текст песни быстро повеселевшему физику.
В сентябре 1965 г. Игорь Евгеньевич был приглашен в Японию на международную конференцию по элементарным частицам, приуроченную к 30-летию предсказания Хидеки Юкавой мезона. Игорь Евгеньевич скромно заметил, что для него большой честью было получить приглашение от Юкавы, которого он очень высоко ценил. Он был рад снова встретиться со своими знакомыми — физиками Мёллером и Розенфельдом, с Маршаком и Сакатой3, с которыми Игоря Евгеньевича связывали чувства искренней симпатии. Большим удовольствием для деда было побывать еще раз во Владивостоке, где он {122} родился и был после почти шестидесятилетнего перерыва только в 1956 г., проездом на Камчатку и Курилы. Ему очень хотелось посмотреть Японию, которую он только смутно представлял по впечатлениям раннего детства, и то более по рассказам родителей (когда семья Таммов переезжала из Владивостока в Елизаветград, они провели в Японии больше месяца).
Вернулся Игорь Евгеньевич очень веселый, взволнованный «непомерным»1 почетом, которым его окружили японские физики, например — «на том утреннем заседании, где докладывал сам Юкава, председательствующим сделали меня... А после конференции очень много возили, показывали страну, все объясняли — в общем, возились со мной совершенно незаслуженно!» Глядя на бодрого и загорелого деда, никто не догадался, что все было не так весело. Оказалось, он сломал руку. По приезде в Киото, где открывалась конференция, гостям предложили на выбор традиционную национальную и «европейскую» гостиницы. «Меня, конечно, соблазнила японская, — рассказывал дед, — какой смысл быть в Японии, а жить словно ты в Америке? Все это страшно интересно! Раздвижные ширмы, в комнате три великолепных цветка в вазе, сама ваза на полу, циновки и — никакой мебели, только громадные шкафы в стенах. В помещениях, на улице, в парках — карликовые сосны в кадках. Очень непривычно для иностранца, конечно... Правда, о своем выборе я скоро пожалел: едва выглянешь в холл, как все служащие опускаются на пол, показывая этим, что ждут от тебя поручений... Конечно — этикет, сервис, а не униженное подобострастие, но меня такая восточная услужливость порядком угнетала. Но затевать переезд было уже неудобно, приходилось поскорее проскакивать к дверям. Как-то выхожу по коридору в холл, все опускаются на пол, я заторопился на улицу, поскользнулся — и растянулся, совсем как японцы! Но, оказалось, я не умею так хорошо падать, как они! И вот результат. Такой страшно скользкий пол... Но это пустяк. Я очень доволен — необычайная страна; вот, давайте посмотрим виды древней столицы — Киото...», — и открыл огромный, подаренный ему альбом.
О конференции дед с улыбкой замечал, что при небольшом количестве участников (38 человек, из них 15 иностранцев) была велика концентрация «сумасшедших» докладов, — но, увы, не с той {123} «сумасшедшинкой», которой требовал Бор, а в общепринятом смысле. Так что «мой (доклад) на общем фоне совершенно не выделялся.»1.
Как пример такого «безумного» доклада Игорь Евгеньевич упомянул доклад Сакаты «О новой концепции элементарных частиц»2. Саката ввел понятие «субстанция, подобная окраске (paint), называемая B-matter, никак его более не объясняя. В докладе постулировалось, что существует «триплет лептонов; при добавлении к нему B-частицы он превращается в триплет адронов и начинает сильно взаимодействовать...»3. Надо сказать, что слово «paint» имеет несколько значений и, кроме самого распространенного смысла «красить», «окраска», в разговорном английском означает также «пьянствовать». Это вызвало в кулуарах остроумную шутку. Основываясь на этом жаргонном значении, B-matter шуточно объясняли как Bier-matter (Bier — пиво), а мысль, постулировавшуюся в докладе, изобразили так: «Сидят три неразговорчивых человека (три лептона), молчат. Добавим в них пива (Bier-matter — действие пива) — они превратятся в трех пьяных (три адрона) и сразу разговорятся (возникает сильное взаимодействие)!»
Эта поездка была последним путешествием Игоря Евгеньевича. Здоровье сначала медленно, потом резче стало ухудшаться. Он стал быстрее уставать. Непривычно быстрая утомляемость его очень угнетала. Долго он боролся с нею по-своему: не обращал на усталость внимания. И поначалу побеждал!
В 1967 г. в Брюсселе должен был состояться очередной Сольвеевский конгресс. Интернациональный институт физики и химии Фонда Е.Сольвея имеет две постоянные комиссии — административную и научную4. С 1964 г. Игорь Евгеньевич был членом Института Сольвея, определявшего выбор тем конгрессов и приглашения участников. По статусу института для участия в Сольвеевских конгрессах приглашаются {124} ученые, которые уже стали крупнейшими специалистами в области выбранной очередной темы или могут в ближайшее время обогатить эту область ценными работами. Темой обсуждений на Сольвеевском конгрессе 1968 г. были выбраны «Фундаментальные проблемы физики элементарных частиц». Игорь Евгеньевич сам был приглашен в нем участвовать. Он был настроен оптимистически, решил, что поедет в Брюссель с дочерью: «Раз врачи не пускают меня одного, тем лучше! Поедем с тобой, Ирочка...» Но осенью (надо было ехать 1 октября) здоровье Игоря Евгеньевича ухудшилось, теперь он и сам почувствовал, что поехать не сможет. Жалея об этом, он шутил с дочерью: «Вот как я тебя надул! Не отвез в Европы, не познакомил с бельгийской королевой...» Когда с конгресса ему привезли большую папку с фотографиями, он очень удивился (как всегда!), прочтя надпись, сделанную на ней рукой Гелл-Манна: «Нашему глубокоуважаемому коллеге Игорю Евгеньевичу Тамму лучшие пожелания и горячий привет». Под ней подписались все участники XIV Сольвеевского конгресса. Среди них подписи Гейзенберга, Мёллера, Вейцзеккера, Гелл-Манна, Маршака, Розенфельда, Чу, Амальди, Вигнера, Сакаты и Лоу1, Рассматривая фотографии, Игорь Евгеньевич шутил: «Ничего не скажешь, мы были бы в отличной компании!» (В папке были снимки участников всех Сольвеевских конгрессов с 1911 по 1967 г.)
Вот что писал он в 1968 г.: «Трудно отразить всю увлекательность физических проблем. Помимо чисто интеллектуального наслаждения, научная работа связана с очень глубокими и разнообразными эмоциями. Здесь и настороженность следопыта-охотника, выслеживающего истину, это и переживания альпиниста. Знакомясь с новыми научными идеями и исследованиями, нередко испытываешь те же ощущения, которые, как мне кажется, вызывает у подлинных ценителей музыка великих композиторов...» Оговорка «как мне кажется» очень характерна. О странных взаимоотношениях Игоря Евгеньевича с музыкой говорилось выше.
Он часто повторял одно голландское изречение, очень понравившееся ему с тех пор, когда он увидел его на фронтоне ратуши в Гааге в 1928 г. (приведу его по-русски): «В настоящем есть наше прошлое, а наше будущее мы должны создавать сегодня».
| {125} |
На VI Пагуошской конференции в Москве (в 1960 г.) Игорь Евгеньевич говорил:«... мы друг друга не понимаем, потому что просто иногда вкладываем разный смысл в одни и те же слова. Но это не значит, что у нас не бывает расхождений. Если я правильно понял доклад проф. Кибала, то с его предложениями о стабильной системе взаимного устрашения я не согласен.
Но бывают случаи, когда у нас нет расхождений по существу, а есть непонимание друг друга. ... Нам надо действительно перейти к конкретным вещам, чтобы увидеть, есть ли конкретные расхождения. ... Я хотел сказать, что если мы действительно будем говорить о конкретных предложениях, то, может быть, окажется, что во многих случаях у нас нет расхождений там, где нам это кажется.»1 Тамм всегда подчеркивал, что надо как можно скорее преодолеть барьеры непонимания и недоверия и от абстрактных рассуждений перейти к конкретным предложениям, и следующим ближайшим шагом должны стать действия2.
Из письма И.Е.Тамма 1961 г. (из Америки): «5.IX. Смуглер Нотч. Вермонт ...Напротив моего номера двойной номер, в котором останавливается зимой Кеннеди, когда он приезжает сюда кататься на лыжах. Первый день конференции прошел неплохо, но для меня очень утомительно. Я, оказывается, пользуюсь популярностью среди делегатов ... но хотя на заседании у меня было очень короткое выступление, с 7 до 11 вечера непрерывно пришлось говорить о политике, сначала с одной группой американцев за обедом, потом со второй, а от третьей я убежал. Так, по-видимому, будет и дальше, очень утомительно, но я ощущаю, что я делаю полезное дело...».
На веселом праздновании семидесятилетия Игоря Евгеньевича ему был преподнесен среди прочих шуточный лозунг: «Академик Тамм просит ученых мира прекратить убийства!» Он ему страшно понравился, вопрос скорейшего прекращения гонки вооружений и дело установления прочного мира во всем мире действительно глубоко волновали Игоря Евгеньевича.
Сохранился «Гимн пагуошцев»3, который он написал в 1961 г. после VII и VIII Пагуошских конференций, проходивших в Вермонте {126} (США), и прочитал своим друзьям на IX конференции в Англии (Кембридж, 1962 г.). «...Нам нужно добиться, чтобы войне не было места нигде на Земле...»
В этих простых и чуть наивных стихах, мне кажется, запечатлелась именно та открытая простота, которая объединяла на Пагуошских конференциях ученых доброй воли из разных стран. Эта добрая человеческая простота напоминает рисунок, на котором изображен сладко спящий котенок, укрытый одеялом — эмблему на календаре, который ежегодно присылал каждому участнику Пагуошских конференций Сайрус Итон, американец, основатель этого движения. Такой календарь И.Е.Тамм, получив, вешал под настенными часами в столовой. Мне живо представляется Игорь Евгеньевич, стремительно входящий в нее и сразу, на пороге показывающий всем нам репродукции, помещенные на страницах нового календаря... Как свежо это впечатление, а ведь это было много лет назад!
1985 г.
Долго, лет десять, возвращаясь поздно вечером домой, когда я видел освещенное окно дедушкиного кабинета, мне казалось, что стоит только подняться и тихо приотворить дверь — и я увижу деду Гору, склонившегося над письменным столом, в слоистых облаках табачного дыма, сидящего совершенно неподвижно — только пальцы с авторучкой стремительно бегут вдоль страницы (то чуть быстрее, то чуть медленней), да порою перелетает влево исписанный вычислениями лист... Но и теперь иногда, пусть пронеслось больше 24 лет, и пусть в той половине квартиры давно у же живут чужие люди, и теперь иногда, когда я возвращаюсь поздно домой, если я вижу горящее «его» окно, мне начинает представляться то же.
К АДС (Андрею Дмитриевичу Сахарову) я относился особенно, возможно потому, что он никогда в шахматы с дедом не играл. (Хотя, конечно, играло роль и то, что дед относился к Андрею с особой нежностью, и то, то А.Д. был нашим соседом по даче.) Мое воображение потрясло решение АДСом «прикладных задач». Например, какое соотношение каких геометрических фигур получается при шинковании кочна капусты. (У меня это связалось с рассказом о том, как Дирак, промолчав целый вечер за чайным столом, наблюдая за вязанием хозяйки, перед уходом объявил, что он подсчитал, сколько может существовать способов переплетения нитей.) Во второй половине 60-х {127} годов АДС очень увлекся «новой поэзией». Приходя, он читал полюбившиеся ему стихи Мандельштама. Те, которые я не знал, он переписывал для меня («Кремлевского горца», «Еще не умер ты...»). Часто, сидя у постели деда, мы принимались спорить «о политике» втроем. Один наш спор я помню. Заговорив о роли личности в истории, мы задались «тойнбинским» вопросом, что бы вышло, приди к власти не Сталин, а Троцкий. Дед полагал, что жертв было бы в 10 раз меньше, АДС — в 100, а я — в 1000. Мы подыскивали самые разные аргументы. Дед сравнивал Троцкого с Берией, подчеркивая их рационализм и проницательность — ему запомнилось, как Троцкому удавалось быстро схватить суть совершенно не знакомых ему вопросов. (Еще будучи наркомвоенмором, Троцкий посетил электроламповый завод, а И.Е. давал ему необходимые пояснения.) Точно так же Берия во время «ядерных» совещаний мгновенно улавливал суть дела и задавал вполне разумные вопросы. Он совершенно игнорировал «неблагонадежность» тех, кто был нужен для дела. Однажды И.Е. сказал, что в группу необходимо включить М.А.Леонтовича. Тотчас над Берией склонился его «референт» и долго шептал ему что-то на ухо. Берия досадливо отмахнулся: «Включить!» Он-то знал истинную цену любому компромату.
Но деда Гора вспоминал и о том, как «фанатик» Троцкий во время Гражданской войны раскатывал в залитом электричеством бывшем царском салон-вагоне. Дед был настолько убежден (с 1917 года!) в преимуществах социалистического строя, что даже неоправданные жертвы пытался объяснить «детской болезнью». Как правило, наши споры заканчивались не слишком приятным для АДСа вопросом И.Е.: «А как с наукой?» (Деда неизменно волновало, как бы правозащитная деятельность совсем не заслонила от А.Д. физику.) Иногда Сахаров смущенно отвечал: «Институтом я манкирую». Вспоминая их обоих, я не знаю, кто из них был большим идеалистом — Сахаров или дед.
Дед исполнил обещание, данное еще в 1928 г., и рассказывал нам, внукам, о своем гениальном друге Дираке. Вспоминаю свое недоумение, когда в 1957 г. я увидел на вешалке пальто с истрепанной подкладкой и дырявый шарф этого самого Дирака. В моем детском представлении подобная одежда не могла принадлежать гению. Сам Дирак оказался простым и милым, да к тому же не слишком долго мучил меня «английской беседой». Несмотря на обыкновенность дираковского облика (запомнилось, что у него не хватало одного переднего зуба), облачко таинственности вокруг живого гения в моем воображении так и не рассеялось. {128}
Вероятно, следует упомянуть о «профессорских» чертах деда. Не раз он пытался напялить чужое пальто (порой даже дамское), иногда, к бабушкиному недоумению, он возвращался с совещания неизвестно в чьей шубе («Да? Что ты говоришь! Ай-ай-ай!»). Как-то я с трудом (он уже садился в машину) заставил его вернуться и, вместо домашних тапочек, обуть ботинки.
Деда Гора торопится и ужасно нервничает, стоя перед зеркалом. Не выдерживает: «Наталочка! Черт знает что такое! Воротничок куда-то исчез!» Это он пытается повязать галстук на ночную сорочку без ворота.
Это «рифмуется» с вечно разномастными носками АДС (после смерти его первой жены его дочери Любе частенько не удавалось уследить за отцом).
О необыкновенной силе воли деда мне напоминает его последнее, неотправленное, письмо, нацарапанное с невероятным усилием менее чем за неделю до смерти: «...Я буквально каждый день собирался тебе писать, но не удавалось. Причина — ужасная, совершенно невероятная слабость. Ты знаешь, какое значение имеет для меня моя работа — уже после операции на горле я работал 5–6 часов в сутки. Потом из-за непрерывно нарастающей слабости все меньше и меньше, а со 2-го апреля полностью перестал — с того времени ни одной формулы, и это первые написанные мною слова». Они стали, увы, последними написанными И.Е. словами. Адрес на конверте остался не надписанным.
| {129} |
Общение с людьми большого таланта всегда обогащает, приносит большое душевное удовлетворение. Особенное наслаждение оно доставляет, если одаренность сочетается с высокими душевными качествами. Такие чувства испытывали все, кто имел счастье встретиться с Игорем Евгеньевичем Таммом. Крупнейший ученый нашего времени, физик-теоретик с ярким даром исследователя, с широчайшим диапазоном научных интересов, он был человеком необычайно доброй души и нежного сердца, всегда готовым прийти на помощь всякому, кто в этом нуждался. Ему были присущи высокие моральные принципы, исключавшие любую сделку с совестью.
Теперь, когда Игоря Евгеньевича нет среди нас, мне остается глубоко сожалеть, что я не имел реальной возможности частого общения с ним. Мы жили и работали в разных городах, и поэтому наши встречи ограничивались редкими моими поездками в Москву. Да и не в каждый приезд я имел возможность видеть Игоря Евгеньевича. Только однажды, незадолго до его кончины, мне посчастливилось провести рядом с ним почти целый месяц. Мы отдыхали в Санатории им. А.М.Горького в Кисловодске, жили в соседних комнатах и ежедневно много гуляли вместе. Но об этом чуть позже...
Мое первое знакомство с Игорем Евгеньевичем было заочным, и даже не с ним, а с его книгой. В 1930 г. на третьем курсе ЛГУ мы слушали лекции по электродинамике профессора В.К.Фредерикса. Он очень рекомендовал нам приобрести недавно вышедшую из печати книгу И.Е.Тамма «Основы теории электричества». Конечно, в Ленинграде купить ее оказалось уже невозможно. На мое счастье, родители успели достать ее в Ташкенте. Книга была толстая, в красивом плотном переплете ярко-оранжевого цвета и напечатанная красивым крупным шрифтом. И от ее внешнего вида, и особенно от ее изумительно ясного, строго логического изложения, вплоть до самых сложных вопросов, и какой-то необычайной свежести всей трактовки предмета мы все, студенты, получали истинно эстетическое наслаждение. По мнению одного из моих товарищей, который, так же как и я, никогда {130} не видел Игоря Евгеньевича, автор такой работы должен быть человеком строгой и изящной внешности аристократического типа, как и его труд. Все, кто был знаком с демократическим обликом Игоря Евгеньевича, поймут, как ошибался мой товарищ.
Познакомиться с Таммом мне удалось лишь спустя два года, осенью 1932 г., в Ленинградском физико-техническом институте на Международной конференции по теории твердого тела. В ней принимал участие и Тамм. Заведующим отделом теоретической физики Уральского физико-технического института, ще я начал работать после окончания ЛГУ, только что назначили молодого, но уже хорошо известного в научных кругах физика-теоретика Семена Петровича Шубина1 — будущего моего учителя и друга. Он был учеником Л.И.Мандельштама, а также Игоря Евгеньевича. С.П.Шубин много рассказывал нам — еще не оперившимся юнцам—об Игоре Евгеньевиче как о замечательном ученом и человеке. Конечно, на конференции, ще были такие знаменитости, как Дирак, отец и сын Брэгги, Фаулер2, Пайерлс и многие другие, мы не могли близко познакомиться с Таммом. С.П.Шубин только представил нас как своих сотрудников. Но мы и этим очень гордились и с увлечением слушали выступления Игоря Евгеньевича, его вопросы докладчикам, а также его переводы иностранных докладов.
Следующая моя встреча с ним произошла в том же году, в декабре. Мы всем отделом — пять человек — приехали в командировку в Москву «погреться». Наш дом в Свердловске еще не достроили — не работало отопление, а настоящие уральские морозы достигали — 40°С. Помню, как мы все во главе с С.П.Шубиным посетили Физический институт МГУ (красное кирпичное здание во дворе старого МГУ на Моховой). Время было уже вечернее. В этот день должен был состояться очередной семинар на кафедре теоретической физики, которой руководил И.Е.Тамм. Проводился семинар обычно в кабинете Тамма, сравнительно небольшой комнате. Желающих принять участие в нем собралось очень много. Все сидячие места были заняты «солидной» публикой, а мы очень скромно жались около стенки. Игоря Евгеньевича еще не было, но многие уже толпились за дверью в коридоре.
Вдруг мы услышали характерную быструю речь Игоря Евгеньевича. Моя жена — Л.А.Шубина, которая училась на физическом факультете МГУ и слушала лекции Тамма, рассказывала, что у студентов была введена единица скорости речи — один тамм; у обычного человека {131} она выражалась в миллитамах. Когда же студенты просили его говорить медленнее, то он, улыбаясь, отвечал, что надеется на столь же быструю сообразительность слушателей.
В дверях произошло некоторое движение, и между плотно стоявшими там физиками показалась голова Игоря Евгеньевича. Но протиснуться в кабинет ему так и не удалось. Пришлось отодвинуть доску, стоявшую у другой двери, через которую руководитель семинара с трудом проник, наконец, в комнату. Конечно, в такой тесноте работа не могла проводиться, и поэтому мы все перешли в более просторную комнату. Я теперь уже не помню, о чем шла речь на семинаре. В памяти сохранилось наше восторженное состояние, когда мы, затаив дыхание, слушали семинар на кафедре «самого» Тамма.
После семинара С.П.Шубин долго разговаривал с Игорем Евгеньевичем, а мы стояли тихо рядом и с интересом слушали их диалог. В то время их научные интересы были очень близки. Лишь незадолго до того вышла из печати их известная работа по теории фотоэффекта в металлах. Кроме того, они задумали совместную монографию по квантовой теории металлов, о плане которой и советовались в тот памятный вечер. К великому сожалению, этому интересному замыслу не суждено было осуществиться из-за преждевременного ухода из жизни Семена Петровича, а у Игоря Евгеньевича вскоре научные интересы резко изменились. Его начали занимать проблемы квантовой электродинамики.
А потом, вернувшись в общежитие, где нас устроили жить, и отчищаясь от мела, который обильно пристал к нам со стен кабинета Игоря Евгеньевича, мы бурно «переживали» все, что слышали там.
Именно с этого московского вечера в декабре 1932 г., коща все мы, свердловчане, остались почти одни с Таммом, и началось мое личное, неформальное знакомство с этим замечательным ученым и человеком, глубочайшее уважение, восхищение и любовь к которому навсегда сохранились в моем сердце...
С первых шагов нашей работы в Отделе теоретической физики УралФТИ С.П.Шубин очень много рассказывал о чисто научном аспекте деятельности Игоря Евгеньевича, а также знакомил нас с ним как с большим и интереснейшим человеком. Перед нами вставал живой Тамм, с горячей увлеченностью наукой, бескомпромиссностью ко всякому проявлению антинауки, кристальной честностью, безграничной добротой и участием ко всем его окружающим, кто этого заслуживал. Когда к нему кто-то приходил за помощью, то он не хотел выслушивать детали просьбы, а сразу «брал быка за рога»: «Что я должен сейчас сделать, чтобы оказать реальную помощь?»
В первые годы нашей жизни в Свердловске (1932–1936 гг.) С.П.Шубин поддерживал непрерывный и интенсивный научный {132} контакт с Игорем Евгеньевичем. Например, он весьма детально обсуждал с ним свою работу по квантовой теории жидких металлов. Эта ныне незаслуженно забытая работа очень заинтересовала Тамма. Семен Петрович посылал ему рукопись и получил от него ряд ценных советов. Тогда же Семен Петрович очень много работал над развитием так называемой полярной многоэлектронной модели кристаллов (металлов и полупроводников), которая представляла собой некоторый синтез одноэлектронной зонной модели Блоха1 — Пайерлса и многоэлектронной гомеополярной модели Гейзенберга. Семен Петрович привлек меня к решению проблемы. Поэтому хорошо помню, какими интересными были дискуссии по поводу предложенной им модели. В настоящее время широко используется более простой вариант этой модели, который обычно называют в литературе по имени английского физика Хаббарда2.
В 1931 г. вышла из печати работа Дирака о магнитном монополе. Эта работа очень заинтересовала Тамма. Он с увлечением делился впечатлениями о новой идее Дирака и ее возможных последствиях и сам активно включался в разработку этой теории. Помню, как в один из наших приездов в Москву Игорь Евгеньевич рассказывал, что появилась экспериментальная работа по наблюдению траекторий быстрых частиц в камере Вильсона и в ней на некоторых снимках наблюдались необычайно толстые треки, которые в шутку называли «жирными гусеницами». По его предположению, может быть, они и есть монополь Дирака, ионизационная способность которого по теории ожидалась очень большой (в силу большой величины элементарного магнитного заряда монополя)3. Игорь Евгеньевич рассмотрел непростую задачу об электроне в поле магнитного монополя и построил соответствующие волновые функции.
В те годы С.П.Шубин читал для нас, молодых теоретиков Урал-ФТИ, очень интересный и весьма полезный для нас курс основных и совсем новых тогда разделов теоретической физики, в частности по квантовой механике и квантовой статистике. При чтении лекций он широко использовал только что появившиеся тогда монографии Вей-ля, Паули (из немецкой «Энциклопедии физики») и труднейшую монографию фон Неймана4. Тамм следил за нашими занятиями и давал очень ценные советы по выбору их тематики. {133}
Игорь Евгеньевич был оптимистом по натуре, обладал какой-то необыкновенной заразительной жизнерадостностью и чрезвычайно острым чувством юмора. Он умел понять шутку и никогда не боялся посмеяться над собой.
Во время моих командировок в Москву я старался всегда повидаться с Таммом. Встречался с ним у него на квартире. Сначала это было в самом центре Москвы, совсем близко от старых зданий МГУ. Потом в районе Курского вокзала. И, наконец, на набережной Максима Горького. Я всегда старался не пропускать семинары, руководимые им. Мне приходилось несколько раз выступать на этих семинарах, а также делать доклады по своим работам в его присутствии на собраниях Отделения физико-математических наук АН СССР. Я всегда с дрожью душевной ожидал оценок Игоря Евгеньевича. Ведь он никогда не кривил душой и говорил то, что действительно думал, как бы это ни было неприятно для критикуемого. Мне повезло: не помню, чтобы я испытал хоть раз горечь от его суровой критики. Отзывы Игоря Евгеньевича всегда были необычайно полезными для авторов; в них было много очень верных замечаний, которые помогали авторам улучшить свою работу. Помню его весьма благожелательный и очень ценный для меня отзыв о моем докладе в ФИАНе на Миусах в 1947 г., в котором я рассказывал о применении теории фазовых переходов Л.Д.Ландау к случаю перехода ферромагнетик — парамагнетик. Не менее важными для меня были замечания Игоря Евгеньевича по поводу другого моего доклада на сессии Отделения физико-математических наук АН СССР в 1948 г., в котором рассматривалась проблема общей многоэлектронной трактовки задач твердого тела. Доброжелательная критика Тамма, глубокое его понимание существа вопроса часто раскрывали самому автору глаза на результаты собственной работы, а также на возможности ее совершенствования.
Интересно упомянуть, как сам Тамм относился к критике. Как-то у нас зашел разговор о Л.Д.Ландау. Игорь Евгеньевич необычайно высоко ценил этого замечательного физика нашего времени, всегда восторгался его работами, его изумительной интуицией. Я спросил Игоря Евгеньевича, как он расценивает очень «жесткую», а порой «уничтожающую» критику Льва Давидовича. Немного помолчав, он улыбнулся и сказал, что критика Ландау всегда очень полезна. Его гениальный критический ум безошибочно вылавливает все слабые места. Автор часто, конечно, при этом спускается с небес на «землю», но если верит в свои силы, в правильность самой постановки задачи, то он должен не опускать руки, предаваясь «стенаниям», а испить горькую критику, как некую целебную воду, и дальше идти в бой, к конечной победе. Такое отношение к критике органически связано со всей мировоззренческой позицией И.Е.Тамма — ученого и человека. {134}
Один раз Игорь Евгеньевич был у нас в Свердловске. В мае 1937 г., во время выездной сессии Отделения физико-математических наук АН СССР, к нам приехала большая группа академиков и членов-корреспондентов во главе с академиком А.Ф.Иоффе, который был главным инициатором создания УралФТИ. Прибывший с ними Тамм детально ознакомился с работами молодых теоретиков УралФТИ, сделал много ценных замечаний и дал очень полезные советы каждому из нас. В то сложное время он остался тем же Игорем Евгеньевичем, как всегда готовым прийти на помощь, оказать моральную поддержку тем, кому трудно было. Такое, конечно, не забывается никогда...
Как-то из редакции нашего весьма уважаемого физического журнала я получил резко отрицательный отзыв на мою работу. Мне казалось, что отзыв незаслуженно суров. После некоторых колебаний я решил обратиться к Игорю Евгеньевичу с просьбой высказать мнение о моем труде. Если отзыв будет благоприятном, я хотел попросить его помощи в восстановлении истины. Он детально ознакомился с содержанием моей статьи, также нашел отзыв редакции незаслуженно суровым и с типичной своей милой улыбкой и добрым взглядом успокоил меня, сказав, что все это просто досадное недоразумение. С его помощью статья была принята к печати и вышла в свет. Игорь Евгеньевич не принял слов благодарности, сказав, что он тут ни при чем, так как статья сама заслуживает того, чтобы ее напечатали, просто тут была восстановлена справедливость.
Не могу не вспомнить еще одну весьма знаменательную в моей жизни встречу с ним. В разгар Великой Отечественной войны, в ноябре 1942 г., я с моим товарищем по работе, впоследствии членом-корреспондентом АН СССР Я.С.Шуром1, работал на одном уральском оборонном заводе. У нас еще до войны были подготовлены к защите докторские диссертации. Как известно, в Казань были эвакуированы все основные физические институты — ФИАН, ИФП2, ЛФТИ3 и др. Я.И.Френкель, который тогда был главным консультантом по теоретической физике в нашем институте, помог нам организовать защиты в ЛФТИ в конце ноября. Мы получили разрешение на несколько дней выехать в Казань. Оппонентами были назначены Я.И.Френкель, {135} Е.И.Кондорский1 и И.К.Кикоин2. Но, к великому огорчению, И.К.Кикоина срочно вызвали в Москву, и наша защита находилась под угрозой срыва. Ведь ждать мы не могли, ибо должны были точно в срок вернуться на завод. Что делать?
Тогда Я.И.Френкель повел нас к Тамму с намерением попросить его быть нашим оппонентом по защите, назначенной на послезавтра! Для нас это был единственный шанс. Игорь Евгеньевич очень посочувствовал нам, но сказал, что быть оппонентом по экспериментальной работе Я.С.Шура он не может (буквальные его слова были: «Ваша работа, Яков Савельевич, мне совершенно перпендикулярна»). Выручить меня он согласился.
Мы сидели у него в полутемной холодной комнате, освещаемой дрожащим огоньком масляной коптилки, один из углов комнаты был заложен кучей полумерзлой картошки. Игорь Евгеньевич тем не менее работал в полную силу, стол был завален исписанными листами, испещренными сложнейшими формулами. Разговор проходил в обычной для него доброжелательной форме. До сих пор мы не можем без улыбки вспоминать, как он «успокаивал» нас и с присущим ему добрым юмором рассказал, как один физик в Тбилиси защищал докторскую диссертацию, а ему даже не присудили и кандидатскую степень. «Успокоенные», мы распрощались с Игорем Евгеньевичем и ушли ночевать на столах в библиотеке ЛФТИ (у Я.С.Шура третьим оппонентом стал П.И.Лукирский3). Тамм внимательно прочел мою весьма толстую диссертацию и, как всегда, сделал очень полезные замечания. Много лет спустя, во время наших прогулок по кисловодским тропинкам, он заразительно смеялся, когда я напомнил ему нашу казанскую эпопею.
Я был несказанно рад, когда, приехав в 1967 г. в Кисловодск, узнал, что там отдыхает и Игорь Евгеньевич. Уже тогда он чувствовал себя неважно. У него часто были приступы удушающего кашля. Однажды во время прогулки приступ кашля был настолько силен, что я страшно испугался за Игоря Евгеньевича. Но он неизменно относился к недугу с некоторой иронией и даже юмором. Врачи советовали ему бросить курение, но здесь он был неисправим и курил практически непрерывно, закуривая папиросу от папиросы. Только во время прогулок, когда мы вели оживленные беседы, Игорь Евгеньевич не курил. Я тоже старался как-то отвлечь его от курения. Он даже писал своему внуку {136} в Москву, что у него в Кисловодске есть очень строгая няня, которая следит за его поведением и не позволяет ему курить, но он иногда ведет себя плохо.
В санатории Игорь Евгеньевич продолжал интенсивно работать. В последние годы жизни он весь был во власти большой цели: найти принципиально новые пути построения микроскопической теории, в которой были бы преодолены все недостатки существующего варианта квантовой теории поля. Эта цель, по его мнению, требовала весьма существенных, радикальных переработок и обобщений самих основ существующей квантовой теории. Он настойчиво и неустанно искал все возможные пути для такого грандиозного развития теории. К сожалению, смерть оборвала его работу буквально на полуслове. Его интереснейшие замыслы с блеском изложены в докладе Общему собранию Академии наук СССР «Эволюция квантовой теории», прочитанном в 1968 г. уже не самим автором. Он тогда был тяжело болен.
В Кисловодске во время прогулок он очень часто не мог отвлечься от темы своих изысканий. Говорил он всегда с увлечением, и хотя не все было понятно слушателям, ясно становилось одно: вся его жизнь, все его устремления — поиск истины. Поэтому общение с ним — наслаждение. Он иногда вдруг останавливался на полуфразе, ласково заглядывал в глаза собеседнику: «Что это я вас совсем замучил своими делами?» — и решительно менял тему разговора. Вместе с тем Игорь Евгеньевич необычайно хорошо умел слушать. Он так настраивался на это, что его собеседник чувствовал себя чрезвычайно свободно, находился полностью в раскованном состоянии.
В санатории весь стол Игоря Евгеньевича всегда был завален исписанными листами сложнейших вычислений и, к сожалению, окурками папирос. Каждая прогулка с ним была для меня настоящим праздником. На всю жизнь этот счастливый месяц в Кисловодске остался в моей памяти и в моем сердце с великой благодарностью судьбе за то, что мне посчастливилось так близко и долго быть рядом с Игорем Евгеньевичем Таммом.
Когда я пришел навестить его, как оказалось, в последний раз, я увидел мужественного борца, который оставался тем же Игорем Евгеньевичем, с его юмором, доброй улыбкой и широко открытым сердцем...
Уже много лет нет среди нас Игоря Евгеньевича, но все мы — те, кто видел его дорогой облик, кто слышал неповторимый таммовский голос, кто был согрет его улыбкой, — всегда в мыслях своих чувствуем его рядом с собой живым и близким, ибо он был всегда сама жизнь...
| {137} |
Те, кому дорога память об Игоре Евгеньевиче Тамме, не забыли, конечно, о своем элементарном долге: было опубликовано несколько некрологов и заметок, вышли в свет сборник работ1 памяти И.Е.Тамма, библиографический указатель всех статей Игоря Евгеньевича2 и, главное, издано двухтомное собрание его трудов3. Переиздан также написанный им учебник «Основы теории электричества»4. Но вот написать какие-либо воспоминания или заметки, посвященные Игорю Евгеньевичу, у меня лично не было мысли до того момента, как раздался звонок (было это в 1974 г.) из редакции журнала «Природа» с таким предложением5. И это, быть может от неожиданности, произвело впечатление. Почему же, если другие считают естественным написать воспоминания об Игоре Евгеньевиче, я сам даже не подумал этого сделать?
В качестве ответа, едва была положена трубка телефона, на ум пришли слова: «...не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Больше я ничего не помнил из этого эпиграфа (он принадлежит перу Джона Донна, современника Шекспира), выбранного Хемингуэем для романа «По ком звонит колокол». Прочитав эпиграф целиком, можно заключить, что Донн и не думал об авторах каких-либо воспоминаний и имел в виду совсем другое. Но все равно остаюсь при мнении, что характерная черта «воспоминаний современников» — это как раз «звон колокола» по авторам, а не только по тем выдающимся людям, о ком они вспоминают. Если же «звона» не слышно, то, возможно, автор был дачек от того, о ком пишет, либо же всячески старался отойти в тень, не писать о себе. Последнее вполне {138} естественно и похвально, но, к сожалению, на практике нередко оказывается искусственным и мстит за себя: лишает воспоминания чуть ли не главного — непосредственности и подлинной правдивости.
Впрочем, не считаю себя вправе обобщать. Достаточно сказать, что, как выяснилось, для меня написать воспоминания — значит пойти на то, чтобы писать и о себе и тем самым, в частности, рискнуть оказаться нескромным и эгоцентричным. Ясно, сколь это нелегко, даже не говоря о затруднениях чисто литературного характера, возникающих у людей, не обладающих писательскими способностями.
Тем не менее я все же решил написать об Игоре Евгеньевиче, просто вспомнить несколько эпизодов, попытаться хотя бы в некоторой мере объяснить, почему его образ занимает особое, светлое и дорогое место в памяти. Разумеется, все это не более чем заметки, отдельные штрихи и замечания. При этом почти не будет затронута тема «И.Е.Тамм -физик», хотя именно она является центральной в его биографии — нельзя же сколько-нибудь полно охарактеризовать физика вне физики и без физики (разумеется, ситуация аналогична и в случае представителей других профессий). В качестве оправдания отмечу, что вклад Игоря Евгеньевича в физику и его черты как физика в значительной мере освещены в уже упомянутых публикациях. Обращаясь, наконец, к тому, что можно назвать воспоминаниями, начну с того времени, когда видел Игоря Евгеньевича только издали. В таких условиях, как не раз пришлось убеждаться, часто запоминается не главное, а в памяти остаются какие-то второстепенные детали, даже мелочи.
В 1934–1938 гг., когда я был студентом физфака МГУ, И.Е.Тамм заведовал кафедрой теоретической физики. Естественно, что все студенты-физики, особенно старших курсов, знали Игоря Евгеньевича* Нам он читал лекции, быстро говорил и временами путался (потому, вероятно, что в этих случаях не готовился к лекции). Но все равно его лекции были гораздо интереснее многих других, пусть гладких и плавных, без срывов. Объяснялось это как живостью и непосредственностью изложения, так и, конечно, его глубиной. Хорошее представление о стиле этих лекций дает курс И.Е.Тамма «Основы теории электричества», ставший настольной и любимой книгой многих физиков (во всяком случае, о себе должен это сказать с полной определенностью).
В тот же период на физфаке лекции читал и Л.И.Мандельштам. Это, правда, не были обычные курсы, а нечто значительно большее. Курсы были факультативными, но аудитория бывала набита, причем ходили и преподаватели, включая Игоря Евгеньевича. Многие из лекций Л.И.Мандельштама опубликованы. Один из его курсов был посвящен {139} разбору различных парадоксов. Студенты, активно участвовавшие в работе этих лекций-семинаров, были разбиты на группы (бригады) во главе с одним из близких к Мандельштаму людей. Куратором нашей бригады был Тамм, а разбирать нужно было какой-то парадокс, связанный с силами в электродинамике (к сожалению, самого парадокса не помню). Мы собрались в кабинете Игоря Евгеньевича (точнее, это была просто одна из немногочисленных полупустых комнат, принадлежавших кафедре теоретической физики). Игорь Евгеньевич стал формулировать парадокс. Не успел он договорить до конца, как один из нас с места закричал, в чем разгадка парадокса. Повторяю, не помню, в чем был парадокс, но хорошо помню, что Игорь Евгеньевич был очень недоволен и даже высказал мнение, что мы заранее знали, в чем дело. Заверениям, что мы ничего не знали, он вроде бы не поверил. И, кстати, так бывало не раз. Игорь Евгеньевич был во многом прямо-таки прекраснодушным человеком, в ряде случаев чрезмерно доверчивым, но иногда в мелочах почему-то проявлял недоверие. Например, кто-то вместо «априори» (a priori) сказал «априери». Это ко мне прилипло, я стал так говорить в шутку. Но навсегда перестал после того, как Игорь Евгеньевич меня поправил («Виталий Лазаревич, не «априери», а «априори») и так и не поверил, судя по выражению его лица, уверениям, что я сознательно искажал это слово. Почему запомнились такие пустяки? Трудно сказать. Вероятно, они показались неожиданными. А пишу о них только потому, что вспоминаю с теплым чувством, а не в духе поговорки «и на Солнце есть пятна».
Игорь Евгеньевич был альпинистом, но мне довелось в горах столкнуться с ним лишь, так сказать, в период минимума его активности. В 1945 г. мы вместе были на Памире, вблизи Мургаба — там, на высоте около 3800 м, находилась станция Лаборатории космических лучей ФИАНа. Игорь Евгеньевич перед этим был чем-то болен, принимал лекарства, — в общем, был не в форме. Поэтому по окрестностям он ходил с трудом и переживал это. К тому же ему было уже 50 лет, а это не самый подходящий возраст даже для небольших восхождений. Но Игорь Евгеньевич был гордым человеком, не любил сдаваться. И его, видимо, немного огорчало и то, что я без всякой тренировки, да и гор раньше не видавший, иду быстрее. Кстати, Игорь Евгеньевич действительно потом оправился от последствий болезни и еще долго ходил в горы, вплоть до 1965 г., т.е. до 70 лет.
Упоминаю этот эпизод преимущественно вот по какой причине. Существует большая асимметрия в отношениях старших к младшим и, с другой стороны, младших к старшим. Помню, году в 1935–1936-м Игорь Евгеньевич стоит у крыльца Института физики МГУ и рассказывает {140} группе знакомых, как он катался на лыжах, упал, получился большой кровоподтек, из которого выкачали почти стакан крови. Игорь Евгеньевич тогда казался мне пожилым человеком, которому пора бы перестать так кататься. А ему было только лет сорок. И это типично: тот, кто старше лет на двадцать и более, кажется уже пожилым, возникает какое-то чувство дистанции. Но не наоборот. К студенту или аспиранту, который на двадцать лет моложе, часто, даже обычно, такого чувства не возникает, особенно когда речь идет о науке. Мне кажется, что для Игоря Евгеньевича была в высокой степени характерна такая асимметрия восприятия, и, во всяком случае, со значительно более молодыми людьми (но не со всеми, конечно) он чувствовал себя свободно, как с равными.
В 20-е и 30-е годы у нас в стране шли жаркие дебаты по методологическим вопросам, связанным как с теорией относительности и квантовой механикой, так и с основами классической физики. Существовали рутинеры, отрицавшие всю новую физику и обвинявшие в «идеализме», например, тех, кто не верил в существование механического эфира. Не буду писать о том, что нашло отражение в печати, и упомяну лишь о дискуссии, развернувшейся на физфаке МГУ году в 1936-м. Большая физическая аудитория была полна, и главный спор шел о том, возможно ли распространение электромагнитной энергии без «механического перемещения» чего-то в пространстве. И.Е.Тамм, Г.С.Ландсберг, Б.М.Гессен и не помню еще кто защищали электромагнитную теорию без механических перемещений. Их оппоненты были довольно многочисленны, причем не скупились на самые различные обвинения, демагогию и даже непристойные намеки, притянутые, как говорится, ни к селу ни к городу. Один из них вызвал особое возмущение и протесты со стороны Игоря Евгеньевича, никогда не позволявшего себе что-либо подобное (вообще, должен заметить, что Игорь Евгеньевич совершенно не употреблял «неприличных» слов, не рассказывал «мужских» анекдотов и т.п., причем это было для него органично и не воспринималось как ханжество или какая-то показная воспитанность).
Роль Тамма в борьбе против вульгаризаторов науки и лжеученых очень значительна, но здесь не место на ней останавливаться подробнее. В отношениях физики сошлюсь в качестве примера на статью журнала «Под знаменем марксизма»1. А когда в последние десятилетия физику защищать стало уже не нужно, Игорь Евгеньевич с {141} неменьшей горячностью встал на защиту многострадальной генетики и молекулярной биологии, успехами которых восхищался.
Теперь перехожу к рассказу о том, как из одного из уважаемых профессоров Игорь Евгеньевич превратился для меня в близкого и дорогого человека. Именно об этом особенно трудно написать, тем более что приходится о себе упоминать даже больше, чем об Игоре Евгеньевиче. Но это только формально так, по существу же я лишь попытаюсь проиллюстрировать, сколь бесценными бывали внимание и доброжелательность Игоря Евгеньевича.
На третьем или четвертом курсе физических факультетов происходит выбор более узкой специальности, и для многих это очень трудный, мучительный период. Не для всех, конечно. Некоторые твердо знают, чего хотят, причем уверены в своих силах. Другие же совсем не знают, на что способны, смогут ли вообще успешно работать. Особенно резким является размежевание между теоретиками и экспериментаторами. Выберет студент теоретическую специальность, а работа у него «не пойдет», и окажется он у разбитого корыта. Экспериментальная же специальность кажется более надежной: не выйдет из тебя большого толка — сможешь работать хотя бы лаборантом. Я был средним хорошим студентом, причем с явным отсутствием математических наклонностей. Поэтому, хотя и хотелось быть теоретиком, не решался на это — считалось, и не без оснований, что теоретик должен быть в ладах с математикой, чтобы не сказать большего. И вот я пошел на оптическую специальность и занимался измерениями углового распределения интенсивности излучения каналовых лучей. Исследование было в экспериментальном отношении весьма сложным. В дипломной работе особого успеха не достиг, однако предполагалось продолжить эту работу. Во всяком случае, руководитель Оптической лаборатории Г.С Ландсберг оставил меня в аспирантуре. Но так сложились обстоятельства (нас, новых аспирантов физфака, призвали в армию и лишь через некоторое время предоставили отсрочку; помню как довольно долго ходил с документами о призыве, в которых числился «эспирантом»), что продолжать эксперименты сразу не удалось и я начал «теоретизировать». При этом возникла некоторая «идея», касающаяся механизма излучения в процессе соударения возбужденного атома с заряженной частицей.
С этой идеей я и пришел к Игорю Евгеньевичу, если не ошибаюсь, 13 сентября 1938 г., подождав, когда он кончит лекцию. Заранее скажу, что мои рассуждения были основаны на ошибке, но тогда этот круг вопросов не был достаточно ясен. Поэтому, к счастью, Игорь Евгеньевич ошибки сразу не увидел и, напротив, отнесся к моему предложению {142} с энтузиазмом, с живым интересом. Более того, он и меня как-то заразил этим своим энтузиазмом, дал советы просмотреть некоторые статьи, сделать расчеты, просил рассказать о результатах. Впрочем, я здесь не нашел действительно подходящего слова. Конечно, не было никакой «просьбы» — просто стало ясно, что Игорю Евгеньевичу все это интересно и можно, не очень стесняясь, приходить, советоваться с ним, обсуждать. В общем, была благожелательность, отсутствовали перегородки. С малознакомым студентом Игорь Евгеньевич говорил, как с товарищем по работе.
И я был окрылен, буквально начал новую жизнь. Оказалось, что я напал на круг вопросов теории излучения, который остался недостаточно исследованным и где известную ясность можно было внести не путем сложных вычислений, а уточнив постановку задачи и интегрируя лишь простые уравнения для гармонических осцилляторов. В этом можно видеть еще одно доказательство того факта, что в теоретической физике математика не доминирует и все же «телега» (вычисления, формулы) должна следовать за «лошадью» (физические образы и идеи), а не наоборот. Пусть не поймут это замечание как отрицание исключительно большой роли математики в теоретической физике, что было бы нелепостью. Хочу лишь подчеркнуть (поскольку это иногда оспаривается), что, как правило, все-таки не математика задает тон в физике, и именно таким было мнение Игоря Евгеньевича.
Так благодаря поддержке Игоря Евгеньевича я стал физиком-теоретиком. Хочу отдать должное и Григорию Самуиловичу Ландсбергу. Я ведь был «его» аспирантом, но изменил экспериментальной оптике в первый же месяц после зачисления в аспирантуру, стал фактически аспирантом Игоря Евгеньевича. Но Григорий Самуилович предоставил мне полную свободу, ему было важно лишь, что я работаю успешно. В 1940 г., после защиты кандидатской диссертации, я поступил в докторантуру1 ФИАНа, причем моим консультантом (так, кажется, называлась эта должность в докторантуре) уже официально стал Игорь Евгеньевич.
Однако, и именно это существенно, названия не играли никакой роли. Все — сотрудники, докторанты и аспиранты Теоретического отдела ФИАНа, созданного Игорем Евгеньевичем в 1934 г. (в этом году Академия наук СССР переехала в Москву), — работали, по существу, на равных правах. Важно было только одно — как человек работает, что он делает. С некоторыми аспирантами Игорь Евгеньевич работал непосредственно, т. е. велось совместное исследование. Но ни в аспирантуре, ни в докторантуре, окончившейся в 1942 г., мне не пришлось {143} вести с Игорем Евгеньевичем совместной работы. Это, однако, нисколько не уменьшало интереса и внимания с его стороны — я все время обсуждал с ним научные вопросы, рассказывал ему результаты. Вместе, в смысле соавторства, нам пришлось поработать несколько позже (но еще в годы войны). Игорь Евгеньевич занялся, в частности, теорией электромагнитных свойств слоистых сердечников, состоящих из чередующихся слоев металла и диэлектрика (по идее Н. Д .Папалекси предполагалось использовать такие сердечники для антенн). Кажется, я нашел какую-то неточность в его предварительных расчетах, а потом несколько развил его работу — в общем, мы опубликовали совместную статью. Во втором случае, наоборот, я заразил Игоря Евгеньевича интересом к релятивистской теории частиц с различными спиновыми состояниями, и мы упорно занимались этой проблемой несколько лет.
Работать с Игорем Евгеньевичем было одно удовольствие — никаких проблем, связанных с амбицией, разделением труда и т.п., не возникало. Одно лишь было трудно делать совместно с ним — писать статьи. Он вообще очень не любил писать, откладывал, придумывал предлоги, чтобы оттянуть окончание (Игорь Евгеньевич сам говорил о своей «аграфии»). Разумеется, обе наши совместные статьи писал я (в смысле подготовки текста для совместного обсуждения), но и это не очень помогало. В итоге статья о спинах писалась года два и только в 1947 г. появилась в ЖЭТФ1.
Выше я извинялся, что буду упоминать о себе. Но разве в приведенном примере дело во мне? Фактически я ведь говорю об Игоре Евгеньевиче, который подобную роль сыграл в жизни многих. А косвенно уже не многих, а очень многих. Опять же могу об этом судить только «со своей колокольни». Поняв на собственном опыте взаимодействия с Игорем Евгеньевичем, как важна для некоторых начинающих дружеская, благожелательная поддержка на первых порах, как здесь важны не только содержание, но и форма, я старался следовать тем же принципам в отношениях со студентами и аспирантами. И если это дало свои плоды, на что надеюсь, то заслуга Игоря Евгеньевича здесь не меньше, чем моя.
Сейчас, как и в прошлом, очень много идет споров об относительной роли наследственного, биологического, с одной стороны, и роли социального, о значении воспитания и окружения, с другой стороны. Сколь колоссальна роль наследственности, ясно видно, между прочим, на примере изучения однояйцевых (идентичных) близнецов. Новый {144} момент, который здесь появился, — это результаты для таких близнецов, воспитывавшихся совершенно раздельно с самого младенчества, причем иногда в совершенно разной среде. Совпадение многих черт, вкусов и привычек у таких близнецов, впервые встретившихся в зрелые годы, просто поражает. Но, как бы ни была велика роль наследственности, никто не станет оспаривать и значения воспитания. «Научная школа» — понятие, на мой взгляд, не слишком четкое. Но то, что я видел на примере Л.И.Мандельштама, А.А.Андронова, И.Е.Тамма и Л.Д.Ландау, позволяет понять, сколь велико было влияние этих выдающихся физиков не только на научное развитие «учеников», но и на их моральный облик, стиль и поведение.
Несколько слов об И.Е.Тамме-физике, хотя эта тема в целом лежит за пределами настоящей заметки.
Игорь Евгеньевич был физиком-теоретиком «широкого профиля»: он не только знал все важнейшие разделы физики, но и сам работал во многих областях. Вместе с тем, как человек увлекающийся, Игорь Евгеньевич в каждый данный период занимался, как правило, лишь чем-либо одним — отдавал все силы решению захватившей его проблемы. А сил было много — Игорь Евгеньевич обладал большой работоспособностью и трудолюбием. Бывало, работал ночами, часто и в отпуске. Работа доставляла ему удовольствие, но только тогда, когда была заинтересованность, а иногда и азарт. Увлекался же он в первую очередь подлинными загадками, проблемами принципиального характера. Заниматься этими вопросами особенно трудно, можно работать целые годы и не получить никаких существенных результатов. Но это не беспокоило Игоря Евгеньевича, он никогда не руководствовался такими соображениями, как возможность написать статью и вообще «выдать побольше продукции».
В научной среде очень часто приходится сталкиваться с проявлением не только честолюбия, но и тщеславия. Насколько я могу судить, тщеславие было чуждо Игорю Евгеньевичу. Он не стремился к наградам и почестям и, например, даже получив Нобелевскую премию, был умеренно доволен, но не более. Кстати, теорию эффекта Вавилова — Черенкова, за которую Игорь Евгеньевич вместе с И.М.Франком получил Нобелевскую премию, он не считал своей лучшей работой (ею, по его собственному мнению, была теория ядерных бета-сил). Что касается честолюбия, то это слово является, к сожалению, недостаточно однозначным. Честолюбивым считают не только человека, стремящегося {145} занять высокое положение, управлять другими, но и того, кто хочет сделать хорошие работы и увидеть их признание, а тем самым, можно сказать, утвердить свою личность. В таком, последнем смысле честолюбие (назовем его «хорошим честолюбием») обычно даже необходимо и является одним из условий успеха в самой работе. Сколько талантливых людей «не реализовались» из-за лени, безразличия и, по сути дела, отсутствия «хорошего честолюбия». Думаю, что Игорь Евгеньевич обладал таким честолюбием. Обладал он также самолюбием и гордостью, но в таких дозах, когда это не мешает другим. Не знаю, как выразиться точнее. Вот Игорь Евгеньевич играет в теннис или другую игру и при каждом промахе делает недовольный жест. Он явно не любил проигрывать и в шахматы. Я уже упоминал о его большом недовольстве, когда плохо «ходилось» в горы. Но в этом было даже что-то детское во взрослом и уже немолодом человеке. А гордость не позволяла жаловаться на болезни и боль, заставляла держаться.
Последние три года жизни Игоря Евгеньевича нельзя не назвать трагическими. В 1967 г. он заболел боковым амиотрофическим склерозом и с февраля 1968 г. из-за паралича диафрагмы был прикован к дыхательной машине. Точнее, к машинам, которые он мог менять, — садиться за стол и работать, пользуясь портативной машиной, сделанной одним умельцем. Он с улыбкой, но с горечью говорил о себе: «Я как жук на булавке». Однако первые года два много работал, играл в шахматы, был рад, когда к нему приходят. И он стал мягче, болезнь не озлобила, не раздавила. Игорь Евгеньевич обычно многое скрывал, считал, вероятно, что нельзя проявлять некоторые теплые чувства, а у больного они чаще проглядывали.
В период с 1950 по 1953 г. Игорю Евгеньевичу приходилось долго работать вдали от Москвы, часто находиться одному, без семьи. Я же в это время жил в основном в Москве, а моя жена — в Горьком. Было в тот период много работы и мало радости. Этим и объясняется, видимо, замечание, сделанное им во время одной из встреч в Москве, году так в 1950. Он сказал примерно следующее: «Виталий Лазаревич, думал я тут как-то и о себе и о вас, когда прочел (вспомнил?) Омара Хайяма:
|
Проходят дни Без любви, без вина. А в книге судеб записаны они Как полноценные дни». |
Такой прозаический текст (лишь записанный в стихоподобной форме) я хорошо запомнил, но найти нечто похожее среди четверостишей {146} Хайяма сейчас не удалось.1 Но дело, конечно, в другом: я рад констатировать, что в последующие годы у Игоря Евгеньевича было еще много полноценных и счастливых дней.
Но возвращусь к некоторым чертам, столь типичным для творческой интеллигенции. Есть люди, которые прямо-таки заболевают, когда их не упомянут, не процитируют, и уже подавно, когда что-то у них заимствуют без «должного» упоминания. Никогда не замечал подобного у Игоря Евгеньевича, он был выше каких-либо мелких споров.
Или вот другой пример — выборы в Академию наук СССР. В 1946 г. Игорь Евгеньевич имел все основания для того, чтобы его избрали академиком, — везде его называли в качестве первого кандидата, не говоря уж о том, что он давно этого заслуживал. Но не был выбран, и здесь уже сказались обстоятельства, не имевшие никакого отношения к науке. Немало людей, «не выбранных» по той или иной причине, мне пришлось повидать. Чувство обиды и разные другие аналогичные эмоции типичны в таких случаях. Некоторые даже заболевали, другие ссорились с «обидчиками», а то и совершенно непричастными к выборам людьми. Да кто не знает, что такое уязвленное самолюбие. А Игорь Евгеньевич не подал и вида, что он задет. Думаю, что, будучи, конечно, огорчен и уязвлен, он и не переживал сильно это подлинное оскорбление (в данном случае это было именно так). Помимо всего прочего, здесь сыграло, конечно, роль и то обстоятельство, что Игорь Евгеньевич обладал чувством юмора и знал цену всему (другое дело, что это не всегда помогает людям, когда речь заходит о них самих). Помню рассказ Игоря Евгеньевича о том, как он поздравил одного физика, выбранного в академию: «И знаете, он меня благодарил так серьезно, как будто это действительно жизненно важное событие, необходимое и подлинное свидетельство его научных достижений; вот ведь нет у человека чувства юмора».
В общем самолюбие и гордость у Игоря Евгеньевича были не мелкими, а высокой пробы. Принципиальность же в сочетании с чувством долга, с тем, что называется noblesse oblige, заставляли Игоря Евгеньевича бороться с неучами, выступать с некоторыми протестами и т.п. Я пишу «заставляли», так как уверен, что он вовсе не любил писать {147} «разносных» статей или выходить на трибуну и выступать по подобным поводам. Но если было нужно, если он считал, что должен, то действовал решительно.
Уже упоминалось, что в 1934 г. Игорь Евгеньевич организовал Теоретический отдел ФИАНа, теперь носящий его имя. Из небольшой группы, насчитывающей пять-шесть человек, этот отдел стал одним из крупнейших в мире (сейчас в отделе около 50 человек1, причем во много раз большее число бывших аспирантов и сотрудников работают в других местах). И вот за 50 лет (!) существования отдела в нем не было ни одного сколько-нибудь существенного человеческого конфликта, а попросту сказать, серьезной ссоры, не говоря уже о скандале. Не так много можно найти подобных примеров. И дело все, конечно, в Игоре Евгеньевиче. «Приписывание» руководителя или кого-либо еще к чужой работе, администрирование и принуждение, неуважение к младшим — обо всем этом не могло быть и речи. А вот поддержка, дружеская критика (хотя иногда резкая и страстная), внимание, предоставление свободы — этого было хоть отбавляй. Таков и весь простой «секрет» воспитания. Не мешать людям, относиться к ним хорошо, а молодежи дать свободу, подбодрить и посоветовать, если надо, — вот часто все, что нужно для дружеской работы. Можно только пожалеть о том, что все эти очень простые, казалось бы, требования далеко не всегда воплощаются в жизнь.
Эти заметки подошли к концу, и тем виднее их неполнота и несовершенство. Например, один из друзей, причитавших рукопись, спросил: «Как можно писать об Игоре Евгеньевиче и не упомянуть о его обаянии?». Могу с этим только согласиться, но вынужден лишь ответить вопросом на вопрос: а как написать об обаянии Игоря Евгеньевича? И как написать о многом другом, что определяет и характеризует человека? Но часто так бывает, что даже незначительные, казалось бы, штрихи и примеры говорят о большем, позволяют читателю понять нечто важное. Вот именно на это я и хочу надеяться.
Игорь Евгеньевич Тамм был очень хорошим физиком-теоретиком, автором первоклассных работ. Он написал превосходный учебник, воспитал много физиков, боролся за подлинно прогрессивную и современную науку. Все это, конечно, верно и очень важно. Но это не все. Если бы дело было только в сказанном, то вполне понятно было бы большое уважение, но любят прежде всего за другое, за человеческие черты. Вместе с тем именно как сплав уважения и любви я мог бы охарактеризовать отношение к Игорю Евгеньевичу Тамму и свое, и многих, многих других.
| {148} |
Мы вышли из закоулочков, образовавшихся при разгораживании когда-то больших аудиторий, в трехэтажный вестибюль «нового здания» Университета на Моховой. Рассеянный свет лился через мутный стеклянный купол на розовые колонны галереи второго этажа.
— Ты заметил Тамма? — обратился ко мне Фабелинский.
— Нет.
— Он только что юркнул в тот темный закоулок, где находится секретарь нашего факультета. Ведь нам везет! Мы начали учиться физике у Сергея Ивановича Вавилова. Затем слушали Ландсберга. Теперь квантовую механику будет читать Тамм. Говорят, что статфизику нам прочтет Леонтович. А если удастся уговорить, то могучий и тишайший одновременно Леонид Исаакович Мандельштам прочтет нам курс теории относительности!
Всеведущий Фабелинский уже знал, что Мандельштам никогда не повторяет прочитанного курса лекций, но что его курсы всегда являются плодом его глубокого продумывания и самостоятельной разработки того предмета, в который он вводит своих слушателей.
Мы стояли у барьера галереи, поглядывая в темноту закоулка, поглотившего Тамма. Я его еще никогда не видел. Но по студенческой молве уже представил себе как одного из кумиров моей любимой физики. Встречи с ним обещали быть захватывающе интересными.
— Ты знаешь, — вновь начал Фабелинский — Игорь Евгеньевич незаурядный альпинист...
В это время из темноты стремительно вышел, почти выкатился, человек небольшого роста с быстрыми движениями, в скромной одежде отнюдь не кумира и чуть не проскочил мимо нас. Но Фабелинский быстро среагировал:
— Игорь Евгеньевич, здравствуйте!
Тамм быстро остановился, окинул нас приветливым взором, подошел, стремительно пожал нам руки обоим.
— Здравствуйте, здравствуйте!
И раньше, чем он успел задать вопрос, Фабелинский представился. {149}
— Ваши будущие студенты. Головин и Фабелинский. Со следующей недели начинаем постигать с вашей помощью квантовую механику.
— Очень рад, очень рад. Как? Головин и...?
— Фабелинский.
— Фабелинский? Ну это безнадежно, чтобы я запомнил сразу две фамилии. Вы заранее приготовьтесь повторять ваши фамилии вновь и вновь. Я усвою их только после упорных усилий по запоминанию. Так, значит вы на третьем курсе? Прекрасно. Еще не подумали какую выбрать специальность? Не подумали. Ну что ж, квантовую механику должен знать теперь каждый физик. Это великое творение двадцатого века. Оно вводит нас в круг совершенно новых и необычных понятий и явлений. Многие старые физики ее не понимают, и даже не хотят понять ее вовсе. А философы, особенно мнящие себя материалистами, так и ополчились воинственно против основных положений квантовой механики. Но я вам расскажу и покажу могущество новой механики, покажу, что без нее невозможно постижение явлений микромира...
— Игорь Евгеньевич, — вклинился в короткую паузу лукаво улыбаясь Фабелинский, — а по законам какой механики, квантовой или классической, вы летели прошедшим летом в пропасть в горах Кавказа?
Игорь Евгеньевич рассмеялся своим задорным смехом.
— По самым ньютоновым законам, по самой классической механике! А вы уже и про это знаете?
— Нет, не знаем, только слухи ходят...
— Игорь Евгеньевич, расскажите, если есть у вас несколько минут свободного времени.
Игорь Евгеньевич поспешно взглянул на часы.
— Да, так это было вот как. Перейдя через перевал и миновав уже ледник, мы по молодой беспечности развязались на снежнике из связки и пошли каждый сам по себе. Склон был покрыт крупным фирновым снегом и было так легко глиссировать. Ну, мы весело и забавлялись. А крутизна нарастала. И я вдруг почувствовал, что скольжу все быстрее. На спине небольшой рюкзачок. Но я, как обученный альпинизму — ледоруб под мышку, навалился на него и торможу изо всех сил. А скорость нарастает и вдруг я потерял опору под ногами и в снежной пыли полетел через голову и только успел подумать:
— «Так погибают в горах...», как в следующее мгновение воткнулся в мягкий снег и остановился. Пошевелил рукой, ногой, повертел головой, открыл глаза. Голубое небо надо мной. Приподнялся, оглянулся и вижу, что застрял на самом краешке глубокой пропасти. А там сквозь снег протыкаются скалы. Да! Что ж! Осторожно пошевелился. Подвинулся от края. Встал на ноги. Наверху за снежным козырьком никого {150} не видно. Теперь уже аккуратно, по всем правилам, поставил одну ножку. Убедился в надежной опоре, потом вторую... и, опираясь на ледоруб, так, ножками стал подыматься наверх. А там увидел испуганные лица моих товарищей. Вот так... — и он вновь засмеялся своим заразительным смехом.
Еще с полчаса с восторгом рассказывал Игорь Евгеньевич нам, совсем еще незнакомым, будущим его студентам и ученикам о своих горных похождениях. Затем стремительно взглянув на часы, попрощался и исчез.
Лекции по квантовой механике читал Игорь Евгеньевич вдохновенно, почти не употребляя математического аппарата. Упражнения с вычислениями, с решениями уравнения Шредингера и другими расчетами вел Дмитрий Иванович Блохинцев. Иногда, на особенно длинные вычисления, его подменяла С.И.Драбкина. Тамм вводил нас в новый мир, как физик, обладавший глубиной физического рассмотрения, как делали это ученики Мандельштама. Приучал к необычности понятий, к дуализму волна-частица, к реальности принципа неопределенности Гейзенберга. Изучая новую область явлений в классической физике, говорил он, мы привыкли к аналогиям, к таким вещам, как, например, аналогии между электродинамикой и механикой и говорим «понял», когда в непривычной электродинамике найдем привычную картину из механики. Освоив же электродинамику, мы уже не нуждаемся в механической аналогии и может получиться наоборот: после длительного изучения электродинамики мы станем толковать законы механики по аналогии с электродинамикой. Здесь же, в квантовой механике появились явления и понятия, которых нет в обыденной жизни, и потому ее восприятие так трудно. Хотя туннельный эффект не имеет аналогий в классике, он потому и назван туннельным, что с детства нам понятно, что сквозь гору можно пройти туннелем, а не обязательно перебираясь через хребет. Но главное, для постижения квантовой механики, учил нас Игорь Евгеньевич, надо привыкнуть к ней и тогда исчезнет протест, который возникает у людей, не привыкших мыслить квантово-механическими образами. Игорь Евгеньевич ходил перед доской, глядя на нас и сквозь нас, углубленный в себя и видя где-то поверх нас эти новые образы. Его движения, его остановки и обращения к доске и к нам, сочетались с паузами в мысли, с переходами от одних сторон явлений к другим. Быстрый в речи, Тамм терпеливо и подробно посвящал нас в новую науку, в новый мир корпускулярно-волнового дуализма микромира. Он учил нас, что главное для физика не уравнения и формулы, которые нужны для количественного сравнения теоретических идей с экспериментом. Главное — понимание физической сути явлений, понимание механизма. {151} Тот не физик, учил он, кто не умеет делать оценок. Прежде чем приняться за составление уравнений и решение строгих математических задач, надо оценить порядок величин, надо качественно просмотреть явления. Будучи сам виртуозным вычислителем и в совершенстве владея математическим аппаратом, он всегда требовал, чтобы на всем протяжении вычислений мы находили физические критерии проверки, правильно ли идет вычисление, не вкралась ли ошибка. А когда вычисление окончено, он не допускал ответа «так показывает формула», а искал, почему она так показывает и какой физический смысл в том, что она показывает.
В эту пору он заложил в нас основы научной морали, запрещающей отрицать то, что не понял, требующей ничего не принимать на веру, и никогда не использовать аргумента, что это, мол, верно, потому что сказано таким-то авторитетным человеком, требовал всегда придирчиво честно ссылаться на авторство наших предшественников и коллег. Его лекции и личные встречи на научной почве, лекции Леонтовича, Мандельштама, Арнольда и ряда других менее ярких людей научили нас отличать науку от невежественной возни вокруг науки и устоять на научных позициях в те трудные годы, когда кое-кем низвергались квантовая механика и теория относительности как «идеалистические порождения гниющего мира капитала».
В 1935–36 годах Игорь Евгеньевич читал «Физику атомного ядра». В ту пору по этому вопросу не было еще ни одной монографии, ничего не было сведено в систематический лекционный курс. Игорь Евгеньевич сам тогда основные свои силы отдавал теории внутриядерных сил. Но лекции его были сумбурны. Обычно звонок уже давно прозвонил, а его еще нет. Мы толпились на лестничной клетке в ожидании его. Наконец, с опозданием в 15–20 минут появлялся быстро-быстро поднимающийся Тамм с зеленым номером Physical Review под мышкой.
— Неужели я опять опоздал? — был его обычный веселый вопрос. Мы столь же весело подтверждали и гурьбой шли за ним в аудиторию. Он начинал рассказывать очередную новость из зеленого журнала, незаметно переходя к развиваемой им самим задаче. Несмотря на сумбурность лекций, он открывал нам путь на самые передовые позиции теории атомного ядра и мы с увлечением слушали его. Его энтузиазм заражал. Как-то само собой получилось так, что он принял меня к себе в дипломники, предложив тему: «Расчет энергии связи ядер дейтерия, трития и гелия-3», а через год принял меня к себе и в аспиранты.
Во время писания дипломной работы я стал бывать у него дома, в квартире над аптекой на площади Земляного вала. Это незабываемые дни. Я убедился, что и дома Игорь Евгеньевич не погружается в серость {152} быта, а горит в науке так же как на лекциях и семинарах, что творческая активность его не угасает ни в какой обстановке, что мысль его всегда свежа. Иногда он приглашал позавтракать вместе с женой, сыном и дочерью Ириной. Беседы были полны свежести и простоты. Я увлекался симфоническими концертами и никогда не был поклонником кино. Игорь Евгеньевич со смехом заявил, что ему «медведь на ухо наступил» и потому он в музыке ничего не понимает и в концерты не ходит, а зато очень любит кино. Меня это огорчало, ибо увлекаясь «Психологическими этюдами» Оствальда я знал, что Гельмгольц был прекрасным пианистом, а Эйнштейн — скрипачом. Но Игорь Евгеньевич был так непосредствен и порывист, что это расхождение между моими мысленными идеалами и им не мешало росту большого дружеского чувства и глубочайшего уважения к нему.
Порой прямо от него мы ехали в ФИАН на Миусскую площадь в битком набитом автобусе «Лейланд», скрипевшем и взлетавшем на ухабах булыжной мостовой Садового кольца. От автобуса до ФИАНа Игорь Евгеньевич как-то предложил помериться в быстроте хода. Ноги мои длиннее, а Игорь Евгеньевич ужасно кашлял, так как много курил, папиросу за папиросой, везде, и в институте и дома за письменным столом, пересыпая пеплом свои рукописи, написанные часто карандашом (перья, с маканием в чернильницы, не поспевали за темпераментом Игоря Евгеньевича), и кашель задерживал его ход. Через квартал — два Игорь Евгеньевич закашлялся и вынужден был признать ничью, но в отместку после конца рабочего дня на площадке в ФИАНе он со вкусом забил волейбольной команде, в которой я играл, несколько мячей и как всегда весело и заразительно смеялся, снимая этим смехом всякую возможность возникновения ревности или желания реванша.
В эту пору расцвета его сил (конец тридцатых годов) Игорь Евгеньевич был активным полемистом, беспощадным ко всякой лженауке или псевдонауке. Мы не знали тогда, что в 1936 году был арестован его брат Леонид, инженер-химик, и через два года расстрелян, как «враг народа». И надо было иметь великое мужество и быть кристально честным, чтобы при этом, когда в журнале «Под знаменем марксизма» псевдофилософы Кольман, Максимов и им подобные «ниспровергали» теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику, как идеологические заблуждения ученых «гниющего мира капитала», горячо выступать против Кастерина и Миткевича. Они — физики старшего поколения — не признавали этих великих достижений физики XX века и пытались с помощью классической механики Ньютона объяснять строение атомов. Эти дискуссии возглавили Тамм, Леонтович и Дивильковский (добровольцем ушедший в начале войны в армию и вскоре {153} погибший). На заседания в ФИАН, где разоблачались кастеринские «классические модели атома», приходили титаны аэродинамики и гидродинамики А.Н.Крылов и С.А.Чаплыгин, выступивший в поддержку аргументации Тамма.
А в 1936 году в один прекрасный день бесследно исчез декан физфака МГУ Борис Михайлович Гессен. Он читал у нас курс лекций по философии естествознания и был автором книги, имевшей название, что-то вроде «Диалектический материализм в механике Ньютона». Мы, студенты МГУ, знали Гессена как доброжелательного, но замкнутого человека. Комсомольцы и партийные студенты, может быть, слышали на партсобрании, в чем обвинялся Гессен, почему он получил ярлык «врага народа». Я, как в ту пору беспартийный, узнавал об этом краткие отрывочные сведения от товарищей, которым, видимо, было указание не распространяться широко на эту тему. Но так или иначе однажды было назначено собрание физфака, насчитывавшего всего лишь 450 студентов и десятка три профессоров, доцентов и ассистентов. И весь физфак полностью вмещала Большая физическая аудитория, построенная еще знаменитым Умовым в прошлом веке. Собрание началось в середине дня и председатель его добивался от Тамма и Ландсберга, чтобы они публично осудили Гессена. Начато было с того, чтобы оба рассказали о своих связях с Гессеном. Тамм признал, что они вместе учились и что знал Гессена не один десяток лет, оба признали свою дружбу с ним, но ни тот ни другой не сказали о нем ничего плохого и, сколько председательствующий не добивался, аудитория не услышала ничего порочащего Гессена, ни как гражданина, ни как декана факультета. Тамму и Ландсбергу повторно давали слово, они выступали перед всем составом физфака, заполнившего весь амфитеатр до самого потолка, но так они и не сказали ни одного слова в осуждение своего арестованного (и уже расстрелянного) товарища. Поздним вечером, изнуренный председатель заявил угрожающе, что «выводы будем делать позже» и приступил к истязанию Семена Эммануиловича Хайкина, назначенного в то время, если не ошибаюсь, на место Гессена. Тут шла речь о научной полноценности работ Хайкина. Семен Эммануилович отвечал быстро и остроумно и это вечернее «театральное представление» закончилось за какой-нибудь час.
После собрания Тамма сняли с заведования кафедрой теоретической физики, а Ландсберга с заведования кафедрой общей физики. На место первого назначили Блохинцева, на место второго — Калашникова. Руководство аспирантами за Таммом сохранили и меня оставили его аспирантом. Основную свою деятельность Игорь Евгеньевич перенес в ФИАН, находившийся тогда на Миусской площади, где Сергей {154} Иванович Вавилов был директором. Он назначил Тамма руководителем отдела теоретической физики. Им Игорь Евгеньевич оставался до последнего дня своей жизни. В Университете Игорь Евгеньевич остался членом кафедры теоретической физики и продолжал активно участвовать в ее научной жизни.
Деканом физфака был назначен в конце концов Александр Саввич Предводителев, теплофизик, с которым у Тамма были особые отношения. В течение нескольких лет Предводителев публиковал статьи, вызвавшие, наконец, появление в 1936 г. в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» критики Игоря Евгеньевича под названием «О некоторых теоретических работах А.С.Предводителева». Критикованный Предводителев страшно обиделся и потребовал публичного объяснения. Опять при полной Большой физической аудитории прошел поединок. Игорь Евгеньевич изложил полную несостоятельность, а не отдельные ошибки работ Предводителева, на что тот, как самый сильный аргумент, выставил: «но я работаю над этими вопросами уже восемь лет!». Подскочивший от этой аргументации Тамм воскликнул: «Тем хуже, что за восемь лет вы не разобрались в вопросах, на уяснение которых достаточно несколько дней». Диспут закончился тем, что Тамм обещал не посылать в журнал впредь таких критических статей, не известив заранее критикуемого о своей точке зрения. Тамму этот диспут, несомненно, стоил нервотрепки, а для всех нас — и студентов и аспирантов это было хорошим уроком, поучавшим быть строгими к псевдонаучным высказываниям. В то время на факультете и в Институте физики МГУ было много молодых (и не очень молодых) людей, не постигавших курсов лекций или с трудом проходивших сквозь курсовые экзамены и зачеты физфака. Это были люди, пришедшие по партийному лозунгу: «Рабочий класс должен отвоевать физфак у старой интеллигенции!». С годами они разошлись на хозяйственную и партийную работу, но только много позже их полностью сменила полноценная научная молодежь.
Конец тридцатых годов — время великого события в физике атомного ядра — открытия деления ядер урана и тория под действием нейтронов, имевшего огромные последствия в политической жизни мира, был периодом бурной научной активности Тамма. В еженедельных семинарах ФИАНа по физике атомного ядра и космическим лучам Игорь Евгеньевич постоянно активно участвовал и выступал. Он донес до участников семинара ясное понимание коллективной модели ядра, развитой тогда Нильсом Бором. Он рассказывал о разработке Я.И.Френкелем капельной модели деления ядер урана и тория. Развивал теорию внутриядерных сил и активно обсуждал все новости по делению. Когда до него дошла весть, что Бор работает над теорией {155} деления, он объявил всем нам: «der Grosse Bohr взялся за деление всерьез. Теперь недолго ждать! Через два-три месяца мы получим настоящую ясность в том, как делятся ядра. Никому из нас не поспеть за Бором!». И, действительно, уже в середине 1939 года Игорь Евгеньевич торжествующе показал нам на семинаре зеленый выпуск «Физрева» (журнал «The Physical Review»), почти целиком занятый теорией деления тяжелых атомных ядер, разработанной Бором и Уилером.
Между дискуссиями, альпинистскими походами и волейбольными сражениями Игорь Евгеньевич вместе с Ильей Михайловичем Франком создавал принесшую им в 1958 году Нобелевскую премию строгую теорию «поющего электрона», как назвали тогда журналисты открытое С.И.Вавиловым и П.А.Черенковым излучение электрона, движущегося в среде быстрее распространяющегося в ней света и получившее позже в литературе название «черенковского излучения».
Осенью 1939 года мы, четверо аспирантов — В.И.Малышев, А.Е.Кадышевич, Я.П.Терлецкий и я, — кончили аспирантуру с защитой кандидатских диссертаций. Разумеется, приглашенный на вечеринку в студенческое общежитие на Спиридоновке, Игорь Евгеньевич пришел. Мы веселились, подвыпили, а когда организованные тосты исчерпались, начался самый приятный самостийный сумбур, Игорь Евгеньевич рассказал нам, что по расчетам Харитона и Зельдовича возможно создание урановой бомбы такой страшной силы, что взрыв ее разрушил бы чуть ли не всю Московскую область. Весело обсудив это невеселое сообщение, мы все безмятежно продолжали банкет. Настолько эта урановая бомба всем нам включая и Тамма казалась далекой от реальности и всего лишь теоретическим творением!
В 1945 году, когда я уже работал в Лаборатории № 2 АН СССР1, Игорь Васильевич Курчатов как-то вызвал меня к себе в кабинет с вопросом об одном из моих университетских товарищей: стоит ли его брать на работу к нам. Я рассказал, что знаю его «как облупленного» и не рекомендую брать, так как он человек недалекий и страшно ревнивый к успеху не только любого своего товарища, но и любого физика, всегда всеми силами выпячивает свой приоритет, и в этом нечистоплотен.
— А вот что меня удивляет, — сказал я Курчатову — так это почему крупнейший наш физик Игорь Евгеньевич Тамм не работает с нами? Наша работа должна идти с ним. — Иначе поступать невозможно, Игорь Васильевич! — сказал я ему тогда.
— Вы так считаете? — ответил Курчатов. — Так, так, — и лукаво {156} улыбаясь, погладил свою бороду сверху вниз (что было признаком его удовольствия и согласия).
Через некоторое время, это была вторая половина 1945 года, когда уже оформились основные научные и административные участники нашей проблемы, Курчатов вновь вызвал меня к себе в кабинет и встретил со словами: «На днях будет торжественное представление «Золушки» Прокофьева в Большом театре. Все билеты закуплены Первым Главным Управлением1. В театре будет весь генералитет. Вам полагается два билета — вам с дамой. Не хотите ли вы отнести два билета своему учителю Игорю Евгеньевичу Тамму?»
— Конечно, хочу! — обрадовался я.
— Так зайдите за билетами к Гончарову и постарайтесь в своей дипломатической миссии так преуспеть, чтобы Игорь Евгеньевич обязательно пришел на балет.
Окрыленный я в тот же вечер пришел в первый раз после войны к Игорю Евгеньевичу домой, в квартиру над аптекой на Земляном валу. Игорь Евгеньевич был явно заинтересован этим неожиданным приглашением и обещал обязательно придти.
Большой театр блистал в тот вечер огнями, блистал оживлением, золотом погон и военных орденов и медалей, блистал молодостью большинства участников. Ведь сияющему Курчатову было всего лишь 42 года, Ванникову еще не было пятидесяти, а Тамму — представителю старшего поколения — едва минуло пятьдесят! Курчатов, прохаживаясь по фойе с Мариной Дмитриевной под руку, сочетал праздничную торжественность со свойственной ему деловитостью, ненавязчиво спрашивая о результатах работы, давая советы. Звучала удивительная музыка Прокофьева, неповторимо танцевала Золушка-Уланова...
Игорь Евгеньевич Тамм занял в атомной проблеме Советского Союза место, на котором его никто не мог заменить. Через два года он вместе со своими учениками уже работал над поиском пути к осуществлению термоядерного взрыва.
В конце октября 1950 года ко мне позвонил генерал Павлов из Первого Главного Управления с вопросом:
— Игорь Николаевич! Есть у тебя время придти ко мне завтра утром? Твой учитель Игорь Евгеньевич с Андреем расскажут о своих идеях.
— Какой это Андрей?
— Ты не знаешь Андрея Сахарова? Замечательный молодой человек! {157} Тоже, как ты, ученик Игоря Евгеньевича. Они сейчас вместе работают. Приедешь?
— Приеду, обязательно.
На следующий день в кабинете Николая Ивановича Павлова на Новорязанской улице, когда я вошел, уже были Игорь Евгеньевич и красивый незнакомый мне молодой брюнет. Николай Иванович приветствовал восклицанием:
— Знакомьтесь!
На протяжении двух часов Андрей Дмитриевич, с редкими вставками Тамма, рассказывал мне в присутствии Павлова идею магнитной термоизоляции плазмы и результаты расчета моделей термоядерного реактора, сжигающего дейтерий и производящего тритий. В то время модель термоядерной бомбы еще не была достаточно проработана и полагали, что для нее потребуется производство трития в большом количестве. Поэтому идеям Тамма и Сахарова была придана высшая степень секретности «особая папка».
— Ну, как? — спросил Павлов, когда беседа стала близиться к концу, — нравятся тебе эти мысли?
— Ошеломляюще, — ответил я. — К этому надо привыкнуть, чтобы представить себе плазму с температурой в сотни миллионов градусов и с плотностью более чем десять в четырнадцатой! Грандиозные идеи! Так что же — присоединяться к работе в этой области?
— Да, вы кончаете электромагнитное разделение изотопов. Силы освобождаются. Их и кое-кого другого можно привлечь к этой работе.
— Но авторы уже ведут ее.
— Эксперименты можно начинать только у вас в Л ИПАНе. Андрей и Игорь Евгеньевич должны вести свою основную работу. Не больше одной трети времени им разрешим тратить на эти идеи. Пока не приедет Игорь Васильевич из командировки, знакомься сам. Поезжай в ФИ АН, встречайся с Игорем Евгеньевичем и Андреем. Когда приедет Курчатов, расскажешь ему, с ним порешим, как ставить работу. А пока никому не говори. Ладно?
— Ладно!
Когда Тамм и Сахаров ушли, Павлов спросил меня:
— Ну, как тебе понравился Андрей?
— Очень! Но только не пойму, он что, немец, что ли, что за произношение такое?... Картавит.
— Никакой он не немец. Чистейший русак. И отец, и дед и все у него русские. Это наш парень. Не сомневайся.
Через несколько дней я был в ФИ АНе, встретился с Таммом, Сахаровым, Гинзбургом. Обсудили взаимодействие плазмы со стенками, перезарядку на остаточном газе. Наметили некоторые шаги дальнейшего {158} анализа. До нового года состоялось еще несколько встреч у Курчатова. Он внимательно слушал Тамма и Сахарова и начал привлекать своих теоретиков — Мигдала, Будкера, Галицкого к этим вопросам. Потребовал, чтобы Тамм и Сахаров написали отчеты о проделанной работе. Эти отчеты позднее стали первыми тремя главами зеленого четырехтомника по физике плазмы и управляемым термоядерным реакциям, изданного под наблюдением и редакцией Курчатова ко Второй Женевской конференции в 1958 году. Тамм, как всегда, проявил при писании этих глав свою щепетильность, упомянув мою фамилию при совсем второстепенных моих замечаниях по обсуждаемым там вопросам.
В конце января 1951 года состоялось первое решающее трехдневное совещание по проблеме управляемого термоядерного синтеза. Оно происходило на секретном «объекте КБ-11» (так тогда назывался Арзамас-16) у Ю.Б.Харитона. Его вел И.В.Курчатов, участвовали, кроме Харитона, Сахаров, Тамм, Зельдович, Боголюбов, Мещеряков, Арцимович, я и несколько других сотрудников КБ-11. Участники встречались не только на заседаниях, но и на общих трапезах и прогулках по лесу и окрестностям.
По мере развития обсуждений становилось ясно, что зародилась новая обширная область науки. Игорь Евгеньевич оживленно участвовал в дискуссиях и отмечал, что предлагаемое им с Сахаровым решение — тороидальная камера с током в плазме в тороидальном магнитном поле — может быть совсем не главное. Но что сама возможность с помощью магнитного поля сильно воздействовать на теплопроводность и диффузию ведет к огромным, непредвиденным сейчас последствиям. Что включение в эту работу экспериментаторов и многих теоретиков совершенно необходимо и сейчас невозможно предсказать, к каким вариантам решения они придут, но что многообразие возможных решений очень велико, и он верит в широкое развитие этой новой науки. На совещаниях стало ясно, что для устранения тороидального дрейфа необходимо «вращательное преобразование».
За завтраком, нарисовав на бумажной салфетке, я показал, как, сделав несколько изломов тороидальной трубки с магнитным полем, можно получить вращательное преобразование на 90°, придав тороиду пространственную кривизну. Курчатов заинтересовался. Арцимович зашумел, что «этого не может быть и противоречит уравнениям Максвелла». Андрей Дмитриевич к нему присоединился, задумчиво сказав, — «вы не учитываете, наверное, полей рассеяния или что-нибудь еще...». Игорь Евгеньевич прислушался и промолчал. А я, нарушив его поучения не верить авторитетам, а самому точно понять утверждение, сдался. {159}
Через восемь лет в докладе Спитцера на Второй Женевской конференции было приведено похожее на мое доказательство реальности создания вращательного преобразования приданием тору формы пространственно-искривленной восьмерки!
В конечном счете, все получилось к лучшему. Если бы Сахаров согласился со мною, то был бы еще один стелларатор кроме спитцеровского. Не было бы токамака, не было бы успеха термоядерной программы последних 25-ти лет с семидесятых годов по сегодняшний день.
После заседаний мы направлялись обедать в особый коттедж с накрытыми столами, бильярдом при входе в обеденную комнату и другими средствами отвлечения и отдыха. Однажды Игорь Евгеньевич запоздал на несколько минут и вошел в бильярдную позже нас. Там два незнакомца лениво толкали шары. Игорь Евгеньевич, как всегда стремительно, вошел в комнату, приветливо поздоровался и, воскликнув, «О, здесь можно помериться силами!» — схватил свободный кий и сразу стал партнером. Несколько порывистых ударов, забитый в лузу шар, промах, один — другой, вновь удачный удар и, разрядившись, Игорь Евгеньевич поставил кий на прежнее место и быстро прошел к столу.
Мы, восхищенные живостью его, заметили:
— Как это вы, Игорь Евгеньевич, всюду свой человек, вы разве игроков знаете?
— А разве надо людей обязательно знать заранее, чтобы с ними общаться? Я их не расстроил. Вы знаете, — продолжал он, — перед войной еще жена мне не раз говорила. Почему, Игорь, все люди к тебе так хорошо относятся? Что-то здесь не так. Как бы чего не вышло. Подобно тому как Собакевич беспокоился, что у него слишком хорошее здоровье, — хоть бы прыщ вскочил, — а то, как бы чего не вышло. Но так ничего плохого у нас и не выходило! А теперь и я и она уверовали, что я везучий и что люди вокруг меня хорошие — и Игорь Евгеньевич залился заразительным смехом...
Большое совещание полностью одобрило развитие работ по идеям Сахарова и Тамма. Курчатов доложил об этом Ванникову и Завенягину в Первом Главном Управлении и решено было готовить доклад правительству, то есть Сталину и Берии. Прежде всего полагалось доложить Берии, как председателю Спецкомитета, руководившего работами по атомной энергии. Игорь Васильевич имел право обращаться к Берии независимо от Первого Главного Управления.
Курчатов пригласил Тамма обсудить основные просьбы, с какими следует обратиться выше. Игорь Евгеньевич горячо высказался за {160} привлечение Леонтовича, работавшего до того момента с войны в радиолокационном институте у А.И.Берга. Побеседовав с Михаилом Александровичем, уговорил его возглавить работу теоретиков. Курчатов с Таммом решили создать Совет по управляемым термоядерным реакциям под председательством Курчатова. Игорь Евгеньевич настоял, чтобы его заместителем по Совету был Андрей Дмитриевич. Все теоретические и экспериментальные работы было решено сосредоточить в ЛИПАНе, как тогда назывался Институт атомной энергии. Пора было дать название проблеме. Игорь Евгеньевич предложил назвать ее «проблемой МТР» (магнитный термоядерный реактор). После пропаганды идей МТР в аппарате Первого Главного Управления и Совета Министров СССР Курчатов счел возможным писать письмо Берии и проект постановления правительства. За это дело он засадил меня.
В первой половине февраля 1951 года письмо и проект постановления были написаны, подписаны Курчатовым и посланы «руководству». В те годы дела вершились быстро. Через несколько дней пришла команда: прибыть Курчатову, Тамму, Сахарову и Головину к одиннадцати часам вечера на заседание в Кремль.
Справа от Спасских ворот были отделены два прохода между перилами. У самой стены перед входом в Кремль майор в погонах с голубыми просветами вполголоса, наклонившись к уху, спрашивает: «Оружие есть?» «Нет». «Проходите». Предъявляем пропуск другим офицерам. Вдоль стены внутри Кремля, направо, две сотни метров до углового подъезда в дивном ампирном творении М.Ф.Казакова. Над дверью часы: половина одиннадцатого. Два подполковника проверяют пропуска. Наверх две лестницы справа и слева, полукругом на уровень коридора. «В коридоре вам налево», — говорит один подполковник. Дивные огромной высоты стройные сводчатые коридоры. Направо двери в зал, налево двери закрыты. «Вам дальше, следующая дверь» — слышится голос вдогонку — подполковники следят. Приемная. Дверь налево в кабинет закрыта. У двери встречает адъютант. Проверяет пропуска и документы. Предлагает садиться, подождать. «Вас вызовут». Большой стол, много стульев вдоль стола. В приемной уже несколько человек с усталыми замкнутыми лицами. Адъютант не садится, все время на ногах. Приходят Курчатов, Ванников, другие знакомые и незнакомые лица из административного мира. И молча садятся. Оживленный Тамм, войдя в дверь, тоже смолкает. Ровно в одиннадцать адъютант предлагает войти в кабинет. Берия за большим письменным столом в правом дальнем углу сравнительно небольшой комнаты у окна. Другой, большой стол между входной дверью из приемной и письменным столом. Жестом Берия приглашает сесть за этот отдельный {161} стол. Здесь располагаются Курчатов, Ванников, Завенягин, Павлов, Тамм, Сахаров, я и несколько незнакомых мне людей; за ближним к письменному столу концом садится начальник канцелярии Берии, генерал Махнев. Через дверь слева, прямо из коридора входит и садится по правую руку Берии за одним с ним столом генерал Мешик.
Берия просит Курчатова изложить задачу. Курчатов говорит, что Тамм и Сахаров сформулировали новую проблему — возбуждение теперь не взрывной, а управляемой термоядерной реакции, что осуществление ее дало бы новую возможность получения трития, важного для импульсной реакции (слово «бомба» не произносится). Кроме того, выдвинутая идея сулит возможность применения для мирных целей неисчерпаемых источников энергии. Топливо — дейтерий — имеется в изобилии на всей Земле, проблемы рудных запасов для него не существует. Осуществив управляемую термоядерную реакцию, человечество освободилось бы на практически вечные времена от забот о топливе. Предложение Тамма и Сахарова — это вторая атомная проблема. Первую мы с Вами, Лаврентий Павлович, успешно решили, первая атомная электростанция проектируется, теперь мы готовы приступить к решению второй, не менее замечательной проблемы и обращаемся к Вам с просьбой о поддержке. Что мы просим, изложено в нашем письме. Ждем Ваших указаний.
Едва Курчатов кончил, как Игорь Евгеньевич поднял руку и, привставая, попросил слова. Берия разрешил.
— Лаврентий Павлович, я должен сказать, чтобы не было недоразумения, что предложил все это не я, а Андрей Дмитриевич Сахаров. Он сформулировал все идеи, а я только помогал ему вычислять. Надо, чтобы должное отдавалось ему, а я участвовал, я разделяю идеи и полностью их поддерживаю, несу всю ответственность за предлагаемое, но все-таки заслуга за Андреем Дмитриевичем, а не за мною. Надо бы говорить: предложения Сахарова, а не предложения Тамма и Сахарова, я ему только помогал и буду помогать. Да.
Сахаров морщится, дергая Тамма за локоть.
Берия, нетерпеливо замахав рукой, перебил Тамма словами:
— Сахарова никто не забудет, — и велел ему сесть. Товарищ Ванников, что вы хотите сказать?
— Хочу сказать, Лаврентий Павлович, что предложение интересное. Но очень новое. В каком объеме развертывать работы — надо разобраться. Ясности мало. Товарищи Тамм и Сахаров сильно загружены главной задачей. Задерживать ее решение нельзя...
Еще несколько вопросов. Краткие ответы. Берия подытоживает:
— Поддержим, поддержим. Доложу товарищу Сталину, примем решение как развивать эти работы. — Берия встает. Подает сигнал {162} адъютанту, открывшему дверь в приемную. Тамм, Сахаров, Головин уходят. Другие остаются для решения иных вопросов. Новые люди входят. Государственная машина работает далеко за полночь.
Наступил март, а постановления правительства еще нет. Курчатов начал беспокоиться. Больше месяца проекты постановлений правительства в ту пору никогда не задерживались. А тут ни отказа, ни директивного документа. В середине апреля взволнованный Дмитрий Васильевич Ефремов, тоща министр электропромышленности, звонит Курчатову: необходима срочная встреча! Приезжает немедленно с американским журналом в руках. В нем написано: немецкий физик Рихтер, эмигрант в Аргентину, на днях осуществил при газовом разряде в разреженном дейтерии реакцию синтеза, о чем свидетельствовали интенсивные потоки нейтронов. Президент Аргентины Перон поздравил Рихтера с успехом, обещал ему полную поддержку и подарил ему свой комфортабельный «Роллс-Ройс». Приведена фотография, как Перон с женой поздравляют Рихтера и передают ему в подарок «Роллс-Ройс». Президент отказался сообщить Соединенным Штатам Америки какие бы то ни было подробности о выполненных опытах и для развития работ Рихтера в условиях строгой секретности распорядился предоставить ему большое здание на острове среди реки Рио де Лаплата. Опыты Рихтера успешно продолжаются. Ворвавшись в кабинет Курчатова, Ефремов с волнением выпалил:
— Надо немедленно докладывать «руководству» (то есть Берии)! Игорь Васильевич! Вот как мы мудро сделали, что не тянули, а в феврале еще доложили руководству об идеях МТР. Если бы мы молчали, то теперь пыль бы от нас летела! Такой был бы разнос. Но теперь получим поддержку!
К вечеру письмо «руководству» было написано и наутро отослано. Отклик не замедлил придти.
Опять собрались к одиннадцати часам вечера в приемной Берии. К прежнему составу был добавлен Арцимович, вернувшийся с завода электромагнитного разделения изотопов, который он тогда запускал. Курчатов предложил ему возглавить опыты по управляемому синтезу. В кабинете Берии все были на прежних местах. Так же по правую руку от него сидел генерал Мешик. Курчатов сообщил о новости из Аргентины и высказал тревогу о задержке решения у нас. Перешли к обсуждению деталей проекта решения. Тамм попросил слова.
— Очень важно, Лаврентий Павлович, чтобы во главе теоретиков встал академик Леонтович. Он талантливый физик, очень эрудирован в нужной области и у него успешно растут ученики. А у Берга он сделал все, что мог полезного для радиолокации. {163}
Мешик наклонился к Берии и громким шепотом сказал:
— Леонтович опасный человек. Вокруг него собирается молодежь и ведут недозволенные разговоры.
Берия громко ответил:
— Это ваша забота. Организуйте наблюдение. Вот все и будет в порядке. А сколько вам денег надо, товарищ Курчатов, для начала этой работы?
Откликнулся генерал Павлов.
— Десять миллионов, Лаврентий Павлович! Возьмем их из резерва Совета Министров.
Так в первый и последний раз проблема управляемого синтеза была признана столь важной, что для нее был затронут резерв Совета Министров. В то время эта сумма была значительной.
Пятого мая 1951 года за подписью Сталина вышло первое постановление Совета Министров СССР о начале работ, инициированных Таммом и Сахаровым, по управляемым термоядерным реакциям. В нем были записаны имена Сахарова и Тамма. Леонтович был поставлен во главе теоретиков, было принято решение о строительстве новых цехов Серпуховского конденсаторного завода, о строительстве восьми двухквартирных коттеджей для привлекаемых иногородних сотрудников, о поставке новых приборов, разработанных ранее для регистрации атомных взрывов, о всесторонней помощи.
Все лето Игорь Евгеньевич часто приезжал к нам в ЛИПАН, обсуждал работы теоретиков и нетерпеливо подталкивал экспериментаторов скорее развертывать опыты. В это время он восхищался организаторским талантом Курчатова.
— Мы привыкли говорить — сказал он как-то, находясь в кабинете Курчатова, — о талантах музыкантов и математиков, о тонких экспериментаторах. Но в наше время работа ведется большими коллективами. Уметь вовлечь в работу, сложить усилия без конфликтов, уметь распознать способности людей и правильно их расставить в общем деле — это тоже талант! Талант замечательный и особо ценный. И вы, — сказал он в глаза Курчатову, — им обладаете в редком сочетании с вашим юмором и заражающим других умением работать с увлечением и радостью. До войны я знал только свои вычисления, теория прекрасна! Но теперь я попал в новый не менее замечательный мир коллективной работы...
А главная в ту пору задача не давала Тамму надолго задерживаться в Москве. Приходилось уезжать из Москвы туда, где создавалось термоядерное оружие, уезжать на многие месяцы интенсивного труда.
С начала 1953 года Игорь Евгеньевич исчез из Москвы полностью и, может быть, в связи с быстро шедшим изготовлением водородной {164} бомбы в «КБ-11», с волнением проверял и перепроверял свои с Сахаровым задания на вычисления условий термоядерного взрыва, выданные А.Н.Тихонову и А.А.Самарскому и выполненные десятками их вычислительниц на механических счетных машинах.
Испытание первой в мире водородной бомбы — «слойки» Сахарова — было назначено на август 1953 года. Мощность ее взрыва определялась количеством лития-6, которое успел выделить на двадцатикамерной электромагнитной установке СУ-20 Павел Матвеевич Морозов, героически трудившийся с начала года и сумевший с апреля организовать круглосуточную работу на ней на Северном Урале. Еще Берия успел придать этой работе быстрые темпы. Курчатов и многие другие участники создания бомбы заранее переселились в поселок на берегу Иртыша неподалеку от полигона и ежедневно вели на нем подготовку испытательного взрыва. Курчатов добился назначения Игоря Евгеньевича своим первым заместителем по испытанию. Связанные с этим задачи Тамм, по словам Курчатова, прекрасно выполнил.
После испытания, успешно прошедшего 12 августа 1953 года, Игорь Евгеньевич просил Курчатова отпустить его в Москву, так как считал, что выполнил все, что был в состоянии для создания оружия и хотел вернуться к фундаментальным вопросам физики элементарных частиц. Его просьба была удовлетворена.
В Институте атомной энергии он появлялся редко, но всегда взволнованный развитием термоядерных исследований. Летом 1957 года он приехал в Институт, когда Курчатов лежал в постели со вторым инсультом. Тамма беспокоило медленное продвижение экспериментов. Игорь Евгеньевич настаивал на широком обсуждении положения дел. Требовал анализа, почему мы все еще находимся в области столь низких температур, как один миллион градусов. Нет ли путей, которые мы пропустили, но по которым надо, не откладывая, идти. На встрече с Арцимовичем, Леонтовичем, Головиным и Лукьяновым было решено пригласить Д.В.Ефремова, Я.Б.Зельдовича, А.Д.Сахарова и собрать всех научных сотрудников, занятых термоядом в Институте атомной энергии.
Совещание состоялось. Вялый в то время Арцимович (он бросил по требованию врачей курить) долго и нудно делал доклад. В нем он «доказывал», что идея Сахарова о тороидальной плазме провалилась, так как плазма с током «принципиально неустойчива». Что наибольшие надежды у него на ловушки с магнитными пробками, в которых тока в плазме нет. Опыты с ними успешно ведет его сотрудник М.С.Иоффе. Но и в них температура плазмы еще низка, что прямых {165} путей к высоким температурам нет и мы должны идти терпеливо шаг за шагом, и на этом медленном пути прогресс все же есть.
Игорь Евгеньевич ерзал, задавал вопросы и, когда Арцимович кончил, стремительно вышел сам к доске. В полупустой большой аудитории амфитеатром сидело несколько десятков понурых термоядерщиков. Игорь Евгеньевич со свойственным ему темпераментом пытался разбудить эту спячку, перебирал аргументы Арцимовича и искал опоры для нового качественного шага.
— Первый качественный шаг, — говорил он, — вы сделали в 1951–52 годах, когда от холодной слабоионизованной плазмы газового разряда, изучавшейся классиками-газоразрядчиками в течение десятков лет, за какие-нибудь два года перешагнули к полностью ионизованной плазме с температурой в миллион градусов. От трехсот градусов — к миллиону! Недурно! Еще раз такой же шаг — поднять температуру в три тысячи раз — уже не нужно — достаточно поднять в триста, в тысячу раз. Надо внимательно осмотреться. Теория — могучая опора. Как сделать этот шаг? Кто знает?
В ответ на этот вопрос в середине амфитеатра в одном из задних занятых рядов я поднялся со словами:
— Будкер показал, как сделать этот шаг. Надо инжектировать быстрые молекулярные ионы в ловушку с магнитными пробками и накапливать плазму. Плазма будет сразу горячая с температурой, нужной для реактора, и задача лишь в том, чтобы накопить ее достаточно плотной.
— Так делайте же этот опыт немедленно! — воскликнул Тамм.
— Мы начали уже с Дмитрием Васильевичем Ефремовым проектировать установку для этой цели, назвали ее «Огра».
— Идите к доске, напишите ее главные параметры, — потребовал Игорь Евгеньевич.
Зал проснулся. Поднялся шум и вспыхнуло оживление. Игорь Евгеньевич с азартом дирижировал выступлениями. Конечно, образовались два лагеря. Ефремов горячо ратовал «за». Арцимович сохранял нейтралитет. Зельдович: «Почему бы и нет». Леонтович с кулаками наступал на меня: «Не будем мы строить вашу чертову Огру». А Игорь Евгеньевич заливался смехом и с удовлетворением потирал руки.
В конце 1957 года Курчатов, вернувшийся к работе после второго инсульта, горячо поддержал Игоря Евгеньевича и развернул большое наступление на фронте мирного использования термоядерных реакций.
В это время Игорь Евгеньевич несколько раз приходил к нему и рассказывал о грандиозных успехах на Западе в объяснении наследственности {166} на молекулярном уровне и призывал его включиться в нараставшую тогда борьбу против лысенковщины, за возрождение генетики в нашей стране. Темпераментные, яркие и безупречные по изложению научного содержания открытия беседы Тамма быстро убедили Курчатова и он, пользуясь своим авторитетом в министерских кругах, несмотря на протесты Хрущева, организовал у себя в Институте вместе с Игорем Евгеньевичем научный семинар. Вместе нашли энтузиастов, как среди биологов (в том числе были Энгельгардт и Астауров), так и среди участников решения атомной проблемы, создали коллектив «Радиобиологического отдела», и Курчатов, в течение менее двух лет, построил для него здание в своем Институте. Отдел возглавил хорошо известный Игорю Евгеньевичу участник испытания 12 августа В.Ю.Гаврилов, с энтузиазмом включившийся в возрождение генетики.
Осенью 1958 года в Женеве проходила Вторая международная конференция по мирному использованию атомной энергии. На ней были полностью рассекречены все работы, проводившиеся в Советском Союзе, Великобритании и Соединенных Штатах Америки по управляемому термоядерному синтезу. В других странах работы в этой области еще не велись.
Игорь Евгеньевич был в центре внимания неофициальных встреч с физиками мира. Кроме личного обаяния и общепризнанных личных заслуг к нему притягивало иностранцев свободное владение английским и немецким языками, тогда как большинство из нас, в ту пору молодежи, были немы.
На банкете, организованном от имени английской делегации руководителем английской атомной оружейной лаборатории в Олдермастоне профессором Алибоном, Игорь Евгеньевич сидел во главе стола и ему воздавались заслуженные почести.
Тосты, аплодисменты, приветствия в адрес Тамма...
Расходясь, участники говорили нам: «Какой обаятельный у вас глава термоядерных исследований!».
А догадывался ли кто-нибудь из иностранных участников банкета, что они чествовали соавтора первой в мире водородной бомбы?
После Женевы Игорь Евгеньевич многократно бывал на «Огре» и «Токамаках», живо интересовался результатами.
Грустно и радостно было встретиться с Игорем Евгеньевичем в последний раз в горах Кавказа. Это было в июне 1963 года в Архызе. {167} Он был один без друзей на турбазе. Как знаменитого альпиниста его приютил начальник турбазы вне плановой туристской группы. Игорь Евгеньевич скучал, играл с туристами в шахматы. Пытался ходить в горы. Но и налегке без рюкзака на подъемах начинал задыхаться. Выше трехсот метров подняться не мог. Мы, как «дикие» туристы, пригласили его к себе на островок между бурными потоками, где были разбиты наши палатки. Пройти к нам можно было только по толстой доске, перекинутой через каньон глубиной метров пять, на дне которого бушевал рукав Архыза. Я всегда с замиранием сердца переходил этот опасный мосток. Игорь Евгеньевич, не колеблясь, ступил на доску и твердой походкой перешел от края до края, метра три-четыре один от другого. В нашем миниатюрном лагере он расспрашивал о плазме, о новостях опытов и теории; шутил, беседовал о туристском житье.
К больному Игорю Евгеньевичу я не решился идти, хотя друзья и приглашали, и говорили, что он будет рад. Я не умею притворяться, и боялся, что своим скорбным видом причиню ему только боль.
| {168} |
Тысячи раз воспоминания начинались словами: «Мне посчастливилось...». И всякий раз это бывало правдой. Воспоминания пишутся о человеке, достойном всеобщего интереса. И то, что жизнь удружила нам встречей с таким человеком, вполне разумно воспринимается как везенье. И потому «посчастливилось» — точное слово. (Все банальное сперва было точным.)
Мне посчастливилось впервые увидеть Игоря Евгеньевича Тамма в обществе Нильса Бора. Нет-нет, случай не захотел быть столь насмешливо-милостивым, чтобы сделать двадцатилетнего студента «третьим лишним» при их личном свидании. Я оказался всего лишь одним из счастливчиков, сумевших пробиться на лекции Бора, сперва — в Большой физической аудитории Московского университета на Моховой, потом — в прославленном зале Политехнического музея. Было это в мае 1934 г. Бор тогда впервые приехал в Советский Союз. Легко собрать воедино все, что сохранила память от тех, хоть и сильнейших, но слишком уж давних впечатлений.
...Стояла консерваторская тишина и в этой внемлющей тишине раздумчиво звучала английская речь. Седеющий Бор возвышался за кафедрой и чуть сутулился. А замолкая, чуть улыбался. Голос его был приглушенно мягок, но слышалась в нем непреклонная убежденность. И весь он был — мягкость и сила.
Несмотря на наш интернационализм, иностранная речь раздавалась тогда в университете крайне редко. И языки преподавались тогда крайне скверно. Потому-то слушавшая Бора аудитория, почти сплошь молодая, нетерпеливо ждала перевода. А переводчиком был Игорь Евгеньевич Тамм. Его очереди еще потому ожидали нетерпеливо, что «профессора физики Тамма» уже в ту пору числили среди университетских знаменитостей с мировым престижем. И всем известно было — одним понаслышке, другим по опыту, — как блестящ он в роли толмача: быстр, свободен и остроумен. {169}
...Он вдруг подхватывал, точно уберегая от падения, затихавший к концу длинного периода голос Бора и стремительно излагал по-русски только что услышанное. А речь шла о первых попытках понять устройство атомного ядра в свете недавнего открытия нейтрона. Не поручусь, что Бор говорил и о таммовской теории ядерных сил, но то, что происходило перед нами, слушателями, часто производило впечатление диалога между лектором и переводчиком. Говоря возвышенно, — впечатление сотворчества.
Манера двигаться и говорить была у них прямо противоположной. Возникало ощущение дуэта северянина и южанина (чисто психологическое ощущение, к их родословным не имевшее отношения). Маленький Тамм, порывистый и скороговорчивый, будто все время торопился обогнать самого себя. А довольно высокий и заметно медлительный Бор выпускал в пространство слова не стаями, но чередой — то равномерной, то сбивчивой, и потом еще иные из них как бы звал обратно, посылая взамен другие. И тогда делавший карандашные заметки Тамм мгновенно переспрашивал его, внезапно переходя на немецкий. И Бор, отвечая, тоже переходил на немецкий. Но Тамм, точно спохватившись, уже вновь говорил по-английски, со всей очевидностью оспаривая Бора. И на минуту вспыхивало радующее всех веселое замешательство. Веселое — потому что оба искренно смеялись... Тамм был тоже весь мягкость и сила.
Запомнилось одно повторяющееся движение Бора: испытующими наклонами, как поклонами, он будто выманивал у Тамма согласие на только что произнесенное утверждение. И это усиливало ощущение их равноправия — словно не переводчиком был Тамм, а соавтором лекции. Впрочем, такими же испытующими наклонами к залу Бор испрашивал разрешения на очередную мысль и у нас. Но в этом угадывалось другое: его манера искать обязательного понимания у дальних, как и у ближних. А залы в Политехническом и на Моховой поднимались амфитеатрами, и взгляд его иногда описывал из наклона всю дугу снизу вверх — от первого до последнего ряда — и где-то наверху застревал на минуту. Увязал в высоте! И Тамм прицеливался взглядом туда же. И очень хотелось, закинув голову, оглянуться, дабы увидеть то, что виделось Бору. И вместе с Бором — Тамму.
В лице датчанина еще не было той апостольской массивности, какая привораживает на портретах поздней поры (к слову сказать, как и на поздних портретах Тамма). Его лицо запомнилось более простонародным, чем стало потом. Издали показался обветренным без тонкости скроенный рот. Да и вообще не отыскивалось в нем признака европейской выхоленности, которой мы, юнцы, в студенческой своей неухоженности тех не слишком щедрых лет вправе были ожидать от живого {170} классика. А бросалось в глаза то, чем, право же, труднее трудного покорить воображение молодости: человеческая будничность. Наверное, ничто так не обескураживает в знаменитости, как такая зримая обыкновенность. Но, по-видимому, ничто и не впечатляет сильнее... Так не по контрасту ли с ожиданием чего-то эффектно-достопочтенного и портретно-многозначительного — вроде ньютоновых локонов до плеч — Бор запомнился навсегда именно своей «неподчеркнутостью»? Или — лучше — совершеннейшей естественностью. Теперь-то уже можно сказать — запомнился навсегда, поскольку его больше нет на свете, а память все жива...
Рассказанное — вариант того, с чего мне через тридцать пять лет захотелось начать книгу о Боре. А сейчас в этих воспоминаниях о Тамме хочется прибавить, что ведь и он произвел тогда в точности такое же и не менее сильное впечатление благодаря той же покоряющей черте — достоверной естественности. И он таким же запомнился навсегда, тоже навсегда, поскольку и его уже нет на свете, а память все жива.
Для студентов-химиков — а я до физфака три года учился на химическом факультете — содержательная сторона научной известности Тамма оставалась таинственной: попросту нам был не по чину его теоретический вклад в квантовую физику, — скажем, теория рассеяния света в твердых телах (1930), или «уровни Тамма» в кристаллах (1932), или теория обменного взаимодействия в атомном ядре с участием электронов и нейтрино (1934)... Мы повторяли с чужого голоса, что сравнительно молодой профессор Тамм — ему ведь не было и сорока — выдающийся теоретик со своими идеями. Не умея оценить ни их физической сути, ни их математической формы, — то, что нужно было для этого, у нас «не проходили», — мы, однако, отлично сознавали, что «свои идеи» не обязательные и не частые гости даже в профессорских головах. И когда среди пестрых студенческих споров — в университетском ли саду, или в полуподвальной столовой под ректоратом, или на домашних вечеринках — вдруг затевался в разнофакультетской компании ревнивый спор, чей факультет сильнее, одной из козырных карт физфаковцев была фраза: «А у нас квантовую механику читает Тамм! Понятно?» И почему-то это было безусловно понятно... Вероятно, потому, что университетская, порою беспощадная молва никогда не бросала на его имя ни тени чего-нибудь дурного, скептического, двумысленного. У него было чистейшее имя!
С годами в нашей усложняющейся жизни это становилось все важнее и важнее. Может быть, поэтому спустя три десятилетия с лишним я допустил в одном маленьком рассказе об Игоре Евгеньевиче нечаянную ошибку. Это был двухминутный рассказ для фильма о нем, который {171} снимала режиссер Марианна Таврог. Она попросила «начать сначала». Мне вспоминалось, как в студенческом фольклоре на физфаке бытовала физическая единица — «1 тамм». Подразумевалось, что некое человеческое свойство ни у кого не могло превосходить 1,0 тамма (0,01 или 0,99 — пожалуйста, но 1,01 — уже бессмыслица. Совсем как для величины β в теории относительности.) Уверенно назвав «1 тамм» единицей порядочности, я не подозревал, что выдаю психологическое построение за свидетельство памяти! А в действительности то была единица быстроты речи...1 Когда картина уже вышла, Виталий Лазаревич Гинзбург отметил мой промах. Правда, он учился на два-три курса старше, и это давало лазейку для возражения: «На вашем курсе ходил один вариант, на нашем — другой». Однако и два моих сокурсника уличили меня в ошибке. Остается повиниться. Тем более что из-за этой-то ошибки авторы фильма дали ему название «Один тамм». Единица скороговорчивости такой чести не удостоилась бы, а единица порядочности удостоилась. Но строгая документальность картины нарушилась.
И все же я не жалею о случившемся: нравственная высота Игоря Евгеньевича оказалась ненароком задокументированной в кратчайшем образе. Задокументированной с помощью обмолвки? Да. В конце-то концов, то, что мы носим в себе как наше представление об ушедшем человеке, тоже документ! И психологически, возможно, самый существенный.
Однако урок не прошел даром: теперь я побаиваюсь предметно вспоминать те далекие времена... А тут бы так уместно было по праву старого студента-физфаковца рассказать о Тамме-лекторе нечто сверх общих впечатлений. И в духе еще одной мемуарной традиции написать: «Сорок лет прошло, а в ушах до сих пор звучит...». Но из такой далекой дали достоверно уже ничто не звучит. Надежно сохранились как раз лишь общие впечатления.
Среди них главенствует и не забывается странное ощущение: предмет его был труден, а сам он — легок. И в лекторском одиночестве у черной доски, и в окружении студентов на лестничных переходах в физическом крыле мехмата он был все тот же — самообгоняющий, словоохотливый, импровизирующий. Он ловил наши вопросы на лету, когда они еще не вполне успевали опериться даже у вопрошающего, и тотчас принимался отвечать, прерываясь лишь на те мгновения, что нужны были для очередной затяжки часто гаснущей папиросы. Казалось, в нем постоянно жила готовность к диалогу и никогда — к вещанию, и потому так легко было спрашивать его о непонятом или {172} непонятном. И так приятно было протягивать ему зажженную спичку: появлялось чувство собственного полезного участия в диалоге, который на самом деле бывал, как правило, его монологом. А точнее — даже его лекторский монолог бывал как бы диалогом со всей аудиторией, потому что — и это снова возвращает память к его дуэту с Бором — он в свой черед и на свой лад тоже жаждал ответного понимания слушателей, а не просто «излагал предмет».
Возможно, этого же происхождения бывали импровизационные моменты в лекциях Игоря Евгеньевича, когда казалось, что вот только сейчас — сию минуту! — он вдруг сообразил, как лучше всего объяснить нечто труднодоступное. А бывали моменты иной импровизации, когда нельзя было не почувствовать, что это рассказывает о своей науке живой участник ее истории. И мы сознавали: эта история длится... (Редчайшее свойство учебного курса — внезапно становиться пульсирующе-живым.)
Конечно, можно было бы логически воспроизвести для иллюстрации правдоподобные эпизоды, но все равно не в таммовском словесном выражении: слова забылись. Не стилизовать же тексты «под Тамма»... Могу, однако, признаться: когда впоследствии я не раз сожалел, что физике предпочел литературу, самым томящим мотивом для таких сожалений бывали воспоминания о мире идей, соблазнов, возможностей, которые открывала квантовая механика «в исполнении Тамма». Науки и вправду, как музыка, в разных лекционных курсах раскрываются и доходят до нас по-разному.
Двадцать с лишним лет спустя, в 1961 г., у меня возник естественный повод сказать об этих сожалениях Игорю Евгеньевичу: я принес ему с почтительнейшей надписью свою книгу о физике и физиках (научно-художественная по жанру, она называлась «Неизбежность странного мира»). Быстро и сердечно проговорив в одно слово «ах-спасибо-спасибо», а затем, так же быстро перелистав книгу и улыбнувшись своему фотопортрету на одной из страниц — «оказывается, я тоже был молодым», он с интересом отметил: «действительно — без формул» и продолжал:
—...а что касается ваших сожалений, то, согласитесь, для вас гораздо важнее надеяться, что у литературы не возникнет сожалений из-за того, что вы предпочли ее физике! — И, рассмеявшись витиеватой легкости этой фразы, тут же немножко смутился: Нет-нет, я не хотел сказать ничего дурного, я только хотел пожелать вам успеха...
А я потом часто повторял про себя эти, хоть и дружелюбно высказанные, но предостерегающие слова. Пишущему воспоминания некуда деться от самого себя, как он ни старайся, а если б нашлось куда деться, воспоминания, перестав быть личными, сделались бы невозможными. {173}
Попутное замечание Игоря Евгеньевича «действительно — без формул» объяснялось тем, что он знал о замысле той книги.
... Двумя годами раньше, летом 1959 г., в Киеве проходила Международная конференция по физике частиц высоких энергий — очередная Рочестерская конференция. Мне повезло: я получил разрешение присутствовать на ней в непонятном качестве «наблюдателя» (журналистов не пускали, а мне, как литератору, только того и нужно было, чтобы понаблюдать).
Случались веселые минуты. Как-то за ужином в ресторане гостиницы «Украина», где жили делегаты, я очутился по соседству с Игорем Евгеньевичем. В ожидании кофе обладатели высоких академических званий перебрасывались каверзными вопросами с шутливыми ответами. Тамм написал на бумажной салфетке цифры от 1 до 9, пропустив пятерку, и радостно спросил, что это значит. Два-три голоса дружно воскликнули: «Аппетита нет!»
Он засмеялся:
— Да-да, совершенно верно — «а пяти-то нет!», я знал, что это все знают, но вот есть другая задача, которая под силу только серьезным математикам...— и он старательно начертал прямыми палочками два ряда чисел:
|, 4, 7,
||, |4, |7...
— Раскрыв закон этой последовательности, надо написать ближайшее следующее число, так сказать, седьмой член ряда. Пожалуйста, кто начнет? — Он пустил салфетку по кругу.
Игорь Евгеньевич, обходя столик, все радостней отвергал любые варианты: «нет-нет», «тоже-нет», «любопытно, но не так!», А.И.Алиханьян или А.Б.Мигдал сказали, что это отличный случай «разыграть Ландау», сидевшего за другим столом. Его окликнули. Он с готовностью подошел, изогнулся над салфеткой и без промедлений бросил: «Ближайшее не может быть 111 — иначе не было бы смешно!»
— Дау, конечно, прав, но это увиливание от решения, — просто молодея от удовольствия, парировал Тамм. — А между тем нам задавали эту задачку еще в первом классе церковно-приходской школы. Дело в том, что мы умели тогда выводить лишь палочки. И потому легко видеть что следующее число — 41...
И начертав большими палочками 4 и 1, он снова пустил салфетку по кругу. Было ощущение, что вот весьма пожилой человек пребывает в счастливом приступе детства и отрочества. Таким я видел его еще и позднее — за шахматной доской в Гаграх и в Москве.
В тот киевский вечер мне представлялась возможность рассказать Игорю Евгеньевичу о своей писавшейся тогда книге про «неизбежность {174} странного мира» в картине природы. Все это прочно засело в голове из-за одного его замечания, донельзя меня смутившего... В Киеве жара не спадала даже к ночи, и после ужина он всем предложил «пробежаться к Днепру». Но у его коллег были уже свои вечерние планы, и получилось так, что откликнулся я один. Едва мы вышли и стали спускаться к Крещатику, как он сказал, что давно хотел бы услышать «что-нибудь очень интересное про литературную жизнь». Пока я тянул длинное «э-э-э...», выискивал самое интересное, Игорь Евгеньевич мимолетно (и неосторожно!) спросил: «А что вы сейчас пишете?» И тут я поступил, как человек, всерьез отвечающий на «хау ду ю ду?» (как известно, это классическое определение «зануды»). Тамм был милосердно терпелив и выслушал все. Но, отозвавшись с живейшим одобрением о задуманной попытке взволновать нефизиков физической «драмой идей», он решительно осудил завязку моего повествования: оно начиналось драматической историей несостоявшегося открытия варитронов на Арагаце в 40-х годах... Всего, что сказал он, мне уже не воспроизвести, а главное прозвучало так:
— ... в научных поисках хороши лишь драмы с результативным исходом, положительным или отрицательным — все равно, только бы безупречно надежным! Иначе люди вправе строить догадки, что у разыгравшейся драмы могли быть ненаучные причины. Вы не согласны?
Я мог защититься лишь внутренним убеждением, что у «варитронной драмы» не было ненаучных причин. Но разговор досадно прервался: под нарядными огнями Крещатика Тамма узнали и немедленно вовлекли в ученую полемику два иностранных физика в мощных баскетбольных кедах. И тема, и молниеносный английский были мне недоступны. Я распрощался «до завтра», подавленный неодобрением Тамма. Думаю, он это заметил, потому что назавтра при нечаянной утренней встрече в холле гостиницы, я вдруг услышал, будто разговор и не прерывался: «...а без формул — это очень хорошо, если удастся!» Я понял, что это было потребностью его великодушия: коли нельзя по совести одобрить, но можно по совести ободрить, надо неукоснительно сделать это, надо не забыть этого сделать!
Память излучает воспоминания квантами. И вразнобой. Приходит на ум маленькая притча о мемуаристах. Она очень повеселила бы Игоря Евгеньевича, если б стала ему известна... В мае 1967 г. Виктор Вайскопф, открывая в массачусетском Бруклине 1-ю конференцию по истории ядерной физики, честно признался:
— Однажды в мои школьные времена учитель-историк был крайне недоволен мною и сказал: «Ты не знаешь никаких дат.» А я ответил: «Нет, я знаю все даты, я только не знаю, что в эти даты происходило». {175}
Участники собрания посмеялись, а затем наглядно продемонстрировали, что смеялись они и над собой: события и даты вели в их памяти, как правило, раздельную жизнь. Даже о времени открытия нейтрона и появления первых теорий ядер, в том числе и таммовской теории ядерных сил, они судили да рядили на разные лады. А ведь то была не история Меровингов и Каролингов, но просто летопись их собственной жизни в науке...
...Так, несомненно, памятным общественно-научным событием в жизни не только физиков, а биологов Москвы явилось во второй половине 50-х годов выступление Тамма на одной из семинарских сред института Капицы. Он рассказывал о недавних по тому времени работах Крика — Уотсона — Уилкинса и вкладе Гамова в решение проблемы расшифровки кода наследственности. Легко понять, как остро и желанно прозвучало в обстоятельствах той поры блистательное сообщение Игоря Евгеньевича! (А выступал он вслед за другим гостем семинара — несравненным «научным рассказчиком» Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским, рядом с которым блистать за кафедрой, казалось, не смог бы никто.) Всего неотразимей было наслаждение истинностью и красотой излагаемого материала, которое со всей очевидностью испытывал в те минуты сам Игорь Евгеньевич. Это наслаждение естественно и невольно становилось достоянием слушающих и, право же, будоражило не меньше, чем напряженно-полемический подтекст всего выступления.
Однако в какую же среду это происходило? Год, месяц, число? Точной даты в памяти не нашлось. Предположительные ответы других слушателей-очевидцев покрывали целое трехлетие — годы 1956— 1958: полтораста сред на выбор (за вычетом каникулярных!). И так вот — на каждом шагу в былое... Только архивное дознание надежно. По архивным материалам института П.Е.Рубинин1 установил, что то было 304-е заседание семинара, происходившее 8 февраля 1956 г. Доклад И.Е.Тамма назывался «Обзор работ по строению и возможной биологической роли нуклеопротеиновой кислоты»2.
Забылась и другая сходная дата, внутренне связанная с предыдущей. И тоже очень интересная, по крайней мере общественно-психологически. Ради нее-то искал я первую.
Тогда же, во второй половине 50-х годов, в Доме литераторов на улице Герцена начал регулярно собираться семинар «Писатель и современная наука». Он проходил в один из четвергов каждого месяца. Среди разрозненно сохранившихся извещений об этих четвергах у {176} меня нашлись два приглашения на встречи с Таммом. В четверг 27 мая 1965 г. Игорь Евгеньевич рассказывал о свойствах и систематике элементарных частиц. Вспомнился чей-то робкий вопрос: «А вы сами верите в кварки?» И его осмотрительно-юмористический ответ: «Вообще говоря, я атеист, но можно мне ответить в следующий раз?»... А в «следующий раз», в четверг 5 января 1967 г., речь шла совсем о другом: вместе с академиками С.Д.Сказкиным1 и А.Н.Фрумкиным он рассказывал о становлении нашей науки в первые послереволюционные годы.
Но, кроме тех двух таммовских четвергов, был третий — гораздо более ранний и всего ярче запомнившийся, да только пригласительный билет не уцелел, и потому не отыскивается точная дата. Уцелел лишь своеобразный ориентир, ставящий верхнюю границу возможным четвергам: приглашение на встречу писателей с Л.Д.Ландау 10 декабря 1959 г. Дело в том, что встреча с Игорем Евгеньевичем ей предшествовала: склоняя Ландау к выступлению перед литераторами, я ссылался на «прекрасную лекцию-беседу Тамма». Помню, аргумент оказался не из удачных, потому что Ландау тотчас — и не без оттенка иронии — превратил его в контраргумент: «Зачем же я вам нужен, если писатели уже узнали из такого хорошего источника, что такое современная физика?» На счастье, я мог возразить, что Тамм рассказывал вовсе не про физику...
Действительно, Игорь Евгеньевич тогда в последнюю минуту сказал, что самое поразительное и важное происходит сейчас в биологии: «Если не возражаете, я об этом и расскажу...» И добавил примерно так:
— Писателям услышать это чрезвычайно полезно. Некоторые из них... простите, я всегда не помню имен... до сих пор прославляют бог знает что... Кстати, было бы хорошо, если бы они пришли.
«Они» не пришли. А те, кто пришел, — в клубе Малый зал был полон, — слушали Тамма, как дети — сказочника. И я в том числе — так все выглядело обольстительно ясно и, чувствовалось, грандиозно по своим последствиям. Помню, когда после семинара группа очеркистов окружила Игоря Евгеньевича у доски с еще не стертым рисунком двойной спирали, Олег Писаржевский насмешливо спросил: «Как же теперь нашим беднягам-антигенетикам бороться с этой спиралью?» Тамм рассмеялся: «Разумеется, трудно, но, хотите, я вам расскажу — как...» И он рассказал почти неправдоподобную историю (с просьбой, чтобы она пока осталась «между нами»). Передаю ее в вольном пересказе с небольшими пропусками:
— ... Вскоре после войны инженер X. сделал простое, но очень остроумное изобретение по экономическому использованию запасов {177} взрывчатки для мирных строительных работ. В весьма представительном комитете обсуждался вопрос о присуждении ему заслуженной премии. Один имевший в то время авторитет деятель биологической науки1 заявил, что он против. Его спросили, почему. Он ответил: «По научным соображениям». Полюбопытствовали, в чем же они заключаются. Он сказал буквально следующее: «Взрывы для строительных целей где будут производится? В земле! А земля может испугаться и перестать родить!» Комитет без дискуссии, дабы замять неловкость, решил перенести обсуждение вопроса на следующее заседание...
У кого-то вырвалось: «Игорь Евгеньевич, вы шутите!» Заметив походя и с легким поклоном: «Вы мне льстите», Тамм заключил, что несть числа методам «борьбы со спиралью», но ныне «с генетикой плюс физика и химия поделать уже ничего нельзя!» Он был очень оживлен. Даже весел. Жаждал вопросов и щедро отвечал, несмотря на поздний час. И, совершенно как в студенческие времена, с разных сторон тянулись к нему огоньки для гаснущей папиросы — только уже не спички, а щелкающие зажигалки. Я часто слышал потом от завсегдатаев семинара: «Пригласите академика Тамма хотя бы еще разок!».
... Ответ Вайскопфа на упрек учителя истории понравился бы Игорю Евгеньевичу2 не только оттого, что он любил и, мне кажется, втайне коллекционировал примеры остроумной находчивости. В его собственной памяти даты и события, имена и лица тоже порою вели раздельную жизнь. Он сокрушался скорее юмористически, чем досадливо. Однако эта непослушливость памяти вовсе не мешала ему с живейшей готовностью рассказывать множество занятных, психологически всегда содержательных эпизодов из пережитого и некогда услышанного. Потому, я думаю, не мешала, что события и проявления человеческой особости привлекали его своей сутью, а отяжеляющий груз точных обстоятельств «времени и места действия» особой цены в его глазах не имел. Недаром разные люди помнят его любимые истории в разных вариантах... Между прочим, его не осудил бы за такую «многовариантность» даже правдивейший Нильс Бор, полагавший, по свидетельству Стефана Розенталя, что «хорошая история не обязательно должна быть достоверной — довольно правдоподобия». Бор при этом любил повторять трудноопровержимый довод: «Но, мой дорогой друг, уж если рассказывать действительно интересную историю, не нужно слишком строго придерживаться фактов!» Однако с Игорем Евгеньевичем тут все было тоньше: он как раз придерживался фактов, {178} а не создавал их ради «интересности», да только несговорчивость памяти вместе с живостью воображения рождали варианты без однозначной строгости. Он часто искал точности прямо в момент рассказа, но не огорчался, если не находил ее, потому что суть от этого не страдала.
Вот почти дословная и, право же, вполне модельная запись одного из таких рассказов Игоря Евгеньевича, сделанная сразу после свидания с ним:
—... Да-да, вот еще о Дираке. Это было тоже в Кембридже или, пожалуй... Нет-нет, конечно, в Кембридже! Приехал Гейзенберг и докладывал на семинаре в Тринити... Позвольте, а не в Физическом ли обществе? Или в «клубе» Капицы? Нет, все-таки, думаю в Тринити-колледже... Он говорил о последней работе Гейтлера1 или Паули. Но дело не в этом... Понимаете ли, Гейзенберг говорил крайне путанно, ссылаясь на отсутствие у него под рукой авторского текста. Потом началась острая дискуссия, столь же путанная и неясная. Когда все уже расходились, кто-то спросил у Дирака, что он думает о рассуждениях Гейтлера... да-да, Паули тут ни при чем...
— Я не думаю, а знаю, в чем смысл этой работы, — сказал Дирак, — мне ее излагал сам Гейтлер.
— Отчего же вы молчали, Поль?
— Но меня никто не просил выступать, — ответил Дирак...
Вот он такой, Дирак. Знаете, как-то в Кембридже мы с ним шли и довольно оживленно разговаривали, а потом ко мне подошел один физик — не могу уже вспомнить, кто — и сказал, что видел нас и не может отделаться от изумления, ибо стал свидетелем картины «Говорящий Дирак»! Весьма нетривиальное зрелище...
Однажды — было это осенью 1960 г — на другой прогулке в горах под Гаграми, когда крутизна тропинок принуждала к одышливому молчанию даже молодых попутчиков Тамма, но казалась совершенно не властной над ним, я услышал от него столько историй «про физику и физиков», что решился сказать: «Господи, Игорь Евгеньевич, это же все забудется со временем, а вы не пишете воспоминаний!» Он отозвался мгновенно и обезоруживающе:
— А что, разве на моем лице уже написано, что мне пора писать воспоминания?
Ему незадолго до этого исполнилось 65. Но, полагаю, он и в самом деле чувствовал себя так, точно старость, с ее неизбежными немощами, к нему-то уж едва ли подступится. Приметами такого самоощущения служили его ковбойка с закатанными по-юношески рукавами, и {179} неутомимое курение, и шахматный азарт, и чуть ли не каждодневное лазание по горам... Для него, настоящего альпиниста, это было ребяческой забавой. В ответ на расспросы окружающих о его альпинистских походах он каждому новому слушателю из писательского Дома творчества задавал вопрос:
— А вы знаете, что такое альпинизм?
И сразу, прерывая скучно-обстоятельное объяснение очередного испытуемого, говорил:
— Нет-нет, кратчайшее из определений, мне известных, следующее: альпинизм — это не самый лучший способ перезимовать лето! — И всякий раз заново смеялся вместе со всеми.
В день своего отъезда он отказался от предложенной ему машины до Адлера:
— Ах, нет, спасибо-спасибо, мне хочется воспользоваться вертолетом, это ново!
Я провожал его до прибрежного взлетного пятачка. Моей попытке подхватить его легонький курортный багаж он воспротивился решительно, с улыбкой-намеком процитировав самого себя:
— А что, разве на моем лице уже написано, что пора таскать за меня мой чемодан?
Той осенью в Гаграх я впрок начитывал для будущей книги материалы о Резерфорде. И нет-нет да и пересказывал Игорю Евгеньевичу только что узнанное, как бы зарабатывал право на его ответные рассказы о том же предмете. И был обескуражен когда он, охотно вспоминавший Кембридж начала 30-х годов, с сожалением сказал, что о Резерфорде у него собственных воспоминаний в сущности, нет... Зато, словно бы в утешающую компенсацию, он совершенно непредвиденно прибавил:
— Вот когда вы будете писать о Боре, тогда другое дело!
— О Боре???
Мне и вправду пришлось переспросить это с тремя вопросительными знаками: пока лишь только задуманная работа над жизнеописанием Резерфорда виделась столь пугающе долгой, что ни о чем другом я и помышлять не смел. Наконец, Бор еще не принадлежал истории — его жизнь длилась!
— Разве это может служить препятствием для книги?! Ах, будете, будете писать... — зачеркнул Игорь Евгеньевич все три моих вопросительных знака, с непостижимой уверенностью запрограммировав литературную жизнь своего бывшего (нерадивого) студента на многие годы вперед. И, как оказалось, не ошибся. {180}
Когда через восемь лет пришла пора не праздно, а «с карандашом в руках» расспрашивать Тамма о Боре1, я конечно, напомнил ему о том гагринском прорицании. Но Игорь Евгеньевич поднял глаза с искреннейшим удивлением:
— В самом деле? Я так прямо и сказал? Еще один подвох моей памяти...
И объяснил, что ему уже доводилось слышать, как он «когда-то, где-то, в чем-то» проявил проницательность и люди это запомнили, а он забыл и при напоминании чувствовал неловкость, точно ему незаслуженно льстили...
Естественно, я старался использовать каждый благоприятный случай, чтобы хоть немного, даже просто на ходу «поговорить о Боре» с Игорем Евгеньевичем. Но в 1968–1969 гг. такие случаи выпадали все реже и реже: к несчастью, он уже тяжело болел. Встречи, заранее условленные через его близкого друга или домашних, часто откладывались. Помню, как в 1968 г. щемяще поразило известие, что «Игорь Евгеньевич обречен дышать с помощью машины». Тогда так свежа была память о недавней кончине измученного Ландау, что мысль об очевидной обреченности еще и Тамма обострила трагическое чувство — «мамонты уходят»!
В последний раз мне случилось быть у Игоря Евгеньевича в его квартире на набережной Максима Горького 7 марта 1969 г. Вернувшись домой, я подробно записал эту встречу (возможно, из-за предчувствия, что она последняя). Остается привести два-три отрывка из этой записи.
... Он лежал в полосатой пижаме на высокой постели с прикрепленным к ошейнику шлангом электрического аппарата для дыхания. И выглядело это так, словно машина милостиво держала его на довольно свободном поводке, однако же на поводке, чтобы он, слишком подвижный и вольнолюбивый, ненароком не улизнул. Это впечатление — «ненароком не улизнул» — было отрадным и скрашивало картину его беспомощности. А проистекало оно от его прежней живости, прежней приветливости, прежней улыбчивости — от всего прежнего, что еще не ушло и одушевляло его бледное, гравированное морщинами сильное лицо. И, пожалуй, лишь в бескровной костистости рук ощущалось уже что-то навсегда непоправимое. Но это я заметил не сразу, а на втором часу свидания, когда мы стали играть в шахматы за письменным столом в соседней комнате.
Он перешел туда с помощью юноши — брата милосердия в белом халате, молчаливого и смиренного, как послушник в келье игумена. {181} Юноша сопровождал его, растягивая вместо машины красную резиновую гармошку ручных мехов. Короткий переход выбил Игоря Евгеньевича из сил, и он дышал за столом гораздо труднее, чем на постели. А отговаривать его от этого перехода было нельзя. «...Я ведь теперь всего лишен — и альпинизма, и лыж, и прогулок, вот только шахматы еще есть... знаете, прежде Евгений Львович чаще всего выигрывал у меня, а теперь силы выровнялись...» Он проговорил это с нескончаемой детской доверчивостью, не допускающей мысли, что, быть может, преданный друг-партнер не хочет лишать его радостей хоть этих последних маленьких побед. Тут-то за доской я и увидел, как изменились его руки: он мог передвигать фигуры лишь толкательными движениями обезволенных пальцев.
... Предупрежденный, что он легко устает, я не только не помышлял о шахматах, но приготовился задать всего два-три уточняющих вопроса к его прежним рассказам о Боре, немножко развлечь его своими находками в копенгагенском Архиве источников к истории квантовой физики, передать ему сердечные приветы от фру Маргарет Бор1 и Леона Розенфельда, а затем попрощаться — «до следующей встречи». Однако разговор затянулся. Его интерес к боровскому архиву был неутолим, и мне пришлось не задавать вопросы, а отвечать. Услышав, что научная переписка Бора включает 6000 писем, Игорь Евгеньевич с почти былой скороговорчивостью, рассекаемой шумом дыхания, вслух прикинул:
— Вас это ошеломляет, но ведь жизнь была долгой... примерно шесть десятилетий в науке... я не ошибаюсь?.. Сто писем в год, два — в неделю... Знаете, я думаю, наверное, ошеломила бы кривая плотности его переписки по годам... она отразила бы динамику развития самой квантовой физики... потому что... потому что в смутные времена Бор нужен был всем...
Он замолк, с бледной улыбкой попросив: «Рассказывайте, рассказывайте...». Я заговорил о самом необычайном богатстве архива — о 175 пространных интервью, взятых историками у 95 физиков-ветеранов 20–30-х годов. И скоро понял, что Игорь Евгеньевич, слушая, думал о своих «десятилетиях в науке». Без видимой связи с моим рассказом он вдруг произнес:
— Знаете, я все чаще раздумываю, как мне хорошо повезло в жизни... Если говорить о моих учениках и сотрудниках в ФИАНе, какие это все прекрасные люди в обоих смыслах: и как ученые, и по своим человеческим качествам!... Вот вы знакомы с... (он назвал имена), но и другие и другие тоже... Никогда, я думаю, ничего дурного {182} между ними... И никаких... (он прибавил не совсем удобопроизносимое слово)!
... Прощаясь, я оставил Игорю Евгеньевичу пародийного «Фауста» на немецком языке — копию рукописи, подаренную мне Институтом Бора. Начав листать ее тотчас, он остановился на карикатурном портрете Эренфеста и тихо воскликнул: «Ах, вот кто был замечательнейшим человеком, а кончил так трагически!»
Через шесть лет, весной 1975 г., снова работая в копенгагенском Архиве, я решил скопировать переписку Бора и Тамма. В тоненькой папке лежали 6 писем середины 30-х годов: три пары «письмо—ответ». Самая ранняя относилась к июню 1934 г. Она вернула память к тому событию более чем сорокалетней давности, с которого начались эти заметки: к дуэту Бора-лектора и Тамма-переводчика, в аудиториях на Моховой и в Политехническом. Былое нечаянно проглянуло в документах...1
ул. Маркса, № 4/1, кв. 17, Москва, 66 (без даты)
Дорогой профессор Бор,
простите меня за то, что я так долго откладывал пересылку Вам моих заметок по Вашей московской лекции. Они очень беглы, в них много лакун, полнота различных частей не пропорциональна их относительной важности. Многие пассажи были записаны мною по-русски и даются теперь в обратном переводе на английский. Короче говоря, я сомневаюсь, принесут ли они Вам какую-нибудь пользу.
... Я полон надежд вскоре получить от Вас весточку и узнать, что Вы действительно решили отправиться с сыном на Кавказ, и предвкушаю встречу с Вами в августе.
Мои сердечные приветы миссис Бор.
Искреннейше Ваш Иг.Тамм
(без обратного адреса) 20 июня 34
Дорогой Тамм,
я так благодарен Вам за Ваше доброе письмо и за все Ваши хлопоты по подготовке заметок, связанных с моей лекцией в Москве. Они дают прекрасное представление об общем содержании и направленности лекции. Наша поездка в Россию явилась большим событием для моей жены и для меня, и мы оба полны благодарности к Вам за все то внимание, каким Вы нас окружили. Я так бы хотел приехать снова, а всего более — постранствовать с Вами в горах...
Сердечнейшие приветы Вам, Вашей семье и всем общим московским друзьям от моей жены и от меня.
Ваш Н.Бор
В этих коротких письмах на минуту ожили оба ушедших — и Бор, и Тамм, ожили в своем жизнелюбии и в своей добросердечности, мягкости и силе.
| {183} |
Я всегда мечтал ближе познакомиться с Игорем Евгеньевичем, но он постоянно был окружен «плотной оболочкой» теоретиков, а мне порой, и то случайно, доставались те минуты, которые он предназначал уже для отдыха.
Первый раз я был у него во второй половине 30-х годов, чтобы обсудить вопрос об организации кафедры теоретической физики в Казанском университете. Игорь Евгеньевич рекомендовал на место ее руководителя своего аспиранта Семена Александровича Альтшулера, который тогда подготовил кандидатскую диссертацию о магнитном моменте нейтрона.
Теперь мы знаем, какое важное значение для университета имела эта рекомендация: Семен Александрович быстро достиг выдающихся научных результатов. Уйдя добровольцем на фронт в 1941 г., провоевав всю войну, с 1945 г. по настоящее время он возглавляет одну из крупнейших в нашей стране и за рубежом научных школ по радиоспектроскопии1. С.А.Альтшулер перенял многие черты Игоря Евгеньевича: у него большая группа учеников, он постоянно окружен теоретиками, но в отличие от своего учителя в силу каких-то уже новых законов физики любит и сам экспериментировать.
На протяжении многих лет Игорь Евгеньевич активно поддерживал наши планы работ и, делая замечания, был всегда деликатен. Особенно запомнился один случай. После эвакуации ФИАНа и других основных центров физической науки в Казань состоялось собрание проживавших там членов Академии наук СССР. На нем выступил ректор Казанского университета и предложил присутствующим предоставить приехавшим заведование кафедрами университета. Предложение было разумным, но его форма унизительной для ученых Казани Сравнивая научные силы университета с академическими, ректор сказал: {184}
— Наших ученых по квалификации можно сравнить с лаборантами академии.
Это вызвало возмущение среди собравшихся. Когда же я обратился к Игорю Евгеньевичу с предложением занять мое место на кафедре физики, он ответил, что удивлен выступлением ректора и ни при каких условиях не даст своего согласия.
В конце 40-х мы были с ним в командировке и как-то поздно вечером после утомительного дня встретились в столовой. Наш путь домой проходил мимо подвальчика, из которого несло ужасной смесью винных перегаров. Игорь Евгеньевич предложил сыграть в бильярд. Спускаясь по разбитой лестнице, я пытался остановить его, ибо по мере приближения к цели винные пары сгущались, а шум и ругань становились отчетливо слышны. Но не тут то было: им владела только потребность быть победителем. Мне не хватает, как говорят, красок для описания шинка, но нам удалось пробиться к сносному столу и начать игру. Игорь Евгеньевич не знал компромисса и здесь, относясь беспощадно к своим ошибкам.
— Бездарно!
На мое успокоительное замечание:
— Вот видите, подставки не получилось! — в ответ раздавалось: — Нет, оставьте, это совершенно бездарно!
Игорь Евгеньевич играл хуже меня, а я еще не знал его слабости: проигрыш, а затем искренние, как у ребенка, терзания души, так же быстро сменяющиеся веселым настроением.
Позже нам доводилось довольно часто играть в теннис. Здесь у меня были преимущества за счет возраста, но я испытывал большие страдания: смертельно боялся сделать намеренную ошибку в приеме или подаче мяча, которую мог бы он заметить и расценить как пренебрежение или, еще хуже того, как уступку его годам. Если так случалось, он, как бы вынося приговор, коротко говорил: «Да!» — и деликатно прекращал игру.
Зато, играя в шахматы, Игорь Евгеньевич почти всегда одерживал надо мной победу. Он играл легко, точно так же самозабвенно, как и в другие игры.
Однажды на одной страшно скучной и длинной защите докторской диссертации все сидели, почти не шевелясь, так как докладчик умело, с помощью графиков, гипнотизировал аудиторию. Но вот И.В.Курчатов встал и расправил свои широкие плечи... Все радостно повскакали со своих кресел и собрались в тесную кучку около него. Тут я заметил, что Тамм как-то бочком, с хитрой улыбкой заходит за меня то с одной, то с другой стороны: оказалось, что за моей спиной прятался профессор А. Наконец он поймал его за пояс брюк и с молниеносной быстротой {185} втолкнул под стол (таково было условие выигранного им пари!), а сам подошел как ни в чем не бывало к И.В.Курчатову и начал разговор о необходимости помочь отечественной биологии.
Когда я знал, что на заседании будет выступать Тамм, то обязательно приходил. Так, например, мне удалось услышать первое сообщение о термоядерной установке «Токамак», разработанной Сахаровым и Таммом. Поражала космическая грандиозность цифр. Теперь физика приближается к освоению «токамаков», и весь мир с захватывающим интересом следит за этой борьбой человека, возможно, за будущую энергетику мира.
Наше последнее грустное свидание состоялось незадолго до смерти Игоря Евгеньевича. За него уже дышала громадная шумная машина. Я был поражен стойкостью Наталии Васильевны, видимо приобретенной не только во время долгой и самоотверженной борьбы за его жизнь, и бесконечной преданностью необычайно дорогому человеку, каким был ее муж.
Игорь Евгеньевич, как всегда, энергично поздоровался, сказал несколько комплиментов и перешел к волновавшей его теме о судьбах отечественных наук. Он хорошо знал последние мировые достижения, но несколько раз возвращался к вопросу: могут ли у нас повторяться заблуждения, подобные тем, которые произошли в биологии? В этой заботе не чувствовалось никакой близости смерти, никакого безразличия. Наоборот, была твердая уверенность в важности дела.
| {186} |
Познакомились мы в 1955 г., сразу подружились и потом часто вместе ездили в горы. Доброжелательный и подвижный, удивительно сочетавший в себе интереснейшего рассказчика и идеального слушателя, обладатель острого ума, проникающего далеко за пределы физики и математики, и вместе с тем искренний и непосредственный в обращении, никогда не забывающий «фильтра» тактичности, Игорь Евгеньевич был верный товарищ в горах, чудесный попутчик в путешествии. Любил он играть, и не только в шахматы. Любил забавную идею, неразгаданную тайну, неожиданность, приключение — пищу для воображения и фантазии. Путешествие, сдобренное такой приправой, было для него лучшим отдыхом. Отдых мог длиться пять, иногда десять, редко 20 дней. Через пять-шесть дней отпуска он начинал задумываться, уходил за лагерь, прихватив общую тетрадь и ручку. «Взрыв» обычно наступал через 10–15 дней, когда Игорь Евгеньевич с виноватым видом объявлял о неотложных делах в Москве и начинал придумывать хитроумные транспортные комбинации, чтобы выбраться из гор. Ездить с ним в отдаленные районы бывало просто рискованно.
— Вот мы и познакомились, жаль, немного поздновато. Помнится, лет 20 назад собирался пойти с вами на восхождение, да что-то не получилось со временем. На этот раз ничто не заставит меня отказаться от поездки на Памир.
Так Игорь Евгеньевич и Борис Владимирович Дерягин присоединились к нашей тройке, состоявшей из Сергея Мееровича Лукомского, Георгия Станиславовича Веденикова1 и меня, задумавших пройти из долины реки Ванч через хребет Академии наук в верховье ледника Федченко. Район этот, посещенный впервые Памирской экспедицией {187} 1928 г., из-за трудной его доступности затем на долгие годы был предан покою. Решено было использовать перевал Абдукагор II, открытый топографом И.Г.Дорофеевым с ледника Федченко, но не пройденный им на западную сторону. Нашу небольшую экспедицию мы организовали от Географического общества — популярного и уважаемого, но обладающего для данной цели нулевыми материальными средствами.
В то время добраться в такую горную «глубинку» было непросто. Совсем недавно пробили на скалах советского берега реки Пяндж первый намек на автомобильную дорогу. Местами под нависающими скальными козырьками габарит 1,5-тонного грузовика вписывался впритирочку. Справа по ходу — обычный в горах отвесный обрыв с шумом реки внизу. Сидим на дне грузовика, по привычке подшучиваем, но глядим в оба, то и дело втягивая голову, когда наплывает тень нависающей скалы. Традиционную балкарскую шляпу, приспущенные поля которой скрывают опасности дороги, Игорю Евгеньевичу приходится часто заменять на носовой платок с четырьмя узелками.
Только на пятый день после выезда из Душанбе мы добрались до места своего базового лагеря, который разбили на правом берегу реки Абдукагор на высоте 3500 м, недалеко от языка ледника Медвежьего, перекрывшего в том году ее долину. Отсюда начинался пеший путь с вьючными лошадьми. С утра, пока мы перепаковывали грузы под вьюки, Игорь Евгеньевич собрал все наши высокогорные ботинки, расшнуровал их и тщательно прожирил, а затем вызвался дежурить на кухне. Предстояло дать ответный «званый» обед геологам, у которых вчера мы лакомились жареным туром. В этом путешествии Игорь Евгеньевич и Борис Владимирович, по-видимому, впервые осваивали искусство походной готовки пищи на костре. Оба относились к обязанностям дежурного серьезно и ответственно. Рецептурные данные и консультации дежурные получали у меня, но дальнейшая реализация была самостоятельной. Методы готовки у всех нас пятерых были сугубо индивидуальные.
Борис Владимирович сначала изучил номенклатуру наших продуктов, составил список теоретически возможных блюд, попросил у меня точные дозировки, температурный и временной режим, постиг систему дегустации, технологические приемы и быстро превратил походную кулинарию в раздел физико-химической науки.
Игорь Евгеньевич стремился постичь готовку на костре как искусство, фантазировал, шел на рискованные эксперименты, недоумевал и огорчался, без конца «челночил» между костром и «складом» под скалой в поисках новых приправ, вспоминал, чем его кормили в европейских ресторанах, и пытался моделировать телячьи отбивные и омары на основе свиной тушенки и бычков в томате. Но как бы там ни {188} было, а обед удался Игорю Евгеньевичу на славу. Не без изящества сервированный на шиферных плитках, покрытых листьями, обед был сытный, вкусный, разнообразный. Игорь Евгеньевич восседал «за столом» довольный и гордый неожиданным успехом в новой области.
На следующий день мы вступили в высокогорье с ледниками и снежными вершинами. Игорь Евгеньевич значительно старше нас, в последние годы мало бывал в горах, а путь наш пролегал на высоте около 4000 м над уровнем моря. Хотя ему было труднее, чем остальным, и иногда он немного отставал или присаживался передохнуть, порядок продвижения группы и каравана он соблюдал. Через два дня мы поднялись в верхний лагерь геологов на высоте 4300 м. Место суровое, окруженное со всех сторон ледопадами, крутыми скальными и снежными склонами, щедрыми на камнепады и лавины. Погода испортилась, временами шел густой снег, засыпавший палатки, или налетал холодный, пронизывающий ветер. Но как только погода улучшалась, лагерь оживал. Начиналась очередная перетряска грузов, подготовка рюкзаков для похода на ледник Федченко, разведка подъема на перевал. Игорь Евгеньевич при первой же возможности организовал шахматные сражения с таджикской молодежью, рабочими геологической партии, обнаружив среди них серьезных противников. Три раза в день Игорь Евгеньевич измерял и записывал температуру воздуха — выполнял свою постоянную обязанность в экспедиции.
Через три дня установилась хорошая погода и пришло время прощаться с Игорем Евгеньевичем. Он должен был возвратиться к делам, о чем его уведомили еще в селении Ванч. Мы, взвалив рюкзаки, стали подниматься в сторону перевала Абдукагор. Еще долго у края морены была видна одинокая фигурка, размахивавшая белой шляпой.
Пожалуй, самой интересной поездкой, в духе Игоря Евгеньевича, была экспедиция, организованная им к пещере Мата-таш на Восточном Памире, вблизи границы с Синьцзяном.
В моей папке «Памир — 1957» лежит толстая пачка писем-откликов на заметки, опубликованные в «Огоньке». В письмах чертежи, эскизы, советы, описания, как одолеть неприступную пещеру. Среди «болельщиков» солдаты, спортсмены, рабочие, пенсионеры, работники госбезопасности, учащиеся кадетского училища из Тюрингии, компания друзей-болгар, коллектив Кусковского отделения милиции и др.
Зимой 1957 г. позвонил Игорь Евгеньевич:
— Елена Алексеевна, не кажется ли вам, что необходимо разобраться с сокровищами пещеры Мата-таш? {189}
На следующий день, утопая по уши в глубоких кожаных креслах его домашнего кабинета, мы повели разговор, из которого суждено было родиться замыслу экспедиции в Рангкульский район Памира, к хребту Салык-таш. На его северном склоне, в середине одной из скальных стен, находится вход в пещеру Мата-таш1.
В «Туркестанских ведомостях» и «Известиях Российского Императорского Географического общества»2 было опубликовано содержание легенды, бытовавшей среди памирских киргизов о Рангкульской пещере3. Лет 200–300 тому назад в Рангкульской котловине решило зазимовать большое войско. Вскоре глубокий снег лишил лошадей подножного корма, у людей истощились запасы продовольствия. Тогда более сметливые бежали на лучших лошадях, а остальным лошадям перерезали сухожилия. Оставшиеся, видя неизбежную гибель, решили спасти хотя бы награбленные богатства, выбрав для этого недоступную пещеру в высокой скале. Зарезали лошадей и из кусков мяса, примороженного к скальной стене, сделали «лестницу», по которой достигли входа в пещеру. Спасаясь от стужи, они поселились в другой пещере на южном склоне кряжа, но вскоре погибли от голода. Весной «лестница» оттаяла, и пещера вновь стала недоступной, храня тайну вверенных ей сокровищ. Много раз местные киргизы пытались добраться до входа пещеры, но, пугаясь выглядывавшего из нее шайтана, срывались и разбивались.
В 1949 г. альпинист А.В.Блещунов в одиночку пытался подняться к пещере Мата-таш, страхуя сам себя крючьями, расположенными ниже скалолаза. Срыв метров на 20–30 ниже пещеры, к счастью не приведший к серьезным увечьям, прервал попытку смельчака. Двумя годами позже еще одна попытка была сделана альпинистами спортивного клуба Туркестанского военного округа, но ни снизу, ни сверху пещеры достичь не удалось.
Вскоре у Игоря Евгеньевича состоялось первое собрание ИПСов, т.е. искателей пещерных сокровищ, вылившееся в бурную полемику. Доводы скептиков:
— Никаких там сокровищ нет, и лазить в пещеру ни к чему. Позиция энтузиастов: {190}
— Возможно, что в пещере действительно ничего не окажется, но попытаться подтвердить или развеять легенду интересно. К тому же добраться до пещеры — увлекательная альпинистская задача.
В конце концов мы очистили свои ряды от колеблющихся, и восемь чистых энтузиастов во главе с Игорем Евгеньевичем поклялись друг другу весело рассмеяться, когда, преодолев все трудности, мы обнаружим в пещере лишь пух да гуано.
На осуществление затеи нужны были порядочные средства. «Солидных» членов экспедиции — трое, считая Николая Николаевича Федорова1. Остальные в два раза моложе и соответственно свободными капиталами не обладают. Затевая поездку, Игорь Евгеньевич это учел и львиную долю расходов принял на себя, урвав изрядную толику от недавно полученной Государственной премии. Немало других хлопот легло на плечи нашего начальника. В ход были пущены приятельские, деловые, технические и научные связи, красноречие, и вскоре безотказно заработала обширная сеть «болельщиков». Достали 400 м гибкого троса, 500 м капроновой веревки, 1000 м телефонного провода, лебедку, парашютные стропы, изготовили блок-тормоз, зажимные устройства, подвесные лестницы, крючья, карабины и многое другое.
Один из участников, Борис Шляпцев, уехал раньше на Кавказ, в альпинистский лагерь, оттуда прямо на Памир. 10 июля пятеро ИПСов выехали поездом на Ош, забив два купе диковинными предметами. Мы с Игорем Евгеньевичем полетели по маршруту Москва—Ташкент на одном из первых самолетов ТУ-104, поразившем нас роскошной шелковой обивкой стен, столами из карельской березы и изысканными закусками к не менее изысканным винам. Настроение было отпускное, легкое. На запад уходила темная ночь, а впереди светлело утреннее небо. Игорь Евгеньевич засел за шахматы. Через 4 часа самолет приземлился в Ташкенте.
В Ленинабаде солнце припекало по-азиатски, и мы, невыспавшиеся и голодные, устремились под чинару с тремя пустующими столиками аэродромной столовой. Через полчаса терпеливого ожидания (к счастью, самолет тоже не спешил) перед нами поставили тарелку с хлебом, и при молчаливом согласии мы взяли по кусочку. Есть захотелось еще больше, но из кухни никто не появлялся. И тут к нам подсел молодой местный завсегдатай. И вмиг, как по мановению волшебной палочки, занавеска-дверь распахнулась, и дымящаяся полная тарелка {191} плова проплыла в воздухе и замерла перед вновь прибывшим клиентом. Он удовлетворенно улыбнулся, взял ложку и... протянул руку к тарелке с хлебом. Тут Игорь Евгеньевич ударил по столу кулаком: «Не смейте трогать наш хлеб!»
Одновременно с объявлением посадки принесли еду и нам. Мы молча поели, молча помчались к самолету, молча долетели до Оша.
Выходя, Игорь Евгеньевич сказал: «Я сделал что-то ужасное. Прошу вас — забудьте, если можете». Я молча кивнула, но и сегодня, спустя 20 лет, четко помню звонкий вопль обиды и возмущения против несправедливости. Игорь Евгеньевич обладал горячим и непосредственным нравом, но он же был и образчиком вежливости и воспитанности. И потом мне доводилось видеть его обиженным, рассерженным, возмущенным, но теряющим самообладание — никогда.
И снова, как два года назад, мы едем по Памирскому тракту, но теперь по восточной его части. Сидим на дне кузова грузовика и съезжаем на виражах дороги то на один, то на другой борт машины. Через полтора дня позади Алайский хребет, Алайская долина, заоблачные перевалы высотой 4,5–5 тыс. м. В селении Чечекты нас радушно встречают физики фиановской высокогорной станции по изучению космических лучей. Здесь собралось большое общество. Стоит хорошая погода, и научные сотрудники и студенты-практиканты спешат поработать на установках, скрывающихся в крошечных постройках, внешне иногда смешных и странных. Прибытие Игоря Евгеньевича вызвало волну радости и энтузиазма. Сотрудники рассчитывают посоветоваться, что-то обсудить. Студенты упросили Игоря Евгеньевича прочитать лекцию о перспективах генетики.
На соседней биологической станции расположилась группа ленинградских альпинистов — энтузиастов проблемы поиска снежного человека.
Едем на восток по широкой долине. Справа невысокий хребет с причудливо выветренными скалами. Игорь Евгеньевич делится воспоминаниями:
— С этими скалами у фиановцев в первые годы существования станции произошел конфуз. Поехали они как-то лунной ночью в эту долину и заметили вон на той скале таинственное свечение. Остановили машину, вскарабкались и обнаружили в расселине значительные запасы гуано. На всякий случай взяли пробу и наутро, вернувшись на станцию, поместили ее под счетчик Гейгера. И надо же было такому случиться: прибор ускорил щелчки. Начался переполох. Отложили все дела, облазили хребет и взяли пробы гуано из разных мест. Но на этот {192} раз счетчик остался равнодушным. Открытие не состоялось. Смятение чувств физики излили в своей стенной газете, которая попалась мне на глаза, когда я был в Чечекты в прошлый раз.
— А почему скала светилась, чечектинцы разгадали?
— Разгадали. В скале оказалась порядочная дыра, просверленная ветрами. Лунный свет, проходивший через нее, создавал впечатление светящегося нимба.
Едем вдоль озера Рангкуль. «Смотрите, вон пещера Мата-таш», — и шофер показывает на скалу из доломитизированного известняка. Высота ее — метров 300. Отвесной стеной она повернута на север, в сторону озера. В середине скалы виднеется вход в пещеру, под которым груда камней, похожая на искусственную кладку. Миновав озеро, наша машина сворачивает в широкое ущелье с плоским дном, усыпанным галькой. Остановились. Неприятной неожиданностью были тучи комаров, прилетевших за нами с болотистого берега озера Рангкуль. Разбили лагерь и на тенте столовой вывели лозунг «Не обязательно надеяться, для того чтобы пытаться, и преуспевать, чтобы упорствовать», заимствованный из книги Н.Кастере1.
О последующем повествуют краткие выдержки из моего дневника. Я позволю себе их привести, потому что они воссоздают картину жизни нашей экспедиции, в которой такое деятельное участие принял Игорь Евгеньевич.
— 19.VII. Ночью ниже нуля, в питьевом баке — корка льда. Долина в тени, и все сковано холодом. Не хватает мужества вылезти из спального мешка. Игорь Евгеньевич уже давно выполз из палатки, захватил тетрадку и ручку, пересек долину и в полосе солнечного света уселся работать. Свист сурков ему не помеха. В лагерь он вернется вместе с солнцем, это у нас сигнал к общему подъему. Воду всячески экономим. Введена новая система умывания: 3–4 пары рук располагаются одна над другой, и тонкая струйка воды из игрушечной садовой лейки перетекает через них сверху вниз: каждый заканчивает мытье в верхнем положении. Игорю Евгеньевичу выделена персональная лейка; зажав ее между колен, он ухитряется глубиной приседания регулировать истечение струйки. Сегодня день разведок. Рассматривали в бинокль скалы, лазали по кулуарам и ребрам в поисках лучшего пути на гребень. Съездили к пограничникам за телефонными аппаратами. Произвели глазомерную оценку высоты стены и расстояния до входа в пещеру. Намерили 250 метров, т.е. в 2 раза меньше, чем говорили военные альпинисты. Все кашляем. Дает себя знать низкая относительная влажность воздуха восточного Памира — 10–20% вместо привычных 50–60%. {193}
— 21.VII. Снега на скалах гребня не видно. Значит, кроме грузов, придется на себе поднимать и питьевую воду. Николай Николаевич и Леша вышли с первой заброской на гребень. После обеда их фигурки появились на фоне голубого неба. Мы с Игорем Евгеньевичем уже дожидались их под северной стеной и просигналили им, где нужно остановиться, чтобы оказаться над входом пещеры. Отсюда они стали провешивать на веревке яркий мешочек с камнями, чтобы точно нацелить спуск к пещере. Но из этого ничего не вышло. Мешочек каждый раз застревал на горизонтальной площадке, расположенной метров на 40–50 ниже гребня. Очевидно, на этой же площадке застревала веревка, которую сбрасывали для спуска военные альпинисты. Теперь ясно, что спуск на тросе придется организовать именно с этой площадки...
— 22.VII. Спустившиеся с гребня уверяют, что восхождение не ниже 4-й категории трудности. Лешу на восхождении продуло, поднялась температура. Сегодня день посвящен опробованию снаряжения и тренировочным спускам. Успешно прорепетировали одновременный парный спуск на блок-тормозе. Испытали подъемы и спуски по висячей лестнице.
— 23.VII. Составили план штурма. После предварительной заброски 200 кг груза шесть человек поднимаются на гребень, а Игорь Евгеньевич и Юра ведут наблюдения и корректировку спуска снизу, на северной стороне стены. Спуск по тросу через блок-тормоз организуется с площадки, находящейся ниже гребня на 40–50 м. Сначала спускают двойку при одновременной страховке веревкой и размотке телефонного кабеля. Поравнявшись с пещерой, двойка забрасывает «кошку» в пещеру, подтягивается к входу, отстегивается от троса, и его вытягивают наверх для спуска второй двойки. Последняя пара с помощью веревки опускает в пещеру трос и блок-тормоз для проведения дальнейшего спуска четверки (и сокровищ) из пещеры вниз, а сами поднимаются с площадки на гребень и возвращаются вниз по пути восхождения. Игорь Евгеньевич уехал в Чечекты для консультаций.
С 24 по 27 июля заканчивали заброску грузов и всю подготовку.
— 28.VII. ...Сегодня генеральный вход на гребень шести человек. К сожалению, сегодня воскресенье, и наверняка пожалуют любопытные гости. С 12 часов выступили к узкому отвесному кулуару. Зацепок много, поэтому решили не связываться, чтобы веревкой не нарушить плохо лежащие камни. А вот и площадка для отдыха. Сбросили рюкзаки. И вдруг с криком «падаю» исчез Николай Николаевич. Бросились к краю и застыли от ужаса: он летел головой вниз, ударяясь о выступы. Метров через 15–20 огромный камень в кулуаре задержал его падение. Спешим к нему. Жив. Шевелится. Тело в ушибах, кровоподтеках, но кости, кажется, целы. После такого падения — чудо! {194} Леня мчится вниз готовить носилки, людей, машину. Борис и Леша прочно расклиниваются в кулуаре, и на их спины кладем 90-килограммного Николая Николаевича. Сверху страхуем: я — пострадавшего, а Алексей — его опору. Это «сооружение» через несколько часов доставляет пострадавшего к подножию кулуара. Уже вечерело, когда мы добрались до Мургабской больницы. Рентген все же обнаружил несколько трещин в ребрах и перелом кисти.
— 29.VII. Настроение подавленно. Решили заняться поиском второй пещеры в глубине нашего ущелья. Ее не раз посещали путешественники. Проискали до темноты, но входа не нашли. Заночевали без палаток в спальных мешках.
— 30.VII. Излазили склон и на 300–400 м выше дна долины все-таки пещеру отыскали. Весь день ее обследовали. Она сложная, разветвленная. Ползком проникли в «карман», где А.В.Блещунов нашел скарабея, вмерзшего в натечный лед. Через каменный завал проникли в большой грот. Здесь оказался тур с записками, в них интересные данные: наибольшая протяженность пещеры — 220 м. Понижение от входа — 100 м, упоминаются барометрические отметки высоты — 4400 и 4610...
— 1.VIII. Штурм Мата-таш. План сохранился, но на подъем к гребню вышло пять человек. Идем с удвоенной осторожностью и на этот раз двумя связками. В узком «камине» проходим налегке, то же делаем на 60-метровой стене, выводящей на гребень. Потом подтягиваем рюкзаки. Ночуем на гребне, привязавшись к крюку.
— 2.VIII. Весь день перетаскивали грузы к седловинке, с которой намечается начать спуск. Днем над нами прошумел огромными крыльями белоголовый сип. Это и есть знаменитый «гриф» с размахом крыльев в 1,5–2 метра. Сделав несколько предостерегающих кругов, он скрылся. Но нам-то волноваться не стоит: дуршлаги для защиты головы и все остальное с нами.
— 3.VIII. Внимательно осмотрелись. Площадка, с которой предстоит спуск по тросу, находится метров на 40 ниже гребня. Забили крюк, навесили карабин, пропустили через него двойную веревку для свободного спуска по стене. Через несколько часов мы и грузы на площадке. Ширина ее не менее 2–3 метров, но вверх и вниз — отвесные гладкие стены. Веревку из карабина выдергивать не рискнули — это наша единственная реальная связь с миром. Внизу маленькие фигурки Игоря Евгеньевича и Юры, размахивающие руками. Опять красный мешочек с камнями ползет по стене, уточняем вертикаль и расстояние до входа в пещеру. Намерили 150 м. Забиваем крюки, укрепляем блок-тормоз, навешиваем катушку с тросом, катушку с телефонным проводом, аккуратно укладываем петли страховочной веревки, {195} очищаем площадку от камней. Наконец, все готово, но солнце уже село. Спуск начнем утром.
— 4.VIII. Роли распределены. Спускать будем Бориса и Лешу. Протравливать трос через блок-тормоз доверяется Алексею. Леня одной рукой должен выдавать телефонный провод, другой держать у уха телефонную трубку, я буду протравливать через карабин страховочную веревку, на которой через 10 метров сделаны отметки, — так легче следить за скоростью и глубиной спуска.
Приступаем к оснащению «спускников». Борису, как более опытному, предстоит разрешать все неожиданности. Поэтому для оперативности он будет спускаться без рюкзака. В строго продуманном порядке на Бориса одеваются и навешиваются: ружье, патронташ, кинжал, «кошка» с мотком веревки, молоток, связка крюков и карабинов, карбидный фонарь, фотоаппарат, кирка (отрывать сокровища) и, как шляпка на резиночке, дуршлаг с отпиленной ручкой. Леша выглядит менее воинственно, но столь же живописно. В огромном рюкзаке — все необходимое для ночевки в пещере. На голове пожарная каска, на груди телефонная трубка. Оба они обмотаны парашютными стропами. Последний раз придирчиво проверяем, все ли надежно приторочено. Тартарен меркнет перед образами наших героев.
Становимся по местам. Борис и Леша ложатся на краю площадки на живот, спускают ноги. Спуск начинается. Стараемся медленно, по возможности одновременно и равномерно стравливать трос, веревку и телефонный провод... Стравливаем приблизительно 3 метра в минуту, задерживает разматывание с катушек троса и провода. Минут через 20 спуск приостановили, заела катушка с проводом. Леня спешит, дрожащими руками пытается распутать переплетенные витки провода. Ничего не получается. Минуты идут, волнение нарастает. В телефоне голос Леши:
— Спускайте, не задерживайте, трудно висеть с рюкзаком, он опрокидывает.
Перерезаем провод, сбрасываем с катушки несколько перепутанных витков и вновь сращиваем. Спуск продолжается. Но через 2–3 минуты история повторяется. Как новая, нераспечатанная катушка могла оказаться с перепутанными витками? Снова рубим провод и сращиваем концы. Но через несколько минут опять путаница. Спускаемые волнуются, прошло уже более 40 мин, и Леша с трудом сохраняет вертикальное положение.
— Рубите провод, — кричит в телефон Борис, — связь будем держать через Игоря Евгеньевича.
Перерезали провод... Продолжаем спуск. Из-за гребня появился сип. Плавными кругами, без единого взмаха крыльями, планирует он в сторону пещеры. Мрачная тень проплывает над нашими головами. С {196} вибрирующим шумом цедится воздух сквозь кончики перьев огромных распластанных крыльев.
— Неужели он решится в одиночку напасть на людей? Снизу сообщают:
— Сип опустился в пещеру.
Спуск продолжается. Видно, слух о нашем сегодняшнем спуске облетел пол-Памира, и под стеной собралось порядочно зрителей. Леня рассматривает их в бинокль.
— Сидят компаниями, выпивают, закусывают. Пограничники разрезали арбуз, — мечтательно сообщает Леня.
— Эй, наверху, — кричит Юра, — спускайте быстрей, трос крутится, ребятам трудно.
Ускоряем выдачу. Стравили уже 140 метров. Значит, скоро пещера.
— Сип улетел.
— Слава аллаху, одной неприятностью меньше.
Почему Борис не просит приостановить спуск? Они уже должны были поравняться с пещерой? Недоумеваем. Наконец долгожданный сигнал:
— Стой, крепи трос, вышли на «кладку».
Выдано 160 метров. Спускали 1 час 10 мин. Мы облегченно вздохнули. Теперь остались пустяки, какие-нибудь 6—8 метров подъема по «кладке», и они в пещере.
Спокойно отдыхаем, уверенные в успехе, но вот проходит 30, 40, 50 минут. Никаких вестей. Странно, снизу подъем по «кладке» не казался трудным. Проходит час.
— Внимание наверху. Борис не может подняться в пещеру, опасается обрушения «кладки». Просит спускать вниз на всю длину троса.
Вниз, мимо пещеры? После стольких мечтаний, сборов, стараний, бед, бесконечных втаскиваний тяжелых рюкзаков на гребень? Мы ошеломлены, обескуражены. Не можем поверить в необходимость отступления, когда 99% трудностей позади. А что будет с «болельщиками», теми, что сейчас сидят под стеной, и с теми, что по разным городам ждут вестей со страниц «Комсомольской правды»?
— Спускайте, ребята больше не могут пытаться.
Постепенно начинаем понимать, что настаивать невозможно. Почему-то подъем по «кладке» не удается. Рисковать жизнью нельзя. Итак — неудача. Разочарование для всех, кто ждал разгадки легенды пещеры Мата-таш. Молча выдаем весь трос.
— Спустились, сейчас отстегнутся от троса.
День на исходе. Одна за другой уезжают машины с разочарованными зрителями. Двойка уже закончила спуск по нижней части стены, и все четверо ушли в лагерь. Вокруг опустело, в горах наступила {197} привычная тишина. Поели, залезли в спальные мешки. Как-то мы завтра одолеем стену, чтобы забраться на гребень? Хорошо, что не выдернули веревку из верхнего крюка.
Метр за метром, час за часом одолеваем стену. Через 3 часа мы на гребне, а еще через восемь — внизу в долине. Навстречу бегут три фигурки. Почему три, а не четыре?
— Какое счастье быть снова всем вместе и больше не волноваться за каждого из вас.
Бедный Игорь Евгеньевич — он осунулся больше нас.
Потом мы услышали подробный рассказ о спуске и объяснение отсутствия Бориса в лагере. Спуск на тросе оказался трудным и мучительным. Из-за отрицательного уклона стены вскоре до нее уже нельзя было дотянуться, и спускающимся стало трудно сохранять правильное положение корпуса. Особенно стало трудно из-за кручения троса. Поравнявшись с пещерой, Борис стал пытаться забросить в нее «кошку», но она упорно не цеплялась и соскальзывала вниз. Тогда решили спуститься на «кладку» и по ней подняться ко входу в пещеру. Но камни лежали неустойчиво и Борис стал опасаться того, что «кладка» рухнет. Но главная причина неудачи, по-видимому, была в другом. Когда двойка спустилась к Игорю Евгеньевичу, Борис еле держался на ногах, а температура у него подскочила до 40°. Началась жестокая ангина и его срочно отправили в больницу. Борис сознался в том, что плохо себя чувствовал еще до начала спуска, но крепился и молчал, тем более что ему крепко попало от меня за поедание снега и льда. Обессиленный напряженным спуском и быстро развивающейся болезнью, Борис потерял уверенность в себе и не смог преодолеть последнюю трудность.
С 6 по 10 августа, пока поправлялись наши больные, мы снова занимались поисками в дальней пещере, нашли оселок, амулет и металлическую пряжку, покрытую красным лаком1.
— 11.VIII. Сегодня покидаем Памир.
После Памира мы еще несколько раз ездили совместно в разные горные районы: летом 1959 г. с группой туристов пешком прошли из Алма-аты через хребет Кунгей-Алатау к озеру Иссык-Куль, в 1961 г. совершили поход по Хевсуретии, зимой в 1963 г. катались на лыжах на северных и южных склонах Карпат, а годом позже побывали на {198} Домбайской поляне и в Алибеке. Все эти поездки радовали Игоря Евгеньевича, и он любил потом вспоминать приключения и забавные ситуации, в которые мы не раз попадали.
Большим удовольствием было для него общение с новыми людьми, особенно если их занятия были совсем другого рода, чем его собственные. А вот настырности, даже добронамеренной, Игорь Евгеньевич не выдерживал. Помню тайный ночной побег нашей группы из Кутаисской гостиницы. Мы не выдержали повторов местного застолья.
Была у Игоря Евгеньевича своя своеобразная и милая форма пожелания «с добрым утром». Обычно в условиях походной жизни ее участники начинают общаться друге другом, как только открывают глаза. Но у Игоря Евгеньевича был свой ритуал. Он вставал, умывался до пояса, а то и голову мыл холодной водой, одевался, причесывался, потом подходил, становился «солдатиком» с вытянутыми по швам руками и любезным голосом многозначительно произносил: «С добрым утром, Елена Алексеевна». Ну как тут было не умилиться.
В рюкзаке у Игоря Евгеньевича всегда бывал какой-нибудь роман на английском или немецком языке. Например, на Памире каждый вечер при свете крошечного электрофонарика он читал в подлиннике Фейхтвангера, а утром пересказывал прочитанное. Научную работу во время отпуска он прекращал всего лишь на несколько дней. Но так как, кроме тетради для записи, у него ничего не имелось, то все необходимые ему формулы он попутно выводил заново. Дежурные по костру любили кормить Игоря Евгеньевича. В походе у него всегда был отменный аппетит, ел он с удовольствием, быстро, опрятно; миску и кружку мыл чисто и сам, а повара хвалил и благодарил.
В любой походной работе принимал самое деятельное участие и совершенно не выносил, если его в подобном деле пытались обойти. Обычно всякая попытка оградить его от тяжелой или неприятной работы кончалась тем, что он выполнял ее в удвоенном объеме. У меня с Игорем Евгеньевичем был один пункт, вызывавший иногда бурные стычки. По старой привычке я любила ходить в группе сзади, так мне хорошо и сразу видны все возникающие происшествия. Игорь Евгеньевич усматривал в этом слежку с моей стороны за правильностью его хождения в горах, сердился и шумел на меня. Как-то раз мы нашли верховую лошадь для Игоря Евгеньевича. Он наотрез отказался сесть на нее, весь поход вел в поводу, уставая, естественно, больше, чем мы без лошадей.
Мне не хотелось, чтобы повествование об Игоре Евгеньевиче получилось приторным и прежде всего потому, что он вовсе не был таким человеком. Но с ним было так интересно и приятно путешествовать, а товарищ он был такой верный и чуткий, что сколько я ни припоминала, так ничего отрицательного о нем и не вспомнила.
| {199} |
Мне хотелось бы рассказать здесь об одном небольшом эпизоде в жизни Игоря Евгеньевича Тамма, где проявилась его характерная черта — готовность прийти на помощь, жертвуя своими силами, временем и спокойствием.
Сейчас уже невозможно вспомнить, когда я впервые услышал о физике Тамме. Это имя прочно вошло в сознание сразу после войны, когда он (вместе с С.И.Вавиловым, И.М.Франком и П.А.Черенковым) получил Государственную премию за открытие и объяснение природы излучения Вавилова-Черенкова. Хорошо помню, с каким недоумением мы, кучка студентов-второкурсников, считавших себя знатоками теории относительности, услышали о «сверхсветовом» электроне. Потом, конечно, мы постигли суть теории Тамма-Франка, оценив, в меру своего понимания, ее красоту. Позднее мы изучали электродинамику по известному курсу Тамма, воздав должное его ясности и глубине.
Естественно, что в нашем студенческом представлении Тамм был патриархом. Возможность лично познакомиться с ним, поговорить, узнать его мнение казалась нереальной. Но вот однажды (уже в самом конце 40-х годов) я услышал от своего дипломного руководителя А.С.Компанейца1: «Это стоит обсудить с Таммом. Вот его телефон, звоните и поезжайте к нему». На просьбу узнать сначала, захочет ли Игорь Евгеньевич вообще иметь со мной дело, последовал ответ: «Он не такой человек...».
В справедливости этих слов мне пришлось убедиться, едва переступив порог квартиры Тамма на улице Чкалова и с трудом отбив его попытку помочь мне повесить пальто. Многим покажутся почти банальными слова о том, что с первой же минуты Игорь Евгеньевич покорил меня своей простотой и непосредственностью, что была забыта тридцатилетняя разница в возрасте и все прочие разницы, — настолько это неотделимо от образа Игоря Евгеньевича и привычно для всех, кто имел с ним дело. {200}
Состоявшийся разговор был в основном о науке и немного вообще «за жизнь». В то время я занимался только что входившей в большую моду проблемой поляризации вакуума, пытаясь, в частности, объяснить соответствующими нелинейными эффектами результаты экспериментов по лэмбовскому сдвигу и аномальному моменту электрона. Один из вопросов, обращенных к Игорю Евгеньевичу, касался очень мучившего меня тогда явного нарушения калибровочной инвариантности в теории поляризации вакуума. Он ответил, что, насколько он помнит, нечто похожее на мои соображения было еще в старой статье Дирака о магнитном монополе. Этот совет действительно оказался решающим для устранения моих сомнений.
Потом я с гордостью поведал Игорю Евгеньевичу о своем «доказательстве» невозможности разложения квантовой электродинамики в ряд теории возмущений. Это утверждение, как мне казалось, следовало из применения метода Томаса—Ферми к явлению поляризации вакуума. Игорь Евгеньевич «с ходу» раскритиковал мой вывод, объяснив его аппаратным эффектом, как оно и оказалось на самом деле. Но сделано это было до того необидно и доброжелательно, что едва ли не укрепило чувство подъема, с которым я покинул квартиру Тамма.
Потом состоялось еще несколько визитов к Игорю Евгеньевичу. Он безуспешно пытался оставить меня в ФИАНе после окончания МГУ, потом были другие неудачные попытки. В конце концов мне пришлось поехать работать инженером на завод в Горький. Уехал я с воспоминанием о простом, доброжелательном и мудром человеке, всегда готовом прийти на помощь советом и поддержкой.
Работа на заводе, особенно в первый период, имела мало общего с теоретической физикой. Для примера можно упомянуть о моем полуанекдотическом дебюте. Соответствующее начальство не знало, что ему делать с физиком-теоретиком, и уже без всякой надежды поинтересовалось темой моей дипломной работы. Ответ: «Поляризация вакуума» — вызвал радостный возглас: «Прекрасно! Это как раз то, что нам нужно». После чего мне вручили мыльницу и кисточку для бритья и послали искать течь в вакуумной установке1.
Последующие годы прошли в попытках не потерять связи с наукой. Наконец, мне удалось сотворить некий труд, который я решился представить на суд специалистов. Послал я его Игорю Евгеньевичу. Послал без колебаний, хотя с другими нашими ведущими теоретиками меня связывало в прежние годы более длительное и тесное знакомство. {201}
Спустя некоторое время от Тамма пришло письмо, где он сообщал, что работа была доложена на малом семинаре Теоротдела ФИАНа (доклад прочитал В.П.Силин), вызвала интерес и будет направлена в печать. А в конце стояла фраза, заставившая дрогнуть сердце: «Предпринял вполне определенные шаги у начальства по поводу Вашего перевода к нам; встретил благоприятное отношение, но, конечно, нужно выждать; надеюсь на успех». Тогда я не знал многого: что Тамм длительное время занимался ответственной прикладной работой и вернулся в Москву незадолго до получения моего письма; что его заслуги получили официальное признание, выразившееся в присвоении ему звания Героя Социалистического Труда и других знаков отличия; что у него появилась возможность перевести в ФИАН несколько физиков-теоретиков из других мест; что вскоре Президиум АН СССР одобрит подготовленную под руководством Игоря Евгеньевича записку «Узловые проблемы теоретической физики», в которой обращается внимание на бесхозяйственное использование молодых физиков-теоретиков в качестве заводских инженеров, преподавателей средней школы и т.п.
Несмотря на все это, операция по моему «извлечению» с завода (подлинное выражение самого Тамма) тянулась много месяцев и потребовала от него больших усилий и настойчивости. Наконец, как завершение этой поистине святочной истории, от Игоря Евгеньевича пришло письмо. Я до сих пор помню его наизусть: «Дорогой Д.А., только что получил точные сведения, что имярек “дал команду” о том, чтобы Вас перевести в ФИАН. Очень рад за Вас и за нас. Ваш Иг.Тамм».
По прошествии некоторого времени с документами в кармане и ощущением неправдоподобности всего случившегося я предстал перед Таммом в той же квартире на улице Чкалова. Мои изъявления благодарности были мгновенно пресечены, и хозяин дома поинтересовался, чем я собираюсь заниматься в ФИАНе. В ответ я попросил совета, как лучше нагонять упущенное. Игорь Евгеньевич предложил на выбор два пути: либо делать это систематически, либо сразу взять конкретную задачу и ликвидировать неграмотность в процессе ее решения. Он объявил себя решительным сторонником второго варианта и предложил мне включиться в работу по развитию метода Тамма-Данкова, которой он с двумя сотрудниками увлеченно занимался в то время1.
Нужно прямо признать, что из этой моей деятельности, хотя я и занимался ею добросовестно несколько месяцев, не вышло ничего, кроме маленькой заметки весьма незначительного содержания. Тем {202} не менее о том периоде стоит вспомнить, так как с ним связан один из многих жизненных уроков, которые дал мне Игорь Евгеньевич за время нашего более чем двадцатилетнего знакомства.
Человек должен испытывать удовлетворение от своей работы, а мое участие в разработке метода Тамма-Данкова было источником скорее отрицательных эмоций. Поэтому параллельно я нелегально занялся завершением начатой еще на заводе работы по обобщению модели Томаса-Ферми. Наконец, наступил момент, когда я решился признаться Игорю Евгеньевичу в своей «второй жизни» и рассказать о полученных результатах.
Было бы естественно, если бы меня, с таким трудом «перетащенного» в ФИАН, но не оправдавшего надежд и, хуже того, занявшегося посторонней работой, ждал разнос. В его неотвратимости не было сомнений. Однако, к великому моему облегчению и изумлению, Игорь Евгеньевич понял все с первых же слов, загорелся, забросал вопросами, и после доклада на семинаре последовало указание сосредоточиться на новой теме и доводить ее до конца.
Все рассказанное выше, хотя и означало переворот в моей жизни, составляет, конечно, лишь часть того большого целого, которое связывается в сознании с именем Игоря Евгеньевича Тамма. Разумеется, за долгие годы знакомства с ним накопилось множество воспоминаний, относящихся к другим чертам его личности и к иным периодам его жизни. Можно было бы даже набраться смелости и попытаться взглянуть на него с более общих позиций, выйдя за рамки частных фактов. Это, однако, лучше меня сделают другие.
| {203} |
Здесь будут рассказаны эпизоды, неожиданно раскрывшие незнакомые мне до того стороны личности Игоря Евгеньевича. Возможно, они окажутся неожиданными и для многих других, кто его знал.
Незадолго до войны на праздновании защиты диссертации одного из учеников Игоря Евгеньевича зашел разговор о Достоевском. Разговор этот имел тот поверхностно-салонный характер, который обычно преобладает во время застолья. Среди молодых участников празднества научный руководитель диссертанта был единственным сорокалетним, но, разумеется, казался чуть ли не моложе и веселее всех. Одно его высказывание (что именно он говорил, я сейчас не помню) вызвало взрыв хохота. Но как только разговор перекинулся на другую тему, Игорь Евгеньевич наклонился ко мне и очень тихо произнес: «А знаете, я ведь не могу читать Достоевского. Я так мучительно, с таким страданием воспринимаю каждую его строчку, что после этого чувствую себя просто больным». Затем он помолчал и добавил: «Наверно, это значит, что я его правильно понимаю».
Другой эпизод. Мы были знакомы уже почти двадцать лет, и у меня сложилось твердое мнение об абсолютной «амузыкальности» Игоря Евгеньевича. Он и сам был убежден в этом и даже со смехом рассказывал о бесплодных занятиях музыкой в детстве. В частности, о том, как произошло избавление от бесконечно угнетавших его уроков игры на фортепиано: он не узнал в другом исполнении пьесу, которую сам разучивал уже в течение года. Только тогда его мать, наконец, поняла, что учить его далее бесполезно. Естественно, разговоров на музыкальные темы у нас никогда не бывало. Но однажды Игорь Евгеньевич, работавший в те годы вне Москвы, приехал домой на короткий срок и захотел навестить нас в свой единственный свободный день. У нас же должен был состояться музыкальный вечер. Наталия Васильевна Тамм, глубоко, по-настоящему любившая музыку, очень обрадовалась, и Игорь Евгеньевич решил мужественно перенести предстоящее {204} ему испытание — просидеть час-полтора в обществе, не говоря ни слова (что само по себе противоречило его натуре) и к тому же под звуки фортепиано. Играли мы с моей партнершей в переложении для четырех рук вариации на тему песни «Смерть и девушка» из ре-минорного квартета Шуберта и первую часть бетховенской Девятой симфонии. Как только музыка кончилась, Игорь Евгеньевич встрепенулся и заговорил. Говорил он быстро, убежденно и как бы удивляясь самому себе. Он поразил меня безошибочно точной характеристикой произведений, хотя слышал их, по всей вероятности, первый раз в жизни. Можно было подумать, будто ему известны формообразующие принципы разных музыкальных стилей. Помню, что в Шуберте он отметил отсутствие внутреннего движения, преобладание непосредственной красоты отдельных звучаний и признался, что это произведение мало его захватило. Но Аллегро Девятой симфонии — одно из сложнейших во всей мировой симфонической литературе — буквально потрясло его. Он говорил о мощном внутреннем пульсе, о ясно ощутимой логике движения, о единстве целого при грандиозном масштабе. Именно эти черты бетховенской музыки, как он подчеркнул, подействовали на него особенно сильно. Казалось, он сам изумлялся силе своего впечатления.
В следующий его приезд в Москву мы предложили ему (не совсем без юмора) снова послушать музыку. Подхватив наше настроение, он с некоторой шутливой неуверенностью согласился «попробовать». Мы поставили пластинку с записью песен Шостаковича «Из еврейской народной поэзии», впервые тогда появившуюся. При первых же звуках с лица Игоря Евгеньевича сошла улыбка. Оно приняло глубоко сосредоточенное выражение. Прослушав две-три песни, он попросил ноты, чтобы было легче следить за словами, разложил их на коленях и просидел, не шевельнувшись и не проронив ни слова, до конца цикла. После же окончания, не вдаваясь в подробности, он просто сказал, что музыка ему чрезвычайно понравилась. Несколько песен он выделил и захотел прослушать их еще раз. Помню, что все это были песни трагического содержания. Среди них «Зима» — одна из самых страдальческих, я бы сказала, безнадежных песен, какие только приходилось слышать.
Но постепенно настроение, вызванное музыкой, рассеялось. Вскоре Игорь Евгеньевич уже болтал, смеялся своим неудержимо веселым смехом, рассказывал бесконечные истории, и, как всегда, могло показаться, что этот человек совсем не восприимчив к теневым сторонам жизни.
| {205} |
Он не входил, а скорее вбегал в лабораторию — маленький, быстрый, подвижный как ртуть, с добрыми, очень внимательными глазами. Спрашивал скороговоркой:
— Ну, что у вас нового, товарищи?
Это была Казань. Год 1943-й. Большинство эвакуированных из Москвы и Ленинграда институтов Академии наук располагалось на территории Казанского государственного университета. Наша рентгеновская лаборатория Института машиноведения занимала одну большую полутемную комнату. Некогда в этом флигеле работал Н.И.Лобачевский.
С начала 1943 г. мы занимались рентгенографированием явлений при детонации взрывчатых веществ. Игоря Евгеньевича занимало и удивляло все: кенотрон с кратковременным перекалом катода, который применялся вместо импульсной трубки, способ синхронизации рентгеновской вспышки с желаемой фазой взрыва, но прежде всего — результаты рентгенографических экспериментов.
В то время мы переживали младенческий период увлечения новой методикой, когда при недостаточно критическом отношении к результатам опыта легко выдвинуть предположения, «ниспровергающие» существующие взгляды. Запомнился следующий случай. Рентгенографировали взрыв небольшого цилиндрического заряда азида свинца. Это известное взрывчатое вещество было выбрано потому, что пары свинца в продуктах взрыва образуют контрастное и четкое изображение на рентгенограммах. В августе 1943 г. вдруг получился удивительный снимок: вместо ожидаемого светлого поля вблизи оси заряда и более темных полей на периферии взрывного облака картина оказалась обратной: внутри более темное поле, а на границах облака — отлично видимое светлое окаймление.
Игорь Евгеньевич спрашивал:
— Как же так? Всегда плотность в центре облака должна быть больше, чем на его внешних границах. Здесь у нас что-то не то. {206}
Около года мы морочили головы себе и другим. А потом ларчик открылся сравнительно просто. Обнаружилось, что отверстие в картонке, на которой помещался заряд, после взрыва удивительно напоминает светлое окаймление зоны так называемой повышенной плотности на рентгенограммах. Поставили контрольный опыт: вместо картонки заряд привязывался тонкими нитками к рамке. Эффект «повышенной плотности» на периферии исчез. В предыдущих опытах края отверстия, пробитого взрывом в картоне, задерживали пары свинца, создавая иллюзию повышенной плотности. Игорь Евгеньевич искренне обрадовался, когда «результат» получил такое простое объяснение.
Потом начались опыты с моделями кумулятивных зарядов. Много раз Игорь Евгеньевич обсуждал с нами методику рентгенографических экспериментов и промежуточные результаты, помогал отыскать «геодезическую кривую», которая позволяет исследователю при наименьшем числе опытов получить максимум информации. Хотя вся его сознательная жизнь была посвящена теоретической физике, он с большой легкостью и высокой активностью вместе с нами осваивал физику взрыва. Его советы во многом способствовали пониманию механизма действия «таинственных» в то время кумулятивных боеприпасов. Уже к середине 1944 г. удалось выявить влияние оболочки кумулятивной выемки на эффективность работы таких снарядов.
Наша вторая встреча произошла через пять лет после окончания войны — в самом начале 1950 г. Тамм возглавлял группу молодых физиков, занимавшуюся исследованиями термоядерного синтеза. Не колеблясь, он на несколько лет прекратил работу по фундаментальным проблемам теоретической физики, чтобы заняться прикладными вопросами, которые важны были для благополучия страны1.
Мы продолжали рентгенографические и другие исследования явлений при детонации взрывчатых веществ. И снова, как в 1943 г., удивляла способность Игоря Евгеньевича увлекаться проблемами, далекими от его непосредственных интересов. В 1948–1949 гг. наша лаборатория обнаружила явление высокой электропроводности продуктов взрыва и диэлектриков, подвергнутых сильным ударным сжатиям. Сопротивление продуктов взрыва вблизи фронта детонационной волны оказалось на много порядков меньше предсказанного крупными теоретиками. Этот вопрос имел существенное прикладное значение, и возникла острая ситуация. Здесь Игорь Евгеньевич активно поддержал экспериментаторов. До сих пор мы храним его доброжелательный отзыв, датированный 1950 г. {207}
Общеизвестна нетерпимость Игоря Евгеньевича к любым нарушениям научной этики. Ветераны Теоретического отдела Физического института Академии наук утверждают, что за полвека его существования здесь ни разу не было каких-либо споров по приоритетным вопросам, авторству в публикациях и другим подобным случаям. К 1970 г. этот коллектив насчитывал более 40 научных работников, причем каждый из них — самостоятельная творческая индивидуальность. Но микроклимат, созданный и поддерживаемый руководителем, практически исключат возможность разногласий и распрей, которые так губительно действуют на творческую продуктивность даже небольших научных коллективов.
Создание в высшей степени благоприятной атмосферы для научного творчества не следует относить на счет организаторского таланта Игоря Евгеньевича. Конечно, его авторитет, отличное знание самых различных областей теоретической и экспериментальной физики играли здесь важную роль. Но главное, думается, заключалось в удивительной способности Игоря Евгеньевича относиться с подлинным уважением ко всем честным людям. Эта особенная таммовская уважительность распространялась почти на всех людей, за исключением деятелей, проповедующих бесспорно антинаучные или антинравственные положения. В отношении лиц этого сорта он оставался непреклонно бескомпромиссен.
Вот случай, когда Игорь Евгеньевич преподал урок этики и правил поведения автору этих строк. По дневнику можно установить точную дату — 15 мая 1952 г. Шумное совещание у научного руководителя института.1 Только что прошло награждение большой группы научных работников Государственными премиями и орденами. Несколько основных исполнителей и творцов нового прибора «выпали» из списка награжденных. Я выступил на совещании с эмоциональной, но недостаточно продуманной речью. С одной стороны, приводил известное высказывание Пьера Кюри2: «Ученым нужны не ордена, а лаборатории». С другой — отмечал несправедливость по отношению к некоторым участникам разработки (говорил, конечно, не о себе). Был молод, не мог до конца оценить мудрые строфы Омара Хайяма:
|
Ты обойден наградой? Позабудь! Дни вереницей мчатся, Позабудь! Небрежен ветер, В вечной Книге Жизни Мог и не той страницей шевельнуть |
| {208} |
После заседания Игорь Евгеньевич провожал меня домой. Он говорил:
— В принципе вы правы. Но всегда надо понимать цель и задачи любого высказывания. Вам не кажется, что ваше сегодняшнее выступление было не очень этичным по отношению к научному руководителю, которого вы так уважаете?
Этот получасовой разговор запомнился на всю жизнь.
Доброта, внимание к нуждам и заботам людей независимо от их общественного положения и высокая принципиальность удивительно точно сочетались в нем. В 1950–1953 гг. часто приходилось летать на самолетах ЛИ-2, салоны которых не отапливались. Летом — терпимо, но зимой такие путешествия оказывались малоприятными. Недавно доктор П. рассказала мне следующий эпизод. Декабрь 1951 г. Она — тогда молодой, 27-летний врач — везет на таком самолете трехлетнего больного ребенка. Вместе с нею летят Игорь Евгеньевич и Наталия Васильевна Таммы. Заметив на руках врача ребенка, Игорь Евгеньевич начинает волноваться.
— Ведь он у вас совсем замерзнет, пока мы доберемся до Москвы.
Таммы открывают чемодан, достают теплые вещи, укутывают ребенка. Но Игорю Евгеньевичу этого недостаточно: он отправляется в кабину пилотов и успокаивается лишь после того, как доктора с ребенком помещают в отапливаемой кабине бортрадиста.
Бывают люди, которые делают добро «в кредит», потому что ожидают ответного добра. Бывают и такие, кто получает удовлетворение от сознания содеянного добра, повышающего человека в собственных глазах. Игорь Евгеньевич принадлежал к людям высшей категории — он делал добро очень естественно, не думая о возможных последствиях для себя. Это гуманизм, основанный на твердых принципах и глубоких убеждениях. Гуманизм без оглядки на временные обстоятельства. А ведь в «человеческом назначении — 90 процентов добра» (Андрей Вознесенский).
Вместе со всеми естествоиспытателями-материалистами он с восторгом воспринял открытие Криком и Уотсоном структуры гена — материального носителя наследственности. В блестящих лекциях по генетике в 1956–1964 гг. он популяризировал значение открытия «двойной спирали» и наследственного кода. Эти лекции привлекали огромное количество слушателей самых различных специальностей. Под его влиянием в Институте атомной энергии И.В.Курчатов организовал биологический сектор, с которым Тамм тесно сотрудничал до 1967 г.
Вот еще два примера, иллюстрирующих принципы Игоря Евгеньевича, его непримиримость к произволу. {209}
1952 г. Тамм узнает, что к группе философов, обвиняющих Альберта Эйнштейна в махизме и идеализме, присоединился один физик. Чтение его статьи, в которой провозглашалось существование абсолютной системы координат, происходило на квартире моего близкого друга. Игорь Евгеньевич с большим раздражением отодвинул стул и заявил.
— Вы понимаете, здесь возмутительно не только то обстоятельство, что он подпевает тем философам, которые ничего не понимают в теории относительности. Он пишет в статье о том, чему сам не верит.
Нам рассказывали, что через некоторое время после этого случая на каком-то заседании рядом со стулом Игоря Евгеньевича оказалось свободное место. Опоздавший физик, о котором идет речь, сел на это место и поздоровался с Игорем Евгеньевичем. Вместо ответа тот резко встал и пересел подальше.
Приблизительно в те же годы было принято не очень понятное решение об исключении из состава института одного математика. Когда об этом стало известно, некоторые сотрудники, хотя и считали своего коллегу абсолютно ни в чем не виновным, старались при встрече не замечать его. Игорь же Евгеньевич, напротив, в день его ухода предупредил своих сотрудников: «Сегодня после обеда меня не будет: я пойду помочь ему собраться».
Летом 1955 г. шестидесятилетие Игоря Евгеньевича отмечалось очень скромно. Научный руководитель института заказал и преподнес ему большой торт с надписью: «И.Е.Тамм — 30 лет». При этом были сказаны следующие слова:
— Игорь Евгеньевич! Я, конечно, знал о вашем юбилее, но совсем позабыл, сколько Вам сегодня лет. Запросил теоретиков. Они ответили: «Минуточку, сейчас рассчитаем». Позвонили и сообщили — сегодня Игорю Евгеньевичу 30 лет. А потом, как обычно, оказалось, что теоретики «потеряли» двойку. Но исправлять ошибку было поздно — надпись справедлива. Какие там шестьдесят — вам и тридцати сейчас не дашь!
Это была правда. Многие помнят событие на рыбалке, которое относилось к тому же времени. В одно из воскресений группа сотрудников института, включая Тамма, выехала за город, нагруженная всевозможными рыболовными снастями. Жена одного из них стала просить мужа разрешить ей самой забросить спиннинг. Она проделала эту «операцию» в буквальном смысле — бросила в воду не только блесну с крючком, но и всю катушку... Назревала семейная ссора. Игорь Евгеньевич оценил ситуацию, зашел за прибрежные кусты, быстро разделся и, как двадцатилетний мальчишка, нырял до тех пор, пока не нашел злополучный спиннинг и не вручил его владельцу. {210}
Психологи утверждают, что способность удивляться — один из главных факторов, характеризующих душевную и физическую молодость человека. Эту способность Игорь Евгеньевич сохранил до последних дней. В начале июля 1967 г. мы с женой были у него на даче под Москвой. Застали его за шахматной партией, которую он тут же прервал. Наша беседа касалась самых различных проблем — генетики, технической физики, медицины. Рассказал ему о новых подходах и взглядах на природу и терапию шизофрении... Он искренне удивлялся:
— Неужели скоро люди одолеют эту ужасную болезнь!
В те дни внучка Игоря Евгеньевича держала Вступительные экзамены в МГУ. Естественно, разговор перешел на объективность конкурсных экзаменов. Незадолго до этой беседы мне прислал письмо ректор МГУ И.Г.Петровский, который писал о своих бесплодных усилиях организовать только письменные приемные экзамены. Тамм заметил:
— Может быть, Иван Георгиевич и прав. Возможно, если письменные работы предъявлять под девизом, будет обеспечена объективность конкурсных испытаний.
Последняя наша встреча состоялась в его московской квартире на набережной Максима Горького 26 ноября 1968 г. Наталия Васильевна предупредила: «Постарайтесь уложиться в один час». Он не отпускал нас более двух часов.
Я показывал ему первые миниатюрные рентгеновские аппараты с батарейным питанием, устройства для связи с глухими, рассказывал об удивительных свойствах железа с массовыми числом 55, демонстрировал рентгеноструктурные камеры и другие приборы, использующие этот радиоизотоп. Если не считать более тихого голоса, перед нами находился тот же Тамм, удивляющийся и удивляющий. В те тяжелые годы он по-прежнему жадно тянулся ко всему новому. Мы несколько раз порывались уйти, но он все удерживал:
— Ну, пожалуйста, расскажите еще что-нибудь интересное! В конце нашего визита он неожиданно сказал:
— А вы ведь счастливый... Так увлеченно рассказывать о своих приборах и идеях может только человек, по-настоящему удовлетворенный работой.
И, прощаясь, снова повторил:
— Счастливый вы человек!
Много раз потом я мысленно возвращался к этим последним словам Игоря Евгеньевича. В десятилетнем возрасте после туберкулезного менингита полностью утратила слух наша старшая дочь. В 1966 г. мы похоронили сына, которому не было и 18 лет. Сам я практически потерял зрение. Игорь Евгеньевич хорошо знал об этом комплексе {211} ударов судьбы, пережитых нашей семьей. Но, с другой стороны, само по себе понятие человеческого счастья действительно превосходит все несчастья, связанные с болезнями, отрицательными эмоциями, а их так много в жизни. Радость творчества и созидания, борьба и победа — не это ли главные компоненты счастья!
Был ли счастлив сам Игорь Евгеньевич? Он не дожил до практического осуществления управляемого термоядерного синтеза, которым увлеченно занимался в первой половине 50-х годов. Не увидал он и общей теории строения микромира, о которой так мечтал в последние годы жизни. Тем не менее Игорь Евгеньевич был счастливый человек. И дело здесь не только в создании теории бета-сил или объяснении эффекта Черенкова, не только в организации московской школы теоретической физики, завоевавшей мировое признание. Высокая гражданственность и принципиальность во всех жизненных ситуациях, честность, доброе и внимательное отношение к людям — эти общечеловеческие качества как магнитом притягивали к нему сердца всех, кто хоть раз беседовал с ним, кто был на его блистательных лекциях или семинарах.
В долговременной памяти человека существуют уголки, в которых хранятся самые дорогие, самые важные события. Именно к таким дорогим событиям принадлежат мое знакомство и беседы с этим обаятельным человеком, прожившим счастливо свою большую жизнь.
| {212} |
В течение многих лет я встречался с Игорем Евгеньевичем лишь изредка, главным образом на лыжах и в плавательном бассейне. Только в последнее десятилетие его жизни наши встречи стали частыми и долгими. Но и раньше каждая беседа сохранялась в моем сознании, не забывалась и вызывала долгие раздумья. Игорь Евгеньевич не любил рассказывать о себе. Но мысли, рожденные нашими беседами на самые различные темы, обращались во многом к нему. К нему и в то же время к науке, к ее объекту, к ее идеалам. Это было самым основным впечатлением от встреч и бесед: любой сюжет оказывался поводом для размышлений и о личности собеседника, и о чем-то очень внеличном. Сейчас, когда вновь как бы слышишь голос Игоря Евгеньевича, когда повторяешь про себя его реплики и думаешь о них и когда хочешь поделиться пробужденными этими репликами мыслями и ощущениями, сейчас очень трудно определить жанр воспоминаний. Они как-то органически переходят в соображения о современной науке, о современном типе мыслителя, о связи облика ученого с содержанием и стилем неклассической физики, о ее своеобразном эмоциональном аккомпанементе.
Игорь Евгеньевич принадлежит к числу ученых, изучение личности которых служит необходимой частью анализа стиля и движущих сил современной науки. По-видимому, неклассическая наука теснее, чем традиционные теории, связана с душевным миром своих творцов. Во всяком случае, такое впечатление всегда складывалось в беседах с ним, особенно в беседах, связанных с творчеством и жизнью Эйнштейна. Они стали очень частыми в начале 60-х годов. В 1962 г. на Международном конгрессе по истории науки был создан Эйнштейновский комитет, куда в числе представителей Советского Союза вошел и Игорь Евгеньевич. Несколько позже Академия наук СССР создала национальный Эйнштейновский комитет под его председательством.
Одно из первых заседаний Международного Эйнштейновского комитета1 происходило в Париже, и мы с Игорем Евгеньевичем поехали {213} туда. Он впервые оказался в Париже, и новые впечатления сразу охватили его. Каждый, кто бывал в этом городе, помнит одну из компонент подобных впечатлений — ощущение непрерывности и преемственности культуры. Мы говорили об этом, гуляя по площади перед Нотр-Дам и затем по скверу сзади храма. Тогда он назывался Сквером Архиепископата. Собор казался воплощением исторической преемственности: его фундамент включает остатки языческого храма, силуэт вписывается в пейзаж современного Парижа, а химеры представляются символом парадоксальности современной научной мысли. О ней-то, об этой парадоксальности, мы и говорили. Меня поразило характерное для Игоря Евгеньевича сочетание двух, казалось бы, противоречивых тенденций. Он очень глубоко понимал и даже не только понимал, но и эмоционально ощущал как поражающую парадоксальность релятивистских и квантовых идей, так и их логическую и историческую связь со всем многовековым ходом рационалистической мысли, с трехвековой историей классической науки. Упоминание о рационализме звучало с особенно конкретными и локальными обертонами в городе, по улицам которого случалось проходить Декарту. В разговоре я упомянул о некоторой рационалистической, картезианской традиционности теории относительности по сравнению с идеями Бора. «Но не забывайте о принципе соответствия», — возразил Игорь Евгеньевич.
Такие переходы были характерны для него. Каждый раз, как уже было сказано, его замечания заставляли думать о его личности. «Вне-личность», столь важное для мыслителя умение не думать о себе, отдаваться внеличным идеям, является личной особенностью и мерой масштаба ученого. Игорь Евгеньевич не просто скромный человек. Определение «скромный» было для него не негативным, а позитивным. Он не только не думал о себе. Он думал о мироздании, думал всегда, неотступно, независимо от личной жизни, даже в самые тяжелые минуты во время фатальной болезни. Он думал о rerum natura (природа вещей).
Это название поэмы Лукреция мы вспомнили, сидя на каменных ступенях Арены Лютеции — римского цирка, развалины которого находятся близ улицы Сен Жак, невдалеке от Института Пуанкаре, где Игорю Евгеньевичу предстояло выступить с сообщением о его идеях квантованного импульсного пространства на семинаре Луи де Бройля1. Приехавший с нами в Париж Иосиф Бенедиктович Погребысский2 читал наизусть строки «De rerum natura». Игорь Евгеньевич, {214} вспоминая гимназическую латынь, комментировал Лукреция. Возле нас была видна современная надпись, которая включала фразу: «Прохожий, здесь колыбель твоего города, города твоих надежд».
Поэма Лукреция тоже колыбель наших надежд — надежд на некоторую единую теорию элементарных частиц, заметил кто-то из нас.
Игорь Евгеньевич подхватил это замечание, и разговор перешел на другую тему, на тему предстоящего доклада. Такие переходы от историко-культурных реминисценций к физическим прогнозам были частыми.
Игорь Евгеньевич неплохо изъяснялся по-французски, но английский язык был ему привычней, и на семинаре де Бройля он говорил по-английски, а переводил его Вижье1. Я сидел рядом с моим старым другом Марией-Антуанетой Тонелля2 и наблюдал реакцию участников семинара. Интерес к идеям Игоря Евгеньевича был общим, и столь же общим было восхищение обаятельной манерой докладчика. После доклада происходила краткая дискуссия между ним и сторонниками версии, выдвинутой де Бройлем, Бомом и Вижье. Игорь Евгеньевич, как и большинство современных физиков, был против этой версии, но меня заинтересовала не коллизия идей, а манера спора, удивительная терпимость Игоря Евгеньевича. И это опять-таки не негативное, а позитивное определение. Мне вспоминались слова, которыми Гегель определял тон диалогов Платона: «благородная светскость» — он понимал под этим не внешнюю форму, а стремление найти в неправильном взгляде нечто достойное модификации, обобщения или ограничения и таким образом обнаружить ожидание, вопрос, стремление, направленное к истине.
Потом нас принимал Луи де Бройль, который, кроме титула герцога и репутации гениального физика, может претендовать на не менее почетное звание очень скромного и доброго человека.
После заседания Международного Эйнштейновского комитета мы вчетвером (Игорь Евгеньевич, И.Б.Погребысский, А.Т.Григорян3, и я) уехали на юг. Это была туристская поездка, включавшая Марсель, Ниццу и города Прованса. Мы даже попали в знаменитый Тараскон, где наша машина повернула в запрещенном направлении. Игорь Евгеньевич с его обычной энергией толкал машину назад — она не имела заднего хода — под благосклонно-ироническими взглядами двух ажанов. «У вас нет заднего хода, — сказал один из них, — значит, вы не {215} могли бы служить в итальянской армии...» Остроты времен Капоретто были еще в ходу в Тарасконе.
Впрочем, здесь, в Провансе, в ходу не только такое сравнительно недавнее прошлое. Игорь Евгеньевич с его общительностью и свойственным подлинному мыслителю ощущением равенства собеседников независимо от их интересов, профессии и социального ранга, разговаривал со множеством обитателей Юга Франции и удивлялся, насколько живы воспоминания прошлого на этой земле, где и поныне крестьянин находит под верхним слоем почвы своего поля осколки греческих ваз и статуй и где можно видеть театральные представления, сидя в римском амфитеатре. Во время путешествия Игорь Евгеньевич время от времени, повторяя про себя почерпнутую из современного фольклора не очень каноническую песенку о «том западном Марселе» (вот уж в ком не было ни грамма гелертерской чопорности!), не раз возвращался к серьезным проблемам — культурной и научной преемственности.
В Москву Игорь Евгеньевич вернулся очень бодрым. «Теперь я ни в какой санаторий не поеду, а поеду в альпинистский лагерь», — говорил он, обсуждая планы на лето. Но потом ему стало хуже.
Позже я часто навещал Игоря Евгеньевича. Он лежал на специальной кровати, иногда перебирался в кресло (авиационное кресло с регулируемым наклоном, подаренное, если не ошибаюсь А.Н.Туполевым1) и все реже — к рабочему столу. В комнате круглосуточно дежурили сиделки. Время от времени беседа с Игорем Евгеньевичем прерывалась, сиделки поворачивали кровать так, чтобы тело больного принимало почти вертикальное положение головой вниз: использование искусственных легких требовало таких крайне болезненных операций.
Тамм знал о неотвратимом финале болезни. Ожидание смерти — «жестокий эксперимент». Но иногда такой «жестокий эксперимент» выявляет не противоречия бытия и сознания, а их гармонию. Ожидание смерти может опустошить душу, но может, освободив от всего преходящего, направить ее целиком на внеличное и тем самым наиболее глубоким образом выявить личность в ее индивидуальной неповторимости.
Написанные только что слова «освободив от всего преходящего» применительно к Игорю Евгеньевичу отнюдь не означали ослабления интереса к деталям жизни отдельных людей, к повседневным событиям, к судьбам окружающих. Все это для него не было преходящим. Он {216} интересовался не Всем с большой буквы, а всем с маленькой буквы, всеми людьми, всеми сторонами их жизни. Его реплики в беседах, иногда произносимые с трудом, стоившие усилий и боли, относились по-прежнему не столько к тому, что Спиноза назвал «творящей природой», сколько к «сотворенной природе». Вернее, Игорь Евгеньевич опять-таки не столько понимал, сколько ощущал единство космоса и микрокосма — столь характерную презумпцию науки.
Я вспоминаю одну из бесед, происходившую под аккомпанемент искусственного, машинного дыхания — неумолкающего напоминания о быстротекущем и недолгом времени. Игорь Евгеньевич рассказывал о разных разностях, о великих ученых, но отнюдь не об их идеях, а о деталях жизни и о совсем простых людях.
О Нильсе Боре: Игорь Евгеньевич ездил с ним по Дании, и с Бором вежливо и почтительно здоровались незнакомые люди. «Это потому, объяснил Бор, — что меня знают как родственника известного футболиста».
О Дираке: просидев вечер вместе с Игорем Евгеньевичем в гостях по обыкновению молча, Дирак, рассматривая, как вяжет хозяйка, на прощание сказал: «Кажется, я нашел конечное число различных методов вязания и могу доказать это».
О внучке шведского короля: после вручения Нобелевской премии на банкете Игорь Евгеньевич сидел рядом с принцессой. Она жаловалась, что бегать на лыжах можно на севере Швеции, там у них есть небольшой замок, но ведь его нужно заранее отапливать. Игорь Евгеньевич рассказывал ей о соответствующих преимуществах своей дачи в Жуковке.
Он говорил с такой простотой, с таким вниманием и симпатией к людям, с таким забвением собственной судьбы. А я сидел и думал: как сочетаются, как связаны эти моральные черты с интеллектом, с научным подвигом, как назвать общую основу активного интереса к людям, к деталям их жизни и активного творческого интереса к истине, к структуре мира?
Если бы можно было определить одним понятием основное в характере, стиле, интересах и моральном облике Игоря Евгеньевича, то нашлось бы много слов, применяемых в зависимости от того, какая сторона этого основного понятия имеется в виду. Можно сказать о скромности, альтруизме, общительности, отзывчивости, об открытой душе, о ее многовалентности, резонансе, соединяющем мир человека с внешним миром. По существу все это едино суть. Если говорить об отношении к людям, то всегда бросался в глаза активный, положительный, действенный эквивалент скромности — подлинный интерес и подлинное уважение. Скажу прямо: Игорь Евгеньевич принадлежал к {217} не столь уже обширному кругу физиков, у которых никогда по отношению к кому бы то ни было не проскальзывала хотя бы малейшая покровительственная нотка, не чувствовался некоторый внутренний пьедестал, некоторое гелертерское самомнение, сознание преимуществ своей профессии, своей области исследования, своей непричастности к менее признанным областям, своего ранга, некоторое «благодарю тебя, господи, что не создал меня подобным сему мытарю...» Но это лишь отрицательная дефиниция. Ее позитивная форма — отзывчивость. Здесь уже переход к особенностям творчества. Никогда еще темп развития науки не зависел в такой степени, как сейчас, от возникновения новых идей, их экспериментальной проверки (достижения того, что Эйнштейн называл высшим оправданием) и от естественного, без ad hoc, выведения этих идей из более общих принципов (достижения того, что Эйнштейн называл внутренним совершенством).
Таким образом, в понятии отзывчивости сливаются черты характера и черты научного творчества. Скромность человека становится скромностью исследователя. В основе ее — понимание масштабов того, что происходит в науке сейчас, того, что произойдет в будущем, и того, что произошло в прошлом.
Начнем с последнего. Скромность исследователя невозможна при игнорировании прошлого. Сейчас в физике иногда (к счастью, нечасто) встречается некоторое неклассическое чванство, представление, будто студент, прочитавший современный учебник физики, знает больше о мире, чем эти «бедняги» Аристотель и Ньютон. Как говорил Гейне, карлик, стоящий на плечах гиганта, видит дальше1, и Ньютон действительно не знал физики даже по Краевичу2. Однако современная наука требует не только возросшего объема знаний, но и той пластичности мысли, которая зависит от усвоения прошлого. Гейне продолжил фразу о карлике, видящем дальше, чем гигант, заключением: «...но нет в нем биения гигантского сердца». Сердце Игоря Евгеньевича билось в унисон с гигантским сердцем науки в ее прошлом и будущем. Он ощущал движение физики к аристотелевой Physis, к физической картине мира, объясняющей единой концепцией мир во всей его сложности. Отсюда его интерес к новым идеям в физике элементарных частиц, отсюда его порыв к представлению о дискретности импульсного пространства. {218}
Однажды, когда речь шла о некоторых признанных достижениях в физике, Игорь Евгеньевич сказал: «Вероятно, я мог бы сделать нечто подобное и даже кое-что, кажется, сделал. Беда в другом: то, что я могу сделать, меня меньше интересует, чем то, чего я пока не могу сделать». Такая «беда» — удел каждого ученого, которого Оствальд1 в своей классификации отнес бы к романтикам (в неклассической науке все ее творцы относятся в той или иной мере к романтикам).
Пройдут годы, и многие будут знать больше того, что знал Игорь Евгеньевич. Но бессмертие в науке создается не этим масштабом. Пользуясь выражением Жореса, можно сказать, что наука передает будущему не свой пепел, а свой огонь. Он очень ярко горел в сердце Игоря Евгеньевича.
| {219} |
В воспоминаниях есть что-то очень своеобразное, свой «принцип отбора». Ведь об Игоре Евгеньевиче, которого я знал не один десяток лет, можно было бы вспомнить очень многое. С жизнью и творчеством Игоря Евгеньевича связан значительный этап в развитии нашей науки. И индивидуальность исключительная.
А на память приходит совсем что-то не то... Мелочи...
Из далеких студенческих лет двадцатых годов всплывает картина, в которой, казалось бы, нет ничего примечательного. Но почему-то, как будто это было вчера, я так отчетливо вижу в вестибюле Физического института Московского университета не знакомого мне человека: у него возникла какая-то неудача с калошей. Он то скакал на одной ноге за убегающей калошей, то прижимал ее к стенке гардероба. Борьба с калошей продолжалась настолько долго, что так и хотелось сказать ему — ведь надо просто помочь руками и все... Но было ясно, что он хотел надеть калоши таким и только таким способом. Когда пришел успех, он победно осмотрел нас — меня и служителя гардероба, широко улыбнулся и, слегка склонив голову набок, заспешил к выходу. Старый гардеробщик тоже с интересом наблюдал за состязанием с калошей. После он значительно поднял палец и сказал доверительным шепотом: «Игорь Евгеньевич Тамм — приватный доцент Мандельштама», — и снова значительно поднял палец.
В другой раз вскоре я встретил Игоря Евгеньевича на Арбате. Он быстро шел по направлению к Арбатской площади. Я знал — в это время он читал лекции, кажется по механике, во втором МГУ — так тогда называлось учебное заведение на Девичьем Поле. Помня характеристику университетского служителя, ее почтительную значительность («приватный доцент Мандельштама»), я, может, слишком внимательно посмотрел на него. Мне показалось, что он, как и тогда в вестибюле, широко мне улыбнулся и заспешил дальше. Но, глядя вслед поспешно удалявшемуся Игорю Евгеньевичу, я почему-то понял, что улыбался он не мне, а какой-то своей идее, за которой, казалось, он так бежал по Арбату... {220}
Шли годы трудов, исканий, надежд и разочарований — все то, чем наполнены наши будничные и праздничные дни. И вот опять выплывает мелочь воспоминаний. Это было перед самой войной, на Миусах, где тогда помещался ФИ АН. Сидя на подоконнике и дымя папиросой, Игорь Евгеньевич оживленно рассказывал о своих вчерашних лыжных успехах на Ленинских горах. Ему очень хотелось спуститься с какой-то крутой горки, но путь все время был занят ребятишками: они не предполагали, что этот по виду пожилой человек, заросший седоватой щетиной, отважится спуститься с опасной кручи. Наконец нетерпение его было замечено, и кто-то громко воскликнул: «Ну дайте же старичку убиться!». Игорь Евгеньевич с гордостью рассказывал, что он выдержал испытание «и даже не упал там, где обычно падали ребята».
Игорь Евгеньевич никогда не «падал» и в переносном смысле этого слова: он был кристальной чистоты человек.
Обсуждать с ним научные проблемы всегда было очень полезно. Но критиком он был плохим, вернее, не «трудным». Ему мешала его удивительная благожелательность: он быстро становился на вашу точку зрения и развивал перспективы идеи:
— Интересно... очень интересно, — часто (но не всегда) разговор заканчивался такими словами.
— Обязательно расскажите, что получится дальше... Благожелательность эта не была просто холодной вежливостью, и она окрыляла.
Сам Игорь Евгеньевич работал самозабвенно — он вычислял ночами. Он часто приходил в институт усталый до изнеможения, но полный надежд в еще не завершенных расчетах. Он и здесь вел непрерывные упорные «состязания». Иногда после многих дней попыток «калоши» так и не надевались. И он говорил: «Ну, сегодня идея лопнула окончательно». Но появлялась новая идея...
Большое счастье для Игоря Евгеньевича, что около него всегда был такой человек, как Наталия Васильевна, с ее тактом, спокойной рассудительностью. Чувствовалось, что Наталия Васильевна как-то дополняет до жизненной целостности образ Игоря Евгеньевича, что Игорю Евгеньевичу необходима ее помощь. Речь идет не о той помощи, которая, может быть, была бы полезна в вестибюле Физического института... Речь идет о значительном и важном в жизни Игоря Евгеньевича, и здесь понималось, что Наталия Васильевна была ангелом-хранителем Игоря Евгеньевича.
В памяти есть какая-то своя логика. Может быть, эта логика памяти и отбирает то существенное, что субъективно видится в этих воспоминаниях.
| {221} |
С Игорем Евгеньевичем Таммом (или, как мы его тогда звали, Горкой Таммом) мы учились в елизаветградской классической гимназии и одно время были даже соседями, дружили «через забор». Отец его, Евгений Федорович, служил городским инженером «Водосвета», иначе говоря, ведал электростанцией и водопроводом. Контора «Водосвета» находилась на Петровской улице и помещалась на первом этаже двухэтажного дома, а наверху была квартира семьи Тамма. У Евгения Федоровича и его жены Ольги Михайловны было трое детей: дочь и два сына, старшим был Игорь. По сравнению со сверстниками Горка Тамм был ниже среднего роста, коренастый, крепкого телосложения рыжеватый блондин с энергичными чертами лица, как и у его отца, но цвет волос и широкий овал лица унаследовал, видно, от матери. Движения у него отличались какой-то порывистостью. Он был одним из первых учеников, из класса в класс переходил с похвальным листом. Приведу два забавных случая с ним во время учебы в гимназии.
На одном из уроков учитель П.Е.Брыкало затронул вопрос о национальной принадлежности каждого из нас и о том, какими признаками мы руководствуемся для ее определения. Все нам казалось ясным и понятным, пока дело не дошло до Игоря Тамма. Он искренне недоумевал, к какой национальности себя причислить: дед по отцу — выходец из Тюрингии, а мать по одной линии — украинка с примесью крымской татарской крови, по другой — из обрусевшего грузинского рода... Сам же родился и крещен во Владивостоке. Обсуждая эту ситуацию, мы пришли к общему выводу, что Игорь Тамм должен считать себя русским, ибо мыслит и говорит по-русски.
Второй случай произошел на уроке латинского языка. Преподавателем латыни был глубокий старик П.Д.Дубняков, придерживавшийся устарелых правил преподавания и отношения к ученикам (однако большой знаток предмета, в чем мы быстро убедились на практике). Однажды неожиданно для нас пожаловал на его урок одесский окружной инспектор Бракенмейер. Не обращая на учеников никакого внимания, он с места в карьер заговорил с Дубняковым по-латыни. Беседа {222} продолжалась до конца урока. Мы все буквально рты разинули и, затаив дыхание, слушали их диалог.
По окончании четверти Дубняков зачитал нам выставленные отметки, в которых фигурировали в качестве оценок нули с минусами, единицы с плюсом и минусами и так далее, вплоть до троек включительно. Когда Гора Тамм услышал, что ему вывели тройку, он сейчас же поднял руку и попросил вызвать его для исправления отметки. Дубняков удивился и сказал: «Исправлять нечего. Тамму и так поставлена лучшая оценка для ученика, я сам знаю латынь на четыре. И только господь бог может знать на пять. Если же Тамму этого мало, то могу добавить ему еще плюс». Надо полагать, потом на педагогическом совете внесли некоторую ясность, так как в табелях стояли уже нормальные оценки.
В квартире Таммов имелся вместительный зал, который мы решили приспособить для проведения домашних спектаклей. На время постановок оборудовалась сцена по всем театральным правилам: с помостом, электрической рампой, занавесом и т.д. Режиссировал гостивший у Таммов родственник матери Игоря отставной военный Кобылянский. Знакомые родителей и гимназические приятели охотно посещали наши спектакли, они пользовались успехом даже среди взрослых зрителей. Ведущими «артистами» были мы с Игорем.
Вспоминается неприятный случай. Я в то время увлекался силовой гимнастикой, велоспортом и, подражая Суворову, спал на холоде, после горячей ванны выходил голым на мороз, обтирался снегом, не признавал пальто и вообще теплой одежды, зимой ходил в одной курточке. Гора решил последовать моему примеру и тоже перестал надевать пальто, в результате чего схватил сильную простуду, чуть ли не воспаление легких. Убедившись, что никакие уговоры на меня не действуют, отец Игоря обратился к директору гимназии с просьбой запретить мне приходить на занятия без пальто в холодное время года, что и было выполнено со всей административной строгостью. Пришлось, опять же по примеру Суворова, пальто носить в руках, а при входе во двор гимназии надевать его и застегивать на все пуговицы. Однако Игорю после выздоровления от такой закалки пришлось отказаться.
В реальных училищах тогда физику проходили по курсу Краевича, по математике — анализ бесконечно малых величин, аналитическую и начертательную геометрию, а естествознание преподавали во всех классах. В отличие от них в классической гимназии ограничивались учебником Краевича, по математике — только арифметикой, алгеброй, геометрией и тригонометрией, а естествознание изучалось лишь {223} в первых трех классах. Зато большое внимание уделялось русской словесности, древним языкам: латинскому, церковно-славянскому и греческому (последний — для желающих), изучались и такие предметы, как логика, психология и законоведение.
Гимназическая учебная программа давала не столько глубокие, сколько широкие знания. Она мало была приспособлена для изучения точных наук и биологии на физико-математическом факультете университета и его естественном отделении. Кроме того, учителя по физике не могли особенно заинтересовать учеников чисто формальным изложением предмета. Поэтому я думаю, что Игорь Тамм избрал себе специальность скорее всего под авторитетным воздействием своего отца, весьма энергичного и знающего инженера, крупного специалиста. После революции его перевели из Елизаветграда в Киев на ту же должность, но с большим масштабом деятельности.
По окончании гимназии в 1913 г. мы разъехались в разные стороны для получения высшего образования. А летом 1914 г. вспыхнула первая мировая война.
Прошло тридцать с лишним лет, пока мы опять встретились. Игорь Евгеньевич Тамм был уже профессором теоретической физики в Московском университете, а я (после эвакуации) работал старшим зоотехником Бирюлинского зверосовхоза под Казанью. Помог нам встретиться наш общий гимназический товарищ и большой друг профессор Борис Михайлович Завадовский. Мы с ним иногда переписывались. Находясь в командировке в Москве, я зашел навестить Борю Завадовского, который жил тогда в многоэтажном угловом доме недалеко от станции метро «Красные ворота». Как оказалось, в этом же доме, но с другого подъезда жил и Гора Тамм. Завадовский сейчас же справился по телефону, и мы отправились к Таммам. Произошла трогательная встреча, причем Игорь сразу же задал мне вопрос: «Помнишь, как мы разводили голубей и ты на пари выиграл у меня голубятню?» Я, конечно, этого не забыл. Потом пошли и другие воспоминания гимназических лет. Игорь Евгеньевич был женат на бывшей гимназистке Наташе Шуйской, нашей общей знакомой. С ее братом Кирюшей Шуйским мы учились в одном классе. Позднее, когда я бывал в Москве, то заходил не только к Завадовскому, но и к Таммам.
| {224} |
Эти слова древнеримского сенатора Катона Старшего, которыми он заканчивал все речи, любил вспоминать Игорь Евгеньевич. В отличие от Катона у него был не один «карфаген», а много, больших и малых, и, разумеется, другого свойства. Тамм был деятельно непримирим к явлениям, мешавшим, по его мнению, нормальному развитию науки. Часто находился «карфаген», разрушение которого было настоятельно необходимо, как ему казалось, для создания на его месте чего-либо более совершенного и полезного. И Игорь Евгеньевич отдавался борьбе, не жалел сил и побеждал в конце концов. Состояние постоянной созидательной борьбы и стремления к цели в сочетании с активным интересом ко всему происходящему, с высокой требовательностью к себе и с необыкновенной душевной щедростью было его отличительным свойством. Общение с И.Е.Таммом было счастьем и давало исключительно много. Подвижный, он стремительно перемещался мелкими шагами с места на место, оживленно обсуждая тот или иной вопрос, выдвигая аргументы и контраргументы, стараясь понять и поддержать собеседника (если для этого удавалось найти хоть какие-нибудь основания). Беседы с ним всегда оказывались поучительными и полезными в научном отношении. Игорь Евгеньевич обладал даром держаться таким образом, что, как бы круто он ни критиковал, после разговора возникала новая вера в свои силы и возможности. Тамм никогда не подавлял собеседника интеллектом и эрудицией, да и не стремился к этому. Он не скупился на добрые слова. Помню, как в 1949 г. меня — студента четвертого курса университета — он впервые пригласил к себе домой, на улицу Чкалова. Я рассказывал ему что-то о дифференциальных уравнениях, которые научился тогда быстро решать, раскладывая оператор уравнения на множители. Казалось бы, мелочь совершенная. Но Игорь Евгеньевич внимательно слушал, проверял на примерах и сказал в конце: «Вы обогатили меня». Тут же он предложил тему интересного исследования. Я был несказанно счастлив. {225}
Игорь Евгеньевич всегда помогал во всем. Он связал меня со своими учениками и сотрудниками, с Е.Л.Фейнбергом, с С.З.Беленьким и другими, познакомил и с И.Я.Померанчуком1, всегда морально поддерживал, боролся за то, чтобы я получил возможность заниматься научной работой, и добился этого.
Игорь Евгеньевич был глубоко не удовлетворен, особенно в последние годы, локальной квантовой теорией поля. Его не устраивало многое, особенно процедура перенормировок. Вот его слова, услышанные мной в 1968 г.: «Принципиально неудовлетворительна теория, в которую вводятся принципиально ненаблюдаемые величины, затем искусственно из нее устраняемые». Он искал другие пути. Это неприятие традиционной локальной теории поля началось у него давно, в начале пятидесятых годов. В октябре 1955 г. я отправил ему письмо, в котором шла речь о применении метода суммирования Бореля к расходящимся рядам теории возмущений. В ответ «постараюсь свести Вас с И.М.Гельфандом2»). Он делает сноску в письме: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (при всем том я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. — Авт.). Впрочем, еще более определенно, чем раньше, убежден, что современной теорией нужно заниматься только за неимением лучшего — нужна принципиально новая теория».
Игорь Евгеньевич был всегда доволен, когда какой-нибудь, пусть даже совсем малый, «Карфаген» удавалось ему победить. В 1956-м, по-моему, году в Электрофизической лаборатории АН СССР (ныне Лаборатория высоких энергий Объединенного института ядерных исследований) , руководимой Владимиром Иосифовичем Векслером, был организован семинар, на который был приглашен Игорь Евгеньевич. Он приехал в Дубну (тогда Большую Волгу-2) на академическом «ЗИМе» в сопровождении нескольких человек из Москвы. В центре поселка по его приглашению в машину набилось еще чуть ли не десять молодых физиков. Трудно себе представить, как все уместились. Сидели, конечно, на коленях друг у друга. Автомобиль подъехал к проходной, и мы собрались выйти, чтобы предъявить пропуск. Игорь Евгеньевич остановил нас и велел остаться в машине. Подошедшему вахтеру он выкрикнул нечто непонятное, но очень решительным тоном. Тот, опешив, пропустил всю набитую людьми машину. Мы были ошеломлены, но как по-детски радовался Игорь Евгеньевич! Он любил побеждать {226} в большом и в малом, в решении научных проблем, в покорении горных вершин, в шутках и в шахматах. Впечатление, произведенное им на представителя охраны, тоже доставило ему маленькую радость.
Вот еще один эпизод, рассказанный В.И.Руськиным1. Однажды летом в 50-х годах Тамм отдыхал на Иссык-Куле. Во время одной из прогулок по берегу озера, когда он увлеченно рассказывал что-то своему молодому собеседнику - физику, им преградил дорогу ручей. Не прерывая объяснений, Игорь Евгеньевич разбежался, прыгнул и... приземлился почти на середине ручья. На замечание спутника, что рядом через ручей положены доски, от ответил: «Вы что же, молодой человек, думаете, что я их не видел? А я ведь здесь прыгаю уже не первый раз. Этот ручей необходимо перепрыгнуть».
Игорю Евгеньевичу не раз приходилось бороться с тем или иным препятствием, мешавшим привлечь к научной деятельности молодых физиков, подающих надежды. Сколько энергии, времени и страсти вкладывал он в эту борьбу! Как расстраивался при неизбежных временных неудачах! И уж совершенно неоценимой была его моральная поддержка. Даже сама мысль о предстоящей встрече с Игорем Евгеньевичем давала огромный запас бодрости.
Светлые воспоминания об Игоре Евгеньевиче помогают в трудные минуты и всегда радостны.
| {227} |
Я сохранил яркие воспоминания об Игоре Евгеньевиче Тамме. Их немного, так как мне не пришлось работать вместе с ним или общаться длительное время.
Первое, что бросалось в глаза при встрече с ним, — его жизнерадостность и подвижность. Эти черты проявлялись в мгновенности его реакции и живом интересе к любой проблеме как в физике, так и вне ее, в быстром схватывании сути того, что кто-либо пытался ему сказать, и даже в его чисто физической неугомонности и быстроте движений.
Я бережно храню фотографию, снятую во время его доклада на конференции по физике в Одессе в 1930 г. Тогда я впервые встретил Тамма. Фотоаппарат у меня был довольно слабенький. Хотя света в аудитории оказалось достаточно для того, чтобы все остальные лица вышли четко в фокусе, изображение быстро движущегося Тамма получилось на ней в виде нечеткого мазка.
Однако вскоре становилось ясно: его быстрота отнюдь не была свидетельством поверхностности. Он очень глубоко понимал физику, как старую, так и новую. В то время многие молодые физики, преисполненные энтузиазма под воздействием идей новой квантовой механики, считали все сделанное до 1926 г. старомодным и бесполезным. Но Тамм знал, как соединить изящные построения нового метода с глубоким содержанием старого. И у него всегда можно было поучиться пониманию этой взаимосвязи.
При многих последующих встречах во мне крепло уважение к его глубокому пониманию человеческих проблем. Тамм привносил в них ту же скромность и уравновешенность, с какими он подходил к решению физических проблем. Как только у него складывалось мнение о том, что правильно, а что неправильно, он начинал действовать без всяких колебаний, как если бы он боролся за физическую истину. Это проявлялось и на Пагуошских конференциях, где нашей общей заботой {228} стали проблемы сохранения мира и предотвращения гибели человечества. Его участие в этих встречах всегда оживляло их.
В последний раз я посетил Тамма летом 1969 г., когда его здоровье было уже заметно подорвано болезнью. Двигался он теперь медленно, но ум, как и прежде, реагировал очень быстро. Несмотря на все тяготы (на которые никогда не жаловался), он упорно занимался расчетами, связанными с некоей новой идеей в физике элементарных частиц. Мир был бы лучше, если бы нас окружало побольше таких людей, как Игорь Евгеньевич.
| {229} |
Когда кто-нибудь называл его своим учителем, у меня всегда возникало внутреннее сопротивление: Игорь Евгеньевич — учитель, наставник? Нет, эти понятия к нему не подходили. Из сорока пяти лет нашего знакомства двадцать пять я работала в его отделе. Вглядываясь в бесконечную ленту воспоминаний о совместной работе, о путешествиях, веселых майских лодочных походах, бесчисленных воскресных прогулках с обязательным волейболом в лесу — ив дождь, и в грязь, и даже в снег, не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он кого-нибудь наставлял, поучал. Игорь Евгеньевич мог спорить, кипятиться, возмущаться, протестовать, но никогда не пользовался ни своим старшинством, ни своим положением.
А вот учиться сам он был готов всегда. Учился по-крупному и у своих учеников: услышал доклад Володи Файнберга о новой формулировке квантовой электродинамики Фейнмана, пришел в восторг, призвал всех овладеть этой методикой и сам первый сдал Файнбергу зачет по всей форме.
С тем же пылом он был готов учиться и по мелочам: чему-нибудь и у кого-нибудь. Увидел на лыжной прогулке, что встречный мальчишка подпрыгнул на лыжах и перевернулся на 180°, — и вот он уже загорелся: прыгает, прыгает. Учился стоять на голове (в шестьдесят лет!), прыгал через канавы с водой...
Вспоминаю наше первое совместное путешествие на Алтай в 1926 г. Игорь Евгеньевич назвал его своим боевым крещением — именно здесь, на леднике Белухи, он на всю жизнь «заболел горами». У меня в руках подробнейший путевой дневник, который Н.Н.Парийский вел на Алтае. И передо мной встает не только Алтай того времени — дремучий край казачьих станиц, кержацких заимок, киргизов-кочевников с их огромными стадами овец на горах, — но и живой Игорь Евгеньевич.
Молодой? Вот этого как-то не вижу. Мне кажется, что, попади он в такие же условия через десять, через тридцать лет, остался бы таким {230} же. Все люди меняются со временем, иногда меняются неузнаваемо. Но ему удалось сохранить единый образ на всю жизнь.
При подготовке к семидесятилетнему юбилею И.Е.Тамма мне приходилось обращаться к десяткам людей с самыми разнообразными, иногда для них неожиданными просьбами. И я была тогда изумлена, что ни разу не встретила отказа. Обычно был один до удивления стереотипный ответ:
— Для Игоря Евгеньевича? Какой может быть разговор?! Конечно, я сделаю все, что могу!
Чем же все-таки вызвал он такое отношение? Однажды он сказал нам:
— Старички бывают двух родов — одни замыкаются в себе, а другие расплываются во все стороны. Я принадлежу ко второму роду.
Но это неверно. Неверно потому, что он вообще никогда не стал «старичком», сохранив молодость до конца, и именно потому привлекал сердца людей.
Игорь Евгеньевич удивительно легко и весело мог отдыхать (а ведь эта черта совсем не так часто встречается сейчас даже среди молодых ученых). С пылом и жаром отдавался всяким играм: играл в шахматы, в «словобой», в «литературные типы». Но больше всего он любил шарады. Шарадные действа у нас расцвели особенно пышно, когда подросли и стали студентами наши дети. В них участвовали уже два поколения. Игорь Евгеньевич никогда не занимался постановкой, режиссурой, хотя не отказывался и играть, когда это было необходимо. Но больше всего он любил смотреть, а зрителем был таким восторженным, что воодушевлял исполнителей. У нас среди молодежи были настоящие артисты: у меня перед глазами до сих пор стоит нахальный беспризорник в вагоне поезда, которого изобразил Женя Тамм.
Помню, как мы ехали в машине, и Игорь Евгеньевич с увлечением говорил Г.С.Ландсбергу:
— Я не променяю ни один театр на эти шарадные зрелища. Ведь, понимаете, дается только наметка действия, а дальше идет живейшая импровизация! Ведь это же настоящая commedia deirarte! Приходите, вам обязательно надо это посмотреть!
В наше время многие научные работники стараются как-то изолировать себя от «излишней информации». В отличие от них Игорь Евгеньевич всегда был открыт для всего. Все новое его привлекало до самых последних дней жизни. Все одержимые какими-то идеями люди шли к нему и находили живейший отклик. Кто только не приходил и чем только с ним не делился! Потом он обыкновенно пересказывал это во время воскресных прогулок, когда приходил битком набитый всякими новостями... Речь шла и о телепатии, и о пещерах с сокровищами, {231} и о курганах в лесах вокруг его дачи, которые «совершенно необходимо» раскапывать.
Но, конечно, у него были и серьезные увлечения. Отвлекаясь от основной работы, Игорь Евгеньевич отдавал им и время, и силы: биологии, биофизике, а особенно генетике, которой он помогал всем, чем можно и невозможно. Даже готов был драться в самом буквальном смысле слова. Ведь он первый при огромном стечении народа — и физиков, и биологов — в Институте физических проблем докладывал об открытии Уотсоном и Криком двойной спирали ДНК...
Наталия Васильевна как-то сказала мне:
— Игорь Евгеньевич был, есть и будет моим самым тяжелым ребенком!
И я хорошо понимала ее. Как страшно падал он, спускаясь на лыжах с гор! Один раз грохнулся спиной на какой-то пень, и у него образовалась огромная гематома; в другой — рассек себе бровь, глаз распух, кровь лила, а Игорь Евгеньевич во что бы то ни стало хотел еще раз съехать с той «ерундовой горки», ездил в Бакуриани и потом смеялся и говорил жалобно:
— Посмотрите, я стал совсем асимметричным — так много мне пришлось падать на один бок, а на другой я не умею!
Природа не одарила его исключительными физическими данными. Был он и не особенно силен, и не особенно ловок. То, что доставалось другим с легкостью, требовало от него большой силы воли, настойчивости, смелости. Игорь Евгеньевич не умел и не хотел рассчитывать силы. Жил на их пределе, а иногда и выше предела, как, например, по-моему, при тяжелых альпинистских восхождениях.
А как он работал! Я вычисляла для него, когда он занимался разработкой своей изобарной теории, и мне часто приходилось приходить к нему домой, потому что он всегда работал у себя. Придешь, кабинет его полон дыма — не успел проветрить. Наталия Васильевна жалуется: работает до рассвета, курит, кашляет, встает в десять и опять работает — и так каждый день. Ничего невозможно сделать.
Огромный стол завален грудой бумаг, исписанных характерным острым высоким почерком. Но грудой она кажется только на первый взгляд. На самом деле бумаги разложены по всему столу в виде какого-то грандиозного пасьянса. Хозяин кабинета никогда не искал нужного ему листа — он всегда знал, где что лежит.
Счет у меня тогда был безумным: ведь электронных машин еще не существовало, считали на «Мерседесах». Нужно было подыскать четыре параметра, а для каждой точки — просчитать формулу протяжением на семи (без преувеличения) страницах. А точки эти, оказывается, должны лежать на экспериментальной кривой резонансного {232} рассеяния пионов. Вот приходишь к нему, и выясняется: какая-нибудь точка выскакивает. Не успела я над ней поработать, Игорь Евгеньевич смотрит на меня просительно: «Может, можно немножко подвинуть, а?»
Он не давал никаких советов. Уважая самостоятельность своих сотрудников, он просто просил. Но меня просить не надо: я и так стала фанатиком, ведь это заразительно. Изобарная теория была в конце концов разработана, напечатана, доложена на международном симпозиуме.
В последние годы И.Е.Тамм хотел найти непротиворечивую квантовую теорию поля. Он сам называл эту работу «лотереей с ничтожным шансом на успех», работал над ней до последних дней, исписывал груды бумаги — и все без ожидаемого выхода.
Я упоминала здесь о молодости и юношеском пыле, которым отличался характер Игоря Евгеньевича. Но в его манере держаться не содержалось чего-либо ребяческого. Он был превосходно воспитан (и недаром, как говорят, имел большой успех при дворе шведского короля, когда получал Нобелевскую премию).
Мои ровесники-физики всегда за глаза называли его Игорем. Но только за глаза. Как-то чувствовалось, что он не любил панибратства. Даже не могу припомнить, был ли Игорь Евгеньевич с кем-нибудь «на ты». А хамства он не выносил. Я сама видела, как он управился с юнцом в сером костюмчике, который, развалясь в кресле, предложил ему расписаться на какой-то бумаге. Он остановился перед ним и тихим (тихим!) голосом сказал: «Встать, когда вы говорите со старшим!!!» И юнец буквально взвился! А Игорь Евгеньевич прошел мимо него и закрыл дверь. Это было великолепно.
Но то было уже давно, в последние годы пребывания нашего отдела на Миусах. Мне же хочется еще рассказать и о том времени, когда мы переехали в новое здание и заняли несколько комнат на верхних этажах над библиотекой. Тогда в отдел была принята целая группа молодых физиков, которые теперь представляют костяк Теоротдела. Затем все другие отделы и лаборатории беспрерывно расширялись и разрастались, а наш отдел практически не рос. Думаю, это было желание и Тамма — только аспирантов и прикомандированных становилось все больше, и они толпились по коридорам и по лестницам.
У нас сейчас бытует некий, так сказать, образ «хорошего руководителя — начальника»: он прекрасно знает всех своих подчиненных, входит в их заботы, помогает им, опекает их, дает советы, следует за ними.
Нет, Игорь Евгеньевич отнюдь не был таким идеальным руководителем. Организационная стихия была ему вообще, по-моему, совершенно {233} чужда. Конечно, он обсуждал самые важные вопросы, возникавшие в отделе, со своими ближайшими товарищами по руководству. Но вряд ли он особенно был осведомлен о том, в каком положении была работа у каждого сотрудника. Да и сотрудники его были совершенно самостоятельными и ценящими свою самостоятельность людьми. Конечно, если бы кто-нибудь обратился к нему за советом, то он бы охотно ему помог. Но, по моим многолетним наблюдениям, к нему редко подходили с вопросами. Слишком все ценили его время и его работу. Однако если кто-нибудь узнавал что-либо новенькое по науке — все равно из какой области, вот тут уж бежали к нему поскорее рассказать, зная, как радостно Игорь Евгеньевич встречает всякую новость.
Да, он не был «настоящим идеальным руководителем», но его честность, бескомпромиссность в важных делах, его самоотверженная, а в конце жизни по-настоящему героическая работоспособность делали его честью и совестью Теоротдела, его душой. Нам, знавшим его много лет, забыть это невозможно. Хотелось бы хоть как-нибудь передать свои чувства тем молодым товарищам, которым не довелось с ним работать.
| {234} |
Таммы и Мандельштамы. В конце 20-х — начале 30-х годов в квартиру Мандельштамов на первом этаже старого здания физфака МГУ был вход через парадное крыльцо в садике напротив химического факультета. Но была и вторая, обычно открытая дверь, соединявшая квартиру с Институтом физики МГУ. Узкий короткий коридор вел и в две комнаты Оптической лаборатории, и в главный коридор первого этажа физфака, где по обе стороны были комнаты нескольких лабораторий Института.
Из института днем приходили по делу, а к вечернему чаю и без особых дел — Игорь Евгеньевич Тамм, Григорий Самуилович Ландсберг, Фрида Соломоновна Ландсберг1, Михаил Александрович Леонтович. Николай Дмитриевич Папалекси, когда бывал в Москве, тоже часто приходил в часы вечернего чая. Была здесь и молодежь. И уже непременно молодые Исаковичи2 — племянник и племянницы Мандельштамов, а с ними и я. В том, старом понимании вечерний чай — действительно чай. К нему подавали хлеб, масло, сыр, иногда колбасу. В это время обычно выходил из своей комнаты Леонид Исаакович. Беседа велась обо всем, чем жили семьи, кафедры, лаборатории, университет, Академия наук, страна, весь свет. С большим вкусом рассказывались забавные истории. За этим столом ни у кого ни от кого не было никаких секретов. О делах и о жизни здесь говорили все, что думали. Одна тема сменяла другую, неизменной оставалась лишь бескомпромиссность оценок.
Леонид Исаакович тогда ничем не заведовал, не имел ни своей кафедры, ни лаборатории, вел семинар (каждый год на новую тему) и руководил коллоквиумом. Эти семинары оказывали существенное влияние на планы и содержание ряда курсов, читавшихся на физическом факультете МГУ, на издание монографий и учебников, а также на тематику исследований НИИФ (Научно-исследовательского института физики) МГУ. {235}
Л.И.Мандельштам работал дома и впоследствии, редко выезжая в Физический институт и Президиум Академии наук. Ведущиеся и предстоящие работы обсуждались дома с молодыми сотрудниками и аспирантами — М.А.Леонтовичем, А.А.Андроновым1, С.Э.Хайкиным, Г.С.Гореликом, С.М.Рытовым, С.П.Стрелковым, позднее — с В.В.Владимирским2.
Надо напомнить, что это был период, когда в нашей стране исследовательская и педагогическая работа по физике нуждалась в радикальной реорганизации, в приведении ее в соответствие с новой физической наукой — с теорией относительности и квантовой механикой. Игорь Евгеньевич, руководивший тогда многими работами по теоретической физике в МГУ, а затем и в ФИАНе, принял участие в решении сложнейшей части этой задачи. Трудность состояла прежде всего в необходимости воспитания нового поколения исследователей и педагогов, способных работать в сфере современных научных идей. Кроме того, приходилось бороться с влиятельными консерваторами в науке, неучами и демагогами. Люди старшего поколения, связанные общей жизнью, коллеги по совместным конкретным научным работам, по организации важных научных исследований, ведущихся в стране, по перестройке преподавания физики в средней и высшей школе — Л.И.Мандельштам, Н.Д.Папалекси, Г.С.Ландсберг, И.Е.Тамм, в сущности, находились в постоянном контакте. Они не были одиноки. В этой перестройке, если говорить о Москве, большие заслуги принадлежат и другим выдающимся физикам, прежде всего профессору физического факультета МГУ С.И.Вавилову3. Но это заслуживало бы особого и обстоятельного рассказа.
Хотя Игорь Евгеньевич был меньше других связан с Леонидом Исааковичем тематикой своих работ, как мне помнится, они постоянно совместно обсуждали общие принципиальные вопросы, новые идеи, высказываемые видными учеными, а также дела на факультете и в институте и подлежащие решению научно-организационные вопросы.
Ландсберг в ужасе. В 20–30-е годы ученые привозили из заграничных командировок иное: книги и лабораторные материалы. Как-то Григорий Самуилович Ландсберг приобрел в Германии пачку фотопластинок «Ильфорд-Монарх», тетрадь миллиметровой бумаги, {236} баночку вакуумной замазки, палочку пициина и (самое важное и дорогое) кварцевую трубку длиной приблизительно шестьдесят сантиметров, с толщиной стенок два миллиметра и внутренним диаметром в три сантиметра. Эта трубка прозрачного плавленого кварца предназначалась для изготовления «рога Вуда» в опытах по рассеянию света.
Представьте себе теперь лабораторную комнату: шкаф с приборами, письменный стол, три стула, ртутный вакуумный насос, работающий с некоторым шумом, два лабораторных стола — один с собранной экспериментальной установкой, другой со всякой лабораторной мелочью. Там, несколько с краю, отдельно лежит бесценная кварцевая трубка. Григорий Самуилович в белом халате сидит за письменным столом и чертит «рог Вуда». В лабораторию входит Игорь Евгеньевич и уже в дверях начинает разговор. Проходя между шкафом справа и лабораторным столом слева, он берет, почти не глядя, красивую блестящую кварцевую трубку и, небрежно помахивая ею, продвигается вперед к письменному столу. Григорий Самуилович, вставший было с приветливой улыбкой навстречу Игорю Евгеньевичу, каменеет, увидев в его руке кварцевую трубку, конец которой описывает смертельно опасные для нее мертвые петли.
Григорий Самуилович знал, очевидно, то, как следует уводить с балкона маленького ребенка, не понимающего опасности: нужно медленно подходить к нему на расстояние вытянутой руки, тихо и нежно разговаривая. Так он и проделал. В надлежащий момент он взял в руку кварцевую трубку, поближе к тому месту, где ее держал Игорь Евгеньевич, незаметно, продолжая разговаривать, освободил ее из его пальцев, повернулся, открыл шкаф, положил туда трубку, запер шкаф на ключ и в полном изнеможении опустился на стул. Вся сцена прошла незамеченной «главным героем». Удовольствие получил только я.
Игорь Евгеньевич залезает на дерево. Игорь Евгеньевич считал невозможным для себя чего-то не уметь или перед чем-нибудь остановиться. Смотреть, как другие съезжают с горы на лыжах? Это невозможно! Нужно немедленно очертя голову кинуться вслед. Ну, а если спуск завершится ушибами и переломами? Все равно — не стоять же наверху! Однажды мы гуляли по лесу. Я спросил у Игоря Евгеньевича, кто из нас быстрее влезет вот на то дерево. Вместо ответа он допрыгнул до нижнего сука и стал изо всех сил забираться вверх.
Как-то летом на дачной дороге мальчик Дима (теперь Владимир Игоревич Арнольд1) лихо проехал мимо на велосипеде, Игорь Евгеньевич, желая показать не худший класс езды, немедленно попросил уступить ему велосипед. Поначалу вышел конфуз — штанина попала в цепь передачи. Но потом, поднявшись с земли, он получил полное удовольствие: так ловко он поехал... {237}
Таммы и ленинградцы в 1942 г. Когда во время войны стала возможной эвакуация из блокадного Ленинграда, большая группа научных работников и их семей была доставлена в Казань, там с осени 1941 г. работали московские институты Академии наук СССР. Приезжих поместили в огромном спортивном зале Казанского университета, прикрепили к столовым и лечебным учреждениям академии. Сотрудники академии и университета в меру сил заботились о ленинградцах, перенесших большие лишения, потери близких людей. Наталия Васильевна и Игорь Евгеньевич Таммы поступили по-своему: они просто взяли к себе больную плевритом ленинградку — женщину с маленьким ребенком и делились тем немногим, что было у самих. Большой семье Таммов (с ними были дедушка и двое детей-подростков) жилось нелегко, но все трудились и думали не о трудностях.
Кстати, чтобы не забылось: сын Игоря Евгеньевича (тогда школьник) работал шофером на грузовике, а дочь оформляла описания оригинальной спектрально-аналитической аппаратуры, изготовлявшейся для нужд оборонной промышленности в Оптических мастерских Академии наук. Тамм тоже принял участие в этой работе, рассчитав осветительную конденсорную систему спектральной установки.
Стыдно. Когда Игоря Евгеньевича избрали академиком (хотя в глазах многих «неизбранным» академиком Тамм был уже давно), как-то он обратился с просьбой к Наталии Александровне Райской: «Я получил много денег, мне неприятно, что я один буду этим пользоваться, я хотел бы помогать кому-нибудь, лучше всего дать возможность учиться». И одна хорошая девчушка, жившая в подвале с матерью-дворничихой и со слепой маленькой сестренкой, получила возможность учиться и закончить институт. Наталия Васильевна или Игорь Евгеньевич регулярно раз в месяц привозили деньги Наталии Александровне (лишь иногда приходилось заезжать за деньгами). Ни Тамм не знал, кто эта девушка, ни она не знала, кто ей помог в жизни.
С отвлеченными рассуждениями Игоря Евгеньевича не всегда и не во всем можно было согласиться без возражений и оговорок, но его реакции на конкретные события и поведение людей были всегда безошибочны и мгновенны, происходили автоматически, под действием какого-то необычайно тонкого и точного механизма. Казалось, для них не требуется затраты ни времени, ни умственной энергии. Нельзя допустить забвения того, что Игорь Евгеньевич, не зная страха и промедления, всегда был впереди во всех сражениях за полноценную и честную физическую науку в нашей стране. Многие важнейшие успехи современной отечественной физики являются отдаленными последствиями этой деятельности Игоря Евгеньевича. След Игоря Евгеньевича неизгладим.
| {238} |
В 1951 г. меня направили в руководимую Игорем Евгеньевичем Таммом теоретическую группу, занимавшуюся прикладными задачами. Это было весьма неожиданным, поскольку я только что окончил экспериментальное ядерное отделение физического факультета МГУ и был принят в его аспирантуру. Правда, я интересовался теоретической ядерной физикой, мне были знакомы имена Ландау, Тамма, Фока, и по не вполне ясным соображениям мне хотелось работать именно у Тамма. Но, не считая себя достаточно подготовленным к теоретической физике, я готовился стать экспериментатором. Однако события развивались независимо от моих намерений. Нужно сказать, что, благодаря обширной популярной литературе об атомном ядре, такие советские физики, как Зельдович1, Иваненко2, Ландау, Лейпунский3, Тамм, Флеров4, Петржак5, Харитон6, были известны уже студентам первого курса. Для меня имя Тамма всегда ассоциировалось с проблемой ядерных сил. Оно было особенно привлекательным для тех, кто решил посвятить себя ядерной физике.
Позднее мне стали известны и другие направления, в которых работал Игорь Евгеньевич, особенно в области электродинамики (теория эффекта Вавилова-Черенкова) и в области теории твердого тела. Однако несомненно, что теория ядерных сил, теория сильных взаимодействий элементарных частиц — вот та проблема, которой он {239} посвятил большую часть жизни и над которой он работал с упорством, не знающим предела.
В 1953 г. были опубликованы результаты замечательных опытов Ферми1 по взаимодействию пионов с нуклонами. То, что пионы ответственны за ядерные силы между протонами и нейтронами, было известно уже давно — со времени работы японского физика Юкавы, который в 1935 г., по сути дела, предсказал эти частицы, исходя из свойства короткодействия ядерных сил. Его предсказание опиралось на работу Тамма о том, что ядерные силы между нуклонами возникают в результате обмена легкими частицами, подобно тому как электромагнитные силы между двумя электронами являются результатом обмена фотонами. В 1947 г. пионы были открыты экспериментально. И вот теперь, полученные в опытах Ферми на ускорителе и направленные на протоны и нейтроны, они выдали непосредственную и детальную информацию о своем взаимодействии с нуклонами. Это взаимодействие оказалось резонансным — при некоторой энергии пионов их рассеяние нуклонами было особенно сильным и, кроме того, резко зависело от соотношения зарядов пионов и нуклонов. Полученная информация требовала немедленного теоретического истолкования.
Игорь Евгеньевич высказал идею о том, что при взаимодействии с пионом нуклон может переходить в возбужденное (изобарное) состояние, т.е. в частицу, подобную нуклону, но более тяжелую и с большим разнообразием свойств: у изобары большой угловой момент и четыре зарядовых состояния (а не два, как у нуклона, у которого они соответствуют протону и нейтрону). Описанием движения частиц с высшими спинами Тамм занимался ранее вместе с В .Л. Гинзбургом. Теперь нужно было рассмотреть взаимодействие таких частиц с пионами и с его помощью описать рассеяние пионов на нуклонах.
Обширное исследование было успешно проведено Игорем Евгеньевичем вместе с его сотрудниками. Но этим программа, намеченная им, не ограничивалась. Нужно было рассмотреть также влияние нового, изобарного состояния на электромагнитные взаимодействия нуклона. Такое влияние должно было проявиться при взаимодействии фотонов с нуклонами, при котором рождаются пионы, а также при упругом рассеянии фотонов нуклонами. По предложению Игоря Евгеньевича я занялся теорией фоторождения пионов на нуклонах.
Мне казалось, что он будет следить за ходом моих расчетов, исправлять ошибки и указывать дальнейшие правильные шаги. Ничего этого не было. Лишь в самом начале Игорь Евгеньевич выписал мне {240} функцию, определяющую свободное движение изобары, и найденный им когда-то оператор (иногда его называют оператором Тамма — Казимира1), облегчающий расчеты. Остальной «заряд» придавали интенсивнейший труд самого Игоря Евгеньевича, а также его рассказы о полученных им и его сотрудниками результатах. Примерно через год работа была закончена и хорошо описала полученные к тому времени экспериментальные результаты.
Правильность изобарной идеи Тамма была подтверждена.
Когда я полностью перешел на физику элементарных частиц, стал регулярно участвовать в работе руководимого Игорем Евгеньевичем теоретического семинара, то понял, что его прежде всего интересует общая идея и физические принципы обсуждаемой проблемы. Деталями вычислений он интересовался мало (хотя сам блестяще владел математическим аппаратом), зато мог уловить, подчеркнуть физическую суть того, что излагали или делали другие. Очень многие работы нам становились понятными после разъяснений и резюме Игоря Евгеньевича. Актуальность и принципиальность проблемы имела для него первостепенное значение. Именно поэтому он занимался ядерными силами, двумя видами термоядерного синтеза (взрывным, т.е. ядерным оружием, и управляемым), поисками внутренне замкнутой квантовой теории (без «расходимостей»). Характерно, что гипотезы, которые высказывал Игорь Евгеньевич, были всегда конкретными: их можно было подтвердить или опровергнуть сравнением результатов работы с опытом или легко подвергнуть логическому анализу.
Когда один из его старших учеников увлекся космологией и высказал несколько довольно абстрактных идей, Тамм поделился со мной удивлением и сожалением по этому поводу, говоря, что эти гипотезы невозможно ни доказать, ни опровергнуть в обозримое время. Безусловно, такое мнение определялось страстным темпераментом Игоря Евгеньевича, который в равной степени получал удовлетворение как от самого творческого процесса, так и от его результата. Однако некоторые физики получают удовлетворение лишь от внутренней красоты и гармонии своей идеи и не заботятся о ее понимании другими или подтверждении конкретными результатами.
В 1953 г. основная задача деятельности по водородному оружию была выполнена и были проведены успешные испытания установки, над которой мы работали (я в то время был в отпуске). Игорь Евгеньевич искренне радовался успешному завершению дела. Мы случайно встретились с ним в Гаграх. Усадив меня в дальний угол морского вокзала в Старых Гаграх, он подробно рассказал о напряженной и {241} волнующей атмосфере, обо всех происходивших тоща перипетиях. Игорь Евгеньевич в новом свете увидел многих знакомых ему людей. Его поразила точность, с какой один опытный экспериментатор визуально установил КПД установки. Он особо подчеркнул большую организаторскую роль ныне покойного В.Ю.Гаврилова1. Впоследствии при поддержке Игоря Евгеньевича Гаврилов успешно занимался организацией Радиобиологического отдела (ставшего затем Институтом молекулярной генетики РАН) при Институте атомной энергии.
Нельзя не упомянуть и о почти физиологической непримиримости Игоря Евгеньевича ко всякой лженауке и ее методам. Он чутко реагировал на подобные методы даже в совсем безобидных случаях. Однажды один из молодых сотрудников Игоря Евгеньевича — назовем его К. — заметил, что новое, слегка вогнутое зеркало для бритья увеличивает лицо в отличие от старого, плоского. Окружавшие его коллеги (дело было в общежитии) решили разыграть К. и заявили, что изображения в обоих зеркалах нормальные. Тогда К. принес оба зеркала на работу и стал показывать их всем сотрудникам по очереди, записывая ответы на листе бумаги. Накопилась статистика. Одни (те, кого успели предупредить) говорили, что изображения в обоих зеркалах одинаковые, другие — что одно из них увеличенное. К. высказал любопытную гипотезу, что, подобно существованию дальтоников, не различающих цвета, существует значительная доля людей, которые не отличают увеличенное изображение от нормального. Когда дело дошло до Игоря Евгеньевича, он не пожелал участвовать в шутке. Его реакция была для нас неожиданной: «Научные вопросы голосованием не решаются», — сказал он серьезно и даже с горечью
Вообще суждения, реакция, поведение Игоря Евгеньевича всегда были непосредственными, искренними и прямолинейными. Иногда он мог вспылить, сделать в резкой (но не грубой) форме замечание сотруднику (будущие академики не были исключением). После таких замечаний Игорь Евгеньевич быстро остывал и, буркнув извинение, переходил к обсуждению текущих дел. Никогда, однако, не слышали от него грубых и тем более нецензурных слов. Наибольшей вольностью, которую он мог себе позволить, была, пожалуй, поговорка: «Да, дела-делишки, мокрые штанишки» (он обычно говаривал ее при обсуждении международных событий). Кстати, в последних его всегда поражала острота межнациональных, а не межгосударственных противоречий.
Многие помнят, что, когда Игоря Евгеньевича просили помочь в каком-либо общественном или житейском деле, он спрашивал: «Что я {242} должен делать?» — и, не откладывая, делал то, что просили. И мне приходилось обращаться к нему за помощью. Впоследствии, через несколько лет, при обращении в Московский совет я был встречен словами одного из его работников: «Да, помню, за вас хлопотал академик Тамм». Последовавшая немногословная резолюция — «Этот вопрос нужно решить» — повернула фортуну. Игорь Евгеньевич, прикованный тяжелым недугом к постели, был искренне рад, когда узнал об этом.
Хотя на протяжении моего двадцатилетнего знакомства с Игорем Евгеньевичем его характер несколько менялся (он, так сказать, «добрел»), он безусловно, оставался самым энергичным, жизнерадостным, полным энтузиазма человеком из всех моих знакомых.
В 1967 г. несколько сотрудников нашего отдела, и я в том числе, собирались на конференцию в Гейдельберг — старинный университетский город ФРГ. Игорь Евгеньевич вспомнил свое пребывание в Германии в молодости. С Гейдельбергом у него ассоциировалось стихотворение, которое он продекламировал по-немецки, а потом предложил мне записать его и использовать в подходящем случае. Записывая, я стал сбиваться на английскую транскрипцию. Увидев это, Игорь Евгеньевич взял ручку и написал стихотворение сам. К сожалению, не знаю автора стихов (впрочем, Тамм его тоже не знал). Смысл их сводится к тому, что веселые студенты старого Гейдельберга не только познают премудрости наук, но и пьют вино, смотрят в воды Неккара (на берегу которого расположен город) и видят там голубые девичьи глаза. Я был поражен как памятью Игоря Евгеньевича, так и охватившей его жизнерадостностью. Он взволнованно стал рассказывать о Германии, о знакомствах со многими тогда молодыми, а ныне всемирно известными физиками, о царившей тогда атмосфере дружелюбия в университетской среде.
История же со стихами имела любопытное продолжение. Устроители конференции организовали грандиозный банкет в старинном зале замка Гейдельберга, на котором с единственной приветственной речью выступил известный английский профессор Пауэлл1. Вино лилось рекой, и спустя некоторое время я тоже почувствовал себя в состоянии произнести приветственный тост (тем более, что наша делегация была первой советской послевоенной научной делегацией в ФРГ). Разумеется, тост подготовил заранее и включил в него упомянутое стихотворение. Благодаря упоминанию об Игоре Евгеньевиче он произносился как бы от двух поколений. К сожалению, я решил {243} посоветоваться с сидящей напротив женой одного французского физика, немкой по происхождению. Прочитав стихотворение, она сказала, что упоминание о голубых девичьих глазах может послужить пищей для проарийских разговоров, и отсоветовала выступать. Это было для меня и моих коллег неожиданным и непонятным. Более того, я получил от нее резкий выговор за то, что поделился ее мнением с одним из наших физиков, не слышавшим разговора. Потом и Игорь Евгеньевич также недоумевал и огорчился, ведь упущен такой удобный случай ответить на гостеприимство.
Игорь Евгеньевич был человеком мужественным. Помню, на меня произвела впечатление, например, такая (с его точки зрения) мелочь, выяснившаяся при нашей встрече в Гаграх. Оказывается, он появился там, пройдя через Кавказский хребет один, без палатки, ночуя в спальном мешке в лесу. Стойкость и твердость духа Игорь Евгеньевич сохранил до конца своей жизни.
Однажды во время моего визита к нему (когда болезнь уже приковала его к дыхательной машине), Наталия Васильевна попросила меня наладить свет на кухне. Я вызвался исправить неполадку, выяснив, что виноваты пробки. Взобравшись в прихожей на стулья, я увидел вместо общеизвестных фаянсовых пробок пластмассовые, неизвестной мне конструкции. Я стал вертеть одну из них под комментарии Наталии Васильевны и дежурившей медицинской сестры. Действовал уверенно: было известно, что дыхательная машина Игоря Евгеньевича подключена к электросети лифта, которая никогда не выключается, даже если свет гаснет во всем доме. Вдруг раздался крик Игоря Евгеньевича — это выключилась дыхательная машина! Прошло несколько ужасных секунд, пока до меня дошло, что нужно, по-видимому, нажать на кнопку, выступающую из пробки. Машина заработала. Подойдя к Игорю Евгеньевичу, я увидел его пристальный взгляд с молчаливым «Эх!». Вскоре все успокоились, возобновились нормальные разговоры.
Заканчивая пестрые воспоминания о Тамме, которые могут служить лишь штрихами к его портрету, мне хотелось бы сказать о главном. Хотя Игорь Евгеньевич оставил нам много замечательных физических работ, по моему мнению, наиболее ценно его страстное отношение к науке, к творчеству. Оно служило примером для остальных. Полное отсутствие какого-либо снобизма, высокомерия или менторства и, наоборот, бережное отношение к малейшей творческой инициативе. Такая атмосфера способствовала естественному формированию индивидуальности ученого и, безусловно, дала замечательные плоды.
| {244} |
В 1928 г. Игорь Евгеньевич Тамм начал читать нам, студентам IV курса физмата МГУ, курс теории поля. К этому же времени относятся и мои первые посещения семинаров Л.И.Мандельштама, неизменным участником которых был Тамм. Если в области радиотехники Л.И.Мандельштам сотрудничал в те годы в первую очередь с Н.Д.Папалекси и С.Э.Хайкиным, в теории колебаний — с А.А.Андроновым и А.А.Виттом1, в оптике — с Г.С.Ландсбергом, то в теоретической физике его ближайшими соратниками были И.Е.Тамм (квантовая, или, как тогда говорили, волновая механика, теория относительности) и М.А.Леонтович (статистическая физика). Сказанное в скобках, конечно, не означает какого-то жесткого ограничения и разграничения круга интересов М.А.Леонтовича и И.Е.Тамма. Они участвовали во всей развернутой Л.И.Мандельштамом разнообразной творческой работе в области теоретической физики, но основные направления деятельности каждого из них уже тогда обозначились довольно четко.
Теоретическая физика была стихией Игоря Евгеньевича. Это проявлялось в каждой его лекции, в каждом выступлении на семинарах. О том, что Тамм читал однажды курс общей физики, я знаю лишь понаслышке, как и о некоторых эпизодах, якобы случавшихся во время сопровождавших эти лекции демонстраций. Вот два таких рассказа.
Одним из приборов, иллюстрирующих центробежную силу, был металлический прут с винтовой резьбой на обоих концах. Один конец соединялся со втулкой, надетой на горизонтальную ось, вокруг которой ее можно было поворачивать. На прут надевалась свободно скользящая шайба. При повороте втулки и происходящем при этом перекидывании прута на 180 градусов шайба, находившаяся первоначально ближе к втулке, отлетала на другой конец прута, где ударялась о навинченную там гайку-стопор. Неизвестно, как это произошло, но прут был ввинчен во втулку тем концом, на котором сидел стопор. {245} Когда Тамм энергично перекинул прут, в рядах студентов раздались вопли, так как шайба полетела в аудиторию.
В другом случае «жертвой» демонстрации оказался сам Игорь Евгеньевич. Он показывал скамью Жуковского — небольшую круглую площадку, приподнятую над полом и легко вращающуюся вокруг вертикальной оси. Взяв в каждую руку по увесистому студенческому портфелю, лектор стал одной ногой на площадку и, вытянув руки в стороны, оттолкнулся от пола. Видимо, со свойственным ему азартом, он сделал это слишком сильно, и при опускании портфелей вращение ускорилось чрезмерно. Раза два ему удалось снова поднять портфели в стороны, но потом руки устали и положение стало критическим. Игорь Евгеньевич крикнул: «Остановите меня!», но студенты то ли не поняли, что происходит, то ли постеснялись схватить профессора. Руки его опускались все больше, вращение ускорялось. Тогда он дал четкую команду: «Вот вы, сидящий слева в первом ряду, выйдите сюда, подойдите ко мне и остановите меня!»
Приказ возымел действие, и все кончилось благополучно.
Вовсе не утверждаю, будто подобные эпизоды сыграли какую-либо роль в том, что в дальнейшем Тамм лекций по общей физике не читал. Скорей всего его просто тянуло к изложению теории на более высоком уровне, чем это допускает курс общей физики. Вместе с тем более высокий уровень отнюдь не означал для него обязательного использования сложных средств из математического арсенала. При желании он мог быть прекрасным популяризатором.
В те времена еще не существовало Общества «Знание». Однако многие вузы и, конечно, МГУ занимались популяризаторской деятельностью. Организационные функции выполняли студенты. В качестве такого организатора я сопровождал однажды Игоря Евгеньевича на Московский электрозавод, где ему предстояло прочитать рабочим и техникам лекцию на избранную им тему — электромагнитное поле. Меня поразило мастерство, с каким Игорь Евгеньевич обрисовал вопрос о близкодействии и дальнодействии. Он сделал его центральным во всей лекции. Тогда были философы с излишней прямолинейностью и склонностью к вульгарному социологизму. Они решали вопрос о близкодействии и дальнодействии на уровне противопоставления материализма и идеализма, или, говоря точнее, пытались выдать отношение к этой проблеме за критерий различения материалистов и идеалистов. Обосновывая точку зрения близкодействия, Тамм приложил все усилия, чтобы уберечь слушателей от отождествления близкодействия с грубым механицизмом. Вопросы и реплики неискушенных слушателей ясно показывали, что и суть дела, и свои взгляды Игорь Евгеньевич сумел им растолковать. {246}
Лекции по теории поля Тамм читал с особым подъемом. Это понятно, поскольку он дописывал тогда (чего мы не знали) свой ныне широко известный учебник «Основы теории электричества». Освободившись от работы над учебником, он тотчас же перешел в лекциях к тому, что его тогда занимало. В весеннем семестре 1929 г. он прочел курс «Физические основы теории относительности», посвященный главным образом общей теории относительности и необходимый для понимания следующего курса, который он сразу же вслед за этим и начал в апреле 1929 г. Курс назывался «Теория гравитации и электромагнитного поля А.Эйнштейна». Речь шла о новой работе А.Эйнштейна, одной из первых его попыток построения единой теории гравитационного и электромагнитного полей.
Эта теория сильно увлекла Тамма. Он не просто знакомил нас с ней, а пытался ее усовершенствовать, полагая, что трудности, с которыми она сталкивается, могут быть преодолены, если привлечь квантовую механику (уравнение Дирака). К 1929 г. относится пять публикаций Тамма (две из них совместно с М.А.Леонтовичем), посвященных именно этим вопросам. Конечно, нам, студентам, эти работы не были известны, да и вряд ли мы смогли бы их одолеть. Но в лекциях он обрисовал всю ситуацию с предельной ясностью. Такая неразрывная связь собственных исследований по злободневным вопросам теоретической физики с преподаванием составляла одну из характерных черт Тамма как педагога.
В 30-е годы у него сложилась своя группа учеников (С.П.Шубин, Д.И.Блохинцев1, С.А.Альтшулер и др.) и собственный круг проблем — фотоэлектрический эффект, поведение электронов на поверхности кристаллов и ряд других вопросов квантовой механики и ее приложений, а затем — физика элементарных частиц и ядерных сил. Все это было очень далеко от теории нелинейных колебаний, которой я занимался под руководством Л.И.Мандельштама и А.А.Андронова. Мои встречи с Игорем Евгеньевичем стали вновь более частыми с конца 1934 г., когда Академия наук переехала в Москву, ще был организован Физический институт имени П.Н.Лебедева. Тамм возглавил Теоретический отдел этого института, а я стал сотрудником Лаборатории колебаний.
В общеинститутском семинаре, а также в проводившихся в ФИАНе различных конференциях участвовал весь — очень немногочисленный в те годы — состав института. К сожалению, я плохо помню эти семинары и конференции, так как все мое внимание поглощала {247} экспериментальная и теоретическая работа сначала в Оптической лаборатории Г.С.Ландсберга, а потом — в Лаборатории колебаний Л.И.Мандельштама и Н.Д.Папалекси. Естественно, все сотрудники и ученики Л.И.Мандельштама продолжали регулярно посещать его семинары и лекции в МГУ.
В 1938/39 учебном году Л.И.Мандельштам проводил семинар по отдельным физическим проблемам, и первым вопросом в программе семинара был эффект Вавилова-Черенкова. Доклад о теории эффекта сделал Тамм. Я уже отмечал то горячее, страстное увлечение предметом, которое неизменно проявлялось во всех его выступлениях. Но в данном случае он, как говорится, превзошел самого себя. Это и неудивительно, так как незадолго перед тем Игорь Евгеньевич и И.М.Франк создали теорию этого эффекта, которую Л.М.Мандельштам назвал во вступительном слове «очень изящной». Тамм говорил не только о сверхсветовом электроне в среде, но и об акустическом излучении тел, движущихся со сверхзвуковой скоростью, о такого же типа волнах на поверхности жидкости и т.д. Из-за крайнего возбуждения и горячности он говорил особенно быстро. Скорость речи Тамма была совершенно явным и очевидным следствием удивительных свойств его мышления. Слова не поспевали за молниеносным ходом рассуждений.
Традицией мандельштамовской школы была скрупулезная точность и щепетильность при цитировании работ других авторов. Тамм неукоснительно, даже «с превышением» соблюдал эту традицию. Примером может служить случай с одной задачей, которую я поставил, но не довел до конца. Речь шла о переходе к очень малым длинам волн, который в оптике называется геометро-оптическим приближением. Работая над докторской диссертацией, я хотел выполнить этот переход не только для уравнений Максвелла, но и для уравнений Дирака, где он приводит к четырем определенным условиям. Одно из них выражает сохранение числа частиц (это содержалось уже в опубликованной ранее работе Паули), а три другие должны описывать «поляризацию», т.е. поворот электронного спина при движении электрона по классической траектории. Но в отличие от случая электромагнитных волн мне не удавалось придать этим трем условиям простую и прозрачную форму.
Первоначально Игорь Евгеньевич, к которому я обратился за советом, считал эту квантово-механическую задачу менее интересной, чем аналогичная задача для электромагнитных волн, так как у последних поляризация наблюдаема непосредственно, а об изменениях поляризации электронных волн можно судить лишь по влиянию спина на траекторию частицы. Он настолько убедил меня, что, изложив это соображение в конце докторской диссертации, я прекратил усилия. {248}
Однако в дальнейшем, через два года, точка зрения Тамма изменилась. Он предложил рассмотреть этот вопрос (причем не только для электронов, но и для мезонов, которыми он тоща сильно заинтересовался) своему аспиранту А.Д.Галанину1. За один год своего пребывания в аспирантуре, т.е. до начала Отечественной войны и ухода на фронт, А.Д.Галанин довел задачу до окончательных результатов.
Казалось бы, опубликование двух подготовленных статей А.Д.Галанина не вызывало никаких проблем. Но Игорь Евгеньевич специально зашел ко мне в лабораторию, чтобы выяснить, нет ли у меня возражений против публикации этих работ, в которых, разумеется, будет сказано, как возникла сама задача. Таким образом, он считал обязательными прямые ссылки не только на тех, кто впервые получил результат, но и на тех, кто поставил вопрос. К сожалению, в наши дни приверженность к такого рода традициям зачастую теряется.
Представление об ученом-теоретике как о человеке, у которого самые горячие интересы и увлечения выливаются в устную или письменную, но чисто словесную форму, конечно, представляет собой ложный стереотип. Можно привести много опровергающих примеров, но, быть может, одним из наиболее ярких является Тамм. Во всех разнообразных увлечениях он был человеком активного действия. Если его привлекали загадки «снежного человека» или пещеры (где, по преданию, были спрятаны сокровища), то дело не сводилось к изучению источников и разговорам. Он сам должен был участвовать в экспедиции, сам должен был увидеть все своими глазами. Вероятно, и те ночи, которые он напролет просиживал за выкладками в поисках ответа на жгучие вопросы физической теории, тоже были не лишены для него «спортивного азарта». Он не мог не броситься в самую гущу событий, чтобы не только отстаивать научную истину, но и помогать ее пострадавшим приверженцам.
Именно таким — живым, быстрым, увлеченным и деятельным — сохраняет образ Игоря Евгеньевича моя память.
| {249} |
В 1932–1934 гг. в высокогорной части Центрального Тянь-Шаня работала экспедиция. В ее задачу входила общая геологическая съемка района. В то время туда не проникали даже геологи. Некоторые горные хребты и реки Тянь-Шаня были нанесены на карту предположительно.
В состав экспедиции входила альпинистская группа. Я был ее руководителем. Она должна была произвести глазомерную съемку, разведать недоступные для геологов «белые пятна» и обеспечить передвижение экспедиции в труднопроходимых местах.
Ранней весной 1933 г. мне передали приглашение повидаться с профессором И.Е.Таммом. Он был известен мне только как автор учебника, проработанного мною во время учебы в Ленинградском политехническом институте. Естественно, перед первым свиданием с уважаемым профессором я робел и должным образом трепетал, не представляя еще причины и цели встречи. Но Игорь Евгеньевич был настолько прост и приветлив, что после нескольких фраз от моей робости, скованности и душевного трепета не осталось и следа. Он оказался очень коммуникабельным и, что называется, своим парнем, а «парню» было 38 лет.
Тамм просил меня включить его в состав экспедиции. Уж очень хотелось ему принять участие в исследовании неразведанных мест и быть первопроходцем, открывателем. «Отделкадровые дела» в те времена решались довольно просто, и его тут же зачислили на полное довольствие в нашу группу в качестве «тягловой силы». Единица эта классической механике неизвестна. Она равна примерно 25–30 кг при подъеме на высоту 2 км за 10 часов по довольно трудному микрорельефу. И так в течение многих дней.
Профессорское самолюбие Игоря Евгеньевича не страдало от того, что он был оформлен в экспедицию как разнорабочий или кто-то вроде шерпа-носильщика. Важно поехать в совершенно неразведанный, загадочный, никем не посещаемый горный массив!
Пунктом формирования экспедиции был г.Пржевальск (Каракал). Путь к нему из г.Фрунзе пролегал через озеро Иссык-Куль. Когда {250} собирается активная, полная энергии молодежь, да к тому же с романтическим настроением открывателей неизведанных краев, вынужденно бездействующая на теплоходе, без балагурства, розыгрышей и «подначки» не обойтись. Был в нашей компании и профессор Б.Н.Делоне — известный пионер советского альпинизма, неутомимый рассказчик, выдумщик и к тому же отменный спорщик. Словом, нас «спровоцировали» прыгнуть в воду с верхней палубы парохода. Естественно, в числе прыгунов оказался и Игорь Евгеньевич. Подвижности, задора и компанейства ему было не занимать. К тому же он защищал честь группы1.
После многодневного караванного пути экспедиция прибыла к леднику Иныльчек и расположилась внизу под пиком Нансена. В нашем первом серьезном походе предстояло пересечь Иныльчекский хребет где-то восточнее пика Нансена. Излишне говорить, что никто до нас здесь не проходил. Маршрут, в общем, сугубо альпинистский, технически сложный, физически трудный. Куда он вел? Вот именно это нам предстояло выяснить, производя по пути необходимые наблюдения.
Портативных раций в то время не существовало. Да и связываться, по существу, было не с кем. Приходилось рассчитывать на длительное независимое существование. Рюкзак весом 35–40 кг считался нормой. Нас было трое. Игорю Евгеньевичу мы дали поменьше — 30 кг. Последовала бурная сцена, и он отвоевал равную долю. Доводы, что мы помоложе, более натренированны и т.д., не помогли. Игорь Евгеньевич не хотел скидки или снисхождения и требовал равных прав “ишачить”.
Первые часы путь проходил по морене ледника Иныльчек. Затем мы свернули вправо, в левый приток ледника и направились в места, где как говорится, не ступала нога человека. По праву первопроходцев мы назвали этот ледник «Путеводный».
Ходить по разбитой и разорванной морене и ежеминутно «нырять» вверх-вниз на 2–5 м — дело весьма утомительное, а с тяжелым рюкзаком, который резвости отнюдь не прибавлял, — просто изнурительное. При взгляде на нас со стороны могло показаться, что мы нагнулись и опустили руки вперед с намерением что-то поднять с земли. Но увы! Это был только способ противостоять опрокидывающему моменту тяжелого рюкзака. А когда же восхищаться красотами окружающего, если видишь только носки своих ботинок, да и то сквозь соленые ручейки пота? Где же романтика!?
После 12 часов ходьбы мы остановились на ночевку у первой ступени ледопада. Далеко внизу мы оставили ледник Иныльчек, а вверху {251} открылся вид на гребень, через который нам надлежало перевалить. Почти двухкилометровая снежно-фирновая стена являлась лабораторией лавин. Дыхание их доходило до нас в виде сухой снежной пыли с шумовым сопровождением. Ходьба по такому склону представляет реальную опасность. Восхождение возможно только при хорошей разведке и специальных мерах предосторожности. Но в те далекие времена становления отечественного спортивного альпинизма, в годы первоначального накопления опыта и его осмысливания мы имели иные представления о возможном и невозможном, о допустимом и недопустимом и часто уподоблялись изобретателям по Эйнштейну: не знали, что этого делать нельзя, и... совершали спортивные подвиги. Это не было безрассудством, мы просто были такими.
В сумерках, после совмещенного обеда-ужина и чая мы залезли в тщательно натянутую и укрепленную шелковую палатку, подаренную Игорю Евгеньевичу Дираком,1 и начали слушать горы. Уж если Тамм сделался молчаливым, то тогда действительно рюкзак и морены «убаюкали» и его.
К утру разыгралась непогода. Ветер рвал палатку, и снег обильно засыпал нас. Как говорят, альпинизм есть не лучший способ перезимовать лето. Весь следующий день мы с Игорем Евгеньевичем «резались» в «морской бой» под орудийный гул лавин. Он систематически мне проигрывал. Это его смущало. Он менял тактику, делал какие-то расчеты, что-то говорил о вероятности событий, излагал теорию игр, убеждал меня в логичности и обоснованности своих доводов и... проигрывал. Мириться с этим он никак не хотел и даже переживал. Я ему подбросил мысль, что это, возможно, результат горной болезни. На том и порешили. Уже после похода, лежа в прекрасном настроении на зеленой травке в лесу у базового лагеря, Игорь Евгеньевич предложил мне сыграть разок и проверить действие этой самой горной болезни. Здесь я признался ему в своем плутовстве там, наверху. Он подскочил как мяч и двинулся с явно выраженным намерением сократить расстояние между нами. Но присущая молодости быстрота предотвратила переход дальнодействия в близкодействие, и материализовать эмоции ему не удалось. Чистосердечное мое признание снизило степень возмездия, а Игорь Евгеньевич восстановил веру в силу своих мыслительных процессов. Плутовства в дружеских взаимоотношениях он не признавал.
Между тем к вечеру стало проясняться. На следующий день нам предстояло преодолеть ледопад и по возможности подняться на гребень, набрав по высоте 2 км. По теперешним альпинистским нормам {252} следовало бы переждать день-два, пока сойдут лавины. Но, к счастью, они сошли, когда мы преодолевали ледопад и приближались к началу подъема на Гребень. Ну, а вероятность повторного прохождения лавин в тот же день очень мала.
С соблюдением мер предосторожности, с надежным охранением подъем на гребень занял у нас целый день. К вечеру мы достигли перевальной точки (5300 м). Направо по ходу гребень вел к вершине пика Нансена. Восхождение на него было вполне возможно, но не входило в наши планы.
Из-за позднего времени мы пробыли на гребне недолго. Сделав необходимые зарисовки района, фотоснимки и измерения, мы начали спуск на юг. Шли неизвестно куда. Надеялись спуститься в систему ледника Каинды. Заночевали на снегу в цирке неизвестного ледника.
На следующий день после нескольких часов спуска и выхода на открытый ледник мы убедились, что все эти дни кружились вокруг пика Нансена. Он находился все время у нас справа, хотя шли мы теперь на запад, а ранее — на восток. Спустились мы не в Каинды, а на ледник Ат-Джайлау. Через пару дней группа достигла основного лагеря, обойдя вокруг пика Нансена. С юга, с ледника Ат-Джайлау, пик Нансена выглядел не таким недоступным, как с севера, из Иныльчекской долины. Впоследствии по материалам нашей разведки спортивная группа альпинистов совершила первовосхождение на пик Нансена.
Это лишь один из многих походов, которые нам приходилось совершать. Были походы длительностью 15 дней. Были походы, когда после длительного упорного труда от зари до зари мы проходили полезного пути (по горизонтали) 100 метров, совершив при этом километровую петлю по скалам вверх в обход препятствия. Сутками обходились без воды. Да мало ли что было! За романтику путешествий приходилось платить. Платить ручьями пота в мороз, солью на спине, ночевками, зарывшись в снег, потерей груза, лошадей и даже людей при бродах через горные реки, мечтой о горячей пище, лишениями походной жизни и многим другим. Встречи со снежными барсами и медведями «в упор», конечно, тоже романтичны. Но не только.
Тамм хорошо вписался в эту бродяжью жизнь. Надежен, физически и морально вынослив, в вынужденные часы и дни томительных ожиданий — прекрасный рассказчик. С ним можно зимовать на любом полюсе. Я пишу об Игоре Евгеньевиче, каким он был тоща, вернее, каким он воспринимался мною. Может быть, это и не вяжется с более поздними представлениями о нем как о маститом ученом, патриархе. Возможно, не везде здесь применены «гостированные» выражения. Возможно. Но ведь почти у всех бывает молодость, а у некоторых она длится даже до старости. Таким был Игорь Евгеньевич.
| {253} |
Судьба свела меня с четырьмя крупными учеными-теоретиками — И.Е.Таммом, И.Я.Померанчуком, Н.Н.Боголюбовым. Я.Б.Зельдовичем. Они — в разной степени — оказали большое влияние на мои взгляды, на научную и изобретательскую работу. Здесь я хочу рассказать о них. Особенно велика в моей жизни роль Игоря Евгеньевича Тамма, а если говорить об общественных взглядах, вернее — принципах отношения к общественным явлениям, то из всех четырех — только его. Конечно, как всякие воспоминания все нижеследующее — не более, чем штрихи, ни в коем случае не полная картина.
Игорь Евгеньевич работал на объекте2 с апреля 1950 года до августа 1953-го. Это было время моего самого тесного общения с ним, я узнал его с тех сторон, которые были мне недоступны ранее в Москве (а он, конечно, узнал меня). Мы теперь работали непрерывно вместе полный рабочий день, вместе завтракали и обедали в столовой, вместе ужинали и отдыхали по вечерам и в воскресенье.
В 1950 году Игорю Евгеньевичу было 55 лет — немногим меньше, чем мне сейчас. Я, конечно, хорошо знал его блистательную научную биографию (потом он сделал еще один важный вклад в нее своими работами по изобарным резонансам, затем последовала героическая эпопея нелокальной теории; сейчас этот путь кажется неправильным, но кто знает?). Знал я и то, что Игорь Евгеньевич очень поздно стал активно работать в науке — молодость была отдана политической борьбе, к которой его толкали социалистические убеждения и свойственная ему активность. В 1917 году он состоял в меньшевистской партии и на каком-то съезде3 единственный из меньшевиков голосовал за немедленное заключение мира4, чем вызвал реплику Ленина: {254}
— Браво!
В годы гражданской войны он выполнял многие очень опасные поручения, неоднократно переходил линию фронта, попадал в разные переделки. Наукой он стал заниматься лишь потом, огромную роль для него сыграли поддержка и пример Л.И.Мандельштама, с которым он впервые встретился в Одессе в последний период гражданской войны. Он рассказывал о своей жизни и о многом другом, когда мы оставались с глазу на глаз наедине, в полутьме его гостиничного номера, или тихо прогуливались при луне вдвоем по пустынным лесным дорожкам (одна из них была известна под названием «Аллея Любви»). Касались мы и самых острых тем — репрессий, лагерей, антисемитизма, коллективизации, идеалов и действительного лица коммунизма. Я не случайно, говоря выше о влиянии на меня общественных взглядов Игоря Евгеньевича, поправился, что речь идет о принципах. Взгляды мои, особенно сейчас, вероятно, очень сильно расходятся с его. Я слышал, как Леонтович с дружеской усмешкой говорил: в И.Е. жив, несмотря ни на что, член исполкома Елизаветградского совета. Конечно, в этом только часть правды. Другая ее часть — И.Е. очень многое умел пересматривать и часто жестоко казнил себя за прошлые ошибки (об одном таком эпизоде, касавшемся догматической позиции Коминтерна по отношению к социал-демократии, рассказывает в своих прекрасных воспоминаниях Евгений Львович Фейнберг. Тамм спорил об этом в 30-х годах с Бором). Сейчас для меня представляются главными именно основные принципы, которые владели Игорем Евгеньевичем — абсолютная интеллектуальная честность и смелость, готовность пересмотреть свои взгляды ради истины, активная, бескомпромиссная позиция — дела, а не только фрондирование в узком кругу. Но тоща каждое его слово было для меня откровением — он уже ясно понимал многое из того, к чему я только приближался, и понимал глубже, острей, активней, чем большинство тех, с кем я мог бы быть столь же откровенен. Пришлось побывать Игорю Евгеньевичу и в подвалах деникинской контрразведки, и в подвалах ЧК. Спасло его, кажется, попросту везение (во время одного из таких сидений его сокамерник непрерывно декламировал малоприличные поэмы Баркова и тем самым сильно укрепил отвращение Игоря Евгеньевича к подобного рода литературе). Чекисты расстреливали тогда каждое утро — 5–6 человек из числа сидевших, но до И.Е. очередь не дошла, его выпустили по приказу Дзержинского. Начальник ГубЧК, отпуская, с явным сожалением заметил: «А ведь ты все-таки белый шпион!» — «Почему?» Начальник показал отобранную при обыске школьную фотографию будущей жены И.Е. Наталии Васильевны, на обороте которой было написано от руки: «Мы все твои агенты». А в 30-е годы Игоря Евгеньевича спасло, кроме опять {255} везения, то, что, выйдя в 1917 году из меньшевистской партии, он уже не вступил ни в какую, в том числе и в большевистскую (а также, возможно, большой уже тогда научный авторитет в СССР и за рубежом). Мы много говорили о репрессиях тех лет. Один из любимейших его учеников, Шубин, спорил с ним, кажется, в 1937 году, повторяя стандартную фразу: НКВД зря не арестовывает, вот я ничего антисоветского не делаю и меня не арестовывают. (Что было в этих, многими говорившихся тогда словах — слепота? лицемерие? Стремление к самообману ради того, чтобы психически устоять в атмосфере всеобщего ужаса? Искреннее заблуждение обреченных фанатиков?) Последний их спор происходил ночью, почти до рассвета, а на другой день Шубин был арестован, вскоре погиб в лагере. На запрос о причине смерти пришел (что не часто бывает) ответ: причина смерти — “охлаждение кожных покровов”. Тогда же были арестованы и погибли многие другие талантливые физики, среди них Витт (я о нем уже писал), талантливый молодой физик-теоретик Матвей Бронштейн (его работы по квантованию слабых гравитационных волн, по стабильности фотона и др. сохранили свое значение; последняя работа является аргументом против неправильного объяснения космологического красного смещения «старением» фотонов).
В те годы, когда мы занимались “изделием” и сидели на объекте, в печати, в научных и культурных учреждениях, в преподавании бушевала инспирированная свыше кампания борьбы с “низкопоклонством” перед Западом. Выискивались русские авторы каждого открытия или изобретения — «Россия родина слонов» — шутка тех лет. Трагедия не обходилась без курьезов — братьев Райт должен был вытеснить контрадмирал Можайский с его «воздухоплавательным снарядом», но опубликованный тогда в спешке портрет Можайского и часть его биографии принадлежали его брату. Борьба с низкопоклонством смыкалась с борьбой с так называемым «космополитизмом» — по существу же это был попросту антисемитизм. Б.Л.Ванников, который сам был евреем, смешил своих чиновных собеседников такими анекдотами:
Стоит человек перед зеркалом и жжет свои космы. Кто он такой? Ответ: космополит.
И еще: чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом.
Тут у Игоря Евгеньевича было очень четкое мнение, и он неоднократно высказывал его с большой страстностью. Для него не было «советской» или тем более «русской», как, впрочем, «американской» или «французской» науки — лишь общечеловеческая, представляющая собой не только важнейшую часть общемировой культуры и надежду человечества на лучшее будущее, но и самоцель, один из главных смыслов жизни. А по поводу антисемитизма он говорил: есть один
| {256} |
 |
В гимназические годы |
 |
И.Е.Тамм с женой и детьми (1929 г.) |
| {257} |
 |
П.А.М. Дирак, О.Н.Трапезникова, И.Е.Тамм (Лейден, 1928 г.) Фото Л.В.Шубникова. |
 |
Слева направо: И.Е.Тамм в Лейдене (1928 г.) Крамерс, Говерс, Раби, Флорин, Крониг, Тамм, Эренфест |
| {258} |
 |
И.Е.Тамм (начало 30-х годов). |
| {259} |
 |
П.А.М.Дирак и И.Е.Тамм в горах Кавказа (1936 г.) Фото К.С.Вульфсана. |
Конференция по теоретической физике. (Харьков, 1934 г.). Справа налево: И.Е.Тамм, В.А.Фок, В.Гордон, Е.Дж.Вильямс, И.Валлер, Я.И.Френкель, М.С.Плессет, Л.Д.Ландау, В.Кроузер, Н.Бор, Г.Гельман, Ю.Б.Румер, Л.Розенфельд, Л.Тисса, Д.Д.Иваненко. | |
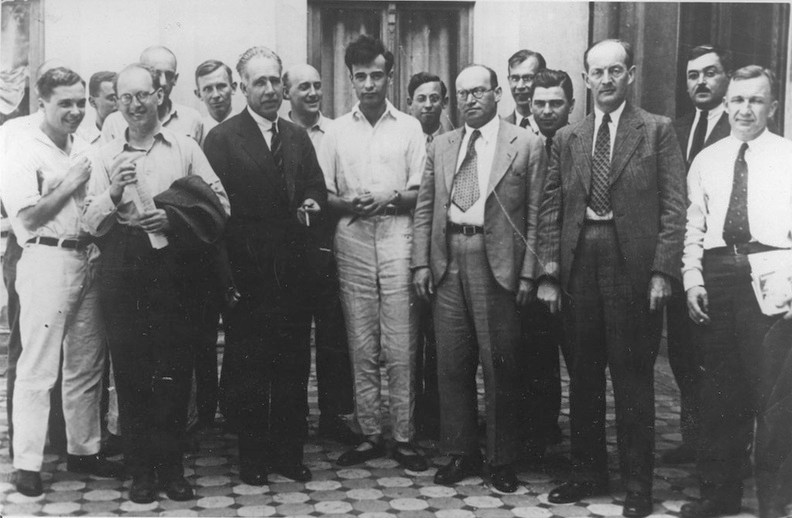 | |
| {260} |
 |
Л. И. Мандельштам. |
 | |
Посещение П.Блэкеттом ФИАНа (конец 50-х годов). Фото Л.Сухова. | |
| {261} |
 |
И.Е.Тамм и И.В.Курчатов (февраль 1960 г.). |
 |
И.Е.Тамм и Ю.Б.Харитон. Фото З.Азарх. |
| {262} |
А.Д.Сахаров |
 |
 | |
В Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова (1961 г). Слева направо: Л.А.Арцимович, Н.Бор, И.Е.Тамм, А.П.Александров. | |
| {263} |
 |
Беседа с Н.Бором в ФИАНе (1961 г.) Фото Л.Сухова |
 |
В Институте физических проблем (1961 г.) |
| {264} |
 |
На приеме в честь Н.Бора в Москве (1961 г.) Слева направо: Маргарет Бор, И.Е.Тамм, А.Н.Несмеянов |
 |
Во время конференции в честь юбилея |
| {265} |
 |
 |
 |
 |
| {266} |
 |
 |
И.Е.Тамм |
Одна из страничек записей И.Е.Тамма |
 | |
И.Е.Тамм и Л.А.Блюменфельд на кафедре биофизики МГУ (1961 г.) | |
| {267} |
 |
На семинаре Отдела теоретической физики (1965 г.) Фото Л.Сухова. |
 |
Выступление на заседании. |
| {268} |
 |
И.Е.Тамм, И.М.Франк и П.А.Черенков на приеме после вручения Нобелевской премии (1958 г). |
 |
Во время обсуждения. |
| {269} |
 |
И.Е.Тамм (1957 г.) |
 |
И.Е.Тамм (1965 г.) |
| {270} |
 |
 |
| {271} |
 |
Памятник на могиле И.Е.Тамма. |
| {272} |
безотказный способ определить, является ли человек русским интеллигентом. Истинный русский интеллигент никогда не антисемит. Если же есть налет этой болезни, то это уже не интеллигент, а что-то другое, страшное и опасное.
Осенью 1956 года (уже после ухода И.Е. с объекта и после XX съезда КПСС) я спросил его, нравится ли ему Хрущев. Я прибавил, что мне — в высшей степени, ведь он так отличается от Сталина. Игорь Евгеньевич без тени улыбки на мою горячность ответил: да, Хрущев ему нравится и, конечно, он не Сталин; но лучше, если бы он отличал :я от Сталина еще больше. Вскоре произошли венгерские события, но наши встречи в то время стали реже, и я не помню, чтобы мы обсуждали их. В 1968 году, когда я выступил с «Размышлениями о прогрессе...», Игорь Евгеньевич, уже тяжело больной, отнесся к этой статье скептически, в особенности к идее конвергенции. Он считал, что в социально-экономическом плане только чистый, неискаженный социализм способен решить глобальные проблемы человечества, обеспечить счастье людей. В этом он остался верен идеалам своей молодости. От обсуждения того, как же решить в антагонистически разделенном мире проблему предотвращения всеобщей термоядерной или экологической гибели, он воздержался, но сказал, что я, конечно, ставлю острые вопросы. Наши разногласия никак не изменили того уважения и даже, как я решаюсь сказать, любви, которую мы питали друг к другу. Я с гордостью помню, что Игорь Евгеньевич именно мне доверил чтение так называемой Ломоносовской лекции. В 1968 году Академия Наук СССР присудила ему свою самую почетную научную награду — медаль имени Ломоносова (одновременно медаль была присуждена английскому ученому Пауэллу, вместе с Латтэсом и Оккиалини открывшему пи-мезон, я уже упоминал об этом). По традиции награда вручается Президентом Академии Наук на Общем собрании, затем награжденный читает научную лекцию. В это время Игорь Евгеньевич уже не мог присутствовать на Собрании, он жил на аппарате искусственного дыхания. Но он написал свою лекцию, обсуждал ее со своими учениками, в том числе со мной. Характерно, что она была посвящена не прошлым заслугам, а тем научным идеям, которые увлекали его тогда. С большим волнением я читал ее с трибуны Общего собрания.
В августе того же, 1968, года советские танки вошли в Прагу. Это событие потрясло тогда многих в СССР и за рубежом. Я помню сейчас, кто именно пришел к Игорю Евгеньевичу с предложением подписать письмо с выражением протеста. Игорь Евгеньевич подписал. Но потом, по настоянию одного из своих сотрудников и любимых учеников, аргументировавшего необходимостью сохранения Теоретического отдела ФИАНа — дела жизни Игоря Евгеньевича, он снял свою подпись. {273}
Я очень сожалею об этом. Мне кажется, что подпись Игоря Евгеньевича имела бы огромное значение, а он сам получил бы чувство глубокого удовлетворения — это было бы еще одно славное дело в его прекрасной жизни. Опасения же относительно судьбы Теоротдела ФИАНа кажутся мне сильно преувеличенными, ничего бы не случилось. Но и сейчас люди в оправдание своего бездействия в острых общественных ситуациях выдвигают аналогичные мотивы.
Я уже писал о своем отношении (в 1948–1956 гг., для определенности) к работе над ядерным оружием. Я не могу с той же степенью уверенности писать о позиции Игоря Евгеньевича, я не помню развернутого и доходящего до конца, до глубины проблемы разговора об этом; тогда мне казалось, что его позиция такая же, как моя. Однажды И.Е. рассказал мне об отказе одного из ведущих советских физиков академика Петра Леонидовича Капицы участвовать в работе над ядерным оружием (много потом — в 1970 году — об этом же самом эпизоде мне рассказывал сам Капица, я пишу об этом во второй части воспоминаний. По словам Игоря Евгеньевича, якобы Капица, когда ему позвонили из секретариата Берии с просьбой приехать, ответил, что он сейчас чрезвычайно занят научной работой и, если Лаврентию Павловичу необходимо с ним побеседовать, то он просит его приехать к нему в Институт. Я пытаюсь воссоздать в памяти свои ощущения от рассказа Игоря Евгеньевича. Я не помню, чтобы мне тогда показалось, что И.Е. восхищается смелостью Капицы. Игорь Евгеньевич, наоборот, сказал что-то вроде того, что «конечно, Л.П. на самом деле человек гораздо более занятой, чем Капица». Я, со своим тогдашним умонастроением, воспринял эти слова буквально, как осуждение Капицы. Для меня Берия был частью государственной машины, и в этом качестве участником того «самого важного» дела, которым мы занимались. Мне казалось само собой разумеющимся, что позиция Игоря Евгеньевича в точности такая же. Сейчас я думаю, что в словах И.Е. были некоторые, ускользнувшие от меня нюансы, скрытая ирония, быть может, он немного недооценивал мою неготовность воспринимать скрытый смысл его высказывания.
В те же годы Я.Б.Зельдович однажды заметил в разговоре со мной:
— Вы знаете, почему именно Игорь Евгеньевич оказался столь полезным для дела, а не Дау (Ландау)? — у И.Е. выше моральный уровень.
Моральный уровень тут означает готовность отдавать все силы «делу». О позиции Ландау я мало что знаю. Однажды в середине 50-х годов я приехал зачем-то в Институт физических проблем, где Ландау возглавлял Теоретический отдел и отдельную группу, занимавшуюся исследованиями и расчетами для «проблемы». Закончив деловой {274} разговор, мы со Львом Давидовичем вышли в институтский сад. Это был единственный раз, когда мы разговаривали без свидетелей, по душам. Л.Д. сказал:
— Сильно не нравится мне все это. (По контексту имелось в виду ядерное оружие вообще и его участие в этих работах в частности.)
— Почему? — несколько наивно спросил я.
— Слишком много шума.
Обычно Ландау много и охотно улыбался, обнажая свои крупные зубы. Но в этот раз он был грустен, даже печален.
В те объектовские годы говорили мы с Игорем Евгеньевичем, конечно, и о науке. И.Е. любил повторять, что его интересуют все науки, кроме философии и юриспруденции. Я вполне был согласен по второму пункту (увы, потом жизнь заставила меня войти и в эту смутную, область, но я так и не смог внутренне принять ее как нечто «настоящее»); что же касается философии, то, мне кажется, Игорь Евгеньевич, в основном, имел в виду догматиков и тех, кто, по выражению Фейнмана, «мельтешит» возле науки. Роль же великих философов прошлого в истории культуры и роль философского, максимально обобщенного и тонкого мышления во всей современной культуре вряд ли он хотел отрицать. В то время он часто говорил о биологии. Я вполне разделял его мысли и чувства относительно лысенкоизма (также Лепешинской, Бошьяна, Быкова, о которых тогда много шумели), вероятно, он укрепил меня в моей позиции. Но к его тезису, что для объяснения явлений жизни необходимы какие-то совершенно новые принципы, быть может, даже физические, столь же кардинальные, как квантовая механика, я относился настороженно. Я спорил с ним, говорил, что иерархически организованная стереохимия, действующая по принципу ключ-замок, плюс электрохимия в качестве украшения — вполне достаточная база для осуществления процессов жизни (так же, как любой самый примитивный алфавит — вполне достаточная база для выражения самых сложных мыслей). Мне кажется, что развитие науки в последующие десятилетия (начиная с расшифровки ДНК) пока подтверждало мою точку зрения. Правда, сама структура этой организации оказалась неизмеримо сложней и разнообразней, более многоступенчатой, чем могли себе представить самые проницательные умы 30 лет назад. И пока еще далеко не все ясно, нет даже четкой постановки многих важнейших проблем, не говоря уже о конкретных деталях. Игорь Евгеньевич был убежден, что основное направление развития науки должно вскоре переместиться с физики, давшей в первой половине XX века самое фундаментальное продвижение, на науку о жизни. Тут я с ним был согласен: действительно, в то время доля интеллектуальных и материальных сил, направленных {275} на весь комплекс наук о жизни (медицина и физиология, цитология, биохимия и биофизика, экология, конкретная зоология и ботаника, наука о поведении животных и человека, селекция и генетика и др.) была недопустимо мала и несопоставима с их практическим и принципиальным значением. С тех пор происходит постепенный рост доли усилий, направленных на биологические науки, но и так называемые точные науки не сдают свои позиции. Поток неожиданных открытий огромного принципиального и практического значения в них не иссякает, и соответственно никак не ослабляется к ним внимание. Молодежь, идущая в науку, должна сейчас, как и всегда, руководствоваться своими внутренними склонностями, своим чувством нового, таинственно возрождающимся в каждом поколении. Так будет лучше всего. А что будут делать планирующие организации, это вопрос особый, имеющий очень много аспектов, обсуждать его здесь не место.
Игорь Евгеньевич говорил, что если бы он сейчас (т.е. в 50-х годах) выбирал себе научную специальность, то выбрал бы биологию. Все же мне кажется, что это была метафора. Истинная его страсть, мучившая всю жизнь и дававшая его жизни высший смысл, — фундаментальная физика. Недаром он сказал, за несколько лет до смерти, уже тяжело больной, что мечтает дожить до построения Новой (с большой буквы) теории элементарных частиц, отвечающей на «проклятые вопросы», и быть в состоянии понять ее... (Он не сказал, что надеется дожить до момента, когда будет понята тайна работы человеческого мозга, тайна эмбриональной клеточной организации, тайна эволюции и происхождения жизни.)
Е.Л.Фейнберг пишет, что если бы Игорь Евгеньевич позволял себе отвлекаться от труднейших задач переднего края, он, при его эрудиции и профессионализме, феноменальной трудоспособности, безошибочности вычислений, с легкостью мог бы сделать очень много хороших, ценных работ. Это видно по его деятельности по теме МТР (магнитный термоядерный реактор), по всей его прикладной деятельности, по тем работам, которые он делал в период «научной депрессии», (т.е. когда впадал в отчаяние от неудач на переднем крае). Но он почти никогда не позволял себе этого. Выражением той же страсти была его работа последних лет (попытка построения теории с искривленным импульсным пространством и развитие идей Снайдера), которую он продолжал с потрясающим духовным и физическим мужеством, будучи уже прикованным к дыхательной машине, т.е. в том положении, когда многие впадают в отчаяние, в апатию, «рассыпаются». Движущим стимулом этой его последней работы была убежденность, что теория перенормировок, которая казалась окончательным и исчерпывающим решением проблемы «ультрафиолетовых расходимостей», {276} на самом деле представляет собою только временное и частичное средство, или только феноменологическое при не очень больших энергиях. Такую точку зрения — особенно до открытия Московского нуля — разделяли очень немногие (среди них — Дирак). Мне кажется, что Игорь Евгеньевич был прав в принципе и не прав в отношении перспективности теории искривленного импульсного пространства. Сейчас большие надежды возлагаются на калибровочные суперсимметричные теории и особенно на «струны». Но окончательной ясности нет ни у кого.
Вернусь к рассказу о нашей жизни в 50-е годы. Завтракали и обедали мы обычно втроем (И.Е., Романов и я). Игорь Евгеньевич обычно рассказывал новости, которые узнавал из передач иностранного радио (он регулярно слушал Би-Би-Си на английском и русском языках, тогда это было довольно необычно) — политические, спортивные, просто курьезные; от него мы узнали о первом восхождении на Эверест в 1953 году Хиллари и Тенцинга; я вспоминаю об этом сегодня, когда на Эверест поднимались участники советской экспедиции, возглавлявшейся его сыном Женей; тогда Игорь Евгеньевич говорил, что он часто клянет себя, что пристрастил сына к альпинизму — захватывающему, но очень опасному увлечению. Как и во всем, что рассказывал Игорь Евгеньевич, главное было даже не содержание, а его отношение — умного, страстного, необычайно широкого человека. Игорь Евгеньевич не давал нам, как говорится, закисать, будучи сам увлекающимся и общительным человеком, он и нас заставлял отдыхать активно и весело. Были в моде у нас вечерние игры в шахматы и их модификации (игра вчетвером, игра без знания фигур противника с секундантом и т.п.; И.Е. показал нам китайские игры «Го» и «выбирание камней», последняя игра допускает алгоритмизацию, основанную на «золотом сечении», и мы ломали себе головы над этим). Были прогулки лыжные и пешие, а летом — выезд на купания (в последнем случае я был полностью посрамлен, но И.Е. тактично избавил меня от лишних огорчений). Вместе с нами на равных принимал участие и шофер отдельской машины Павлик Гурьянов. В том мире, который образовывался всюду вокруг Игоря Евгеньевича, это было абсолютно естественно и вообще не являлось чем-то особенным. Потом, имея дело с другим начальством, я увидел совсем другие отношения с подчиненными.
Я вспомнил тут, как Павлик однажды спас жизнь Игорю Евгеньевичу и мне. Из встречного потока навстречу нам неожиданно выскочил на огромной скорости военный грузовик (он пошел на обгон на узкой кривой улице, огибавшей церковь). Павлик с мгновенной реакцией бывшего танкиста сумел выскочить на тротуар между редкими, к счастью, прохожими и тем избежал неизбежного лобового столкновения. {277} К сожалению, Павлик потом спился, был переведен на работу машиниста маневренного паровоза.
Игорь Евгеньевич очень нуждался в деньгах. Некий достаток возник, когда он получил Сталинскую премию. Но часть из нее он сразу же выделил на помощь нуждающимся талантливым людям; он попросил найти таких и связать его с ними, — но эти люди не знали, откуда они получают деньги. Мне очень стыдно, что мне не пришло в голову то же самое или что-нибудь аналогичное (о поступке И.Е., вернее, о нескольких таких поступках я узнал лишь после его смерти).
Е.Л.Фейнберг пишет в своих уже упоминавшихся мною воспоминаниях (я полностью с ним согласен и просто цитирую): «...Было (в России конца XIX века) нечто основное, самое важное и добротное — среднеобеспеченная трудовая интеллигенция с твердыми устоями духовного мира, из которой выходили и революционеры до мозга костей, и поэты, и практические инженеры, убежденные, что самое важное — это строить, делать полезное. Игорь Евгеньевич как личность происходит именно отсюда, и лучшие родовые черты этой интеллигенции стали лучшими его чертами, а ее недостатки — и его слабостями. Едва ли не главной из этих черт была внутренняя духовная независимость — в большом и малом, в жизни и науке...»
Человеком таких же высоких качеств была и жена И.Е., Наталия Васильевна, пережившая его ровно на 9 лет. Ей, вероятно, не всегда было легко и просто, жизнь вообще штука сложная...
Разговаривая как-то с Клавой1 и желая успокоить ее в тех сомнениях, которые мучили Клаву (совершенно необоснованно), Н.В. сказала: мужчины часто любят неровно, иногда у них любовь ослабевает, почти исчезает, но потом приходит вновь (я знаю об этом разговоре от Клавы; никто не решится утверждать, что Н.В. говорила о своих отношениях с мужем, конечно, нет, но какой-то душевный опыт и мудрая доброта в этом были). На протяжении долгих лет их совместной жизни Наталия Васильевна поддерживала своего мужа и на подъеме, и в периоды депрессии, которые бывали у Игоря Евгеньевича, как у всех активных и сильно чувствующих людей.
Об Игоре Евгеньевиче много написано. Я хотел бы думать, что мне удалось прибавить какие-то штрихи к его портрету.
Вероятно, главные удачи моей юности и молодости — то, что я сформировался в Сахаровской семье, носившей те же «родовые черты» русской интеллигенции, о которых пишет Евгений Львович Фейнберг, а затем под влиянием Игоря Евгеньевича.
| {278} |
И.Е. был один из тех людей, которые определили мою судьбу, судьбу и как ученого, и в значительной мере, как человека. Я думаю, что это было большим счастьем для меня, что с 24-летнего возраста, еще не сформировавшийся как ученый, я встретился с И.Е. и потом на протяжении десятилетий испытывал на себе его влияние.
Для И.Е., по-моему, самое характерное было внимание к новым идеям, найти новые идеи в литературе и среди тех людей, с которыми он сам сталкивался, которые попадали на его семинар, желание найти какие-то точки поворота, с которых уже начинается развитие в новом направлении. Иногда это, может быть, было и не очень плодотворно, иногда, наоборот, было необыкновенно плодотворно. Но это всегда было искреннее желание найти что-то новое и принципиальное среди высказываемых идей. Большое внимание к чужому мнению, чужому ходу мыслей для него было очень характерно, умение разъяснить аудитории, если докладчик очень нетривиально, иногда даже не очень понятно излагает свои мысли, И.Е. обычно всегда находил способ коротко и ясно подытожить доклад таким образом, чтобы он был понятен всем и во всяком случае для всех какая-то польза была бы от того, что они присутствовали на данном семинаре, т.е. каждое посещение семинара для каждого его участника всегда означало хоть какое-то продвижение вперед.
Люди моего поколения впервые узнали имя Игоря Евгеньевича Тамма, как автора замечательного курса теории электричества — для многих он был откровением, и отзвуки этого до сих пор чувствуются в учебной литературе. Да и не только в учебной — достаточно вспомнить понятие «магнитной поверхности» и его роль в современных работах по МТР. Одновременно до нас доходили раскаты баталий за теорию относительности, за квантовую теорию, доходили пленительные слухи об альпинистских и туристских увлечениях Игоря Евгеньевича. К этому времени Игорь Евгеньевич уже был автором многих выдающихся оригинальных работ — о фононе и «таммовских уровнях», автором первого последовательного вывода формулы для рассеяния света на {279} электроне (в этой работе он «походя» ввел проекционные операторы), явился первым предшественником Юкавы в его мезонной теории ядерных сил, предсказал вместе с Альтшулером магнитный момент нейтрона. Уже к концу 30-х годов имя И.Е. (даже у тех, кто не знал его лично) было окружено ореолом — не в сверхъестественном, а просто в высоком человеческом смысле. В нем, наряду с Ландау, советские физики-теоретики видели своего заслуженного и признанного главу, и все мы — принципиального, доброго и умного человека, великого оптимиста, доброго и часто удачливого «пророка».
Автор этих строк познакомился с И.Е. в последние месяцы войны, в прокуренном и заваленном листами с вычислениями кабинете на улице Чкалова, на стене которого висела карта фронтов Отечественной войны (флажки подбирались уже к Берлину). В последующие годы я соприкасался с подвижническим трудом И.Е., и для меня, как и для многих, это общение явилось определяющим. В те годы И.Е. много трудился над попыткой построения последовательной мезонной теории ядерных сил. Увы, мы знаем теперь, сколь многих знаний не хватало тогда. Но в ходе этих работ сформировался новый расчетный метод, известный под именем Тамма-Данкова (первые формулировки метода принадлежат Фоку, в дальнейшем важный вклад внесли Дай-сон и Гейзенберг с сотрудниками). Одновременно И.Е. блестяще и мудро руководил знаменитым фиановским семинаром, аспирантами и докторантами, учениками, просто всеми, кто нуждался в научной помощи, выполнил ряд более мелких научных работ, сделал несколько запоминающихся докладов, принимал участие в грозных дискуссиях тех лет. Затем наступили годы «проблемы» — серьезное испытание для всех нас. По-моему, с полным правом можно сказать, что для всех нас было большим счастьем, что Игорь Евгеньевич оказался рядом с нами. Без него многое сложилось бы иначе — ив деловом, и в научном, и в психологическом плане. Во время вечерней прогулки Игорь Евгеньевич был нашим старшим товарищем, немного усталым и молчаливым, вдыхающим вместе с нами влажные запахи леса. За чашкой чая, зато, обсуждались любые вопросы, И.Е. много рассказывал о своей жизни и просто о том, что он знал и услышал (а знал он очень многое). За доской в служебном кабинете мы получали урок методики теоретической работы. На совещании у начальства мы получали урок деловой, человеческой и научной принципиальности. И в любой обстановке — урок добросовестности, трудолюбия и вдумчивости.
Широко известна роль Игоря Евгеньевича в начальной стадии работы над МТР, его основополагающий научный вклад и его неиссякаемый оптимизм в отношении этой работы. {280}
До конца жизни, я думаю, Игорь Евгеньевич имел полное право чувствовать удовлетворение при воспоминании об этих годах.
С конца 53 г. начался новый период в жизни Игоря Евгеньевича — период воссоздания теоротдела ФИ АН, способного к решению тех новых и очень трудных проблем, которые вышли на первый план на новом этапе развития теоретической физики. Перенормировка, «московский нуль», дисперсионные соотношения, алгебра токов и аксиоматическая теория, высшие симметрии, нарушения дискретных симметрии, частицы-резонансы (в отношении которых И.Е. принадлежит одна из пионерских работ), выходящие за пределы теории возмущений методы квантовой теории поля — все эти и многие другие вопросы «стучались в дверь», и созданный Игорем Евгеньевичем теоротдел был готов встретиться с ними «лицом к лицу».
После нескольких лет тяжелой болезни, на протяжении которых вновь проявилась исключительная сила его характера, Игорь Евгеньевич умер. Все мы, знавшие его, уверены, что его жизнь была и счастливой, и необыкновенно плодотворной. Я приношу свое глубокое соболезнование его жене Наталии Васильевне, соучастнице этой жизни на протяжении трудных и напряженных десятилетий, детям, внукам, всем близким Игоря Евгеньевича.
| {281} |
Я не физик, а зоолог, биогеоценолог, генетик и эволюционист, но вместе с тем еще в 20-е годы в качестве ученика Н.К.Кольцова1 и С.С.Четверикова2 в кольцовском Институте экспериментальной биологии подключился к исследованию проблем феногенетики, популяционной генетики и изучения мутационного процесса. Во время работы в одном из институтов в Берлине мною были начаты эксперименты в области только что возникавшей тогда после первых работ Г.Дж.Меллера3, радиационной генетики — изучения действия ионизирующего излучения на мутационный процесс. В связи с развивавшимися Н.К.Кольцовым с 20-х годов представлениями о физико-химической природе хромосом и генов мне хотелось попытаться ввести в радиационно-генетические опыты биофизическое рассмотрение возможных механизмов действия ионизирующих излучений на процесс возникновения мутаций. Мы надеялись на этом пути подойти к пониманию некоторых сторон проблемы физико-химической природы генов. В Бухе близ Берлина (где находилась моя лаборатория) сложился постоянный кружок для обсуждения новых теоретических вопросов с участием генетиков, цитологов, биохимиков и физиков из берлинских научно-исследовательских институтов.
В 30-е годы некоторые крупные физики-теоретики, объединившиеся вокруг Нильса Бора в его копенгагенском коллоквиуме, активно заинтересовались биологическими проблемами, в частности природой генов и механизмом возникновения мутаций. В то время у меня наладилась совместная работа с Максом Дельбрюком4, тогда молодым {282} физиком, близким к «кругу» Бора. Через него я и мои сотрудники сблизились с физиками, окружавшими Бора, и с самим Бором. Во второй половине 30-х годов и до самой войны около 20 ученых, выделившихся из моего буховского кружка и копенгагенского коллоквиума Бора, вместе с группой парижских физиков, химиков и биологов собирались дважды в год на одну неделю для обсуждения интересовавших всех нас общих проблем теоретической физики, биохимии, цитологии и генетики. Мы встречались в небольших приморских городках Дании, Голландии и Бельгии. Мой буховский кружок, участие в коллоквиумах Бора и особенно в этой интернациональной группе, объединенной общими методологическими интересами и попыткой подойти к пониманию основных явлений жизни, подготовили меня, зоолога «по происхождению», к общению и взаимопониманию с физиками-теоретиками.
Моя связь с ними и математиками укрепилась с конца 40-х годов во время работы в разных лабораториях, а затем (с 1955 г.) — в Уральском филиале АН СССР. Тогда наладилось тесное общение с теоретиками из группы С.В.Вонсовского, с математиками-кибернетиками, работавшими с А.А.Ляпуновым1, и с большой группой молодежи на кафедре биофизики физфака МГУ, организованной Л.А.Блюменфельдом. Все они регулярно съезжались из Свердловска, Москвы, Челябинска, Новосибирска, Ленинграда, Иркутска и других мест месяца на два на нашу биостанцию в Миасово на Южном Урале. Здесь в горячих дискуссиях после прочтения различных специальных курсов формировались в довольно широких кругах молодежи общеметодологические основы, содействовавшие развитию современной биологии в нашей стране.
В конце 50-х годов были предприняты шаги к освобождению ряда разделов научной биологии, и в первую очередь генетики, от засилья догматических схем. В эти годы большую помощь процессу становления современной биологии оказали наши крупнейшие физики и математики. Среди них одно из первых мест занимал Игорь Евгеньевич Тамм.
Развитие моих интересов в области генетики и смежных дисциплин, о котором говорилось выше, сильно облегчило мне взаимопонимание с крупными физиками и математиками, принявшими в 50-х годах участие в возрождении научной биологии. Особенно запомнились те, к сожалению, не частые беседы на общеметодологические и философские темы, которые я, приезжая в Москву, имел с Таммом. От них веяло тем же духом свободных дискуссий на очень высоком уровне, {283} который был так характерен для копенгагенского круга Бора. Личное общение с Игорем Евгеньевичем для меня имело большое значение. Оно побуждало к научной деятельности, оживляя старые впечатления от контактов с крупными теоретиками. Это были встречи со столь же большим классиком. Правда, я всегда надеялся, что и Игорю Евгеньевичу, участвующему в борьбе за развитие научной биологии, будут интересны и полезны беседы с биологом.
Не буду рассказывать сейчас о содержании этих наших бесед, но вспомню об одном, как мне кажется, важном совместном выступлении в Москве в самом начале нового этапа развития генетики в нашей стране.
Зимой 1955/56 гг., вскоре по приезде в Москву, я встретился с И.Е.Таммом. Он рассказал мне о проекте посвятить один из «капичников» (семинаров, устраиваемых Петром Леонидовичем Капицей в Институте физических проблем) докладам об общих проблемах современной генетики. Тамм заинтересовался только что сформировавшимся теоретическим представлением Крика, Уотсона и их сотрудников о двойной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты как основе строения и репродукции хромосом, развившемся затем в современную молекулярную генетику; он сам решил доложить о них на «капичнике». Мне же он предложил на том же заседании сделать доклад о радиационной генетике и механизме мутаций. Проект был одобрен Петром Леонидовичем, и в программу первого февральского «капичника» были поставлены оба доклада.
Хочется вспомнить о некоторых перипетиях, предшествоваших этому заседанию. Дня за три до него, когда объявления уже были вывешены, кто-то позвонил в Институт физических проблем и предложил снять с повестки объявленные генетические доклады, как не соответствующие постановлению сессии ВАСХНИЛ 1948 г.1 Разговор велся не с П.Л.Капицей, а с его референтом. Сам же Петр Леонидович сказал, что обращать внимание на такие заявления не следует. На следующий день звонок повторился со ссылкой на мнение Н.С.Хрущева. Тогда Петр Леонидович позвонил самому Хрущеву и получил в ответ заверение, что ему об этом ничего не известно, а программа семинаров зависит только от самого директора. Заседание, таким образом, благополучно состоялось.
Хочу подчеркнуть, что семинар в Институте физических проблем стал первым за ряд лет научным заседанием по проблемам современной генетики. Оба наши доклада отнюдь не носили какого-либо особого «боевого» характера. Они были нормальными, по мере наших сил и {284} талантов, докладами на две общие генетические темы: мой подводил итог определенного этапа в развитии радиационной генетики, а доклад Тамма освещал работы, открывшие новое тогда направление в генетике и цитологии. Однако заседание явилось своего рода событием не только для биологической Москвы, но и далеко за ее пределами. Конференц-зал, широкий коридор и лестница, ведущие к нему, были заполнены до отказа. Сотрудники института, ошарашенные таким наплывом публики, их срочно радиофицировали. Не думаю, что столь громкий успех обязан особому таланту Игоря Евгеньевича и тем более моему. Просто научная общественность, прежде всего молодежь, соскучилась по информации в этой области.
Наше совместное выступление на «капичнике» действительно содействовало процессу восстановления биологии. Я уже указал, что основную роль в этом сыграли, к сожалению, не биологи, а физики и математики. Предоставление Петром Леонидовичем Капицей заседания своего семинара генетическим темам и участие нашего крупнейшего теоретика Игоря Евгеньевича Тамма в нем сделали возможным, действенным и необратимым выход научной генетики на широкую дорогу. Семинар явился достаточно веским прецедентом, сильно облегчившим и ускорившим процесс развития биологии в ближайшие годы.
В заключение хочется обратить внимание на то, что всегда бросалось в глаза всем, даже изредка и лишь поверхностно общавшимся с Таммом, — на его исключительное человеческое обаяние. Игорь Евгеньевич был не только обаятельным человеком, но и полновесной личностью, внушавшей каждому абсолютное доверие. Игорь Евгеньевич в моей памяти сохранился в числе личностей, необычайно одаренных разнообразными способностями и темпераментом, но в равной степени больших ученых, таких, как Эйнштейн, Бор, Резерфорд, Дирак, Шредингер.
| {285} |
Этот сборник написали друзья, ученики и близкие знакомые Игоря Евгеньевича. Я же не рискую отнести себя даже к этим последним.
Мне довелось слушать его лекции в студенческие годы, много лет потом работать в одном институте, чувствовать неизменную доброжелательность и обаяние его необыкновенной личности. Но то же самое могут сказать сотни или даже многие сотни людей. Поэтому первоначально казалось, что мне надлежит быть здесь только читателем, а не одним из авторов. Но некоторые ученики и друзья Игоря Евгеньевича убедили меня в том, что в известном отношении взгляд «со стороны» может представить интерес. Может быть, это и так.
В Московском университете в 1934–1935 гг., в «новом» здании на Моховой, студенты физфака ждали начала первой лекции курса квантовой механики, которую должен был читать заведующий кафедрой теоретической физики профессор Игорь Евгеньевич Тамм. Большинство, если не все, еще не видели его в лицо, но он был нам хорошо известен по книге «Основы теории электричества», тоща единственной на русском языке, а сейчас одной из лучших книг по электродинамике. По книге Игоря Евгеньевича мы постигали электродинамику, но читал курс другой профессор. Общую физику и математический анализ там также читали известные профессора. Образ того, кто через несколько минут должен был предстать перед нами, в значительной степени навязывался тем, что мы уже видели раньше, а главное — Книгой. Как должен был выглядеть ученый, написавший такой серьезный классический труд?
То, что мы увидели, совсем не походило на все виденное раньше и на то, что строило воображение. В аудиторию вбежал, или точнее сказать, влетел человек небольшого роста. За ним из двери влетели искры от брошенной за дверью папиросы. Он пробежал до противоположной стены, быстро вернулся, дошел до середины аудитории, повернулся лицом к студентам. Мы увидели подвижное, доброе, улыбающееся {286} лицо человека, который сразу начал очень быстро говорить о содержании предстоящего курса. Почти все время Игорь Евгеньевич быстро передвигался по аудитории. Значительные остановки делались у доски, когда потоком лились формулы — количественное воплощение сказанного, и за ними следовал анализ физической сущности задачи. При этом все делалось с таким энтузиазмом и подъемом, что даже тот, кто и половины не понимал, не мог оставаться безразличным. Все ясно ощущали праздничность момента. Лектор увлекал студентов своей наукой. Он выражал свое отношение к тому, о чем рассказывал, не только словами, но и жестами, движениями, всем своим существом. Когда вся доска бывала исписана и оставался только ее верх, до которого Игорь Евгеньевич не доставал, он подпрыгивал, чтобы на лету написать букву или снабдить ее штрихом. Его лекции никогда не были холодным, академическим повествованием с убаюкивающим, плавным течением речи. Она была быстрой, темпераментной. Во фразах иногда недоставало слов, но мысль выражалась четко, однозначно. Изложение предмета было страстным, заинтересованным, убедительным. Он не сглаживал острые углы и не прятал возникавшие противоречия, но поистине был счастлив, если мог убедительно разъяснить, в чем дело. Лицо его светилось. Мы ждали его следующей лекции, как можно ждать продолжения увлекательного детектива.
В середине двухчасовой лекции, как обычно, делался перерыв. Все выходили в коридор покурить. Игорь Евгеньевич курил, и курил много. Перерыв для него был возможностью покурить, а не отдохнуть. В перерыве его всегда обступали плотной стеной студенты, а среди них и преподаватели, ведшие занятия в других аудиториях. Говорил всегда он. Иногда это было разъяснение какого-нибудь трудного или непонятного студентам места в только что прочитанной лекции, но, пожалуй, чаще Игорь Евгеньевич рассказывал, какая великолепная вещь альпинизм и «как это можно без альпинизма». Бывало, у него не оказывалось «самой нужной» папиросы. Тогда он с благодарностью брал ее у обрадованного студента (дал папиросу Игорю Евгеньевичу!!) и всегда предлагал свои папиросы, если ему казалось, что этот студент прошлый раз курил, а сейчас почему-то не курит. Игорь Евгеньевич был абсолютно доступен для общения со студентами и очень располагал к такому общению. Совершенно не существовало преград между известным профессором и студентом, задающим «глупый» вопрос.
Но, разумеется, не было и тени фамильярности и быть ее не могло по отношению к человеку, которого обожали. Нашей группе особенно повезло, потому что Игорь Евгеньевич вел у нас и семинары. И вел он их интересно и увлекательно. Было одно чисто внешнее обстоятельство, {287} которое до сих пор для меня остается загадкой. Дело в том, что на каждый семинар Игорь Евгеньевич опаздывал, и опаздывал как следует. И вот однажды наш староста, который у нас еще во времена бригадно-лабораторного метода числился директором (группа была на хозрасчете!), обратился к Игорю Евгеньевичу и сказал: «Товарищ профессор, вы опаздываете». И здесь произошло нечто невероятное. Игорь Евгеньевич изменился в лице, стал быстро говорить и даже кричать, размахивать руками: он всегда приходит вовремя, это неслыханное безобразие обвинять его в том, чего на самом деле нет, и т.д., и т.п. Гнев его был так силен и искренен, что никто слова не сказал. Он еще долго не мог успокоиться. В чем же дело? Ведь он действительно опаздывал, и он действительно был уверен, что не опаздывает. Гнев его был так страшен, что я и через 20 лет не решался выяснить у него, почему он разгневался тогда. Рассказывали, как он с приятелем на Кавказе попал в снежную лавину и пролетел в снегу сотню метров или даже больше. Они оба счастливо вышли из этой смертельной истории. Разбилось только стекло на часах. Может быть, это были часы Игоря Евгеньевича, и они к тому же еще стали отставать?1
До лекций Игоря Евгеньевича мы слышали от своих старших по курсу товарищей, что квантовая механика — предмет необычный, очень трудный и совсем непонятный, а то, что поймешь, то неверно. {288} Боялись ее все, и особенно те, кто пришел на факультет не по призванию, а по разверстке. Почему же квантовая механика сделалась такой увлекательной неожиданно для нас самих или даже вопреки нашим ожиданиям? Конечно, Игорь Евгеньевич — изумительный лектор, но, думаю, дело не только в этом. Он был не просто квалифицированным физиком, превосходно излагающим основы предмета. Дело еще и в том, что он был одним из творцов науки, одним из ее активных созидателей, с очень разнообразными интересами и широкими взглядами. Но мы никогда не слышали «это сделано мной», или более скромное «это сделано нами», или что-нибудь другое, указывающее на его личные достижения.
Когда я начал заниматься научной работой, одной из глав моей научной «библии» стала фундаментальная работа Игоря Евгеньевича «О квантовой теории молекулярного рассеяния света в твердых телах», опубликованная в 1930 г. Ее результаты сохранили полностью значение и теперь, вошли в курсы теоретической физики и специальную литературу. Более того, именно в этой работе он ввел понятие о кванте упругой энергии, названном потом Я.И.Френкелем фон оном. Работа шире своего названия и дала начало целому направлению, которое теперь называется квантовой акустикой.
В тот период и позже Игорь Евгеньевич отдавал много энергии созданию теории ядерных сил, за что его порицали некоторые коллеги («занимается черт знает чем и других впутывает»). Порицание, переходящее в осуждение, оборвала атомная бомба, упавшая на Хиросиму в 1945 г.
Приблизительно к тому же довоенному времени (1936?) относится одно из заседаний Отделения физико-математических наук АН СССР в здании старого ФИАНа на Миусах. На заседании доклад о своей новой работе делал Я.И.Френкель. Игорь Евгеньевич был не согласен с его главными выводами. Сначала колючие вопросы, а потом и резкие выступления. Яков Ильич не уступал, а Игорь Евгеньевич распалился и стал прямо бросаться на доску и на докладчика. Слова стали жесткими и настолько резкими, что мне они показались обидными или даже оскорбительными. Председательствующий явно не мог справиться со спорящими, и заседание окончилось, а согласие достигнуто не было. Кто прав, оставалось для меня неясным. Но казалось совершенно очевидным: в мире нет больших врагов, чем И.Е.Тамм и Я.И.Френкель. А это было очень печально, потому что Игорь Евгеньевич очень хороший человек. Это мы знали. Много хорошего слышали и об Якове Ильиче. И если действительно «душа благоухает на лице твоем», то все это правда. И вот два хороших человека и выдающихся физика так ужасно разругались. Долгое время я серьезно считал их врагами. {289}
Прошло много лет, мы снова встретились с Игорем Евгеньевичем, на этот раз в ФИАНе, сотрудником которого он был, а я стал. Поздней весной 1949 г. за обеденной беседой в столовой института выяснилось, что Игорь Евгеньевич едет в дом отдыха «Чайка» на рижском взморье. Туда же отправлялся и я дней на десять раньше. Он просил меня зайти к директору и попросить оставить для него тихую комнату, где он собирался поработать. Директор сказал, что для такого человека, разумеется, он оставит лучшую комнату; не надо беспокоиться. Когда же Игорь Евгеньевич приехал и мы вместе пришли к директору, то выяснилось: нет не только обещанной комнаты (от обещания он не отказывался), но нет даже свободной кровати. Директор посоветовал пожить два-три дня где-нибудь, а там, глядишь, и комната освободится. Я опешил и не мог слова сказать, а Игорь Евгеньевич рассмеялся, повернулся ко мне и сказал: «Пошли искать что-нибудь где-нибудь».
В гостинице мы ничего не нашли, от моей кровати он отказался наотрез, не дав мне договорить. Согласился только оставить у меня свой нехитрый багаж. Положение складывалось невеселое, между тем Игорь Евгеньевич оставался весел и даже оживлен. Посмотрев на меня, он сказал: «Не огорчайтесь, у меня здесь есть хороший друг, он живет в частном доме где-то недалеко. Пойдемте к нему и вместе что-нибудь придумаем». Вскоре мы разыскали нужный дом, из которого навстречу нам вышел... широко улыбающийся Яков Ильич Френкель. Я остолбенел. А они обнялись, и Яков Ильич пригласил нас к себе. Оказывается, они были давними и близкими друзьями, и, разумеется, задолго до описанной дискуссии на Миусах. В книге воспоминаний о Я.И.Френкеле его сын, В.Я.Френкель, вспоминает о том, как Яков Ильич сказал жене, что после его смерти «самую твердую опору» она найдет в Игоре Евгеньевиче1. Они оба не заблуждались насчет прочности своей дружбы. Просто человеческие отношения не смешивались с научными взглядами.
Игорь Евгеньевич часто принимал участие в волейбольных баталиях во дворе ФИАНа на Миусах. Играл он всегда с азартом, и когда в критический момент «мазал», остро чувствовал свою вину и давал волю эмоциям — размахивал руками, а в особо «трагических» случаях, сжав руками голову, раскачиваясь, приседал, склонившись к земле.
Во время зимних студенческих каникул многие фиановцы отдыхали в доме отдыха «Абрамцево», принадлежавшем тогда Академии наук СССР. Много и большой компанией ходили на лыжах. Конечно, впереди был Игорь Евгеньевич. Он никогда не уступал лидерства, держал быстрый темп, утомительный даже для людей гораздо более молодых. {290} Особенно ему нравилось кататься с горки. Недалеко от территории дома отдыха, на противоположном берегу речки Вори, была эта излюбленная горка, или небольшой холм метров 25–30 высотой с довольно крутым склоном, обращенным к реке. Между узким руслом реки и тут же начинавшимся склоном рос редкий кустарник. Взобравшись на самый верх, Игорь Евгеньевич прямо катил вниз. С техникой поворотов у него дело обстояло не лучшим образом. Чтобы не упасть на битый лед в воду еще не совсем замерзшей Вори, ему приходилось падать поблизости от кустов, причем падал он на полной скорости, зарываясь в снег. Как-то оказалось, что падение произошло недалеко от меня, около куста, где снег был заметно разрыхлен, и Игорь Евгеньевич целиком ушел в сугроб. Торчали только концы лыж. Разумеется, я бросился его извлекать, а он сопротивлялся. Казалось, что у него сломана рука или нога и ему больно, и потому я еще старательней пытался его извлечь. Как только он вылез из снега, он тут же стал меня бурно ругать: «Зачем вы меня тащите, что я, сам не вылезу?» Вместе с нами катался инженер Московского электролампового завода. Он отлично владел техникой поворотов, и ему не нужно было падать или съезжать «наискосок», как делал я. Когда Игорь Евгеньевич в очередной раз поднимался на гору, а мы с инженером оказались внизу рядом, он спросил: «Кто этот человек, который совсем лишен чувства страха и довольно слабо управляется со своими лыжами?» Я сказал, что это профессор Тамм. Когда мы возвращались домой к обеду, инженер поравнялся с Игорем Евгеньевичем и спросил его: «Скажите, вы не родственник известного слаломиста Евгения Тамма?» Игорь Евгеньевич просиял, необычайно оживился, сказал, что Женька — его сын. Он очень гордился тем, что его узнают по его сыну, а не наоборот, как обычно бывало. Игорь Евгеньевич всем об этом случае охотно рассказывал. Чувствовалось, что это доставляет ему удовольствие.
Часто в захватывающих рассказах Игоря Евгеньевича фигурировали альпинистские термины, выражающие степень трудности: 3б, 4а, 5б (высшая категория трудности). Однажды я спросил его, не может ли он словами объяснить, что такое 5б. Он улыбнулся и спросил:
— Вы можете себе представить, как трудно создать общую теорию относительности?
— Это выше обычных человеческих возможностей. Понимаю, что невероятно трудно, но отчетливо представить себе не могу.
— Ну тогда о чем же говорить, — покорить 5б гораздо труднее.
Он рассмеялся, сказал, что сам 5б не покорял.
Игорь Евгеньевич был страстно увлечен идеями интересными, заманчивыми, сулящими новые, необычные открытия, и это не обязательно касалось науки. С необыкновенным подъемом он рассказывал {291} о возможности обнаружить небывалый древний клад в пещере на труднодоступной скале в горах Памира. Впрочем, он не только рассказывал, но и активно искал его.
С большим энтузиазмом он говорил о возможности обнаружения снежного человека. Сам он не искал его, но был уверен, что найти можно и нужно и что поиски эти — одна из самых интересных вещей на свете. Красочные показания очевидцев казались весьма убедительными. Но, скорей всего, они «попадали в резонанс» с любовью Игоря Евгеньевича ко всему новому, необычному и создавали у него внутреннее убеждение в реальности существования снежного человека.
Ежегодно некоторые ученики и друзья покойного Г.С.Ландсберга собираются в день его смерти (2 февраля) в доме Ландсбергов. Игорь Евгеньевич как-то рассказывал там о состоянии дел со снежным человеком. Беседа по времени совпадала с одним из максимумов поисков, и из рассказа следовало, что не сегодня завтра снежный человек будет найден.
Один из присутствующих, по характеру скорее пессимист, чем оптимист, заявил:
— Снежный человек не существует.
Игорь Евгеньевич прямо подпрыгнул:
— Пари, что снежный человек будет найден не позднее сентября этого года.
— Пари, что он никогда не будет найден.
Чисто моральное пари было заключено. Через 1,5–2 года Игорю Евгеньевичу, возможно, стало ясно: пари проиграно. Но он не признался, а просто перестал говорить об этом. Горько было расставаться с красивой мечтой, и проигрывать он тоже очень не любил.
Игорь Евгеньевич широко интересовался всеми научными направлениями в физике, да и не только в физике. Однажды (1964 или 1965 г.?) он спросил, что дали лазерные источники в спектроскопии рассеянного света. Я ответил: дали многое, особенно в той области исследования спектров, где линии близки друг к другу и из-за широкой возбуждающей спектральной линии не могут быть разрешены.
— А посмотреть можно? — спросил Игорь Евгеньевич.
При следующей встрече я показал ему снимок тонкой структуры линии Рэлея1, где смещенные компоненты Мандельштама-Бриллюэна были четко отделены от центральной линии и выглядели, будто начерченные тушью. Снимок произвел на Игоря Евгеньевича впечатление: он теперь четко видел проявление эффекта, квантово-механическую {292} теорию которого, в частности, он дал в 1930 г. «А у вас много таких снимков?» Я сказал, что очень много. Тогда он попросил разрешения оставить снимок себе и был искренне рад этому «подарку», много расспрашивал о деталях, возможностях метода и т.д.
Игорь Евгеньевич искренне радовался всему хорошему. Он принадлежал к тому небольшому кругу выдающихся людей, которые успехам даже совсем им незнакомых людей радуются не меньше, чем своим собственным или успехам своих учеников.
Необычайное обаяние личности Игоря Евгеньевича распространялось решительно на всех, и даже на тех, кто всего лишь здоровался с ним.
И вот еще одна черта его поведения. Игорь Евгеньевич всегда отвергал постороннюю помощь при надевании пальто. Он действовал с такой быстротой, что желающий ему помочь оставался с застывшей в воздухе рукой, когда Игорь Евгеньевич был уже далеко. Однако известен и такой случай. В одну из последних зим в его жизни, когда его правая рука уже плохо повиновалась, давняя сотрудница института гардеробщица Матрена Никитична Иванова, очень тепло относившаяся к Игорю Евгеньевичу, одержала над ним полную победу. Матрена Никитична ему не дала в руки зимнее пальто, сказав: «Ты здесь не начальник! Здесь начальник я, и я здесь командую», — и помогла надеть пальто. Пришлось подчиниться.
| {293} |
Мне посчастливилось более двадцати лет (с 1950 по 1971 г.) работать рядом с Игорем Евгеньевичем, а в молодые годы — непосредственно под его руководством. Личность этого человека оставила глубокий след в моей жизни, оказала сильное воздействие на мое отношение к физике и на все мое мировоззрение. Воссоздать во всей сложности и целостности образ И.Е.Тамма не под силу одному человеку, даже близко его знавшему. Только совокупность воспоминаний многих его друзей, сотрудников и близких может в какой-то степени решить эту задачу. Поэтому передо мной стоит скромная и ограниченная цель — рассказать о некоторых эпизодах совместной работы и общения с ним, характеризующих прежде всего стиль его работы, отношение к физике и физикам, его нравственные принципы.
Первый раз я увидел Тамма, будучи студентом 4-го курса Московского инженерно-физического (тогда еще называвшегося Московским механическим) института (1947 г.). Он нам прочел несколько лекций по специальной теории относительности. Запомнилось первое впечатление: человек небольшого роста, очень подвижный, с седыми волосами. В последующие годы мне казалось, что внешне он почти не меняется. Говорил он быстро, увлеченно, но четко. Лекции понравились. Особенно запомнилось одно его высказывание, которое он впоследствии не раз повторял: гениальность Эйнштейна при создании теории относительности проявилась в том, что он в отличие от большинства тогдашних физиков быстро осознал бесплодность многочисленных попыток объяснить максвеллов-скую теорию электромагнитных волн в рамках старых представлений об эфире и увидел единственно верный путь.
Попав в Теоретический отдел ФИАНа после окончания МИФИ, я с первых же шагов начал заниматься под руководством И.Е.Тамма прикладными вопросами.
В то трудное время огромные усилия направлялись на решение прикладных проблем ядерной физики. Потребность в дисциплине и огромной отдаче сил была очень велика. Но меня приятно поразили обстановка демократичности, дух товарищества и равноправия при {294} обсуждении любых научных вопросов, царившие в Теоретическом отделе. Ощущался огромный авторитет Тамма, хотя в обращении со всеми он был очень прост. Уже тогда я начал понимать и в дальнейшем осознал особенно четко, что его простота являлась следствием естественной демократичности и человечности. Именно благодаря выдающимся научным и личным качествам он оказал решающее влияние на создание столь дружественной и в то же время деловой, рабочей обстановки в Теоретическом отделе.
Очень яркие впечатления оставила работа с Таммом по чисто научным вопросам сильных взаимодействий — ядерных сил и изобарной теории. Здесь проявились его глубокая интуиция физика, всепоглощающая увлеченность возникшей и осознанной идеей. Тамма всегда привлекали наиболее принципиальные и острые вопросы. Его мечта — создание последовательной теории ядерных сил, так же как и теории элементарных частиц. Первая его наиболее известная работа по теории ядерных сил появилась в 1934 г. В 1945 г. он развил метод решения уравнений сильновзаимодействующих элементарных частиц, не опирающийся на теорию возмущений (метод Тамма-Данкова). В начале 50-х годов квантовая теория поля переживала бурную пору второй молодости (особенно квантовая электродинамика). Были поставлены первые опыты по рассеянию π-мезонов на нуклонах (Ферми, 1951). Все это в совокупности, по-видимому, воодушевило Игоря Евгеньевича на новые усилия по созданию последовательной теории сильных взаимодействий. Хорошо помню, как после одного из вторничных семинаров отдела в 1952 г. он объявил аврал: произнес пламенную речь о важности и необходимости создания теории ядерных сил, о новых возможностях теории в связи с недавним развитием квантовой теории поля. Тамм обратился к присутствующим с предложением добровольно вступить в его «дружину» и совместно заняться поисками путей решения этой проблемы. В.П.Силин и я сразу же откликнулись на этот призыв.
Прежде всего мы проштудировали основополагающую статью Игоря Евгеньевича о методе Тамма-Данкова1 (сам он всегда называл этот метод методом «усеченных уравнений»). При повторении всех выкладок статьи основная формула у меня получилась другой. Я проверил свои расчеты многократно. Убедившись в своей правоте, позвонил домой Игорю Евгеньевичу и заявил (по-видимому, довольно уверенно) о найденной мной ошибке. Он спокойно ответил, что это кажется ему маловероятным, поскольку все формулы неоднократно проверены, и попросил меня сразу же приехать к нему. Я приехал. Тамм посмотрел на мои выкладки, взял чистый лист бумаги и молча довольно {295} быстро преобразовал мою формулу так, что, к моему изумлению, результат совпал с его формулой. Я был посрамлен (ибо к тому же моя формула получилась более громоздкой), но он не торжествовал, а с юмором заметил, что мы оба оказались правы. После этого урока я стал проявлять большую осторожность при сравнении своих результатов с результатами Тамма. Примерно через год мне стало окончательно ясно, что считал он всегда очень быстро и, как правило, без ошибок. Особенно поражала его способность приводить формулы к наиболее компактному виду.
Первый шаг в нашей совместной работе (И.Е. + В.П. + я) заключался в попытке доказать, что мезонная теория приводит к образованию связанного состояния протона и нейтрона, т.е. к устойчивости дейтрона. Расчеты велись по методу Тамма-Данкова. Выкладки даже по теперешним представлениям были довольно громоздкими. Поэтому мы считали параллельно «в три руки», а два или три раза в неделю по утрам сравнивали промежуточные результаты. Для нас с В.П.Силиным это была трудная, но во многом поучительная и интересная эпопея. Мы считали почти без передышки днем и ночью, до изнеможения: надо было выстоять, не отстать от Игоря Евгеньевича. Может быть, позже только над изобарной теорией я (опять совместно с ним) трудился с такой же безоглядной отдачей сил. Он всегда приходил на встречи с нами бодрый; мы же с унынием ощущали свою неполноценность. Как-то раз, находясь на пределе своих сил, мы спросили его, много ли он тратит времени на расчеты и как он вообще работает и успевает так быстро считать. Ответ поразил нас: «К сожалению, — сказал он, — с годами работоспособность моя стала сдавать; вот раньше мог, не вставая из-за стола, работать на одном кофе двое суток подряд, а сейчас уже после суток чертовски устаю». А ведь ему тогда было 57, а нам по 26 лет!
Конечно, нам не стало легче от такого признания. Но наши мучения не кончились. Когда окончательные формулы были наконец получены и устойчивость дейтрона доказана, оказалось, что у нас с Силиным формулы в два раза длиннее, чем у Тамма. Частично успокаивало совпадение ответов у меня и у Силина. Но история с формулами из статьи Тамма 1945 г. хорошо запомнилась. Мы понимали: предстоит трудная работа по «сокращению» наших результатов. Быстро сделать ее мы не смогли.
Игорь Евгеньевич предложил начать оформлять статью и взял на себя труд написать первый вариант. Мы обрадовались, надеясь за это время довести свои формулы до нужной «кондиции». Однако окончательный вариант статьи довольно скоро был готов. Пришлось схитрить (ведь наш результат тоже был верным!). И мы сказали Игорю Евгеньевичу, что формулы «почти» совпадают, статью можно посылать в {296} печать. Оформление статьи тогда, слава богу, занимало не меньше времени, чем теперь (нет худа без добра). Пока статьи «ходила» по инстанциям института, мы добились совпадения наших результатов с результатами Тамма. Думаю, он разгадал тогда нашу уловку.
Когда Тамма спрашивали, в чем секрет его умения доводить окончательные выражения до очень компактного и обозримого вида, он отвечал: все очень просто, надо, мол, выделить независимые переменные, удачно их обозначить и все через них выразить. В этой кажущейся простоте при решении сложных вопросов и заключалась одна из сторон его таланта.
В 1953 г. Тамм выдвинул смелую гипотезу о том, что нуклон может, помимо основного состояния, находиться в возбужденном («изобарном») состоянии со спином 3/2. Гипотеза родилась под влиянием опытов Ферми по рассеянию π-мезонов на нуклонах. Он был очень увлечен новой идеей, и многие «старожилы» хорошо помнят начавшийся тогда в отделе изобарный бум (которому С.З.Беленький посвятил стихи)1. Игорь Евгеньевич собрал вокруг себя добровольцев и увлек их своих энтузиазмом.
Поражала настойчивость Тамма в достижении цели. Ведь только по прошествии 10–15 лет представления о короткоживущих возбужденных состояниях частиц (резонансах) прочно вошли в лексикон физиков и стали настолько привычными, что никто практически и не вспоминает первооткрывателя. А в то время возражения против «столь наивного» понимания возбужденных состояний сыпались как из рога изобилия, причем со стороны ряда маститых теоретиков. Но Тамм не обращал внимания на скептиков. И хотя расчеты, проведенные в рамках элементарной теории возмущений с учетом затухания, дали удивительно хорошее согласие с опытами для рассеяния в Р-состояниях2, все же трудности с описанием рассеяния в S-состояниях (по существу, не решенные и сейчас) в конечном счете охладили его пыл. Но и в последующие годы он неоднократно с успехом привлекал представления об изобарах для описания некоторых процессов сильного взаимодействия. При расчетах по изобарной теории проявилась еще одна черта Тамма — умение из общих групповых доводов и соображений об инвариантности быстро, без обращения к учебникам, получать выражения для генераторов группы.
Тамм всегда стремился довести расчеты до чисел и при малейшей возможности сравнить ответ с экспериментом. При оценках он любил пользоваться логарифмической линейкой. Если же расчетные трудности становились неодолимыми, к делу привлекалась вычислительная {297} техника и даже ЭВМ. Но мы тогда еще не умели достаточно хорошо ими пользоваться. Вспоминаю один поучительный случай. В конце 1953 г. внимание Игоря Евгеньевича привлек предложенный Дайсоном «новый метод Тамма-Данкова» (НМТД). В то время Тамм много сил уделял поискам последовательного метода расчета сильных взаимодействий без теории возмущений. Идея Дайсона о «физическом вакууме», использованная в НМТД, понравилась ему.
Совместно с ним над применением НМТД к рассеянию π-мезонов на нуклонах работали В.П.Силин и я. Сравнительно быстро нам удалось получить приближенные интегральные уравнения, но решить их в аналитическом виде не представлялось возможным.
Дополнительная трудность была связана с тем, что из-за введения в теорию «физического вакуума» в амплитудах рассеяния возникали ложные полюсы, которые следовало исключить из уравнений. Нам казалось, что мы нашли и исключили все такие «нефизические» особенности. Но и после этого решить уравнения могла только ЭВМ. Тогда ЭВМ, имевшиеся в нашей стране, можно было пересчитать по пальцам, и все они, как правило, загружались решением важнейших прикладных проблем. И вот в такой ситуации во всем блеске проявилась способность Тамма заражать своими идеями и верой окружающих, а также его огромный авторитет. Он обратился к М.В.Келдышу1, директору Института прикладной математики (ИПМ), с просьбой выделить время на ЭВМ «Стрела» его института для решения уравнения. Тамм произнес очень хорошую популярную речь перед ведущими сотрудниками ИПМ во главе с М.В.Келдышем о значении создания последовательной теории сильных взаимодействий. М.В.Келдыш всегда относился к Игорю Евгеньевичу с большим уважением и доброжелательностью. Поэтому сразу после его выступления создали группу математиков во главе с известным специалистом по вычислительной математике М.Р.Шура-Бура2, он быстро составил программу, и «Стрела» заработала. К сожалению, наш оптимизм по поводу выделения из амплитуд всех ложных особенностей не оправдался: машина оказалась здесь умнее человека и «забуксовала», не справившись с операцией деления на нуль. Математики недоумевали, а мы, поразмыслив и поняв, в чем дело, протрубили отбой и, «сохраняя боевые порядки», отступили. В дальнейшем мы научились находить все особенности и опубликовали статью, но численное решение уравнений решили отложить до лучших времен, поскольку трудности с перенормировками в {298} НМТД преодолеть не удалось. Этот случай послужил нам всем хорошим уроком на будущее.
Тамм испытывал непреодолимую тягу ко всему новому в науке. Стоило появиться интересной статье, особенно по принципиальным вопросам теории элементарных частиц, как он одним из первых изучал ее, рассказывал и устраивал обсуждение на семинаре отдела. Так было с работами Швингера и Фейнмана1 в конце 40-х годов, с работами Дайсона по S-матрице, с работами Лемана, Циммермана и Симанзика в 1955 г., с работами Снайдера2 по квантованию пространства-времени и др.
Интересно отношение Игоря Евгеньевича к авторитетам в науке. Хорошо помню, как он в 1950 г. рассказывал о работе Гейзенберга3 по S-матрице. В конце семинара я (будучи тогда молодым и довольно самоуверенным) сказал что-то в таком роде: «Зачем, мол, изучать эту работу, если S-матрица, предложенная Гейзенбергом, не удовлетворяет условию причинности?» В ответ Тамм принял позу, характерную для него в момент недовольства: заложив руки за спину, опустил голову и, быстро прохаживаясь взад-вперед вдоль доски, прочитал сердитым голосом нотацию, обращенную главным образом ко мне: «Конечно, и Гейзенберг может ошибаться, но это все-таки Гейзенберг, и, прежде чем делать столь категоричные утверждения, надо еще и еще раз убедиться, что он не прав», — и далее что-то в таком же духе4. Так я начал с первых шагов в науке понимать, что авторитеты в физике, хотя и не боги, но их надо уважать и изучать. После семинара М.С.Рабинович поучал меня в том смысле, что многие молодые приходят в Теоротдел и сначала ни с кем и ни с чем не хотят считаться, но с годами становятся более скромными, начинают уважать авторитеты и работать, работать. Тогда я в глубине души не соглашался с доводами старших коллег, но сейчас вижу, что в основном они были правы.
Еще раз Игорь Евгеньевич принял в воспитательных целях позу недовольства, обращенную ко мне, в 1952 г., когда я опоздал минут на 15 на встречу с ним. При моей попытке извиниться за опоздание разразилась гроза: он не дал мне сказать ни слова, встал, наклонил голову и обрушился на меня со словами: «Я вам не безусый мальчишка, чтобы заставлять меня ждать вас столько времени!»
Все мои попытки вставить хотя бы слово оправдания пресекались на корню: ни слова, никаких оправданий! Но глаза выдавали Игоря Евгеньевича — в них светилось дружелюбие. Через минуту гроза прошла, {299} и, лукаво щурясь, он совсем другим голосом сказал: «Ладно, с этим все, садитесь, займемся “нашими баранами”».
В последующие годы, присматриваясь к нему более внимательно, я увидел, что ему свойственно большое чувство юмора и оптимизма. Это проявлялось также и в те редкие минуты, когда кого-то надо было «пропесочить», «повоспитывать». Иногда создавалось впечатление, что если речь шла о сотрудниках и друзьях, то он мог бы легко справиться со своим «гневом»: внешняя сердитость, едкая ирония уживались у него с усмешкой в глубине глаз. Казалось, что он так делал потому, что считал это нужным. С нечестными же людьми в науке Тамм был беспощаден.
Игорь Евгеньевич всегда спешил. Длина его свободного пробега, особенно в институте, была очень малой: его знали почти все сотрудники. Для такой популярной личности, как он, пройти путь от входа в ФИАН до Теоротдела или конференц-зала без «столкновений-разговоров» было практически невозможно... Он всегда записывал на маленьком клочке бумажки, что надо сделать, и спешил побыстрее избавиться, как он выражался, от мелких дел, спешил, ибо самая большая страсть у него была к науке, к творчеству, к всепоглощающему и изнуряющему труду — единственному для него источнику подлинного вдохновения.
Очень своеобразным было у него отношение к «мелким» делам, к текучке. К сожалению, их невозможно избежать, говорил он, но нельзя, чтобы они засасывали полностью; надо уметь «халтурить» в малом. Нельзя, как Ландсберг, отвечать на все письма. У него не остается достаточно времени на научную работу.
Я понимал это высказывание прежде всего в том смысле, что надо знать меру своих способностей, верить в свои силы, но не размениваться на мелочи и стремиться к решению важных проблем в науке. Однако как определить меру своих способностей, Тамм не говорил. Вместе с тем он очень любил различные задачки, сам всегда, особенно на экзаменах, предлагал для решения что-нибудь оригинальное, радовался, когда кому-нибудь удавалось найти красивое и оригинальное решение. Сам процесс творчества, а не только его цель доставляла ему несомненное удовлетворение. И все же он постоянно был не удовлетворен собой, говорил, что сделал очень мало, а главного еще не сделал.
Когда Тамм работал, думал над формулами, статьями, своими мыслями, обсуждал научные вопросы, он преображался и забывал про время. Работать он любил дома, в своем кабинете, чтобы никто не мешал, не отрывал. Сидел обложенный бумагами и книгами.
Наибольший интерес у Игоря Евгеньевича вызывали фундаментальные вопросы физики элементарных частиц. Он хотел быть свидетелем создания новой последовательной их теории и не соглашался с {300} мнением Дайсона, который заявил в 1956 г., что, для того чтобы разобраться только в математическом аппарате современной теории, понадобится не менее 50 лет. Часто Тамм мечтал: «Вот открою “Phys. Rev.”1 или ЖЭТФ, а там новая теория!»
Игорь Евгеньевич очень высоко ценил Л.Д.Ландау, с которым у него были прекрасные отношения, несмотря на различие характеров. Но советы давал оригинальные. Если кому-либо из нас предстоял научный разговор с Ландау, то Тамм напутствовал нас так: «На замечания Ландау “общего” характера (типа “это бред!”, “этого не может быть!” и т.д.) не обращайте внимания. Однако как только Ландау начнет говорить что-либо конкретное по работе, то сразу превращайтесь в слух и не зевайте!»
Кумиром Тамма был Фарадей. Гениальность Фарадея, говорил он, в том, что он угадывал связь между, казалось бы, совершенно разнородными явлениями.
Почти любое совместное обсуждение с Игорем Евгеньевичем конкретных физических вопросов заканчивалось, как правило, дискуссией о более общих проблемах развития физики. Он часто повторял, что в физике элементарных частиц назрела необходимость фундаментальной перестройки наших представлений о характере процессов в малых пространственно-временных областях. Именно поэтому он увлекся в последние годы жизни идеями квантованного пространства-времени.
Статьи Игорь Евгеньевич писать не особенно любил, хотя писал довольно быстро, предварительно вынашивая в уме логику и формулировки. Все совместные работы с Игорем Евгеньевичем, в которых я участвовал, в черновом варианте писал он, а затем мы вместе «доводили» их до окончательного вида.
Он очень ценил коллективное, в узком кругу, обсуждение какой-либо свежей идеи, мысли, вопроса. Он называл это «малым трепом», а только что возникшие идеи — «Bier Idee»2. После окончания таких «трепов» он любил повторять слова Бора: «Я сегодня многому научился». Он вряд ли подозревал, что мы, участники таких обсуждений, выносили из общения с ним гораздо больше, чем он. Он был очень скромным и самокритичным человеком...
Образ этого человека всегда стоит перед моими глазами, и я буду рад, если хотя бы в малой степени мои воспоминания помогут сохранить этот образ для живых.
| {301} |
Игорь Евгеньевич, тепло рукопожатия которого еще чувствуют и авторы этого сборника, и многие его читатели, родился и рос в России последних императоров, царствование которых почти всем тогда казалось еще незыблемым. Еще не знали, что такое автомобиль и кино. Медленное вытеснение деревенской лучины керосиновой лампой было научно-технической революцией. Только еще изобрели радио, затем многие годы остававшееся в России без должного применения. Такая новинка, как телефонный аппарат, была установлена на квартире министра иностранных дел для прямой связи с гатчинской резиденцией царя. Но министр не умел с ним обращаться и при необходимости звал племянника. В русской армии вводилась новейшая техника — трехлинейная винтовка. Умами владели Толстой и Чехов, передвижники и Чайковский, Дарвин и Маркс, Рентген и Кюри. Россия старалась наверстать столетия крепостнической отсталости. Формировалось гражданское самосознание и развивалось революционное движение. Строился великий сибирский путь. Открывались картинные галереи. Нарождалась многочисленная интеллигенция. Ее составляли, с одной стороны, люди высочайшей технической и научной квалификации, нередко игравшие значительную роль в государственном аппарате (один из создателей теории автоматического регулирования И.А.Вышнеградский был известен не этой своей деятельностью, а тем, что стал умелым министром финансов; математик и теоретик судостроения, переводчик Ньютона с латыни А.Н.Крылов играл крупную роль при создании новейшего военно-морского флота), а с другой — подвижнические поколения земских врачей и сельских учителей.
Тамм родился, когда ученый многим казался чудаком и слово «физик» мало что значило. Он умер, когда дистанционное управление по радио за сотни миллионов километров никого не удивляло, когда человек расхаживал по Луне, и Игорь Евгеньевич мог слышать, как девочка справедливо удивлялась: «Что же тут особенного? Сколько я себя помню, люди всегда были на Луне». Он был свидетелем двух {302} мировых войн, грандиозной революции и фашизма, миллионных концентрационных лагерей и Хиросимы. Он умер в стране, социальный строй которой так же отличался от строя России его молодости, как отличается от трехлинейной винтовки введенная на вооружение уже даже не урановая, а водородная бомба. В конце его жизни многие миллионы людей на земном шаре разуверились в старых нравственных догмах. В то же время сам Игорь Евгеньевич оказался принадлежащим к категории людей — ученых-физиков, — которую обожествляли, но и проклинали, уважали, но и отвергали, нередко рассматривали, как олицетворение культуры, антагонистической старому гуманизму, но которую романтизировала молодежь.
Может ли человек вынести это преобразование окружающего мира, сохранив себя как единую личность? Что должно стать с его характером, убеждениями и взглядами на жизнь, если в детстве он ездил на лошадях и жил в пропыленном провинциальном городе, а в старости перелетал за считанные часы в другое полушарие, чтобы обсуждать возможности предотвращения термоядерной войны? Самым характерным в Игоре Евгеньевиче представляется именно то, что уже в юношеские годы сформировалось его отношение к жизни, к людям, к науке, к самому себе. Оно оставалось непоколебленным при всех трансформациях, происходивших в мире, при всех изменениях его личной жизни — в горести и радостях, в атмосфере пренебрежения и превознесения, причем его твердая жизненная позиция была основой не тупой неподвижности, а развивавшейся духовной и практической деятельности.
Мне посчастливилось знать Игоря Евгеньевича последние почти 40 лет его жизни. О предыдущих годах я многое слышал и от него самого, и от его близких. Но только недавно, когда мне была представлена возможность ознакомиться с его письмами 1913–1914 гг. к будущей жене Наталии Васильевне Шуйской, я понял, как сознательно, настойчиво и иногда мучительно формировалась тогда его личность. Этому восемнадцатилетнему юноше уже было понятно, каким он хочет быть, каким, по его мнению, должно быть. Уже тогда он в основном стал таким, каким я его узнал сорокалетним.
Главным в этой личности было то лучшее, что выработалось к началу XX в. в российской интеллигенции. Этот замечательный слой общества был далеко не однороден. Уже упоминались такие его разные группы, как высшая техническая интеллигенция и земские врачи. Но были и подпольщики, для которых только революционная деятельность оправдывала существование, — нужно ли говорить о том, что всем известно? Были богатые, модные, нередко действительно высокоталантливые инженеры, врачи и адвокаты. Были мечущиеся враги {303} «сытых», которые обращались к религии или античности, к символизму или футуризму, террору или мученичеству, — невозможно перечислить все разновидности. Отсюда выходили и поэты, и революционеры до мозга костей, и практические инженеры, убежденные, что самое существенное — это строить, созидать, делать полезное для народа дело. Но было во всем этом разнообразии нечто основное, самое важное и добротное — среднеобеспеченная, трудовая интеллигенция с твердыми устоями духовного мира. Вероятно, наиболее ясным представителем именно такой интеллигенции был Чехов — не тот «плакальщик», которого видели в нем современные ему недальновидные критики, а деятельный и безупречно правдивый, чувствительный и тонкий, но не слезливый и не сентиментальный, сдержанный, даже скрытный в высказывании личных переживаний и веселый. Тот Чехов, который предстает в его сочинениях и письмах и о котором так хорошо написал К.Чуковский1.
Игорь Евгеньевич как личность происходит именно отсюда, и лучшие черты этой интеллигенции являются лучшими его чертами, ее недостатки — и его слабостями.
Едва ли не главной из этих черт была внутренняя духовная независимость — в большом и в малом, в жизни и в науке. Она отнюдь не сопровождалась драчливостью, фрондерством, протестом ради протеста или зубоскальством, какими нередко заменяют продуманную твердость позиции. Еще в письмах из Эдинбурга Тамм много, хотя и по-юношески писал о своей убежденности в том, что эта независимость — главное для человека: «Все мы слишком считаемся с чужими мнениями и чувством... По-моему, люди отличаются от тех кустов, что между вашим домом и воротами... только тем, что для кустов надо садовника, чтобы их обрезать, а человек, как существо разумное, сам приучился... обрезать те стороны своей натуры, которые не соответствуют шаблону. А такие стороны есть у всех, а не только у «незаурядных» людей. Ну, а как только ты обрезал эти веточки, так от тебя счастье — фрр — улетело», — пишет он, сам немного стесняясь своего «глубокомыслия».
Игорь Евгеньевич мечтал посвятить себя революционной деятельности. Но на пути к этой цели стояло противодействие родителей. Отец — «городской инженер» в Елизаветграде (строил водопровод, электростанцию и т.п.) — был обременен работой, и мать аргументировала просьбу к сыну тем, что больное сердце отца не выдержит, если {304} с ним что-нибудь случится. Игорь Евгеньевич метался в ярости, не решаясь принять на себя такую ответственность. Временный компромисс был достигнут на том, что он в 1913 г. на год уехал, по его словам, в «добровольную ссылку» — учиться в Эдинбург (подальше от революции). Но и здесь, скрывая это от родителей, он знакомился с социалистическими кругами разного толка, с русскими политическими эмигрантскими организациями, с положением бедноты. Игорь Евгеньевич не хотел быть инженером, потому что, как он писал в одном письме, «быть инженером на фабрике, значит определенно быть против рабочих. Я, может быть, когда-нибудь и отойду от политики, это, к сожалению, возможно, но все-таки никогда не перейду на другую сторону и не буду бороться против своих единомышленников».
Отсрочка не изменила его намерений, и когда разразилась революция, он окунулся в нее со всей своей страстью. С успехом выступал против продолжения империалистической войны на массовых митингах, был депутатом Елизаветградского Совета и делегатом I съезда Советов в Петрограде, где продолжал ту же антивоенную линию. Он был меньшевиком-интернационалистом.
Это было в высшей степени органично для Игоря Евгеньевича. При всей свойственной ему духовной независимости он был все же сыном своего века и принадлежал к обширному слою российской интеллигенции, испытавшей характерное «чувство вины» перед приниженным, полуголодным трудовым народом. Этим чувством пронизана вся русская литература второй половины XIX и начала XX века, от Толстого и Достоевского до Александра Блока, писавшего в 1911 г.: «Да, так диктует вдохновенье: Моя свободная мечта Все льнет туда, где униженье, Где грязь, и мрак, и нищета...». Такой интеллигент не мог отмахнуться от этого ужаса жизни. Вопрос был только в одном: как преодолеть его. Российский интеллигент не мог отрешиться от этого вопроса и жить спокойно, зная, что распиваемая им в кругу друзей бутылка шампанского стоит столько же, сколько лошадь или корова, которые могут спасти от нужды крестьянскую семью.
Возможны были разные пути — от толстовского до блоковского («Дай гневу правому созреть, Приготовляй к работе руки...»). Активный революционный — террористический, как у народовольцев и эсеров, или пропагандистский, готовящий революцию, как у социал-демократов. Или эволюционный — терпеливое деятельное участие в улучшении жизни, какое избрали Чехов, земские деятели и многие другие.
Характер у Игоря Евгеньевича был таков, что его выбор можно было предвидеть. Рациональную опору для своего выбора он нашел в марксизме, принципам которого остался верен всю жизнь. Он остался, {305} в основном, марксистом даже тоща, коща, с одной стороны, на его глазах благородные идеи были использованы «бесами» для создания страшного тоталитаризма, а с другой — сам капитализм, несколько позже, решительно изменился, приняв некоторые важнейшие элементы социалистической идеи: ответственность государства и общества за личное благополучие граждан (в старости, в болезни и т.п.); в значительной степени — государственное регулирование экономики; ответственность государства за обеспечение прав и свобод личности и т.п. Другими словами, происходило превращение капитализма XIX века в капитализм «с человеческим лицом».
Игорь Евгеньевич ясно видел весь ужас сталинщины и послесталинского периода. Он сам пострадал от него. Но даже за год до смерти, когда мы с ним говорили обо всем этом, он сказал: «Да, но все же нельзя отрицать, что экономика перестроена на социалистических началах».
Однако, будучи свидетелем октябрьских боев в Москве он уже тоща ужаснулся действиям большевиков и в письме к Наталии Васильевне писал об этом.
После Октябрьской революции Тамм отошел от политической деятельности. Годы гражданской войны не способствовали научной работе. Он окончил Московский университет, некоторое время преподавал в Симферополе в Таврическом (Крымском) университете, где собралось много выдающихся ученых. И только приехав в Одессу, где познакомился с Л.И.Мандельштамом, смог страстно окунуться в науку. Неудивительно, что первую свою научную работу он опубликовал лишь в 1924 г., когда ему было 29 лет. В наше время на него как на будущего физика-теоретика уже давно махнули бы рукой. Формирование Тамма как ученого в эти года явно шло под влиянием его старшего друга, перед которым он преклонялся до конца дней, выдающегося физика, глубокого мыслителя Леонида Исааковича Мандельштама.
В середине 30-х годов Игорь Евгеньевич сказал мне: «Я думаю, если бы Пушкин жил в наши дни, он был бы физиком», — и, прочитав наизусть стихотворение «Движение»1, добавил: «Какое понимание {306} относительности движения, недостоверности очевидного!» Однако через двадцать лет он же говорил, что наступает эпоха, коща главную роль будут играть биофизика и биохимия, и что если бы он был молод, то стал бы биофизиком.
Период 30-х годов отмечен необычайно бурным взлетом его научной деятельности. Работы по квантовой теории оптических явлений в твердом теле, по квантовой теории металлов, по релятивистской теории частиц, по ядерным силам, по свечению Вавилова-Черенкова, по космическим лучам следовали друг за другом, и все они были значительны. Они принесли ему внутреннее удовлетворение и широкое признание в научной среде. Однако это же время было омрачено нараставшими трагическими событиями в мире. Для Игоря Евгеньевича, социального оптимиста, верящего в неуклонный гуманистический прогресс, это было источником тяжелых переживаний (в частности, в связи с судьбой любимого брата, которого принудили лично обвинить себя и других на публичном процессе Пятакова в 1937 году и затем расстреляли). Но об этих переживаниях посторонний мог догадываться только по тому, как новые и новые глубокие морщины ложились на его всего лишь сорокалетнее лицо, как редко он стал смеяться, и глубокая сосредоточенность при прежней энергичности движений стала на ряд лет определять его внешний облик.
Жизнь была не такова, чтобы Игорь Евгеньевич мог позволить себе уклониться от тех или иных проявлений гражданской позиции в острых ситуациях. Когда возникали философские дискуссии по проблемам новой физики, Тамм неутомимо отстаивал правильное понимание, не убоявшись тяжелых, даже опасных в то время, но несправедливых обвинений в идеализме. Положение Тамма вообще было легко уязвимым для нападок. Однако он не сделал ничего противоречащего его собственным представлениям о порядочности, что могло бы облегчить его участь и «исправить репутацию». Он по-прежнему проявлял заботу об оказавшихся в несчастье родных и друзьях, а главное — остался прежним Таммом, для которого при всем внимании и даже уважении к чужим мнениям и авторитету важнее всего была собственная оценка.
Внутренняя независимость проявлялась и в его органичном атеизме. В гимназические годы этот атеизм выражался в почти детских перепалках с «законоучителем» — священником. Но коща Игорь Евгеньевич вырос, то обрел во всей проблеме полную душевную ясность. Разумеется, он никогда не опускался до проявлений малейшего неуважения к верующим, но просто не мог понять, как человек способен передоверить кому бы то ни было, даже «высшему существу» или его представителям на земле, установление норм своего поведения. {307} Нравственные основы жизни каждый должен сам выработать и глубоко впитать в себя. Если верующие могут предложить ему какие-либо идеи, он готов их выслушать, однако насколько они ценны и приемлемы, это, извините, он должен решать сам. Но он уже в молодые годы сделал для себя вывод.
И другая область: когда в конце 50-х и в 60-е годы возникло Пагуошское движение, Тамм, понимая, как немного можно от него ожидать, сколько наивности и лицемерия в него привносится, счел своим долгом принять в нем деятельное участие. Он надеялся, что хоть мизерная польза будет, а тогда отворачиваться нельзя, даже если кто-то подсмеивается над этой попыткой.
Независимость подхода проявлялась в самых разных вопросах. Когда приближался его семидесятилетний юбилей, возникла мысль преподнести ему скульптурный портрет-барельеф Эйнштейна. Но чтобы узнать, понравится ли ему выбранный подарок, двое его более молодых друзей придумали «ловкий ход» — ничего не говоря о подарке, пригласили его вместе посетить мастерскую автора барельефа. Барельеф был выполнен в весьма современной манере и многим — в том числе и этим друзьям — очень нравился. Однако вкусы Игоря Евгеньевича в искусстве сформировались на 15–20 лет раньше, и хотя, когда ему однажды проигрывали музыку Шостаковича, он отнесся к ней серьезно и с интересом1, а при упомянутом посещении мастерской скульптора был внимателен и сосредоточен, этот барельеф ему решительно не понравился. В мастерской он был молчалив и серьезен и, только покинув ее, коротко отрезал: «Нет, все совершенно не нравится». Он не стал подделываться под вкусы более молодых, как это свойственно некоторым, желающим быть «на уровне». Эта независимость мышления и поведения сыграла едва ли не решающую роль в его научных достижениях. Так случилось, что не однажды коллеги встречали его работы резко критически. Вот только два примера.
Когда был открыт нейтрон и стало ясно, что атомное ядро построено из нейтронов и протонов, возникла проблема согласования этой модели с измеренными вскоре значениями магнитных моментов ядер. Уже экспериментатор Бечер заметил, что магнитные моменты ядер можно понять, если приписать магнитный момент (и притом отрицательный) самому нейтрону. Игорь Евгеньевич (вместе со своим аспирантом С.А.Альтшулером) проанализировал имевшиеся данные и пришел к такому же выводу2. Ныне, когда мы так привыкли к картине пространственно протяженных адронов со сложно распределенными электрическими {308} зарядами и токами, даже трудно понять, почему это было воспринято как нелепая ересь, простительная еще, если ее высказал экспериментатор, но постыдная в устах образованного теоретика. Тогда считалось несомненным (и единственно совместимым с теорией относительности), что элементарные частицы — точечные, и у нейтрона, не несущего в целом электрического заряда, неоткуда взяться магнитному моменту. На харьковском совещании 1934 г., где была доложена эта работа, было много крупных физиков, самых именитых, иностранных и наших. Тамм рассказывал мне, как мягко и даже с некоторым состраданием эти люди, любившие и уважавшие его, люди, которых и он глубоко уважал, старались на разных языках объяснить ему нелепость его вывода. Он их внимательно слушал, с горячностью спорил и не мог отступиться от своей точки зрения — он не видел убедительного опровержения. Впоследствии — и скоро — стало ясно, что он прав.
Через двадцать лет, когда стало развиваться физика пионов на ускорителях в области энергий порядка одного гигаэлектронвольта, Ферми нашел, что рассеяние пион — протон имеет резонансный характер. Игорь Евгеньевич воспринял результат Ферми как свидетельство существования короткоживущих нестабильных частиц, страстно увлекся этой идеей сам, увлек своим энтузиазмом группу молодых теоретиков и развернул в ФИАНе широкий круг исследований разных пионных процессов (с успехом были рассмотрены рассеяние пион — нуклон, фотогенерация пионов на нуклонах и взаимодействие протон — нейтрон) на основе единой идеи о наличии резонансных состояний в системе нуклон — пион. Он называл их «изобарами». В таммовском Теоретическом отделе ФИАНа работа закипела, «изобары» стали злобой дня. Ныне покойный Семен Захарович Беленький (удачно применивший «изобары» в статистической теории множественной генерации адронов при высоких энергиях в варианте Ферми) написал шуточное стихотворение, где слова рифмовались со словом «изобары», повторяющимся через строку: «Аспиранты! Стройтесь в пары, изучайте изобары! Тары-бары, тары-бары, изучайте изобары» т.д.
Как сразу выяснилось, удовлетворительное количественное описание всех процессов можно получить, только если предположить, что такое состояние имеет большую резонансную ширину, более сотни мегаэлектронвольт, т.е. немногим меньше самой высоты уровня. Это вызвало резкий скептицизм некоторых лучших наших теоретиков вне ФИАНа (например, Л.Д.Ландау и И.Я.Померанчука, лично очень дружественно настроенных по отношению к Тамму). В самом деле, возможно ли говорить о подобных резонансах как о реальности? Расчеты ведь идут по приближенному методу, без учета многопионных {309} состояний, «числам верить нельзя». Однако вычислительная работа была проведена огромная. И Игорь Евгеньевич хорошо чувствовал и оценивал устойчивость выводов по отношению к сделанным приближениям. Как ни силен был скептицизм и авторитет критиков, он не поддался ему и продолжал отстаивать реальность таких объективов. Прошло немного времени, и резонансы стали полноправными членами семейства элементарных частиц.
Было бы, однако, глубоко ошибочно думать, будто Игорь Евгеньевич вообще никогда не соглашался с критикой. В том и была его сила, что он с полной серьезностью вдумывался в мнение оппонента и сразу признавал свою неправоту, если слышал убедительный довод. Сколько раз он сам себя опровергал, сколько раз, рассказав на внутреннем — «пятничном» — семинаре о полученном им результате, через неделю страстно и неоглядно каялся. Быстро расхаживая перед доской, торопясь высказаться, он клял себя за то, что «прошлый раз наговорил чепухи», что ему стыдно и т.п. Иногда это бывало после того, как кто-нибудь из молодежи наедине указывал ему на ошибку. Но в печать шло только то, что он перепроверял много раз и в чем был уверен. Никак не могу припомнить ни одной его печатной работы, которая оказалась бы ошибочной. Были одна-две публикации с весьма частными гипотезами, которые он и сам считал ненадежными (он публиковал их только в ожидании отклика экспериментаторов) и которые оказались неверными.
Он помнил свои ошибки иногда лучше, чем некоторые переставшие его интересовать собственные старые работы, помнил и не скрывал. Как-то уже в начале 60-х годов он рассказал мне о своем политическом споре с Бором. Они возвращались поездом из Харькова в Москву в 1934 г. Время было тревожное, гитлеризм навис над миром. Бор говорил, что противостоять ему удастся, только если объединятся все антифашистские силы— коммунисты, социал-демократы, либералы. «Как вы не понимаете, Тамм, это необходимо», — убеждал он. По существу, Бор говорил о том, что реализовалось вскоре в Народном фронте во Франции, в испанской гражданской войне, в движении Сопротивления. Но Тамм был сторонником распространенного тоща мнения, будто подобный союз лишь ослабит антигитлеровскую борьбу. Они проспорили, стоя у окна в коридоре, чуть ли не всю ночь. С какой горечью вспоминал он об этой своей (если бы только его одного) слепоте!
Игорю Евгеньевичу не нужно было «выдавливать из себя по каплям раба», как Чехову, выросшему в страшной среде тупых лавочников и мещан. Он мог ошибаться, мог излишне доверять привычным словам, менявшим со временем свой смысл, но, даже подчиняясь непреодолимому, он не был рабом.
| {310} |
Игорь Евгеньевич был мужественным человеком. Он был смелым и в простом смысле. Он спокойно и достойно вел себя под бомбежкой на фронте во время первой мировой войны. В письме к будущей своей жене, описывая одну такую бомбежку, он с удовлетворением написал: «Очень жутко, когда, стоя на открытом месте, слышишь зловещее шипение. Но все же свободно можно удерживать себя в руках» (письмо от 23.V.1915 г.). Во время гражданской войны, переезжая между Крымом, Одессой и Елизаветградом, он не раз попадал в чересполосицу всяческих властей, в том числе и таких, как Махно. Тамм вспоминал эпизоды, когда он оказывался в смертельно опасной ситуации и лишь самообладание спасало его. Он был одним из старейших у нас альпинистов и не раз подвергался опасности, но шел в горы снова и снова.
Однако стоит рассказать один эпизод, показывающий, что он сам понимал под мужеством. Его сын тоже стал альпинистом, даже более высокого класса (мастером спорта), и не раз возглавлял уникальные, опаснейшие восхождения. Я никогда не слышал, чтобы Игорь Евгеньевич восхищался своим сыном, которого очень любил, по какому бы то ни было поводу, хоть когда-нибудь «похвастался» им1. Разве только обычной скороговоркой в ряду других семейных новостей сообщал: «Женя2 вернулся, был зимний траверс, категория трудности 56» (это высшая из возможных). Помню лишь один случай, когда он не сдержался. Звено («связка») из экспедиции сына взошло на вершину Хан-Тенгри (7000 м), а сам он, идя в следующем звене, прождал двое суток погоды в нескольких сотнях метров от цели и, трезво оценив силы, отдал распоряжение отступить и спускаться вниз. Узнав об этом, Тамм пришел в восторг. «Какой молодец, — говорил он мне, — какие нужны были смелость и мужество, чтобы взять на себя такую ответственность, лишить себя и своих товарищей радости возможной победы в двух шагах от нее!»
Мужество, основывающееся на высоком интеллекте, — вот что {311} было особенно характерно для Игоря Евгеньевича и что особенно проявилось в последние годы — годы его тяжелой, неизлечимой болезни. Всю жизнь он был на редкость здоровым человеком, никогда не болел серьезно. Ему было за шестьдесят, когда как-то после воскресного дня он радостно сообщил: «Вчера я узнал, как просто можно выиграть одну секунду на стометровке. Нужно только предварительно пробежать эти же сто метров один раз». И вот этот подвижный человек, у которого и походка была такая, как будто он стремился сам себя обогнать, из-за перерождения нерва, управляющего диафрагмой, был срочно оперирован и переведен на респираторную машину: в трахею, перпендикулярно шее, снаружи была вставлена металлическая трубка, присоединявшаяся к машине, которая равномерно, в ритме естественного дыхания вдувала воздух в легкие.
Я ждал этого момента с ужасом, почти уверенный, что именно мужество Игоря Евгеньевича побудит его вырвать трубку и покончить с такой полужизнью. Но я слишком упрощенно представлял себе, что значит его мужество. Через несколько дней меня допустили к нему в клинику, в день, когда он впервые в течение часа сидел в кресле и еще не научился говорить в новых условиях (требовалось произносить слова то ли на вдохе, то ли на выдохе). Не успел я побыть с ним двух минут, как заведовавшая респираторным отделением профессор Любовь Михайловна Попова1, под руководством которой была проведена операция и которая потом до конца руководила лечением, увела меня в свой кабинет и с тревогой спросила: «Вы видели, что Игорь Евгеньевич сегодня писал? Когда его усадили в кресло, он знаками показал, чтобы из стола вынули ящик, положил его на колени вверх дном, на него бумагу и начал писать какие-то математические знаки. Вы видели их? Это адекватно?» На медицинском языке это значило: «Он не рехнулся?»
По-видимому, мне так и не удалось убедить ее до конца, что он просто продолжал вычисления по увлекавшей его работе, прерванные в больнице перед операцией. Очевидно, лежа неподвижно все дни после операции, он что-то придумал и хотел скорее проверить, прав ли он. «Но так же не бывает! Каждый, кому приходится подвергаться этой операции, испытывает психологический шок, “рассыпается” и очень долго не может прийти в себя!»2. Игорь Евгеньевич не «рассыпался» — он нашел выход в работе. В течение трех лет у него дома {312} одна — «большая» — машина стояла у кровати, другая — на письменном столе. Он вставал с кровати, переходил к столу и работал по несколько часов, подключившись к другой машине. Металлическое соединение человека с ритмически пыхтевшим аппаратом производило тяжелое впечатление на каждого, увидевшего эту картину впервые. Но он не был сломлен. Одержимый некоей идеей из области теории частиц — как обычно для него, кардинальной, претендовавшей на решение фундаментальных трудностей теории (он сам проклинал себя, что не может оставить ее, пока не выяснит окончательно, хороша она или плоха), — он вычислял и вычислял, нумеруя только сохраняемые страницы четырехзначными цифрами.
В 1968 г. Академия Наук СССР присудила Тамму Ломоносовскую медаль. По уставу лауреат должен прочитать доклад о своих работах на Общем собрании Академии. И Игорь Евгеньевич, прикованный к машине, решил по возможности не нарушать этого правила. Он написал доклад объемом в печатный лист, примечательный, в частности, тем, что был посвящен не столько прошлым работам (как принято), сколько тому, чем он занят в настоящее время, на что рассчитывает и какими видит общие перспективы теории частиц. Этот доклад, зачитанный за него на заседании Андреем Дмитриевичем Сахаровым, отражал и характерный для него оптимизм. Он заканчивался словами: «Я надеюсь, что мы с вами доживем до нового этапа теории, в чем бы он ни заключался».
Когда участники собрания рассаживались в зале, Дмитрий Владимирович Скобельцын1 (и ранее с удивлением справлявшийся у меня — неужели доклад будет представлен), сказал с сожалением: «Но это, конечно, будет так, для формы, ему доклад подготовили». Но когда чтение было окончено, проходя мимо меня, он бросил: «Да, это, конечно, доклад Игоря Евгеньевича. Ясно — это он сам целиком».
Игорь Евгеньевич был деятельным человеком. Шаблонные слова — «живем только один раз» — слова, которые для пошляков оправдывают потребительское отношение к жизни, он никогда не произносил. Но всегда казалось, что они были для него основой, определяющей требование к себе — сделать в жизни максимум того, что можешь сделать достойного: оставить нечто в науке, помочь окружающим тебя людям, осуществить все, что тебе по силам, как бы это ни было мало в масштабе человечества. Его обычная жалоба в письмах к Наталии {313} Васильевне еще в молодости — на потерянное без дела время, на свою вынужденную по той или иной причине бездеятельность.
Чувство причастности к судьбе человечества было вообще ему свойственно. Оно определяло и его увлечение политикой в молодости, и борьбу против всяких видов лженауки, и участие в овладении атомной энергией для обеспечения равновесия в мире, которое необходимо, как он вместе со многими полагал, если мы хотим предотвратить ядерную катастрофу. Но нередко бывает, что, заботясь о человечестве, не думают о человеке. Однако вот факт. В 1953 г. на Тамма обрушились почести и награды. Ничего сколько-нибудь похожего в его жизни не бывало. Однажды он увел меня к себе в кабинет и сказал: “Я получил очень большую премию. Эти деньги мне совершенно не нужны. Не знаете ли вы каких-нибудь молодых людей, которым необходимо помочь, чтобы они могли заниматься наукой?” Недавно я узнал, что этот вопрос он задавал не мне одному, и практическое осуществление во всех случаях не замедлило последовать1.
Да и вообще — обычная картина: коща в его кабинете в институте заканчивается деловой разговор, он вдруг вынимает папиросную коробку (или конверт от полученного письма), во всех направлениях исписанную ему одному понятными заметками, и (папироса в углу рта торчит вверх, дым от папиросы раздражает глаз, и он жмурится) вспоминает: «Ага, этому позвонить... а за этого похлопотать... об этом узнать» и т.д.
В науке его деятельное начало заставляло его непрерывно работать. Он любил работать по ночам, огромная часть сделанного не получала отражения в публикациях — он печатал только подлинно результативные вещи, и число его опубликованных работ по теперешним масштабам неправдоподобно мало (если исключить популярные статьи, обзоры и перепечатки на других языках, наберется лишь 55 научных статей). Иногда вдруг — обычно после неудачи какой-нибудь попытки решения крупной проблемы, забравшей много сил, — наступало разочарование, и не было новой идеи, тоща он чувствовал себя опустошенным и несчастным. Он приходил в институт и просил более молодых сотрудников: «Подкиньте какую-нибудь задачку». Он называл это «опохмелиться после запоя». Так появились неожиданные конкретные работы по весьма частным проблемам: по теории упругости (совместная с Л.М.Бреховских2) — о сосредоточенном ударе об упругую пластинку, а также работа, совместная с В.Л.Гинзбургом, по электродинамической {314} теории слоистого сердечника (как известно, Тамм был теоретиком широчайшего профиля, обладал крепкой профессиональной хваткой и мог с легкостью делать работы в самых различных областях физики).
Впрочем, работа о слоистом сердечнике относится к военным годам, и здесь вопрос стоял еще острее. Находясь вместе с институтом в эвакуации в Казани с августа 1941 по сентябрь 1943 г., Игорь Евгеньевич был глубоко несчастен. В это тяжелейшее для страны время он оказался в стороне от наиболее важных в этот момент дел1. Он принял участие в расчете магнитных полей сложной конфигурации, помогая А.П.Александрову и И.В.Курчатову в их важной работе по защите кораблей от магнитных мин, и был рад, что нашлось дело. Потом рассчитывал оптическую систему для спектральных приборов, чрезвычайно нужных оборонной промышленности2, содействовал изучению свойств взрывчатых веществ3. Но это была слишком простая для него работа. И она его не удовлетворяла. Он чувствовал, что его талант и квалификация не находят должного приложения. Я никогда не видел его таким почти постоянно раздраженным и озабоченным. Казалось, он, всегда столь нетребовательный и почти аскетически скромный в личных бытовых потребностях, переживал как унижение необходимость в условиях голодной тыловой жизни заботиться об элементарном обеспечении пропитанием себя и семьи. На фоне смертельной опасности для страны это было для него мучительно.
Когда разразилась первая мировая война, он встретил ее, как говорили тогда, «антипатриотично». Он понимал, что это «чужая война», и не пожелал, подобно некоторым другим студентам, идти на фронт «вольноопределяющимся» (как студент Московского университета он был освобожден от призыва в первые годы). Его жена Наталия Васильевна вспоминала, как яростно он спорил с оборончески настроенным членом их семьи. Но на фронте лилась кровь, и, закончив пораньше занятия, он весной 1915 г. пошел добровольцем-санитаром (или «братом милосердия») в полевой госпиталь. Он видел потоки крови, в периоды боев через его руки проходили сотни, тысячи раненых, он стал свидетелем страданий, которые нельзя было забыть, а причины, приведшие к ним, нельзя было оставить неосмысленными. Но теперь было другое, и он глубоко страдал от своей отстраненности от общего дела. Конечно, он все время интенсивно работал — Игорь Евгеньевич не мог {315} существовать без научной работы. Но это была теория элементарных частиц, теория ядерных сил и другие подобные вопросы, которые в первые годы войны считались неимоверно далекими от практических приложений. В то время мало кто мог предвидеть, что всего через несколько лет эти «абстрактные», «неактуальные» вопросы окажутся в числе самых жизненно важных, самых злободневных. И Игорю Евгеньевичу было тяжело.
Придется использовать еще одну стертую от чрезмерно легкого употребления формулировку, сказав, что Игорь Евгеньевич был принципиален в своем поведении. Если снять с этого слова привычный налет пустой юбилейной торжественности, то станет видно, как точно оно обозначает то, что сейчас будет рассказано. Конечно, уже многое из написанного выше может оправдать это утверждение, но стоит специально остановиться на том, как Игорь Евгеньевич спорил, отстаивал науку, боролся с лженаукой. К сожалению, под полемическим талантом обычно понимают умение поразить противника яркими формулировками, красноречием, острыми выпадами, иногда даже способность унизить его, «разоблачить». Все это было совершенно чуждо Игорю Евгеньевичу. Он, с таким возбуждением увлекавший слушателей красочными рассказами о своих и чужих путешествиях, приключениях, комических, трагических и трагикомических эпизодах, которых у него всегда было в избытке, в публичных выступлениях и спорах становился строг, даже сух. Его целью было выяснить, обнаружить правду и только мыслью, доводами, знанием фактов убедить противника, приобщить и его к своей правде. Все личные моменты начисто исключались. Сам честный и правдивый, он заранее предполагал такую же честность и правдивость у оппонента. Разумеется, чаще всего это было наивно. Вот три примера.
Как ни покажется невероятным (здесь часто используется эта фраза, но ничего нельзя поделать — много на протяжении жизни Тамма встречалось такого, что ушло в далекое прошлое, во что теперь трудно поверить), даже в 30-х годах у нас встречались титулованные ученые, считавшие электромагнитное поле проявлением механических движений эфира. Наиболее активными пропагандистами этой точки зрения, отвергнутой наукой еще в начале столетия, были, пожалуй, физики профессора А.К.Тимирязев и Н.П.Кастерин, а также электротехник академик В.Ф.Миткевич1. Особая трудность ситуации заключалась в том, что они утверждали, будто всего этого требует диалектический {316} материализм, и им верили облеченные властью люди, не знавшие физики.
Игорь Евгеньевич ни в силу своего темперамента, ни как создатель курса теории электромагнитного поля, читавшегося им в Московском университете, ни как человек, еще в молодости изучавший марксизм и, в частности, марксистскую философию, не мог остаться в стороне. Но хлестким и демагогическим формулировкам этих лиц он противопоставлял одну лишь серьезность аргументации. Чтобы показать условность концепции силовых линий и фиктивность понятия числа линий, он придумал и рассчитал прекрасный пример: в системе двух электрических токов — линейного и окружающего его кольцевого — результирующее магнитное поле имеет тороидальную форму: магнитная силовая линия проходит, извиваясь по поверхности «бублика» — тора, окружающего линейный ток. Если силы двух токов находятся в рациональном отношении друг к другу, то совершив соответствующее число витков, силовая линия замкнется на себя. Но достаточно сколь угодно мало изменить силу одного тока так, чтобы это отношение стало иррациональным, и силовая линия никогда не замкнется. Тогда через любое сечение тора будет проходить бесконечное число линий. Образуется сплошная тороидальная магнитная поверхность.
Каждый физик, казалось бы, должен понимать, что плотность числа силовых линий поэтому может быть лишь условной мерой напряженности поля, отдельная линия не может быть реальным механическим движением эфира. Стоит добавить, что описанный физический пример, помещенный еще в первом издании курса Игоря Евгеньевича (1929 г.), в последние десятилетия приобрел практическое значение — магнитные поверхности такого типа играют большую роль в стеллараторах (один из разрабатываемых вариантов управляемого термоядерного синтеза).
Второй пример относится к 1936 г. В Москве в огромном зале Коммунистичекой академии на Волхонке (ныне в этом здании помещается Институт философии РАН и другие родственные ему учреждения) заседала сессия Академии наук СССР, на которой отчитывался за работу Ленинградского физико-технического института его директор А.Ф.Иоффе. Длительные прения переросли в обсуждение общих организационных и научных проблем физики в нашей стране. Резко критические речи, обвинявшие А.Ф.Иоффе в излишнем оптимизме, произнесли, в частности, молодые Л.Д.Ландау и А.И.Лейпунский. Не помню уже, в какой момент выступил Игорь Евгеньевич с возражениями В.Ф.Миткевичу, вновь отстаивавшему механическую теорию электромагнетизма. Как всегда, Тамм говорил мотивированно, четко и сосредоточенно. Аудитория были накалена предшествовавшими {317} спорами, амфитеатр зала был полон, многие (я в их числе) сидели на полу в подымавшихся ступенями проходах. Разъясняя неприменимость некоторых механических понятий к электромагнетизму, в частности, в связи с настойчиво повторявшимся вопросом его оппонентов — какое вещество передвигается в пространстве между двумя электрическими зарядами, когда один из них смещается1, Игорь Евгеньевич сказал:
— Существуют вопросы, для которых нет осмысленного ответа, например вопрос: какого цвета меридиан, проходящий через Пулково, — красного или зеленого?
И вот академик В.Ф.Миткевич громко произносит:
— Профессор Тамм не знает, какого цвета меридиан, на котором он стоит, а я знаю — я стою на красном меридиане.
Игорь Евгеньевич лишь удивленно посмотрел на оратора, пожал плечами и не стал продолжать спор2.
Наконец, третий эпизод. В середине 50-х годов, вместе с рядом биологов, физиков и математиков Тамм вел неустанную борьбу за развитие в нашей стране научной генетики, некогда занимавшей ведущее положение в мире, но задавленной лысенковщиной. В октябре 1956 г. было созвано Общее собрание Академии Наук СССР для переизбрания на новый срок президента академии А.Н.Несмеянова3. Казалось, вопрос не вызывает сомнения. Тамм, подобно другим членам академии, высоко ценил А.Н.Несмеянова как ученого. Отношения между ними были наилучшими, они были «знакомы домами». Несмотря на это, Игорь Евгеньевич взял слово и произнес большую спокойную и твердую речь. Он высказал свое общее, весьма положительное мнение о президенте, свою уверенность в его прогрессивных научных взглядах, но предъявил ему претензии по ряду пунктов, особенно в связи с недостаточной, по его мнению, деятельностью по развитию биологической науки. Тамм предложил отсрочить переизбрание и поручить А.Н.Несмеянову предварительно выступить перед Общим собранием с четким планом мероприятий, которые тот предполагает осуществить. Вновь и вновь подчеркивая свое уважение к А.Н.Несмеянову, он говорил, что такое решение поможет ему, так как поддержка {318} Общего собрания академиков придаст больше авторитета и действенности трудной работе президента.
Игорь Евгеньевич внес это предложение еще на предшествовавшем заседании Отделения физико-математических наук, где оно и было принято. Но все другие отделения были за простое избрание без всяких условий. На Общем собрании речь Тамма вызвала бурю. Она произвела столь сильное впечатление, что было принято компромиссное решение: избрать А.Н.Несмеянова, но в недалеком будущем созвать специальное Общее собрание, заслушать и всесторонне обсудить его доклад. Это собрание состоялось в декабре, в прениях выступили около 30 членов академии. Столь широкого, откровенного, часто резкого обсуждения академия давно не знала.
Хорошо известно, что Игорь Евгеньевич вообще был непримирим к лженауке. В конце 40-х годов некоторые авторы возобновили атаки на теорию относительности и квантовую механику как на «буржуазно-идеалистические» теории. В такой обстановке некоторые профессора старались как-то приспособить эти теории, сделать их приемлемыми для критиков даже ценой вульгаризации науки. Конечно, современная наука укоренилась к тому времени у нас уже достаточно прочно и интенсивно использовалась в важных для страны исследованиях. Авторитетная защита науки И.В.Курчатовым, В.А.Фоком, С.И.Вавиловым и многими другими тоже сделала свое дело. Было достаточно и рядовых ученых, не убоявшихся нападок, но положение все же было очень непростым. Тамм не прощал отступничества от науки, порожденного карьеризмом или робостью, не прощал даже тем, кто ранее был близок ему, и рвал личные отношения с ними.
В поведении Игоря Евгеньевича удивительным образом сочетались веселость, живость, откровенность, общительность, импульсивность, даже раздражительность и вспыльчивость (подчас необоснованные) и в то же время сосредоточенность, сдержанность, почти замкнутость, тактичность, корректность. Веселость, живость, импульсивность — для общения, для отдыха, для лекций, особенно для популярных; раздражительность, вспыльчивость — только в том, что касается мелкого и второстепенного, повседневного, бытового, недостойного, мешающего жить и работать. Если же речь идет о существенном, серьезном, действительно важном — то это другой человек: только обдуманные слова, только полновесная аргументация, только справедливость в отношениях и высказываниях — никакой поспешности, ничего постороннего, ничего пустого.
В обществе, или, как теперь принято фамильярнее говорить, в {319} компании, Игорь Евгеньевич — неистощимый рассказчик, который сам наслаждается тем, о чем рассказывает. Он с легкостью становится центром внимания, готов принять страстное участие в любых выдумках, шарадах, играх, полушуточных спортивных соревнованиях, радуется, если побеждает, яростно проклинает себя за поражение. Но даже здесь, в шуме и веселье, остается неизменной его — и врожденная, и воспитанная — тактичность: он никогда не заслонит другого, готов слушать чужие рассказы, не перебивая, подает реплики так и в такие моменты, что они не мешают, а помогают собеседнику и другим слушателям.
Увы, эта культура поведения отнюдь не свойственна многим людям следующих поколений. Однажды к нему специально пришел познакомиться А.И.Солженицын, который очень интересовал и Игоря Евгеньевича. Тамм пригласил также двух своих более молодых друзей. Они очень скоро, с горячностью перебивая друг друга, перевели весь разговор с гостем на себя, а Игорю Евгеньевичу оставалось только похмыкивать, поблескивать глазами, улыбаться и разве что вставлять отдельные фразы. Так, по существу, и не получилось у него самого разговора с гостем. Разумеется, он ничем не попрекнул своих друзей. Более того, потом оказалось, что он даже не заметил, как его бесцеремонно оттеснили.
Но при всей общительности Игорь Евгеньевич очень скупо выражал свои глубокие переживания. О скрытых чертах характера человека, мне кажется, можно судить, например, по тому, как он себя ведет, играя в шахматы (как сто-двести лет тому назад характер обнаруживался за картами). Эмоциональная и интеллектуальная настроенность, владеющая физиком-теоретиком во время работы — во время вычислений за письменным столом (а может быть, у всех научных работников вообще), по-моему, близка к тому, что человек переживает за шахматной доской. Нужно преодолеть сопротивление «противника» — поставленной задачи, предвидеть возможное положение «на много ходов вперед», быть может, даже не произведя всех вычислений для какого-либо варианта, понять, на какие трудности можно наткнуться, какой подвох может встретиться; нужно оценить наиболее трудные, «слабые» пункты исходной позиции и разных вероятных ситуаций. Нужно вести игру, все время имея в виду избранный общий план и цель. При этом нужно не допустить простой вычислительной ошибки, а также необходимо одновременно держать все в голове и действовать, двигаться вперед, непрерывно перерабатывая информацию об изменяющейся ситуации. Отдельно стоит вопрос о внешних реакциях игрока на свой удачный ход и на неудачу, на поведение противника и т.п.
В числе страстных увлечений Игоря Евгеньевича были и шахматы. {320} Играл он весьма средне, вероятно, никак не сильнее второго или даже третьего разряда. Но за игрой раскрывалось в нем многое. Прежде всего замечательно было мгновенное переключение от живости и веселости постороннего разговора к максимальной сосредоточенности и серьезности, как только делался первый ход. Далее, в процессе игры была видна полная мобилизованность. Если кто-нибудь — противник или зритель — отпускал шутку, Тамм не замечал ее или, в крайнем случае, отвлекшись на секунду, искусственно улыбался одними губами. Лучшие ходы он делал в трудной позиции. Иногда казалось, что выхода у него нет, но долгое напряженное обдумывание и страстное желание устоять или победить давало совершенно неожиданный результат. Сделав в таком опасном положении хороший ход, он передвигал папиросу в другой угол рта, сжимал кисти рук между коленями и, многократно переводя глаза с доски на задумавшегося противника и обратно, с прежним напряжением всего своего существа ждал ответа или начинал нервно искать папиросную коробку и спички, которые всегда оказывались не на месте. Проигрыш переживал, как крупную неприятность. Однако, как и в жизненных ситуациях, обнаруживал переживания очень скупо, хотя страстность натуры делала это непростым делом. Здесь страдало его стремление к самоутверждению, которое вообще играло большую роль в его жизни. Можно думать, что шахматная ситуация хорошо моделирует его поведение в процессе научной работы.
Уже говорилось, что он никогда не выплескивал на другого свои горести. Несчастье других вызывало его глубокое сочувствие, но и его он выражал в сдержанных словах и сдержанным тоном. Лишь в самые последние годы, годы болезни, иногда появлялись внешние выражения мягкости и чувствительности.
Шли годы, множились огорчения, сменявшиеся периодами удовлетворенности, были и подлинные радости, и глубокие несчастья — сам Игорь Евгеньевич как человек оставался в своей основе одним и тем же. Его характер, живость его реакций, интерес к миру, преданность науке, доброжелательность и непримиримость — его внутренняя сущность — сохранялись неизменными. Но тяжело переживаемое навсегда откладывалось все новыми морщинами на том же умном и подвижном лице.
Игорю Евгеньевичу было глубоко свойственно чувство собственного достоинства. Я решусь даже сказать, что он был гордым человеком. Однако, употребляя это слово, нужно многое объяснить. Это была не та гордость, которую вульгарные люди отождествляют с высокомерием. {321} Российская интеллигенция, из которой вышел Игорь Евгеньевич, выработала свои, особые мерки. Видя, как радостно Игорь Евгеньевич бежит навстречу человеку, который ему симпатичен, как он суетится, «обхаживая» его, сыплет словами, сбиваясь в речи и волнуясь, будь то Нильс Бор или ничем не прославившийся товарищ по альпинистскому восхождению, иной элементарно чувствующий и тупо воспитанный наблюдатель даже с некоторым состраданием смотрел на такое «отсутствие чувства собственного достоинства», связываемого часто с величественностью и позой. Некоторых подобная непосредственность поведения вводила в заблуждение. Но грубый и хамоватый администратор, позволивший себе, лениво развалившись на диване, разговаривать со стоящим перед ним, поначалу таким вежливым (он, вероятно, по невоспитанности думал — заискивающим) Таммом, вдруг испуганно вскакивает, когда этот вежливый человек внезапно гневно взрывается. Близкие сотрудники могут вспомнить и другие подобные сцены вспыльчивости Игоря Евгеньевича даже по менее достойным поводам.
Но за несколько десятилетий можно насчитать разве что три-четыре таких случая, когда Тамм перед лицом неуважения или прямого хамства терял контроль над собой. И нам, окружающим, было за него неловко, и сам он считал это недостойным поведением и стыдился своих срывов. Притом я убежден (имею для этого основания), что в такие моменты он обычно находился в состоянии нервного напряжения по иным, действительно серьезным причинам, которое он, как обычно, не обнаруживал перед другими (по поговорке: «кричит на кошку, а думает на невестку»).
Если бы сам Игорь Евгеньевич услышал, что с ним связывают слово «гордость», он, быть может, рассмеялся бы или удивился, а может быть, и возмутился. Над такими громкими словами он иронизировал. Но как назвать хотя бы независимость и непреклонность позиции, о которой говорилось выше? Как назвать его спокойную реакцию и на официальное пренебрежение, которое он долго встречал, и на официальные награды?
Игорь Евгеньевич был избран членом-корреспондентом Академии наук в 1933 г. К середине 30-х годов он сделал уже едва ли не крупнейшие свои работы: теорию рассеяния света в кристаллах — в том числе комбинационного рассеяния (Раман-эффект), где впервые были последовательно проквантованы колебания решетки и появилось понятие квазичастицы (фононы); последовательную вторично-квантованную теорию рассеяния света на электронах, доказавшую, в частности, неустранимость уровней с отрицательной энергией в теории Дирака, и это имело глубоко принципиальное значение; вычисление времени жизни позитрона в среде; теоретическое предсказание {322} поверхностных уровней электрона в кристалле — «уровней Тамма»; основополагающую работу по фотоэффекту в металлах и, наконец, теорию бета-сил между нуклонами. К 1937 г. относится (совместное с И.М.Франком) объяснение и создание полной теории излучения Вавилова-Черенкова. Период 1930–1937 гг. был периодом какого-то невероятного творческого взлета. Мощь Тамма проявилась с впечатляющей продуктивность. Все физики видели в нем одного из самых крупных теоретиков. Эренфест, намереваясь покинуть свою кафедру в Лейдене (которую он занимал после Лоренца), называл Тамма в качестве наиболее желательного преемника. Ферми после работы Игоря Евгеньевича о бета-силах (1934 г.) высказывал чрезвычайно высокую оценку и этой работы, и самого Тамма как крупного теоретика (свидетельство тогдашнего сотрудника Ферми — Б.М.Понтекорво)1. Но Академия наук все не избирала Игоря Евгеньевича своим действительным членом. Он был избран лишь через 20 лет — в 1953 г. Это отнюдь не было недооценкой его научных заслуг учеными. В то время выборы в Академию жестко контролировал ЦК КПСС. Известно, что перед выборами в середине сороковых годов Жданов А. А. лично вычеркнул фамилию Тамма из списка тех, кого разрешалось избрать. Тамм «ходил» в идеалистах вплоть до смерти Сталина. А кроме того, — меньшевистское прошлое, расстрелянный брат-«вредитель», близкие друзья — «враги народа». Однако никто не видел, чтобы он хоть когда-нибудь выражал горечь по этому поводу, волновался, обижался. Когда он замечал подобную реакцию у других, он только удивлялся. Неудачи в попытках создания полной теории ядерных сил его беспокоили несравненно больше, они его действительно огорчали.
А вот обратная ситуация. В 1958 г. ему (совместно с И.М.Франком и П.А.Черенковым) была присуждена Нобелевская премия. С тех пор наши ученые получили еще несколько Нобелевских премий, Но тогда это высшее международное признание научных заслуг являлось еще сенсационным. Из советских ученых его ранее удостоился только Н.Н.Семенов2. Насколько мне известно, для Игоря Евгеньевича эта награда оказалась совершенно неожиданной. Услышав о решении Нобелевского комитета, я бросился к Игорю Евгеньевичу в кабинет и стал возбужденно поздравлять его. Спокойно и даже несколько медленнее, чем обычно, расхаживая по комнате, с заложенными за спину руками, он серьезно ответил: {323}
— Да, конечно, это очень приятно; я рад... очень рад... Но, знаете, к этому примешивается и некоторое огорчение.
Догадаться было нетрудно:
— Потому что премия присуждена не за ту работу, которую Вы сами считаете лучшей своей работой, — не за бета-силы.
Но высшим проявлением его чувства собственного достоинства, или гордости (можно называть это как угодно), была одна особенность его научной работы: он всегда выбирал важнейшие, по его мнению, в данное время направления исследований, хотя они обычно и бывали труднейшими. Не знаю, сформулировал ли он такой принцип для себя сознательно или это было неизбежным свойством его характера борца, стремлением сделать почти невозможное, «прыгнуть выше головы». Если бы он решился отступиться от него, то при его квалификации и эрудиции, при его блестящем профессионализме, трудоспособности, безошибочности вычислений, прекрасной силе мастера он с легкостью делал бы хорошие работы в неизмеримо большем количестве1. Это видно хотя бы по таким его работам, как исследование ширины фронта ударной волны, магнитного удержания плазмы в управляемом термоядерном синтезе и т.п. Но они его, видимо, не удовлетворяли. Не удивительно, что естественное возрастное падение научной потенции он воспринимал как трагедию. Лишь в начале 60-х годов он напал на новую идею с огромным замахом — на мысль основать теорию элементарных частиц на концепции нелокальности с некоммутирующими операторами координат и с вводимой элементарной длиной, где новым было построение теории в импульсном пространстве переменной кривизны. Первые общие соображения и первые попытки он доложил на Международной конференции в Дубне в 1964 г. и на конференции в честь юбилея мезонной теории Юкавы в Японии в 1965 г. (стоит напомнить, что в этом году ему исполнилось 70 лет). Осуществление этой идеи оказалось неимоверно трудным как в чисто математическом, так и в идейном физическом плане. Превосходно владея необходимым теоретику математическим аппаратом, Тамм работал, как он сам говорил, запоем. Продолжал эту работу и в больнице, и дома до последних месяцев жизни. Его окружал скепсис очень многих теоретиков, но работать в атмосфере скепсиса ему было не впервые. Работа осталась незаконченной. Так пока и не известно, может ли эта «сумасшедшая идея» — одна из многих, исследуемых теоретиками всего мира, — привести к чему-либо полезному.
То же высокое чувство собственного достоинства определяло отношение Игоря Евгеньевича к таким щепетильным проблемам, как {324} приоритет в науке. Известное честолюбие, вероятно, необходимо ученому. Вопрос только, в чем оно выражается и насколько влияет на отношение к окружающим. Мне кажется, для Тамма честолюбие целиком сводилось к самоутверждению, причем — и это особенно важно — именно к утверждению в своих собственных глазах. Не возвыситься так, чтобы это увидели другие и пришли в восхищение, а убедиться самому — «я это смог». Внутренне сознание достижения трудной цели было тем, что давало ему удовлетворение, а внешние свидетельства признания успеха были лишь приятным дополнением. Поэтому невозможно найти ни одного случая, когда он хотя бы весьма умеренно выразил претензии на то, что другой использовал его идею или не сослался на его работу там, где это следовало сделать. Между тем подобные претензии и обиды, к сожалению, весьма распространенное явление. Некоторые заражены ими, как тяжелой болезнью.
Отношение Тамма к «проблеме» приоритета раскрывается и в одном эпизоде, о котором стоит рассказать. В начале 30-х годов ему пришла в голову идея, которую он и осуществил, сделав прекрасную работу, оказавшую большое влияние на последующее развитие теории вопроса. Он выполнил исследование — сложнейшие и обширные вычисления — во время одной конференции, работая, как почти всегда, по ночам. Когда все было сделано, то оказалось, что конечная формула не оправдала первоначальной надежды на количественное описание явления. Тем не менее, как сказано, работа оказалась важной, и Тамм приготовил краткое сообщение в журнал. В этот момент один молодой теоретик, который каждое утро заходил к нему в гостиницу узнать, как продвинулась работа за ночь, обратился к нему с вопросом — не будет ли возражений, если он тоже пошлет письмо в журнал: «Мы ведь много раз обсуждали вопрос вместе». Тамм удивился, но не смог ответить отказом. Так и вышло, что одновременно были опубликованы заметка Игоря Евгеньевича, содержащая, кроме четкой физической постановки вопроса, окончательную формулу и отрицательный вывод из нее, и рядом — письмо в редакцию этого молодого теоретика, содержащее только общие соображения, «идею», но давшее ему тем не менее впоследствии сомнительное основание требовать, чтобы его имя, как соавтора всей теории, всегда упоминалось рядом с именем Тамма.
Эту историю четверть века спустя Тамм рассказал мне, посмеиваясь, совершенно беззлобно. После того как эти воспоминания были написаны, я узнал, что этот эпизод был упомянут Таммом еще в одном разговоре с двумя его ближайшими сотрудниками. Я решаюсь написать о нем отнюдь не с целью уколоть какого-либо или принизить, а только потому, что он с наибольшей полнотой характеризует отношение {325} Игоря Евгеньевича к «приоритетомании». Ему было важно знать самому, что он смог это сделать, а если кто-либо другой извлекает радость из того, что разделит с ним внешнее признание, ничего не совершив, — бог с ним, пусть радуется, это только смешно. Вероятно, это же поясняет, в каком смысле можно говорить, что Тамм был гордым человеком.
Особый большой вопрос — взаимоотношения Игоря Евгеньевича с учениками. Все знают, что вокруг него образовалась обширная школа теоретиков, что его многолетняя педагогическая деятельность — лекции в Московском университете, в Московском инженерно-физическом институте, снова в МГУ, его курс теории электричества — оказала большое влияние на поколения физиков. Между тем, как это ни парадоксально, никакой продуманной системы подготовки молодых ученых у него не было. Блестящая школа теоретиков, созданная Ландау, возникла на основе детально разработанного им плана вхождения ученика в науку. Сначала экзамены по знаменитому, тщательно составленному и продуманному теорминимуму, затем рефераты из литературы на семинаре и, наконец, научная работа. Эта система — слов нет — дала превосходные результаты. Но, оказывается, возможен и другой подход.
Если говорить о лекциях, то Тамм просто выбирал для чтения те курсы, которые его интересовали. Много раз повторять один и тот же курс он не любил, и понять его нетрудно. Я впервые услышал его в 1932 г. в МГУ, когда он читал теорию электромагнитного поля. Он читал ее уже много раз, вышло уже второе издание «Основ теории электричества», и, как он потом мне говорил, этот курс ему ужасно надоел: «Я знаю свою книгу, как ученый еврей знает талмуд: если проколоть книгу булавкой, то я могу сказать, какое слово будет проколото на каждой странице».
Тем не менее он на лекции загорался и зажигал студентов. Его лекции очень любили. Несомненно, здесь в значительной мере играло роль и просто обаяние личности.
Работа с учеником начиналась, как правило, только после окончания им университета, иногда несколько лет спустя. Удается припомнить лишь считанные разы (три? четыре?), когда у него появлялись дипломники. Он сам получал образование, отбирая изучаемые дисциплины по собственному вкусу. Система подготовки и в Московском универститете до революции, и особенно в Эдинбургском, где он сначала учился, оставляла значительную свободу выбора. Как можно прочитать в его эдинбургских письмах того времени, он сразу увидел, что {326} физику в объеме первых двух курсов он в общем уже знает, и не стал посещать лекции. На математику записался сразу на второй курс и набрал ее много. Кроме того, «взял» химию и несколько языков, изучал философию и «Капитал». И после окончания Московского университета, до того как он сблизился с Л.И.Мандельштамом, он пополнял свое образование сам. По-видимому, такую же самостоятельность, даже в условиях принятой у нас жестко регламентированной вузовской учебной программы, он ожидал найти и у своих учеников. Как-то ему сказали, что один его ученик «влюбился» в него еще на третьем курсе. Тамм выразил удивление: «Я ведь совсем не умею работать со студентами, ничего им не даю».
Действительно, «работал» здесь, видимо, больше всего пример отношения к науке — не только логика рассуждения, выбор рассматриваемых примеров, мера сочетания физики с математикой, строго устоявшегося материала учебников с новыми актуальными вопросами, но и заинтересованность лектора, активность, очевидная его радость, получаемая от прослеживания пути прихода к истине. В то же время, действительно, с теми дипломниками, которых удается припомнить, дело складывалось не очень удачно. С одним из них, очень понравившимся ему при работе над дипломом, в аспирантуре он совсем не сработался, и тот очень скоро отошел от него. Другого он не захотел оставить у себя, а из него впоследствии выработался хороший теоретик.
Обычно появление так называемого ученика сопровождалось тем, что тот приносил Игорю Евгеньевичу какие-то свои вопросы, результаты и идеи, которые обнаруживали самостоятельность подхода — что считалось самым важным — и умение работать. Тогда Тамм загорался симпатией. Пользуясь терминологией физики, можно сказать, что его «функция отклика» была ступенчатой с очень высокой ступенькой. Чтобы обеспечить такому человеку возможность заниматься наукой, Игорь Евгеньевич начинал энергично добиваться его приема в аспирантуру, если здесь встречались трудности, или освобождения от работы в заводской лаборатории, если оттуда не отпускали, и т.д.
Но и после того, как молодой человек начинал работать у него, в методах вхождения в науку отнюдь не было единообразия. Снова считалось само собой разумеющимся, что речь идет о самостоятельно думающем физике, о коллеге, которому нужно лишь помочь своим опытом. Это отражалось и в том, что соответственно обычаю времен его молодости Игорь Евгеньевич к каждому обращался по имени и отчеству, даже если знакомство состоялось, когда Тамм был известным ученым, а новый знакомый — студентом. Я могу припомнить только одного сотрудника, которого после четверти века его работы в {327} Теоретическом отделе он иногда, в быстром разговоре, называл просто по имени. Невозможно представить себе, чтобы он кому-либо, хоть из самых молодых, говорил «ты», получая взамен «вы», как это теперь бывает. Вероятно, это составляло психологически существенный элемент воспитания независимо мыслящего научного работника, устранения авторитарности, ведущей в наше время так часто к тому, что аспирант «смотрит в рот» руководителю (знаю, что это отнюдь не всегда так, и сам могу привести яркие примеры, когда и обращение “на ты”, и одностороннее пренебрежение отчеством не повредили самостоятельности мышления аспиранта, и, наоборот, обращение к аспиранту по имени и отчеству отнюдь не обеспечивало авторитета руководителя, но я думаю, что, как правило, это верно). В.Л.Гинзбург и я работали с Игорем Евгеньевичем 30–35 лет, с аспирантуры. Однако лишь в последние годы его жизни он настойчиво предлагал нам обращаться друг к другу по имени. Но невозможно было называть его «Гора», как обращались к нему только родные и товарищи детства. Мы соглашались лишь на несимметричный вариант, и «предложение не прошло».
Но вернемся к деловым взаимоотношениям Тамма с его учениками. Одни включались в совместную работу по предложенной им теме; другие просто «получали тему» и работали самостоятельно, изредка обращаясь за консультацией; третьи сами выбирали себе тему, иногда совершенно независимую от интересов Игоря Евгеньевича, и обсуждали с ним отдельные этапы или окончательный результат, получая советы и критику. Пожалуй, все три варианта встречались одинаково часто.
В чем же, можно спросить, заключалось руководство Игоря Евгеньевича и почему можно говорить о существовании «школы»? Главными здесь были внимательность и доброжелательность и в то же время совершенно бескомпромиссная критика; пример собственной неустанной работы, собственной огромной эрудиции; пример умения сочетать физический подход, физическое понимание сути с убедительной математической трактовкой; культивирование широкого использования сходных элементов в далеких друг от друга областях физики; культивирование внимания к наиболее актуальным проблемам в каждой области; воспитание такого отношения к чужим работам, когда уважение к авторитетному автору (в том числе к самому руководителю) сочетается с острым критицизмом, а настороженность при появлении нового, не известного ранее имени — с серьезным разбором его работы, заранее допускающим возможность появления нового таланта; наконец, создание такой атмосферы, в которой работа на «прикладную» тему, существенно использующая и хорошую физику, и высокую профессиональную квалификацию, ценится отнюдь не меньше, чем исследование по «высокой» физической тематике. {328}
Вот конкретный пример. Я пришел к Игорю Евгеньевичу в аспирантуру и проработал с ним в отделе десятки лет. За это время у нас не вышло ни одной совместной статьи. После первых неудачных попыток совместной работы Тамм лишь однажды подсказал мне тему — тему кандидатской диссертации. Затем Игорю Евгеньевичу сразу была представлена уже вполне завершенная работа. Потом я долго работал главным образом в областях, не интересовавших его (поэтому и консультироваться было невозможно) и лишь частично в более близких ему, но все же им непосредственно не затрагивавшихся. Но я жил в атмосфере «Теоротдела Тамма», был активным участником этого удивительного содружества, неизменно видел перед глазами высокие примеры, и неудивительно, что я с благодарностью (и несомненно с основанием) считаю себя учеником Игоря Евгеньевича.
Нужно подчеркнуть, что никогда критика Игоря Евгеньевича не имела целью навязать его собственную оценку перспективности работы в данном, избранном сотрудником направлении. Было немало случаев, когда он относился с сомнением или даже серьезным скепсисом к тому, что делал кто-либо в отделе. Но выражался этот скепсис очень осторожно. Вероятно, все это и привело к тому, что среди учеников Тамма столько людей с резко различающимися индивидуальностями, с разными областями работы, с разными интересами, с различимыми невооруженным глазом особенностями созданных ими своих школ.
При такой широте взгляда на возможные подходы к проблемам, на оценку перспективности разных направлений, когда убежденность в правильности своего выбора сочеталась с предельной ненавязчивостью и уважением к чужой позиции, вполне естественно, что доброжелательная поддержка своих учеников и сотрудников никогда — я подчеркиваю, никогда и ни в чем — не могла привести к высокомерию по отношению к работам, взглядам, стилю других школ, других, «посторонних» теоретиков. Никаких следов «сектантства» нельзя было обнаружить в его поведении по отношению к исследованиям далеких от его интересов проблем. Он оценивал такие исследования совершенно непредвзято. Его искренняя радость узнавания при знакомстве с любой интересной и результативной работой была очевидна и поучительна для всех, кто был ее свидетелем. Здесь не было его привычной сдержанности. Если же он реагировал сдержанно, то это значило, что, не сумев обнаружить прямых ошибок, он сомневается в результате или убежден в бесперспективности этого исследования, считает его ненужным, хотя, разумеется, доказать, что он в этом прав, принципиально невозможно. Лишь прямая антинаучность, лженаука вызывала его яростные (все же корректные по форме) нападки. Можно сказать, что его научный «патриотизм» отнюдь не переходил в «шовинизм».
| {329} |
Этот очерк об Игоре Евгеньевиче будет не полон без рассказа об его участии в создании термоядерного оружия. По понятным причинам о нем нельзя было рассказать ни в первом (1981 г.), ни во втором (1986 г.) изданиях этих воспоминаний. Но теперь ограничения секретности сняты и промолчать об этом этапе жизни Игоря Евгеньевича нельзя.
Игорь Евгеньевич не был привлечен к начавшимся еще в 1943 г. работам по созданию атомных (т.е. урановой и плутониевой) бомб. А между тем и тогда его участие, конечно, было бы очень ценным. Причиной, видимо, была просто его «политическая неблагонадежность». В самом деле, могли ли тогдашние хозяева страны допустить к сверхсекретным работам бывшего меньшевика, заклейменного «буржуазного идеалиста», чей брат, «враг народа», был показан на всю страну, а затем уничтожен. Сверх того, верного друга уничтоженных других «врагов» (Б.М.Гессен1, С.П.Шубин2, Я.Н.Шпильрейн3) и «буржуазных идеалистов» (Я.И.Френкель4, Л.И.Мандельштам и др.), который не отрекся от них, ни одним словом не осудил их публично, как делали многие и как это жестко требовали от них в тогдашней атмосфере господства страха. Его поведение, безупречное с точки зрения нормальной морали, делало его очень подозрительным в глазах власти. Он сам долго находился под угрозой ареста.
Однако, в 1946 г. он все же был привлечен к обсуждению очень ограниченного круга отнюдь не главных секретных проблем. Об этом свидетельствует его работа, разрешенная к опубликованию лишь через 20 лет, «О ширине фронта ударной волны большой интенсивности». А затем, в 1948 г., потому ли что умер А.А.Жданов, не раз пинавший Игоря Евгеньевича «демократическим копытом», или благодаря личному влиянию И.В.Курчатова, ему было предложено создать в ФИАНе группу по теоретической разработке термоядерного («водородного») оружия, возможность которого была тогда еще вообще очень проблематичной.
Как известно, он создал и возглавил эту группу, включив в нее несколько своих учеников-сотрудников. Среди них были В.Л.Гинзбург и А.Д.Сахаров, уже через несколько месяцев выдвинувшие две {330} принципиально новые, основополагающие идеи, которые только и позволили создать советскую водородную бомбу и притом опередить американцев. Игорь Евгеньевич вместе с Сахаровым (а также Ю.А.Романовым; других сотрудников, которых Игорь Евгеньевич хотел тоже взять с собой, не пустили из-за неприемлемых для «органов» «анкетных данных») в 1950 г. переехал на несколько лет в сверхсекретный город, в институт, известный ныне как «Арзамас-16». Здесь он со всей своей страстью отдался работе над бомбой. Он сыграл в успехе всего дела выдающуюся роль. Она прекрасно освещена в очерке1.
Есть много людей, у которых невольно возникают тяжелые вопросы: как мог Игорь Евгеньевич и другие прекрасные ученые (в большинстве также и прекрасные люди) взяться за создание чудовищного оружия, наводящего ужас на весь мир вот уже несколько десятилетий? Как могли наши типичные российские интеллигенты, вполне понимавшие (и прочувствовавшие на себе) кошмарный характер режима, установившегося в нашей стране, тотального террора и невежественного идеологического пресса, как могли они в атмосфере всеобщего страха работать «не за страх, а за совесть»? Как могли они создавать это оружие для Сталина? Да и без этого — как вообще могли физики разных стран породить всеобщий, всемирный страх, высвободив ядерную энергию?
Проще всего ответить на последний вопрос. Развитие науки неуклонно вело к неизбежному открытию путей овладения ядерной энергией. Обвинять в этом ученых, совершивших последний шаг, так же нелепо, как обвинять Прометея, принесшего на землю огонь, ставший не только неоценимым благом для человечества, но и источником многих зол. Но люди научились в значительной мере обуздывать это зло и широко использовать благо. К несчастью, овладение ядерной энергией пришло к человечеству, недостаточно социально и морально созревшему. Но даже и это раздираемое социальной и национальной враждой мировое сообщество, которое нередко возглавляют морально уродливые, эгоистические, злобные и невежественные лидеры, сумело договориться и умудрилось уже полвека держать ядерное оружие в узде. Предстоит еще долгий путь совершенствования человечества, прежде чем такое обуздание зла станет вполне надежным и овладение ядерной энергией останется только благом, как оно уже стало благом, например, для Франции, где три четверти потребляемой страной электроэнергии дают достаточно безопасные атомные электростанции.
Но все же остается вопрос о моральной ответственности конкретных {331} ученых за создание ядерного оружия. Что ими двигало, почему они взялись за его разработку? Конечно, их решимость поддерживалась просто увлеченностью сложной и грандиозной научной проблемой. Это однако действовало в основном подсознательно (хотя нельзя не вспомнить и трезвые откровенные слова Ферми «Прежде всего это хорошая физика»). Но вне всякого сомнения для подавляющего большинства ученых на первом плане было чувство ответственности за существование человечества и своей страны. Можно сформулировать это и так: раз уж открыта возможность ядерного оружия, то несомненно оно будет кем то создано. А в таком случае единственная возможность избежать его применения — равновесие ядерных вооружений противоборствующих лагерей.
Конечно, в начальный период вопрос стоял проще: во время войны был вполне понятный страх перед возможностью того, что гитлеровская Германия опередит и получит в руки оружие, обеспечивающее ее победу. Но, как было уже сказано, равновесие вооружений, по убеждению многих, было необходимо и после устранения гитлеровской угрозы, для предотвращения ядерной войны. Вспомним, что уже в 1944 году, когда исход войны определился, Нильс Бор, охваченный тревогой за послевоенное будущее (и ясно, что он был в этом не одинок) метался между Рузвельтом и Черчиллем, уговаривая их раскрыть атомные секреты Советскому Союзу, чтобы избежать ужасных возможных последствий во взаимоотношениях союзников после победы. Опытные политики, однако, играли им как мячиком. Рузвельт просто обманул, уверяя в своей поддержке, и послал к Черчиллю. «Тигр» Черчилль хотел засадить Бора в тюрьму, а затем оба они сразу договорились ничего не сообщать СССР. Они не знали, что здесь все основное уже было известно и работа над бомбой шла полным ходом.
Но работа над водородным оружием началась уже после устранения гитлеровской угрозы. Казалось бы, теперь энтузиазм ученых мог пойти на убыль. Но продолжала действовать инерция подлинного патриотизма, охватившего советский народ, и в том числе ученых, во время войны. Ведь народ выиграл ее не для Сталина, а для спасения страны от фашизма. Этот патриотизм дополнительно подстегнула фултонская речь Черчилля и начавшаяся «холодная война». Удержание равновесия вооруженных сил оставалось необходимым условием предотвращения третьей мировой войны. Вспоминаю как в 1956 году, когда приподнялся железный занавес, в Москву на сессию Академии наук по мирному использованию атомной энергии впервые приехала огромная группа (40–50 человек) западных физиков. Большинство участников конференции в свое время яростно работали над созданием атомной бомбы по обе стороны железного занавеса, а в послевоенное {332} время — для противостоящих друг другу по существу враждующих сторон. Сначала меня крайне поразило, как легко восстановились старые и завязались новые дружеские связи, какими радостными были их встречи. Но потом я понял: у всех было ощущение (и даже сознание) того, что они делали общее дело, создавая ядерное равновесие в мире.
Вспоминаю также, как Ландау, еще в 1938 г. понявший деспотический характер тоталитарной сталинской системы и тяжело за это расплатившийся годом тюрьмы и следствия (он вообще чудом избежал гибели благодаря смелости и уму П.Л.Капицы), но затем тоже участвовавший в работах по созданию бомбы, многократно говорил мне в 60-х годах: «Молодцы физики! Сделали войну невозможной!»
Было, конечно, немало людей, считавших такие взгляды наивными. Действительно, случайно ли Сталин начал войну в Корее как только в его распоряжении оказалась атомная бомба и американцы утратили монополию? Однако фактом является и, то, что вот уже полвека мир живет без большой европейской (или третьей мировой) войны, и можно быть уверенным, что в обозримое время ее и не будет. Такого долгого мирного периода в истории Европы еще не было. Мир постепенно и мучительно научается быть осторожным и благоразумным, хотя, конечно, отнюдь нельзя считать, что страшная угроза устранена.
Решившись на участие в «проблеме» (как тогда говорили), Игорь Евгеньевич возложил на себя огромную ответственность. Он отдал этому делу свой талант и опыт ученого, умение организовать и вовлечь в работу других. Он достойно встретил вызов эпохи.
Прочитав эти заметки, можно спросить, что же все-таки было особенного в тех чертах его личности, о которых выше шла речь? Не был ли он просто подлинно порядочным и хорошим человеком, которому сверх того природа дала талант ученого? Разве не находим мы подобные же черты не только у Эйнштейна, у Бора, у Мандельштама, но и у многих менее крупных, да и у совсем «некрупных» личностей? Конечно, ведь, по существу, об этом и говорилось. Так оно и есть. И все же, кажется, именно такого рода концепция порядочности с какой-то особой цельностью выработалась в определенной среде и в определенную эпоху, именно в лучших слоях трудовой интеллигенции в России конца XIX — начала XX в., и перешла к нам оттуда. Но она, разумеется, не имела ни исключительного национального характера, ни строго ограниченной социальной среды распространения, и потому не удивительно, что мы встречаемся с подобными чертами у очень многих. В {333} Игоре Евгеньевиче эти черты сочетались с редкой полнотой, позволяющей считать его некоторым эталоном.
Выше была сделана попытка «разложить по полочкам» некоторые основные черты личности Игоря Евгеньевича и проиллюстрировать каждую черту фактами из его жизни. Перечитывая написанное, можно прийти к выводу, что это не очень-то удалось. Некоторые факты, иллюстрирующие его духовную независимость, можно было бы привести и как свидетельство его мужества или принципиальности, и наоборот. Это не случайно. Дело в том, что все они тесно сливались в удивительно цельный, хотя и сложный характер. Обаяние его личности, которое испытывал едва ли не каждый, кто соприкасался с ним, вообще не может быть разложено на элементы и рационально понято.
Его жизнь прошла через различные эпохи. Сначала, первая четверть века — сознательное формирование своего отношения к миру, поиски и выбор пути. Затем, тридцать-тридцать пять лет — необычайно продуктивный (особенно в первое двадцатилетие) период научной работы, сопровождаемый возрастающим признанием коллег и в то же время рядом трагических переживаний. Наконец, последние десятилетия широкого общественного, официального, научного признания и уважения, то, что принято называть славой. Но и тяжелые времена, и слава лишь еще четче выявляли основы его характера, те черты его личности, которые, как законы радиоактивности ядер, не могли измениться под влиянием внешних условий. Они удивительным образом вызывали глубокую симпатию к нему даже людей, никогда не соприкасавшихся с ним непосредственно, а часто и не способных даже приблизительно оценить его вклад в науку.
| {334} |
Оказалось, что мне трудно рассказывать об Игоре Евгеньевиче Тамме. В памяти неожиданно для меня возникло множество разных воспоминаний, и в них нелегко отделить существенное от случайного и даже от того, о чем вообще не следует упоминать. Включенное в небольшую статью, оно могло бы приобрести черты обобщений, искажающих его облик. С наибольшей яркостью у меня сохранились воспоминания от бесед с уже больным Игорем Евгеньевичем в последний год его жизни, и это естественно — в силу трагизма ситуации и потому, что тогда я с особенной ясностью стал понимать, какой он удивительный человек. Не менее отчетливо я помню и начало моего знакомства с ним в студенческие годы. Эти два периода разделяют примерно 45 лет, но память человеческая удивительна, и расстояний во времени для нее не существует. Умом же понимаешь, что восприятие мира молодым человеком впервые знакомящимся с учеными и с наукой, иное, чем через десятилетия после этого. Да и сам Игорь Евгеньевич за эти 45 лет в чем-то, несомненно, изменился — это уже совсем трудно осмыслить. Поэтому воспоминания юности я отодвину в конец рассказа и коснусь их бегло.
Вероятно, не один я вспоминаю сейчас о продолжительной болезни Игоря Евгеньевича. Каждому, кто навещал его в то время, памятно хриплое дыхание машины искусственных легких, которое начинаешь слышать уже при входе в квартиру, еще в прихожей, и от которого сразу становилось тягостно на душе. Дойдя до комнаты, видишь и самого Игоря Евгеньевича, лежащего на кровати, маленького, высохшего, прикованного к машине и вместе с тем какого-то светящегося от радости встречи. Становилось страшно от судьбы, его постигшей, и вместе с тем просто и хорошо, и даже временами исчезало понимание того, что ему все время очень трудно. А Игорю Евгеньевичу в самом деле было трудно. Когда он говорил, ему зачастую не хватало воздуха, {335} приходилось звать сестру, чтобы она добавила воздуха ручным аппаратом. Но я не только не слушал от него ни малейшей жалобы, но он продолжал говорить, шутить, и интерес его ко всему был прежний, и дух его не был сломлен.
Собираясь к нему, я всегда запасал какой-либо рассказ. Тут были и ультрахолодные нейтроны, которыми он интересовался, и мои впечатления о поездке в Монголию, и многое другое. А он не просто слушал, но расспрашивал, высказывал свое мнение и часто давал советы. Если применять громкие эпитеты, а ими трудно не воспользоваться, — в нем была спокойная мудрость, неотделимая от доброжелательности. И радость его при моем посещении вовсе не была просто удовольствием от того, что его пришли навестить. В ней была душевная теплота, и я не только осознал, но и глубоко оценил то, что на протяжении 45 лет нашего знакомства его отношение ко мне оставалось неизменным.
Вместе с тем не следует думать, что Игорь Евгеньевич был тогда склонен к всепрощению по отношению ко всему и ко всем. Это не так, но в отличие от прежнего он высказывался очень мягко. Я заговорил как-то об одном молодом физике, всегда высоко чтившем Игоря Евгеньевича, думая, что этот разговор будет ему приятен. В ответ я услышал: «Да, он очень энергичный молодой человек». И через несколько минут повторил с улыбкой: «Очень, очень энергичный»!. Я понял, что продолжать разговор не следует. Об ученом, сотрудничавшем с ним одно время довольно тесно, он в ответ на мой вопрос сказал, как бы извиняясь: «Знаете, если это не очень неудобно, то мне бы не хотелось его видеть». И вместе с тем о человеке, который, на мой взгляд, легко принимал необдуманные решения, явно приносившие вред, и притом очень пристрастном к людям, он отозвался с глубоким уважением. Неожиданно для меня он сказал, что по душевным качествам это прекрасный человек. Впоследствии я убедился, что он прав. Высказываниям Игоря Евгеньевича, уже смотревшего на людей как бы со стороны и, несомненно, думавшего о своей близкой кончине, были чужды субъективные эмоции, иногда выдвигающие на первый план восприятие внешних или случайных черт людей. Он оценивал их внутреннюю сущность. Словом, Игорь Евгеньевич уже тогда становился тем почти легендарным Таммом, который теперь живет в памяти близко знавших его.
Игорь Евгеньевич всегда был нетерпим к любым проявлениям лженауки. Однако формы его борьбы с ней с годами менялись. Всем, конечно, памятна его непримиримая борьба против ошибочного отношения к проблемам генетики. Генетика при этом входила в круг его научных интересов, и о генетическом коде он говорил с увлечением, {336} справедливо отмечая, что здесь большое поле размышлений для физика. Он совершенно не выносил представителей лженауки в биологии. Вспоминаю такой случай, происшедший, наверное, лет за 15 до его болезни. Я приехал в санаторий Академии наук «Узкое», где, как оказалось, в то время отдыхал и Игорь Евгеньевич. Когда я раздевался в гардеробе, то увидел его, проходившего, или, точнее, пробегавшего мимо своим обычным быстрым шагом. Он бросил мимолетный взгляд в мою сторону и, не останавливаясь, прошел дальше. Я не обратил на это внимания, так как в полутемной прихожей он вполне мог меня не разглядеть и не узнать. Так и оказалось. Через несколько минут мы встретились в столовой, и он с обычной своей приветливостью со мной поздоровался. Спросил, не меня ли он видел в прихожей. При этом, однако, он не просто сказал, что не узнал меня, но вдруг неожиданно начал извиняться, причем я увидел его непритворное огорчение. Я ничего не понимал до тех пор, пока он со смущением не признался, что принял меня за некоего Н., тоже отдыхавшего тогда в «Узком». Н. был из числа тех, кто «облаивал» генетику. «Вы понимаете, — сказал Игорь Евгеньевич, — что я предпочел не останавливаться, чтобы не иметь необходимости с ним здороваться». После кончины Н. его имя было сразу же забыто, и мне нет необходимости его вспоминать.
В последние десятилетия своей жизни И.Е.Тамм направлял силу своего научного авторитета не просто на разоблачение ошибок, но конкретно на то, что мешало развитию нашей науки, мешало справедливому отношению к подлинным ученым. Этим он, как всегда, боролся с несправедливостью, в чем бы она ни проявлялась. Что касается ошибок в науке, то в более ранние годы, мне кажется, он иногда направлял огонь своей критики на объекты, явно не достойные его внимания. Вспоминаю, что в 30-х годах он раскритиковал теоретические работы одного университетского профессора. Вероятно, критика была вполне справедливой. Я говорю «вероятно», так как эти работы теперь забыты. Ошибочная работа, вообще говоря, более безвредна, чем может показаться на первый взгляд. Если ее искусственно не поднимать на щит и не использовать в противовес правильным работам, то она обычно тихо и незаметно умирает.
Был ли Игорь Евгеньевич всегда прав в оценке чужих работ? Вероятно, он, как и каждый, каким бы большим ученым он ни был, иногда ошибался. Сейчас это неважно, существеннее говорить о другом.
По вполне понятным причинам мне хорошо запомнилось время, проведенное вместе с Игорем Евгеньевичем в Стокгольме в дни, связанные с нобелевской церемонией 1958 г. Все же, если я пишу об этом, {337} то прежде всего потому, что именно тогда я особенно близко узнал Игоря Евгеньевича со всем, что так привлекало к нему, и с некоторыми его слабостями, о которых теперь вспоминаю с улыбкой.
Вполне естественно, что тогда мы почти всюду бывали вместе. В гостинице «Гранд Отель», ще мы жили, я часто заходил в комнату Игоря Евгеньевича, чтобы обсудить с ним и науку, и события дня. В редкие свободные вечера мы — Павел Алексеевич и Мария Алексеевна Черенковы и я — под предводительством Игоря Евгеньевича ходили ужинать в молодежное кафе, расположенное недалеко от гостиницы. Приближалось рождество, и в отеле проходили праздничные вечера. В кафе же, которое Игорю Евгеньевичу рекомендовал кто-то из шведов, было спокойно и уютно. Игорь Евгеньевич, единственный среди нас отлично владевший английским языком, изучал меню и выбирал, что заказать на ужин, и делал это с явным удовольствием. Оркестра в кафе не было, но был рояль, и игравший на нем музыкант, когда мы приходили, исполнял и что-либо из русской музыки, чаще всего Чайковского. Первое время наши портреты печатались в газетах, и нас обычно всюду узнавали.
Разговором за ужином неизменно овладевал Игорь Евгеньевич, рассказывая о новостях, которые слышал или прочитал в газетах, а иногда просто вспоминая что-либо интересное. Беседуя, мы отдыхали, и на этом заканчивался рабочий день для всех, кроме Игоря Евгеньевича, но об этом я еще расскажу отдельно. Справедливости ради следует отметить, что именно Игорь Евгеньевич больше всех нуждался в вечернем отдыхе, так как работа его в течение дня была особенно активной. Он не упускал ни малейшей возможности обсудить научные проблемы с учеными, с которыми встречался. Много времени он провел, например, в беседах с нашими коллегами — американскими учеными Джорджем Бидлом, Эдвардом Татумом и Джошуа Ледербергом, получившими премии по разделу физиологии и медицины за открытия, связанные со свойствами генов и генетикой. Разумеется, он не только много беседовал, но и быстро подружился со шведскими учеными-физиками.
В нашем пребывании в Швеции была и еще одна особенность. Теперь, когда самые разнообразные контакты с нашей страной получили широкое развитие, а участие наших ученых в любых событиях мировой науки стало привычным, уже трудно понять, что три советских лауреата, появившиеся в 1958 г. в Швеции, выглядели чем-то вроде белых ворон. Даже не белых ворон, а, быть может, белых медведей. Так, какая-то фото- или киноорганизация, предложив показать зоопарк, фотографировала нас на фоне белых медведей, полагая или желая создать впечатление, что медведи — неотъемлемый компонент {338} русской жизни. При этом настороженное к нам отношение (разумеется, не со стороны коллег-ученых) подогревалось историей присуждения в том же 1958 г. премии по литературе Б.Л.Пастернаку.
Все это нами отчетливо чувствовалось, поскольку приходилось встречаться со многими, включая журналистов, и даже участвовать в пресс-конференциях. На этих встречах Игорь-Евгеньевич брал инициативу в свои руки, направляя на собеседников всю силу своего природного обаяния, чтобы завоевать их доверие и во что бы то ни стало желая им понравиться (а что в этом плохого?). Объективно же он сделал немаловажное дело, и отношение к нам со временем заметно потеплело. Интерес газет естественным образом затух. Первые их страницы вновь заняли фотографии кинозвезд и репортажи об убийствах. Наши лица стерлись из памяти жителей Швеции, и мы превратились просто в иностранных гостей, чему нельзя было не радоваться.
В том, что в 1958 г. пресса хотела сделать из нас небольшую сенсацию, я еще раз убедился, приехав в Швецию в декабре 1975 г. Тогда в Стокгольме по случаю 75-летия учреждения Нобелевских премий собралось из разных стран мира свыше 70 лауреатов по науке, в том числе шестеро советских. Между тем газеты проявили к этому событию весьма вялый интерес. И даже к лауреату 1975 г. академику Л.В.Канторовичу1, как мне кажется, интерес не был большим, чем к его иностранным коллегам.
Сказанное не относится к организаторам встречи — шведским ученым, внимание, радушие и гостеприимство которых как в 1958, так и в 1975 г. было прекрасным, и мы его высоко ценили. Как велико было впечатление, которое произвел Игорь Евгеньевич, я вновь почувствовал, когда через 17 лет снова встретил некоторых из ученых, с которыми познакомился в 1958 г. Для меня не были неожиданными теплые высказывания об Игоре Евгеньевиче, услышанные от всех без исключения, кто знал его раньше. Мне кажется, даже в доброжелательном отношении ко мне содержалось и нечто такое, чем я обязан тому, что наши имена оказались связанными между собой.
Особенно характерным для Игоря Евгеньевича был живейший интерес к науке, совершенно не ослабевший даже в праздничной обстановке тех дней. Это была в самом деле удивительная черта его характера, которую я особенно остро почувствовал именно в Швеции. Случилось так, что один из шведских профессоров рассказал о своем телефоном разговоре с кем-то в Дании, кому тоже через кого-то передали слух о якобы новых полученных результатах из области физики {339} элементарных частиц. Результат, видимо, был весьма предварительный, причем никто не знал подробностей. Более того, создавалось впечатление, что здесь какая-то путаница, возникшая в результате пересказа через цепочку лиц, непосредственно не связанных с авторами работы. Однако для Игоря Евгеньевича это было непреодолимым стимулом для того, чтобы немедленно, не откладывая ни на день, заняться теоретическим осмысливанием проблемы. Каждый вечер он с жадностью принимался за работу. Ни то, что сведения были недостоверны, ни суета приемов и встреч не играли для него никакой роли. Вернувшись в отель, он сразу же садился за работу и, не разгибая спины, сидел за ней до глубокой ночи. Я отчетливо представлял себе это, вспоминая ту единственную ночь, которую за 20 лет до этого я провел вместе с Игорем Евгеньевичем за письменным столом1. Утром я каждый день заставал Игоря Евгеньевича в его комнате огорченным неудачей ночной работы, а его стол — заваленным листками исписанной бумаги. Мне был знаком вид таких листков с записями формул крупным косым и вместе с тем неразборчивым почерком. Игорь Евгеньевич как-то говорил мне, что у него два почерка: один для своей работы и второй для окончательных записей. В нашей совместной работе я однажды был свидетелем трансформации первого почерка во второй и знаю, что это не было просто аккуратным переписыванием ранее сделанного. Это была творческая работа, при которой результаты додумывались, частично переделывались приводились в логическую последовательность, а главное — прояснялась физическая сторона идей расчетов. Результатом одного из таких переписываний черновых листков явился вариант нашей работы, сделанный рукой Игоря Евгеньевича в моей тетради. Фотографию страницы этой записи я опубликовал2.
Именно эту ночную работу Игоря Евгеньевича я имел в виду, говоря, что после ужина в кафе все, кроме него, отдыхали. Эти не приводившие к положительным результатам попытки найти решение проблемы продолжались ряд дней, возможно, неделю. При этом я все время пытался убедить Игоря Евгеньевича в том, что следует подождать этим заниматься, так как не только неясно, в чем предмет для размышлений, но и вообще, быть может, его вовсе не существует (впоследствии так и оказалось). Однако Игорь Евгеньевич говорил, что он не может об этом не думать и ему необходимо понять: возможен ли подобный результат, а если возможен, то к каким следствиям это приведет? {340}
Такая его страсть к работе послужила однажды предметом моего большого огорчения. Мы были на приеме у шведских физиков, на котором, казалось бы, можно было поговорить со многими и о многом. Внезапно и очень рано Игорь Евгеньевич заторопился и сказал мне, что хотел бы вернуться в отель. За нами была закреплена одна машина на двоих, и уехать мы могли только вместе. Я не понял, что он хочет уехать немедленно, да и не мог этого сделать тотчас же. Я был занят каким-то обсуждением с одним из молодых физиков, и было бы крайне невежливо оборвать разговор внезапно. Быстро освободившись, я немедленно начал искать Игоря Евгеньевича и, не найдя его ни в одной из гостиных, спустился по лестнице и увидел его около гардероба уже в пальто. «Я уже десять минут вас жду», — сказал он мне с таким раздражением, подобного которому не могу вспомнить за десятки лет нашего знакомства. Конечно, тогда я был очень огорчен и даже обижен, а теперь думаю, что просто у него возникла новая идея и он не мог дождаться минуты, когда сядет за работу. Возможно, что здесь было и нечто в сущности хорошее по отношению ко мне: в тот момент я был для него по-прежнему его бывший студент и ученик, который его сопровождал. Ведь отношение учителя к ученику и обратно, если с годами ничто не омрачило их связь, подсознательно остаются неизменными даже и тогда, когда ученик уже совсем не молод и сам имеет учеников.
Вообще, прекрасная увлеченность Игоря Евгеньевича в те дни, когда мы были во всем так тесно связаны, приводила иногда к трудностям. Приведу такой случай. Нобелевские лекции мы должны были читать на одном заседании один после другого. Содержание лекций было таково, что первым должен был выступать П.А.Черенков, затем И.Е.Тамм и последним я. Не надо думать, что нобелевские лекции проходят в какой-то очень торжественной обстановке. Их нельзя, например, сравнить с речами лауреатов медали Ломоносова на Общем собрании Академии наук СССР. Обстановка неизмеримо более скромная. Они проходят в студенческой аудитории, и на них присутствует небольшое число шведских профессоров, которым положено там быть. Аудиторию же заполняют в основном студенты, пришедшие главным образом чтобы поглазеть на лекторов. Короче говоря, ситуация аналогична обычному вузовскому семинару, на котором выступает кто-либо из известных профессоров. Это положение, мне кажется, не очень изменилось и до сих пор. В декабре 1975 г. я слушал нобелевские лекции Рейнвотера1, О.Бора и Моттельсона, и, в сущности, все было {341} похоже, хотя на первых двух лекциях присутствовал и молодой король Швеции. Не знаю, стало ли это традиционным или же это была дань уважения знаменитому имени Бора. На нобелевскую церемонию 1975 г. прибыла и королева Дании.
Что касается наших лекций, то П.А.Черенков хорошо прочел текст своей лекции по-немецки ровно за 40 минут. (Если не ошибаюсь, каждому из нас было отведено именно по 40 минут.) Однако Игорь Евгеньевич, начав выступление, сразу же увлекся и, видимо, забыв, что это нобелевская лекция, а не семинар, ушел от заранее написанного текста и начал обсуждать ряд выходящих за его рамки интересных вопросов. Я увидел, что он явно не укладывается в свое время. Вскоре это заметил и он сам. Тут произошло нечто совсем для меня неожиданное. Он вдруг обратился ко мне и сказал: «Илья Михайлович, вы не уступите мне минут десять своего времени?» Разумеется, если бы это был просто семинар, то даже спрашивать меня не было бы большой необходимости. Я просто перенес бы свое выступление полностью или частично на следующее заседание хотя бы ради того, чтобы послушать Игоря Евгеньевича. Здесь же, естественно, я не мог ни отменить, ни даже сократить свою лекцию. Не владея свободно английским языком, я был привязан к заранее написанному и отрепетированному тексту, причем боялся, что на лекции буду читать текст медленнее, чем дома, и что 40 минут мне может даже не хватить. Это было мое первое большое выступление на английском языке, и притом, несомненно, ответственное, и, разумеется, я волновался. Накануне я даже читал Игорю Евгеньевичу отдельные страницы своей лекции, чтобы узнать от него, нет ли у меня грубых ошибок в произношении и как воспринимается мое чтение на слух. Игорь Евгеньевич меня ободрил и сказал, что все будет нормально. Однако во время лекции он, видимо, абсолютно забыл обо всем этом. И когда я не ответил на его просьбу, он повторил ее вновь, приведя меня в состояние полного испуга. Разумеется, все обошлось благополучно, так как председатель не ограничил время Игоря Евгеньевича и, конечно, не сокращал моего времени. «Наказаны» были слушатели, просидевшие на наших лекциях липших двадцать минут. При шведской пунктуальности это было не совсем обычно.
Справедливость требует сказать, что после лекции Игорь Евгеньевич похвалил меня, сказав, что было и интересно, и все понятно, хотя какие-то отдельные слова я произношу по-английски совсем неправильно. Вообще же Игорь Евгеньевич был заботлив и внимателен ко мне, а его хорошее отношение я чувствовал тогда даже в большей степени, чем всегда. Если я привел рассказ об этом случае, то только для того, чтобы показать, как велика бывала его увлеченность работой или обсуждением, что он мог забывать обо всем остальном. {342}
Интерес Игоря Евгеньевича к работе, несомненно, был очень целенаправленным. Мне кажется, его мало привлекали более или менее обыденные физические задачи, решение которых просто развивало теорию того или иного явления. Такие исследования в силу глубокого понимания им физики и блестящего владения математическим аппаратом, несомненно, были бы нужными и интересными — он мог бы публиковать их множество. Однако это в большинстве случаев его не очень занимало. Но его увлеченность возникала всегда, когда в эксперименте обнаруживалось нечто принципиально новое или когда у него возникали идеи в области фундаментальных и еще не решенных проблем теории (например, проблемы ядерных сил) или в поисках решения принципиальных трудностей теории. Его не пугали здесь столь сложные задачи, в которых вероятность неудачи была очень велика. Увлекшись новой идеей, он, несомненно, считал себя на пороге успеха в решении проблемы, и неудачи не могли его не огорчать. Случалось, что он рассказывал мне о них, добавляя: «Ну ничего — это уже не первый раз». О мужестве, с каким он встречал такие неудачи, я упоминал в своей речи над могилой И.Е.Тамма1. Однако я теперь с удивлением вспоминаю о том, что никогда не слышал от него, сколько труда и бессонных ночей он потратил в тех случаях, когда получалась одна из тех работ, которыми он так известен.
Поскольку я заговорил о нашем совместном пребывании в Швеции, от меня, вероятно, ждут какого-либо рассказа о самой нобелевской церемонии. Здесь, однако, мне очень трудно не выйти за рамки того, что касается самого Игоря Евгеньевича. С такой оговоркой вкратце скажу и об этом.
Прежде всего, в торжественных случаях мы должны были облачаться во фраки. Об этом обычно все знают главным образом из биографии Энрико Ферми, автор которой Лаура Ферми2. Она написала об этом по-журналистски хлестко. В действительности, фрак — костюм, бесспорно, красивый, строгий и, пожалуй, даже удобный, однако надевать его в первый раз, пока к этому не приспособишься, довольно долго. Главное все же в том, что он непривычен ученым. Приятно видеть музыкантов, выходящих на сцену во фраках, но сам, надев его, начинаешь чувствовать себя в непривычной роли артиста. В первый раз, когда мы надели фраки для участия в нобелевской церемонии, это ощущение усиливалось еще и тем, что церемония происходила в большом концертном зале. К тому же наш выход на сцену, где нам были отведены места, тоже был своего рода театральным действом. Ожидая {343} его, каждый из нас стоял в паре со шведским академиком. В первой паре справа стоял П.А.Черенков, а рядом, слева от него, профессор Кай Зигбан1, за ним я с профессором Ериком Хюльтеном2 и за мной Игорь Евгеньевич в паре с профессором Иваром Валлером. Мы ждали сигнала, чтобы так же парами один за другим выйти на сцену зала. Видимо, я переминался с ноги на ногу, так как Игорь Евгеньевич, протянув вперед руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Не волнуйтесь, как-нибудь сойдет». Я понял, что и сам он чувствует себя неуютно.
Выйдя на сцену и поклонившись (как нам было сказано, в сторону зала, а точнее, королю Швеции, стоявшему прямо перед нами), мы плюхнулись в свои кресла. Только после этого до нашего сознания дошло, что мы-то сидим, а весь зал, сверкая орденами на фраках, вечерними туалетами дам, вместе с королем в центре первого ряда не сидит, а стоит перед нами красочной стеной. Мы в испуге переглянулись, а затем, скосив глаза на наших американских коллег и убедившись, что они, так же как и мы, сидят, слегка успокоились: если и нарушили этикет, то не только мы. Оказалось, что не нарушили.
В последующие годы концертный зал уже перестал вмещать всех, кого следует пригласить (а желающих огромное количество), и нобелевская церемония была перенесена из здания Филармонии в крытый стадион. Соответственно несколько изменился и ритуал.
Вечером, после вручения королем Нобелевских медалей и дипломов, состоялся торжественный обед, на котором лауреаты вместе с королем и премьер-министром, королевской семьей, наиболее знатными персонами и видными учеными сидели за главным столом (столом Почета). За обедом от каждой группы лауреатов был произнесен короткий спич, и от нас, конечно, выступал Игорь Евгеньевич. К столу мы шли в определенном порядке: каждый под руку со своей дамой (разумеется, и дама, и место за столом были заранее известны). Моей дамой была внучка короля, принцесса Биргитта — молодая, красивая девушка. После нескольких рюмок вина я вполне освоился с ролью кавалера принцессы и нес какую-то чепуху на «брокен инглиш». Игорь Евгеньевич сидел недалеко от меня, но по другую сторону стола, так что я видел его лицо. И тут я понял, что он явно мне завидует. Дело в том, что его дама была не из королевской фамилии и старше моей, но, разумеется, и он не мог считаться обиженным, так как сидел с одной из первых дам государства. Все же на следующем приеме Игорю Евгеньевичу была предоставлена возможность взять реванш. Его дамой {344} была королева Швеции, причем слева от него сидела молодая принцесса. Игорь Евгеньевич откровенно радовался и вдохновенно занимал беседой обеих. Эти мальчишеские черты характера Игоря Евгеньевича я открывал для себя вновь, вспоминая годы первого знакомства с ним за три десятилетия до этого.
Я хочу теперь обратиться к этим милым сердцу воспоминаниям студенческих лет. Помню, что познакомил меня с Игорем Евгеньевичем мой отец, приехавший из Симферополя, где он был профессором математики, и было это сразу же после моего поступления в Московский университет в 1926 г. За несколько лет до этого Игорь Евгеньевич и мой отец работали вместе в Крымском (Таврическом) университете, и они навсегда сохранили возникшие тогда дружеские отношения. Многие выдающиеся ученые—математики, физики и биологи относились к моему отцу с уважением и симпатией. Несомненно, он был не только талантливым математиком, но и замечательным человеком. Я благодарен Игорю Евгеньевичу и за то, что в военные годы, когда мой отец доживал свои последние дни в Казани после эвакуации из Ленинграда, а трудности жизни были очень велики, он все же нашел возможность в чем-то существенном помочь и ему, и мне.
Таким образом, Игорь Евгеньевич вошел в мою жизнь как друг моего отца, а я — как сын его друга. Позже я узнал Игоря Евгеньевича как профессора университета, лекции которого я слушал, но о его научной деятельности в 20-е годы я, в сущности, ничего не знаю. Однако личное знакомство, возникшее тогда, закрепилось. Я часто бывал в доме выдающегося биолога профессора МГУ Александра Гавриловича Гурвича, аспирантом которого был мой брат. Отец был дружен и с семьей Гурвичей также по совместной работе в Симферополе, а через него и брата познакомился с этой семьей и я. Жена Александра Гавриловича Лидия Дмитриевна, талантливый биолог, трогательно заботилась обо мне, и я часто, а одно время регулярно у них обедал, в чем я, по правде говоря, тогда сильно нуждался. В этом доме мне приходилось встречать Игоря Евгеньевича. Среди беспартийной профессуры (членов партии среди профессоров тогда почти не было) Игорь Евгеньевич, хотя и сам беспартийный, слыл большевиком. Мое воображение он сразу поразил как великолепный рассказчик. Чаще всего он рассказывал о своих приключениях в годы гражданской войны, когда он попадал в самые невероятные передряги. Белые принимали его за большевистского лазутчика, но он выходил невредимым из почти безнадежных ситуаций благодаря не только храбрости, но и незаурядной находчивости. Разумеется, я верил каждому его слову, да {345} и теперь думаю, что если не форма, то основная суть его рассказов соответствовала истине. Бесспорно то, что он в самом деле был очень храбрым человеком. Уже после получения нами премии он рассказывал мне о письме, полученном им от человека, которому он спас жизнь, вынеся его раненого с поля боя. Вместе с тем в рассказах было чисто мальчишеское желание щегольнуть невероятностью событий. Тогда мне не приходило в голову записывать рассказы Игоря Евгеньевича, и очень жаль, если этого не сделал никто.
Был я однажды и дома у Игоря Евгеньевича, не помню уж, по какому случаю, вероятно, заходил за книгой, которую он мне рекомендовал. Я был удивлен и огорчен теми условиями, в которых он жил. Если не ошибаюсь, у него не было кабинета, а был закуток, отгороженный дощатой перегородкой, в котором стоял его стол, заваленный папками рукописей, — это была рукопись его известной книги «Основы теории электричества»1.
В статье о нашей совместной работе я рассказал немного о кафедре Л.И.Мандельштама в Московском университете, на которой работал И.Е.Тамм, о том, что слушал его лекции. В связи с лекциями я писал, что «ничего, кроме обычных для взаимоотношений студента с профессором учебных анекдотов, я ... вспомнить не могу»2. В шутках студентов особенно часто обыгрывалась необыкновенная живость и подвижность Игоря Евгеньевича. В какой-то стенгазете он был изображен около доски в виде размытого пятна, символизирующего волновой пакет. Записывать его лекции было трудно, так как не только двигался, но и говорил он чрезвычайно быстро. Отсюда в то время вошла в жизнь шуточная единица скорости речи — один тамм. И так как эта величина была очень большой, предлагалось измерять скорость речи в миллитаммах. С тех пор прошло полстолетия, и вполне естественно, что представления, которые возникают у нас при слое «тамм», изменились. С легкой руки Д.Данина одним таммом стали называть единицу порядочности, и это было принято всеми как нечто само собой разумеющееся. Мало кто знает об этой трансформации, но те, кто знают, считают ее вполне естественной. Перефразируя Блока, можно сказать, что время стерло случайные черты, и прекрасный итог жизни Игоря Евгеньевича стал очевиден.
| {346} |
С тех пор как была опубликована (в 1937 г.) статья «Когерентное излучение быстрого электрона в среде», прошло уже свыше 40 лет. Теперь для большинства читателей она уже один из эпизодов истории физики. То, что сейчас вполне очевидно, тогда еще не представлялось столь простым и само собой разумеющимся. Как всегда, первоначальные точки зрения, определяющие трудности работы, впоследствии менялись, не оставляя заметных следов в литературе. Со временем о них забывают. Быть может, стоит попытаться вспомнить обо всем, что связано с этим, и рассказать.
Я отдаю себе полный отчет в том, что такой рассказ, вопреки моему желанию, будет в какой-то мере субъективным и односторонним. Меня смущает и то обстоятельство, что эта статья, посвященная памяти И.Е.Тамма, в некоторой степени окажется автобиографической. В свое оправдание хочу сказать следующее. Анализируя свой путь в науке в годы, когда он уже достаточно длинный, начинаешь понимать, какую роль в нем играла преемственность по отношению к прошлому и особенно к той научной среде, в которой работал. Влияние на меня И.Е.Тамма, даже если бы не было совместной с ним работы, о которой я пишу здесь, очень велико. В действительности же эта совместная работа определила одно из направлений моей научной деятельности с тех пор и до настоящего времени.
В молодости мне посчастливилось в том отношении, что уже в студенческие годы я попал в среду, в которой истинное научное влияние воспринималось особенно интенсивно и разносторонне. Я имею в виду научную школу Л.И.Мандельштама, к которой принадлежали мои непосредственные учителя и выдающиеся физики С.И.Вавилов, Г.С.Ландсберг и И.Е.Тамм — ученые, столь различные по своей индивидуальности. Была, однако, особенность, характерная для всей этой школы, — это непрерывное научное общение. Вопросы теории и результаты эксперимента неизменно и постоянно обсуждались, и эти разговоры (они происходили и вне научных семинаров), частые и длительные, никто не считал потерей времени. Первое время мне казалось удивительным, что столь выдающиеся люди часы своего драгоценного времени, в которые они могли бы сделать нечто замечательное, тратят на разговоры, в которых немалое внимание уделяется тому, что не получилось или оказалось ерундой. В то время я не понимал и того, что в этих беседах часто излагались новые идеи задолго до их опубликования и, разумеется, без опасения, что их опубликует кто-то другой. Причем никто не жалел усилий, чтобы помочь формированию нового в понимании, совершенно не думая о соавторстве. В этой моральной атмосфере, которая была свойственна школе Л.И.Мандельштама, это было более чем естественно.
Непрерывное обсуждение новых работ и соображений, связанных с ними, в беседах с коллегами и учениками было характерно для С.И.Вавилова до конца его жизни. Вполне естественно, что я знал о работе П.А.Черенкова с самого ее начала и во всех подробностях. Вскоре С.И.Вавилов познакомил меня с Черенковым, а после моего перехода в ФИАН началось и наше тесное научное общение. После переезда в 1934 г. Академии наук в Москву С.И.Вавилов не раз говорил об этих работах с И.Е.Таммом, {347} постоянно общался с ним и я. Без этих многократных совместных обсуждений не родилась бы работа, которой посвящена эта статья.
Несколько слов, совсем автобиографических, о моих занятиях электродинамикой. Вскоре после поступления в Московский университет, т.е. в 1926 или 1927 г., я обратился к И.Е.Тамму с просьбой посоветовать мне, что читать по физике. Он рекомендовал теорию электричества Абрагама. На русском языке ее еще не было (или я ее не достал), и я взялся читать немецкое издание. Возможно, что совет И.Е.Тамма был случайным и связан с тем, что он работал тогда над рукописью своей теперь широко известной книги «Основы теории электричества», но для меня он имел большое значение. От своего отца, математика, оказавшего на меня большое влияние, я унаследовал интерес и любовь к геометрии. Вероятно, поэтому теория поля меня увлекала. Подлинным открытием была для меня небольшая книжка Максвелла о фарадеевых силовых линиях, которую я нашел в студенческой библиотеке физико-математического факультета МГУ.
В университете я слушал курс лекций по теории электричества у И.Е.Тамма и сдавал ему экзамены по этому предмету, однако это не дало толчка к каким-либо самостоятельным занятиям. Ничего, кроме обычных для взаимоотношений студента с профессором учебных анекдотов, я в связи с этим вспомнить не могу. Затем проблемы электродинамики ушли на длительный срок из моего поля зрения. Длительный — это значит лет шесть—семь, что немало для начинающего физика, едва достигшего двадцатилетнего возраста.
Возвращение к ним связано с работой П.А.Черенкова в 1934 г. и с исследованиями в области ядерной физики, которые начал по совету С.И.Вавилова. С.И.Вавилов увлек меня своим интересом к работе П.А.Черенкова. Напомню, что измерения проводились Черенковым визуальным методом. При этом не только слабость свечения, но и метод фотометрии по порогу зрительного ощущения («метод гашения») требовал длительной адаптации глаз к темноте. Выполнять эти измерения без помощника было трудно, и случалось, хотя и не очень часто, что таким помощником был я. В результате у меня были самые непосредственные представления о работе. Вполне естественно поэтому, что в обсуждениях полученных результатов и планируемой постановки опытов не только С.И.Вавилов, но и я обычно принимал участие.
Попробую здесь резюмировать положение вопроса к началу 1936 г., ставшего решающим в понимании явления, причем многое было выяснено уже в первой публикации П.А.Черенкова 1934 г. При изучении люминесценции растворов солей урана, возбуждаемой γ-лучами, П.А.Черенков обнаружил слабое видимое свечение самих растворителей, природа которого во многом представлялась неясной. Это послужило началом исследований свечения чистых жидкостей под действием γ-лучей радия (в твердых веществах нельзя было исключить роль обычной люминесценции). Свечение оказалось универсальным — светились все без исключения исследованные жидкости, и притом практически одинаково ярко (в пределах 30%). Измерения со светофильтрами показали, что спектр излучения различных жидкостей в пределах ошибок одинаков. Он охватывает широкую область частот, и если бы можно было увидеть его цвет (при малых интенсивностях цветное зрение отсутствует), то свечение представлялось бы синим. И хотя увидеть цвет тогда еще было невозможно, С.И.Вавилов уверенно озаглавил свою работу, опубликованную вместе с первой статьей Черенкова, так: «О возможной причине синего γ-свечения жидкостей»1. {348}
Особенно удивительным казалось то, что свечение имело заметную поляризацию, причем преимущественное направление электрического вектора совпадало с направлением γ-лучей. Такой знак поляризации, а также невозможность повлиять на яркость свечения ни изменением температуры, ни добавлением тушителя люминесценции были надежно установлены уже в первой работе П.А.Черенкова. Это привело С.И.Вавилова к важнейшему выводу: свечение не может быть люминесценцией возбужденных молекул жидкости, — излучает комптоновский электрон в результате своего взаимодействия со средой. Единственный механизм излучения, который, как казалось, был возможен, — это тормозное излучение. Поэтому такое предположение и было сделано С.И.Вавиловым. Допущение сразу объясняло универсальность свечения и поляризацию, поскольку при комптон-эффекте электрон вылетает преимущественно под острым углом к направлению пучка фотонов. Не вызывало сомнений и сходство спектров излучения разных жидкостей — спектр, очевидно, определялся механизмом торможения.
...Все же гипотеза С.И.Вавилова о тормозном излучении содержала много неясного и по ряду причин вызывала сомнения; однако его точка зрения о том, что излучает электрон, а не люминесцирует жидкость, мне представлялась несомненной. Это далеко не было общепризнанным, и, видимо, поэтому ни у кого, кроме узкого круга лиц, связанных с С.И.Вавиловым, опыты П.А.Черенкова не вызывали интереса. Вспоминаю в связи с этим высказывание одного видного физика: «В ФИАНе занимаются свечением какой-то грязи». Вполне понятно, что для дальнейшего продвижения вперед надо было получить прямое доказательство связи излучения с быстрыми электронами.
Конечно, самый прямой путь состоял в том, чтобы наблюдать сведение от источника β-частиц. Теперь кажется странным, но тогда в институте, не имевшем радиохимической лаборатории, это было не очень просто. Такой опыт был сделан в 1936 г., и в нем использован препарат радия в тонкостенной стеклянной ампуле. Было показано, что свечение обладает всеми свойствами, уже выясненными для свечения под воздействием γ-лучей. При этом, как и ожидалось, яркость свечения для β-частиц оказалась обратно пропорциональной плотности. В этой работе уже делается попытка сопоставить результаты с теорией, из которой следовало, что должна проявляться и зависимость от показателя преломления.
Большой удачей было то, что до этого в начале 1936 г. был сделан косвенный опыт для проверки роли электронов, благодаря которому случайно обнаружилось наиболее характерное свойство излучения — его направленность. В опытах с электронами, если бы направленность не была известна, ее легко можно пропустить, так как необходимой коллимации пучка электронов тогда достичь было не просто. Косвенный опыт состоял в том, чтобы показать, что при свечении под воздействием γ-лучей поляризация в самом деле связана с направлением движения электронов. Очевидно, что в этом можно было убедиться, поместив светящуюся жидкость в настолько сильное магнитное поле, чтобы прямолинейную часть пробега электронов превратить в заметно искривленную дугу окружности. Тогда результирующая плоскость поляризации должна была повернуться на какой-то угол в сторону отклонения электронов.
Я помню, что постановку опыта, а затем и его результаты мы внимательно обсуждали с П.А.Черенковым. Сомнения вызывало то, что значительное рассеяние электронов могло сделать их не управляемыми магнитным полем. Однако опыт был вовсе не бессмыслен, и он удался, но результат оказался неожиданным. Теперь ни я, ни П.А.Черенков не помним самой первоначальной схемы опыта, но зато хорошо памятен результат. Главным при включении магнитного поля оказался не поворот плоскости поляризации (по-видимому, он происходил), а изменение яркости свечения, которое было значительным.
...Внимательное рассмотрение результатов экспериментов приводило к весьма парадоксальному выводу: излучение направленно, причем в переднюю полусферу по отношению к скорости электрона излучается света больше, чем в заднюю. И такая {349} направленность должна была быть очень значительной, так как при отклонении электрона магнитным полем в сторону наблюдения яркость заметно возрастала, а при отклонении в противоположную сторону — убывала. Помню, что П.А.Черенков, так же как и я, был полностью согласен с этим выводом. По-видимому, мы так легко его приняли в силу нашей недостаточной осведомленности в оптике. Наоборот, в силу глубоких знаний ее С.И.Вавилов сначала считал, что этот вывод не может быть правилен. Однако вскоре прямой опыт однозначно доказал, что асимметрия излучения действительно имеет место. Трубка с жидкостью была закрыта с торцов плоскими окошками, позволявшими наблюдать свечение в двух взаимно противоположных направлениях. Свечение, наблюдаемое при помещении препарата радия сбоку против центра трубки, было в обоих окнах одинаково ярким. Но при включении магнитного поля в том окне, в сторону которого отклонялись электроны, яркость становилась больше, а в противоположном, наоборот, меньше.
Разумеется, уже тогда направленность вперед тормозного излучения релятивистских электронов была хорошо известна, и, пожалуй, естественно было считать, что это свойство проявляется и здесь (об аналогии с тормозным излучением сказано в одной из работ П.А.Черенкова). Однако С.И.Вавилов утверждал (ссылаясь, если не ошибаюсь, на Зоммерфельда), что тормозное излучение для малых энергий фотонов не должно иметь направленности вперед. Действительно, тогда не было известно ни одного направленного излучателя видимого света, и полагали, что это не случайно. Сейчас уже трудно выяснить основы этого ошибочного мнения, которое, по-видимому, было более или менее общепринятым. Если сейчас обнаружение направленности излучения, вероятно, послужило бы доводом в пользу гипотезы о тормозном излучении, то тогда оно дало толчок к поискам иного объяснения, которое и привело к правильному пониманию явления. В самом деле, единственное, что могло обеспечить направленность излучения, — это протяженность излучателя, сравнимая с длиной волны. Такой излучатель можно рассматривать как совокупность точечных мультиполей, когерентных между собой и распределенных по некоторой длине. Именно так, как известно, получается направленное излучение радиоволн. Поэтому, когда я рассказал И.Е.Тамму о выводах, получающихся из опытов П.А.Черенкова, он сразу же сказал: «Это значит, что происходит когерентное излучение на длине пути электрона, сравнимой с длиной световой волны». Приняв эту точку зрения, было уже сравнительно просто получить картину, которая сейчас обычно приводится при популярных пояснениях механизма излучения Вавилова–Черенкова.
Хотя это наглядное объяснение теперь общеизвестно, но для дальнейшего изложения нужно о нем сказать. Основным, как мы знаем, было использование принципа Гюйгенса: каждая точка на пути заряда, движущегося равномерно и прямолинейно со скоростью V, служит источником сферической волны, испускаемой в момент прохождения через нее частицы. В том случае, когда
V > c/n, т. е. β n > 1, |
(1) |
эти сферы имеют общую огибающую — конус с вершиной, совпадающей с мгновенным положением заряда. При этом нормали к образующим конуса, т.е. направления волновых векторов, образуют со скоростью угол θ0,
cos θ0 = 1 / β n |
(2) |
...Из этой качественной картины сложения волн получилось очень многое. В самом деле, излучать должны только быстрые электроны, для которых V > c / n. Излучение электрона должно быть пропорционально его пробегу, т.е. обратно пропорционально плотности жидкости. Поэтому в согласии с опытом суммарная интенсивность свечения для электронов от γ-лучей не должна зависеть от плотности. (Напомню, что число комптоновских электронов, возникающих в единице объема, примерно пропорционально плотности.) Наконец, эта картина давала направленность излучения. В то время из опыта П.А. Черенкова следовало только, что вперед излучается света больше, чем назад. {350} Теперь мало кому известно, что величина угла θ0 вовсе не была следствием эксперимента, наоборот, это было предсказанием теории, которое затем полностью подтвердилось на опыте.
Из качественного рассмотрения очевидно, что спектр излучения должен быть сплошным, так как единственное ограничение для частоты определялось величиной n(ω) в условии (2), причем в прозрачной жидкости для видимого света n(ω) слабо зависит от ω. Казалось вероятным также, что электрический вектор волн определяется направлением скорости электрона и дает поэтому правильный знак поляризации. И если только возникновение волн, сложение которых рассматривалось, было реальным, то не возникало сомнений и в универсальности явления.
Такая качественная картина объясняла, следовательно, все, что было известно об эффекте Вавилова–Черенкова, кроме интенсивности излучения. Именно это и делало ее крайне уязвимой. Мне приходилось делиться этими соображениями с несколькими теоретиками, начавшими проявлять интерес к опытам П.А.Черенкова (особенно после того, как была выяснена направленность излучения), но какого-либо понимания я не встретил. Главная причина этого была, вероятно, в недостаточной осведомленности о свойствах явления. Как И.Е.Тамм, так и я знали здесь больше1. При этом И.Е.Тамм даже предлагал мне публиковать статью, не дожидаясь более детального рассмотрения. Это было бы, однако, преждевременным. Не только вопрос об интенсивности не был рассмотрен, но сама возможность возникновения излучения сразу же стала предметом сомнений. И.Е.Тамм рассказал о качественной картине, позволяющей интерпретировать излучение, Л.И.Мандельштаму. Замечание Мандельштама состояло в следующем: известно, что при равномерном и прямолинейном движении электрон не излучает. Результат не изменится от того, что в волновом уравнении заменить скорость света с на с/n, так как одно уравнение сразу же приводится к другому, если соответственно изменить скорость частицы. Я не присутствовал при этой беседе, но, по-видимому, она была мимолетной, и во всяком случае не было обращено внимания на то, что это не относится к скорости, превышающей фазовую скорость света, т.е. к случаю, вообще неосуществимому в вакууме2. {351}
Разумеется, опыты Маха с пулей, летящей со сверхзвуковой скоростью, были известны не только И.Е.Тамму, но и мне. Не могу вспомнить, то ли не возникала мысль об аналогии с волнами Маха, то ли ошибочно считалось, что к электродинамике эта аналогия неприменима. Оба эти предположения теперь кажутся более чем странными. Так или иначе, но замечание Л.И.Мандельштама, сделанное «на ходу», сильно расхолодило увлеченность наглядной точкой зрения. И.Е.Тамм считал после этого, что, прежде чем развивать ее дальше, следует выяснить, нет ли иных путей для объяснения явления.
Что касается меня, то я твердо верил в эту качественную картину, но все же и я в какой-то мере отдал дань общим заблуждениям, пытаясь найти микроскопический механизм возникновения волн. Если в оптически однородной среде при равномерном движении излучение не возникает, то микроскопический механизм, казалось, был необходим. В промежутке между весной и осенью 1936 г. вопрос оставался открытым.
...Между тем экспериментальные исследования П.А.Черенкова, которые подтолкнули предположение о направленности излучения, быстро продвигались. Направленность стала уже экспериментальным фактом. Теперь даже трудно себе представить, насколько удивительной она тогда казалась.
Я вспоминаю, что, когда осенью 1936 г. приехал в Москву Жолио-Кюри, ему был продемонстрирован опыт Черенкова, теперь вошедший в популярные книги. Вертикально поставленный стеклянный цилиндрический сосудик с жидкостью с боков был окружен коническим зеркалом. Если смотреть на зеркало сверху, то можно было видеть угловое распределение излучения, выходившего в горизонтальной плоскости через стеклянные стенки цилиндра. Когда препарат радия помещался сбоку цилиндра, то отчетливо были видны два максимума излучения под острым углом к направлению γ-лучей. Сделанные П. А. Черенковым фотографии таких колечек с неравномерным почернением в различных азимутах теперь общеизвестны, а сам опыт нагляден и безупречно убедителен, если, конечно, не заподозрить элементарной ошибки, граничащей с жульничеством. Именно такая мысль, видимо, возникла у Жолио-Кюри, который немедленно стал поворачивать сосудик и зеркало вокруг оси, чтобы убедиться, что прозрачность стекла сосуда или качество серебрения зеркала здесь не играют роли. В обсуждении же опыта им был сделан намек на аналогию с N-лучами Блондло1. Этому не следует удивляться. Демонстрацию опыта приходилось проводить в полной темноте, причем даже при некоторой адаптации глаза свечение было на пределе видимости. Вся обстановка в самом деле была необычна для физического эксперимента и напоминала нечто вроде спиритического сеанса или фокуса с применением «ловкости рук».
Этому опыту предшествовал период, когда теория еще не была закончена, в то время как актуальность задачи уже стала очевидной. Это привело к новому обсуждению вопроса совместно с И.Е.Таммом. Были рассмотрены различные гипотезы, о которых теперь уже невозможно вспомнить, и все они оказались бесплодными. Выяснилось, что наглядная картина, использующая принцип Гюйгенса, — это единственная, дающая качественно правильный результат. И величина β = V/c, и пробег наиболее энергичных комптоновских электронов действительно могли дать требуемую направленность волн под острым углом к скорости электрона. После этого или, вероятно, этих обсуждений (теперь уже не помню, сколько их было) как-то вечером И.Е.Тамм позвонил мне по телефону и попросил немедленно приехать к нему домой.
Я застал И.Е.Тамма за столом, увлеченного работой и уже исписавшего много листов бумаги формулами. Он сразу же принялся рассказывать мне о сделанном им до моего прихода. Сейчас я уже не могу вспомнить в точности, что было предметом совместного {352} обсуждения в ту ночь. Думаю, что обсуждались и ход решения задачи, предложенный И.Е.Таммом, и правильность выкладок, и физические основы теории, в которых многое было еще неясно. Помню только, что просидели мы долго. Домой я возвратился под утро пешком, так как городской транспорт уже закончил (или еще не начал) свою работу1. У меня было ощущение, что в моей жизни произошло немаловажное событие, вероятно, главным образом потому, что я впервые стал участником теоретической работы, и притом совместно с И.Е.Таммом.
Собираясь к И.Е.Тамму, я захватил с собой школьную тетрадку, и в нее рукой И.Е.Тамма был записан вывод формулы для энергии излучения электрона. Не знаю, в силу какой случайности, но тетрадка сохранилась. Запись в ней занимает пять с половиной страниц, сделана торопливой рукой со многими поправками. Все же, судя по тому, что некоторые промежуточные выкладки опущены, это уже не самый первоначальный вывод, а попытка систематизировать полученные результаты. Фотокопию одной из страничек записей И.Е.Тамма, содержащую окончательную формулу, я здесь воспроизвожу2. На следующих страницах тетрадки, вероятно, позже, более аккуратно и со всеми подробностями тот же вывод записан моей рукой. Окончательная формула в этой тетрадке правильна (за исключением пределов интегрирования), но вывод ее существенно отличается от содержащегося в опубликованной нами позже статье.
В соответствии с опытом считалось, что пробег частицы ограничен, при этом скорость частицы вдоль пробега принималась неизменной, а пробег прямолинейным. Поле рассчитывалось в волновой зоне. Расчет для ограниченной траектории позволял обойти кажущуюся трудность — «электрон при равномерном движении не излучает»...
В статье, опубликованной нами (она датирована 2 января 1937 г.), уже было рассмотрено излучение электрона с пробегом неограниченной длины и устранена возникающая при этом нестрогость вывода для малых θ (указанная Л.И.Мандельштамом). Поэтому в статье содержится расчет потока энергии через единицу длины боковой поверхности цилиндра с осью, совпадающей с траекторией частицы.
У меня осталось сравнительно мало воспоминаний об этом завершающем этапе развития теории, а также о написании и редактировании статьи, вероятно, потому, что это была обычная, будничная работа. Исключением является воспоминание об институтском семинаре, на котором сразу же после получения первых результатов работы докладывал И.Е.Тамм. При обсуждении нам обоим стало уже совершенно очевидно, что требование ограниченной траектории электрона бессмысленно и что либо надо признать наличие излучения электрона на всем его пути независимо от начала и конца, либо вообще все ошибочно, что казалось невероятным. Это и дало толчок к правильному пониманию проблемы. (И.Е.Тамм вспоминает об этом семинаре в своей Нобелевской лекции.)
...Теория оказалась в полном согласии с экспериментальными данными, полученными П.А.Черенковым к середине 1936 г. Дополнительные эксперименты, проведенные им в 1936–1937 гг., подтвердили и количественную сторону теории...
Результаты Черенкова и их теоретическая интерпретация первоначально были замечены лишь советскими физиками. Видимо, иностранные ученые мало читали в то время наши журналы (хотя «Доклады Академии наук СССР» печатались на двух языках: на русском и иностранном). Уже после того как в исследование явления была внесена полная ясность, С.И.Вавилов в 1937 г. направил небольшую статью П.А. Черенкова, суммировавшую полученные результаты и их сравнение с теорией, в «Nature». He помню уже, под каким благовидным предлогом, но статья была отклонена. Истинная же причина не вызывала сомнений: столь солидный журнал, как «Nature», не считал {353} возможным публиковать результаты, представлявшиеся, по крайней мере, сомнительными. В этом смысле менее разборчивым оказался «Physical Review», куда и была направлена та же статья после неудачи с «Nature».
Вскоре появилось первое экспериментальное подтверждение теории. Коллинз и Рейлинг в США в 1938 г., используя пучок релятивистских электронов из ускорителя, проверили на тонком радиаторе соотношение cos θ0 = 1/β n. Возможно, что авторы этой статьи отнеслись к работе П.А. Черенкова без характерного в то время недоверия, поскольку они полагали, что причиной излучения является постепенное торможение электрона за счет ионизационных потерь, которое и дает в сумме направленное излучение. Эта ошибка вполне естественна, если принять во внимание сказанное о наших собственных заблуждениях и то, что с теорией явления Коллинз и Рейлинг, по-видимому, были знакомы лишь по статье П.А.Черенкова (в ней содержалась только ссылка на теорию, результаты которой были приведены лишь в той мере, как это было необходимо для сравнения с опытом). Эти же авторы, по-видимому, впервые назвали излучение «радиацией Черенкова» — термин, ставший затем общепринятым.
Что касается теории, то первое развитие она получила в работах В.Л.Гинзбурга (1939–1940 гг.), давшего квантовое рассмотрение явления и распространившего теорию на случай оптически анизотропной среды. Существенное обобщение было сделано в 1940 г. Ферми, рассмотревшем случай среды с поглощением света и показавшим существенность поляризации среды для величины ионизационных потерь.
Оглядываясь назад, пожалуй, нелишне вспомнить, что излучение быстрого электрона в среде было первым случаем когерентного самосветящегося источника света с длиной когерентности, значительно большей длины волны света. Теперь в качестве открытия такой когерентности обычно указывают на другой пример — на лазеры, в которых действительно она очень наглядна. Между тем эта когерентность была подчеркнута даже самим заглавием статьи И.Е.Тамма и И.М.Франка. Позже она была использована при рассмотрении интерференции света от двух тонких радиаторов, через которые пролетает быстрая заряженная частица. Не менее существенно и то, что здесь впервые выяснилось, что для процесса излучения оптические свойства среды могут иметь такое же принципиальное значение, как и величины, характеризующие быструю частицу (заряд, скорость). В дальнейшем оказалось, что имеется целый класс явлений, связанных с радиацией быстрой частицы, которые определяются оптическими свойствами среды или для которых они существенны.
Все же широкую известность излучение Вавилова–Черенкова приобрело лишь через много лет после своего открытия, когда экспериментальная техника позволила использовать это излучение для детектирования быстрых частиц (черенковские счетчики).
| {354} |
В середине 30-х годов Игорь Евгеньевич часто и подолгу бывал в Ленинграде: он работал штатным консультантом теоретического отдела Физико-технического института, которым заведовал мой отец — Яков Ильич Френкель. Тамм останавливался обычно в доме моих родителей, расположенном в двух шагах от Физтеха. Разумеется, детское сознание селектировало впечатления и сохранило только веселые — поэтому-то Игоря Евгеньевича тех лет я всегда вспоминаю смеющимся. В бежевом костюме, быстро-быстро что-то рассказывающий, затевающий шумную возню со мною и вовлекающий в нее нашего спаниеля — он стоит у меня перед глазами в залитой ярким солнечным светом столовой нашей квартиры в Лесном. Его у нас любили все — от мала до велика. И неизменно возникало ощущение праздничности, когда я слышал от взрослых упоминание об Игоре Евгеньевиче или узнавал о его предстоящем приезде.
Значительно чаще я стал видеть Таммов в 1941–1943 гг., когда Игорь Евгеньевич вместе с семьей эвакуировался в Казань. Академические институты были размещены в здании Казанского государственного университета на улице Чернышевского. Растянувшееся на целый квартал невысокое белокаменное строение вместило в себя и ФИ АН, и Физтех, и Институт физических проблем. Никогда ранее, я думаю, в нашей стране плотность распределения физиков-теоретиков не была столь высокой: все они располагались в одном крыле университета.
Родители мои часто встречались с Таммами и в домашней обстановке. Насколько помню, в те трудные годы Таммы и Френкели особенно сблизились с супругами Фрумкиными, жившими в доме известного казанского химика А.Е.Арбузова1. Игорь Евгеньевич с семьей занимал две маленькие комнаты в квартире, находившейся во дворе университета; там же, в других одно- и двухэтажных строениях жили {355} О.Ю.Шмидт1, П Л.Капица и другие московские и ленинградские ученые.
Хорошо мне запомнился один из вечеров в семье Таммов. Игорь Евгеньевич сидел на какой-то маленькой, детской скамеечке, Наталия Васильевна, его жена, занималась хозяйством, а ее отец, очень пожилой человек с окладистой бородой, чинил ботинки. Имел он вид заправского сапожника: повязанный передником, с гвоздиками, зажатыми в губах, он методически и довольно громко заколачивал их в подметку. Когда мы с матерью вошли, Игорь Евгеньевич вскочил, поздоровался, сказал несколько слов, а потом, извинившись, снова примостился на скамейке, с тетрадью на коленях.
— А мы не помешаем тебе, если будем разговаривать? — спросила моя мать.
— Нет, нет, нет, пожалуйста, разговаривайте, не обращайте на меня никакого внимания!
— Гора2 умеет совершенно отключаться, — пояснила ей Наталия Васильевна.
— Какая ты счастливая! — ответила мать, вздохнув. — А у нас, когда Яша занимается, все должны на цыпочках ходить!
Игорь Евгеньевич обладал редким обаянием. К сожалению, такого рода констатации не очень содержательны — они могут вызвать единодушное согласие у тех, кто хорошо его знал, но прозвучат как некая сухая информация для необщавшихся с ним. Справедливость подобной оценки может быть, однако, как мне кажется, подтверждена уже простым рассмотрением его фотографий. Статичные отпечатки, остановленные мгновения — они тем не менее передают живость и необыкновенную подвижность его лица, обаяние улыбки, увлеченность рассказчика или лектора, заинтересованное внимание слушателя. Он не был красивым человеком, но лицо его, изборожденное — еще в довольно молодые годы — резкими морщинами, было на редкость привлекательным.
В еще большей степени понять секрет обаяния Игоря Евгеньевича помогают кадры кинохроники, где его можно видеть в движении. К счастью, известность Тамма была прижизненной и совпала со временем повышенного интереса кинохроникеров к физикам. Прекрасный фильм «Один тамм», включавший некоторые кадры, запечатлевшие его, — лишь первый шаг, сделанный документальной нашей кинематографией, чтобы передать потомкам его незабываемые и милые черты, его быструю речь, стремительность и порывистость движений. {356} Когда я сказал Игорю Евгеньевичу о его сходстве с известным американским киноактером Спенсером Трэси (которого у нас знают, в частности, по фильмам «Нюрнбергский процесс», «Этот безумный, безумный, безумный мир», «Старик и море», «Пожнешь бурю»), то выяснилось, что ему и раньше говорили об этом.
Мне самому тоже удалось внести микроскопический вклад в «фототеку Тамма». В 1949 г. мы отдыхали на Рижском взморье, в Майори. Там же жил и Игорь Евгеньевич. Я был чрезвычайно горд, когда он пригласил меня составить ему компанию на теннисной площадке. Несколько раз, по утрам, мы сражались на хорошем корте, расположенном во дворе одного из домов на улице Юрас. Силы у нас были примерно равные, и игра от этого получалась интересной. Игорь Евгеньевич играл чрезвычайно азартно, бурно переживая свои промахи и искренне радуясь удачам — своим и моим. Тогда-то я и сфотографировал его: немного утомленный игрой, он стоит с ракеткой в руке у теннисной сетки, в спортивных трусах и без майки.
Сохранились воспоминания и о вечерних прогулках вдоль моря, которые совершали отец и Игорь Евгеньевич. Он обычно заходил за родителями в один из корпусов дома отдыха «Чайка» на улице Александра. Оттуда они шли на пляж. Степень их известности можно было измерить в единицах вязкости: движение к берегу моря было замедленным, «турбулизовалось», потому что по дороге их останавливали или к ним присоединялись знакомые.
Игорь Евгеньевич любил разные головоломки: физические, математические и логические. Его увлекали и всякие загадочные, что называется, «страшные» истории. Наши общие знакомые супруги О.Е. и В.Г.Гольдины1 тем же летом отдыхали вместе с Таммами на туристской базе московского Дома ученых в Лиелупе (неподалеку от Майори). В дождливые вечера по инициативе Игоря Евгеньевича все собирались в одной из комнат, и каждый должен был рассказать соответствующий таинственный случай из своей жизни. Эта чуть наивная жажда чуда была очень характерна для него и придавала ему милый оттенок детскости.
Осенью 1956 г. Игорь Евгеньевич отдыхал в Гаграх и пригласил меня к нему заехать. Когда в начале октября я нашел его дом, то узнал с огорчением, что он буквально за два дня до моего приезда улетел в Москву. На следующий день, уже через несколько минут после того, как я оказался на пляже Дома творчества писателей, я услышал имя Игоря Евгеньевича. Оказалось, что во время отпуска он ежедневно {357} загорал и купался на этом пляже и познакомился со многими обитателями Дома творчества. И вот теперь о нем говорили с исключительной теплотой, уважением и, более того, с любовью драматург Николай Эрдман и его коллега Михаил Вольпин. В течение нескольких дней имя Игоря Евгеньевича просто не сходило с уст небольшой группы литераторов, живших в Доме творчества. Ситуация напоминала пьесу, главный герой которой ни разу не возникает на сцене, хотя все действие «вертится» вокруг него.
Когда же сотрудник Теоретического отдела ФИАНа Е.С.Фрадкин увидел Игоря Евгеньевича сразу после возвращения из Новых Гагр и спросил, как ему отдыхалось, тот ответил:
— Очень хорошо! Я прекрасно поработал! — и указал на кипу тетрадей, лежавших на его столе и привезенных с Кавказа.
Игорь Евгеньевич был не только интереснейшим рассказчиком, но и заинтересованным слушателем, вникавшим в вопросы, волновавшие его собеседника. Встречи с ним служили источником удовлетворения и гордости — особенно для молодого человека, каким я был в то время. Они доставляли несравнимую радость чуда человеческого общения (если воспользоваться словами Сент-Экзюпери).
Помню, как он внимательно расспрашивал меня о моих работах по расчету электронных ламп. Наверное, я в то время все же недостаточно хорошо его знал и решил, что он делает это просто из доброжелательной вежливости, поэтому ограничился несколькими словами, но Игорь Евгеньевич сказал:
— Нет, пожалуйста, расскажи мне, чем ты занимаешься. Я ведь, знаешь, и сам в свое время занимался радиолампами.
И он начал рассказывать, как в самом начале 20-х годов он работал на радиозаводе в Одессе, правда, очень маленьком и очень недолго. Даже фамилию директора вспомнил! — Львович; потом назвал трех коллег — Стахорского, Щеголева и Романюка. О вакуумных радиолампах до завода доходили только слухи. Но вот появился некий «деятель», владевший образцом такой лампы — триода. Ему «под этот триод» дали целый отдел. Деятель оказался жуликом, работать с ним было просто невозможно. Игорь Евгеньевич с названными выше товарищами перешел в Политехнический институт, в так называемую «вакуумную артель», входившую в лабораторию быстрых колебаний. Ее курировали Л.И.Мандельштам и Н.Д.Папалекси1. Здесь работа пошла очень хорошо. С помощью искусного стеклодува (из знаменитой династии Петушковых) «вакары» (так сокращенно именовали себя {358} сотрудники «вакуумной артели») сделали диффузионный насос Ленгмюра, который откачивал сразу 10–15 ламп. Одновременно Тамм руководил студенческими лабораторными занятиями. Время было голодное, за работу «вакары» получали в день по стакану муки. По дороге на работу забегали на рынок и выменивали муку на другую еду. — Так что, видишь, мы с тобой коллеги, и мне действительно интересно узнать о твоих работах, — закончил Игорь Евгеньевич.
В наши разговоры включались и чисто деловые составляющие, связанные с тремя физиками — моим отцом, Паулем Эренфестом и самим Таммом.
Первая возникла в 1953 г. при работе над собранием сочинений Я.И.Френкеля, а потом — над специальным номером (март 1962 г.) журнала «Успехи физических наук», приуроченным к 10-летию со дня кончины отца, — решение об этом издании было принято Отделением физико-математических наук АН СССР по представлению Игоря Евгеньевича. По его просьбе для большой биографической статьи, написанной им для этого номера журнала, я подготовил ряд материалов, прежде всего многочисленные выписки из отцовской переписки. Когда Игорь Евгеньевич прочел их, он сказал: «Да ведь эти письма — целая книга — и такая увлекательная!» Под влиянием Игоря Евгеньевича я начал работать над книгой об отце, которую решил построить именно на фундаменте его переписки1.
Вторая составляющая возникла с 1967 г., когда я начал собирать материалы о Пауле Эренфесте и узнал, как высоко ценил этот большой физик и интереснейший человек Игоря Евгеньевича. Довольно много рассказов об Эренфесте и в связи с ним я услышал в те годы от И.Е.Тамма и использовал2.
И, наконец, примерно тогда же Агентство печати «Новости» известило сотрудников ФИАНа, что некое английское издательство задумало выпуск большой серии книг о нобелевских лауреатах. Заказы на книги о наших ученых оно полагало лучшим поручить отечественным авторам (к этой работе привлекли Б.М.Болотовского и меня).
В силу всего сказанного я с согласия Игоря Евгеньевича и непосредственно в его присутствии записывал иногда относящиеся к нему самому и Эренфесту рассказы и эпизоды. В последние годы жизни он вынужден был говорить медленнее. Многие его фразы, даже высказанные походя, я хорошо запомнил, а иногда записывал почти дословно. Стараясь передать их содержание на последующих страницах, я, как {359} правило, не перетасовываю того, что услышал от Игоря Евгеньевича, по тематическому признаку, а следую за неожиданными подчас поворотами его мысли, столь характерными для живого разговора.
Наши разговоры (до операции, перенесенной Игорем Евгеньевичем в феврале 1968 г.) начинались обычно в столовой квартиры на набережной Максима Горького. Затем мы переходили в его кабинет. Обставлен он был скромно: письменный стол у окна, справа на стене — известная фотография Леонида Исааковича Мандельштама. Вдоль стен — книжные шкафы, а перед диваном — круглый стол. На нем в естественном и не раздражающем беспорядке разбросаны книги — или недавно купленные, или подаренные ему (в том числе и английские детективы, которые он любил читать), свежие физические журналы, оттиски.
Хозяин усаживал гостя на кресло или диван, а сам быстро ходил, чуть не бегал — из конца в конец комнаты, правда с частыми остановками. Голова его слегка наклонена, глаза блестят оживленно. В углу четко очерченного рта — дымящаяся папироса. Говорил он быстро, почти скороговоркой, поэтому паузы, когда он глубоко затягивался, казались относительно долгими. Очень характеризует человека смех. У Игоря Евгеньевича он был особенно привлекательным — и мимика, к звуковая окраска. Если ему что-то нравилось в рассказе, он часто переспрашивал, а потом поднимал палец правой руки и повторял: «Это очень хорошо! Это надо запомнить!»
Несколько слов о его памяти, в частности — профессиональной. У меня создалось впечатление, что свои работы он помнил не очень отчетливо — особенно популярные и философские. По его словам, каждое исследование захватывает его целиком; ни на какие другие он просто органически не может отвлекаться, словно из сознания «выметается» все побочное. Может быть именно поэтому Игорь Евгеньевич году примерно в 1958-м не сразу вспомнил о своей работе по поверхностным уровням. Он искренне удивился, когда узнал, как часто на нее, как на одну из определяющих, ссылаются в потоке работ по физике полупроводниковых и, в частности, поверхностно-барьерных приборов.
В другой раз он припомнил забавный эпизод, связанный с нею. Дело происходило в феврале 1932 г. (сужу по заключительным строчкам его статьи «О возможных связанных состояниях электронов на поверхности кристалла») в Ленинграде. Именно во время пребывания в ФТИ ему пришла в голову идея о поверхностных уровнях — следствиях «естественного» несовершенства кристалла: его конечных размеров.
«Делаю расчеты, — говорил Игорь Евгеньевич, — получаю абсурд. Повторяю еще — не нахожу ошибки. Еще раз — то же самое. Вычисляю {360} все заново, отложив в сторону прежние расчеты, — опять чепуха. Тогда я пошел к Якову Ильичу.
— Яша, у меня какой-то алгебраический замур. Вот, послушайте.
Излагаю ему идею.
— Очень интересно.
— Ну, а теперь вот расчет.
Пишу формулу и приступаю к преобразованиям.
— Как известно, гиперболический синус — четная функция.
Тут Яков Ильич говорит:
— Игорь, откуда вам это известно?1
— О, черт возьми! Все, Яша, больше вопросов нет!»
В 1961 г. Игорь Евгеньевич ездил в США2. Припоминаю его рассказ о посещении фирмы «Белл-телефон». Наверное, там-то он и имел случай подробно вспомнить свою работу тридцатилетней давности, о которой еще при жизни Игоря Евгеньевича за границей была издана специальная книга. Русский перевод ее увидел свет уже в 1973 г.3
Вот имена Игорь Евгеньевич помнил плохо — всегда. В телеграмме, посланной летом 1960 г., он ошибся в имени моей родственницы. В конце письма, пришедшего позднее, Игорь Евгеньевич, трогательно проклиная свою память, извинился за описку. Там же, между прочим, он сообщил, что живет сейчас с Наталией Васильевной на даче в Жуковке, и приглашал меня, если я окажусь в Москве, приехать туда. На последней странице был набросан план: как добраться до дачи со станции. Даже сейчас, после того как я многократно побывал там, не могу разобраться в этом плане! Он мне чем-то напоминает известную схемку, на которой Эйнштейн (в 40-х годах, в Принстоне) пояснил своей маленькой приятельнице-школьнице, как решать не дававшуюся ей геометрическую задачку: те же бесконечно далекие от образцов чертежного искусства неровные линии.
А вот стихи Игорь Евгеньевич помнил отлично. Мне не раз приходилось слышать, как он их читал. Особенно запомнился один эпизод, относящийся к 1967 г. К тому времени он получил многие государственные и академические награды. Происходило это в Москве, в больнице Академии наук, куда Игоря Евгеньевича положили на обследование: врачей беспокоили анализы крови, боялись самого плохого... Палата скорее напоминала номер в гостинице, да и называлась она соответственно: «люкс». Игорь Евгеньевич присел на одно из кресел, {361} спиной к окну, и тихим голосом, без всякой аффектации, прочел стихотворение Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Стихи выражали суть его отношения к жизни: для него цель творчества — самоотдача, и к внешнему успеху он был равнодушен.
Доводилось мне несколько раз слышать, как Игорь Евгеньевич цитировал по-немецки отрывки из стихов Гейне. Но особенно хорошо помню, как уже во время болезни, т.е. после февраля 1968 г., речь у нас зашла об Алексее Константиновиче Толстом и его стихотворении о спеси. У Таммов в дореволюционном издании Толстого не было нескольких стихотворений поэта, которые ему хотелось бы перечитать («История государства Российского», «Сон Попова» и др.). Я привез томик Толстого, изданный в «Малой серии» «Библиотеки поэта». Он очень ему обрадовался, нашел «Сон Попова», тут же начал читать. Потом поинтересовался, долго ли я пробуду в Москве: успеет ли прочесть книгу? Так как он очень беспокоился, я заверил, что заберу ее в следующий раз. Но, признаться, посмотрев на сильно похудевшего Игоря Евгеньевича, подумал — застану ли его еще через месяц-пол-тора? К счастью, эти опасения не оправдались. Ему на какое-то время стало лучше. Он снова пришел на свое обычное — с поправкой на невольную прикованность к аппарату «искусственные легкие» — состояние. И только несколько месяцев спустя Игорь Евгеньевич вдруг вернулся к разговору об А.К.Толстом. «Спесь» он знал уже наизусть. И в тот раз я снова слышал, как он читал это небольшое стихотворение.
В 1965 г. Игоря Евгеньевича пригласили в Японию на конференцию, созванную в честь Юкавы по случаю тридцатилетия со дня предсказания мезона. Это было ему особенно приятно: известно, что Юкава отправлялся от его работы 1934 г. об обменном характере сил ядерного взаимодействия.
И.Е.Тамм очень любил и часто повторял высказывание Бора о том, что истинно новая теория обязательно должна поначалу быть безумной, сумасшедшей (crazy). Доклад в Японии («О кривом импульсном пространстве») он закончил словами, обращенными к участникам: «Благодарю вас за внимание к столь проблематичным и безумным идеям».
Рассказывая об этом, Игорь Евгеньевич добавил:
— Третий год я работаю запоем. Написано тысячи страниц! И что, ты думаешь, ждет их? Скорее всего — корзина! — и он энергично указал под стол.
Сейчас, когда вышло двухтомное издание трудов И.Е.Тамма, особенно легко найти в тех его работах, где он нащупывает основы новой {362} теории, сходные слова. «Моя цель состоит в построении теории, свободной от расходимостей. Я, конечно, понимаю, как малы шансы на успех в достижении этой цели» (1965); «Я сам последние полтора года запоем работаю над увлекшей меня идеей, работаю с переменным успехом» (1965); «Я упорно работаю над этой теорией уже пятый год. Много раз сменялись взлеты и падения. (...) В настоящее время я полон оптимизма» (1968). Последняя фраза особенно знаменательна: она написана уже тогда, когда Игорь Евгеньевич был привязан к аппарату «искусственные легкие».
Перелистываю записную книжку-календарь 1967 г.: 27 апреля, 16.30 — к обеду у Таммов. Хорошо помню тот день. Когда я пришел, Игоря Евгеньевича не было дома. Наталия Васильевна пояснила, что последнее время он мало бывает на воздухе, приходится даже придумывать какие-то поручения, чтобы сдвинуть его с места. Вскоре появился Игорь Евгеньевич, показавшийся мне немного сгорбившимся — в сравнении с последней, месяца за четыре до этого, встречей. Но когда он сел, это стало незаметным, тем более что выглядел он, как в прежние годы. Только немного непривычно было видеть его малоподвижным, не вскакивающим с места, чтобы «побегать» по комнате — в характерной для него манере: или заложив руки за спину, когда он слушает, или довольно оживленно жестикулируя ими, когда рассказывает.
Игорь Евгеньевич с интересом посмотрел присланные мне из Лейдена ксерокопии его писем к Эренфесту.
— Ну ничего не помню! Да куда там, я и не все свои работы помню — и всегда-то их быстро забывал, как только увлекался чем-то новым.
Он рассказал о чудесном путешествии на велосипедах по Голландии в 1928 г., которое предприняли супруги Шубниковы1 — Лев Васильевич и Ольга Николаевна, старшая дочь Эренфеста Татьяна Павловна и сам Игорь Евгеньевич.
— Я нигде так много не ездил на велосипеде, как в Голландии! Там, между прочим, научил этому искусству Дирака, причем он чуть не угодил в процессе тренировки в канал!
Позднее я добавил Игорю Евгеньевичу несколько штрихов к его рассказу со слов Ольги Николаевны: Эренфест никак не соглашался отпустить в поездку с Шубниковыми свою дочь, но когда узнал, что {363} вместе с ними решил ехать Игорь Евгеньевич, изменил свое решение: Тамм был самым старшим, ему в то время было 32 года — на 6 лет больше, чем Шубниковым, и на 10 — чем Татьяне Павловне Эренфест.
Прошло еще какое-то время, и началась работа по подготовке к изданию переписки Эренфест — Иоффе. И вот в письмах Эренфеста от 1928 г. я нашел много мест, частично не изданных и доныне, касающихся Игоря Евгеньевича, выписал их и привез ему показать (это было уже году в 1969-м). Вот что писал Эренфест 13 апреля 1928 г.: «На пасху, к моей большой радости, Т (Таня-штрих — так называли Эренфесты свою старшую дочь. — Авт.) с Таммом и обоими Шубниковыми отправилась в дальнее велосипедное путешествие по прекрасным местам юго-восточной Голландии. Она пишет очень восторженные открытки. И все это организовано благодаря энергии Тамма, который к тому же увлек всю группу регулярной игрой в теннис1.
И заключительный аккорд истории. Когда Игоря Евгеньевича уже не стало, его семья передала несколько фотографий для публикации к статье в журнале «Химия и жизнь». На одной из таких любительских фотографий, сделанных, очевидно, Л.В.Шубниковым, запечатлены Игорь Евгеньевич, Ольга Николаевна и Татьяна Павловна. Игорь Евгеньевич, совсем молодой, стоит у обочины дороги, заложив руки в карманы; пиджак расстегнут, под ним — жилет. Все трое сняты на фоне молодого соснового леса — словно это не Голландия, а Подмосковье.
Вот два других отрывка из писем Эренфеста к Иоффе. Первый — из только что упоминавшегося письма от 13 апреля: «Я совершенно восхищен последней работой Дирака о спине электрона. Тамм все это нам очень хорошо разъяснил. Он продолжает работать над этим дальше. К радости Тамма, май и июнь Дирак проведет в Лейдене. Фонд Лоренца пригласил Тамма продлить по меньшей мере на это время его пребывание в Лейдене (хорошо бы напечатать об этом где-либо в России!). Таким образом, Тамм будет гостем фонда Лоренца с середины января до конца июня. Он — второй из приглашенных фондом Лоренца на такой длительный срок. Первым был О.Клейн из Копенгагена, сотрудник Бора. Попечителями фонда Лоренца являются Зееман2, я и Фоккер. В момент приглашения Тамма в их число входил еще и сам Лоренц»3. {364}
Второй отрывок — из письма от 5 марта 1928 г.: «...Если тебе по-настоящему хочется, чтобы в том или ином месте, где должно быть поставлено действительно живое, ясное и критическое преподавание, находился бы молодой физик-теоретик, то предложи это место Тамму, снабдив его маленькой, но хорошей библиотекой»1.
Об Эренфесте Игорь Евгеньевич всегда вспоминал с доброй улыбкой. Роль его в создании новой физики он считал не оцененной должным образом и сближал его в этом плане с Леонидом Исааковичем Мандельштамом. При жизни Эренфеста его острый критический ум в какой-то мере заслонял от современников значимость его собственных позитивных исследований — по статистической механике, теории относительности и теории квантов.
— Правда, — сказал Игорь Евгеньевич, — в обсуждении новых работ, в выявлении их глубокой физической сути он не имел себе равных. Вот и Дау2, например, — добавил он. — В критике конкретной теории он великолепен. Правда, если о какой-либо моей общей идее он отзывался в характерной для него категорической форме («Чепуха!»), я считал, что вопросом этим следует заняться.
Тамм часто любил рассказывать о Дираке. Познакомились они в мае 1928 г. в Лейдене. Эренфест поручил своим ассистентам встретить Дирака на железнодорожном вокзале. К встречающим присоединился и Игорь Евгеньевич. Никто из них не знал Дирака в лицо. Поэтому все вооружились оттисками последней работы Дирака о релятивистском электроне (которую как раз за месяц перед тем Тамм прореферировал на лейденском теоретическом семинаре Эренфеста) и заняли места у выхода из каждого вагона. Дирак «клюнул» на свой оттиск: расчет Эренфеста оказался правильным.
Сблизился с Дираком Тамм очень быстро — к искренней радости Эренфеста. 2 июня 1928 г. он писал А.Ф.Иоффе: «Тамм и Дирак очень подружились. В середине июня они поедут в Лейпциг, где Дебай3 и Гейзенберг организовывают недельную дискуссию по квантовой механике». Для Эренфеста не было большей радости, чем видеть, как устанавливаются добрые, товарищеские отношения между людьми, каждого из которых он высоко ценил.
Еще одна история, которую Игорь Евгеньевич рассказывал о Дираке. Во время одного из приездов Дирака в Копенгаген вечером к нему зашел Бор. Как раз в этот день Дирак получил корректуру своей статьи из «Proceedings of Royal Society» (Тамм не сказал, какой, так что {365} трудно установить время, к которому относится рассказ). Бор, который правил свои корректуры иногда более десяти раз, спросил, прочитав статью:
— Дирак, почему вы ограничились правкой опечаток, а не внесли ничего нового в текст? Ведь со времени написания прошло так много времени! Неужели у вас с тех пор не появилось новых идей?
Дирак невозмутимо ответил:
— А меня еще моя мать учила: сперва подумай, а потом уж пиши. В ленинградской газете (научный отдел в ней вел Я.И.Перельман1)
была опубликована заметка, в которой рассказывалось о физиках, съезжающихся на первую Всесоюзную конференцию по физике ядра сентябрь 1933 г.), созванную по инициативе А.Ф.Иоффе, И.В.Курчатова и других ленинградских ученых в Физико-техническом институте. Дирак, приехавший в Ленинград морем, в порту дал интервью и сказал, между прочим, что Тамм принадлежит к числу тех советских теоретиков, чьими работами он более всего интересуется2. Чрезвычайным дружелюбием проникнуты его письма, сохранившиеся в семье Игоря Евгеньевича.
От Дирака наш разговор естественным образом перешел к скромности, которую Тамм высоко ценил в людях. И столь же естественно он тут же вспомнил Л.И.Мандельштама. А учитывая мои «эренфестовские» интересы, рассказал о следующем эпизоде, случившимся в сентябре 1924 г. в Ленинграде, во время Четвертого съезда русских физиков. В большой физической аудитории Политехнического института слушали доклад по дифракции (может быть, Эренфест рассказывал о работе «Квантовая теория дифракции Фраунгофера», выполненной им совместно с П.С.Эпштейном3 как раз в 1924 г.). Тамм сидел рядом с Мандельштамом где-то выше 10-го ряда поднимающейся амфитеатром аудитории. По докладу развернулись прения. На каком-то их этапе Эренфест сказал:
— Ну, а теперь пусть об этом вопросе выскажется самый видный мировой специалист по оптике — профессор Мандельштам.
И стал искать Леонида Исааковича глазами. Мандельштам же страшно засмущался и, к удивлению Тамма, буквально сполз на скамейку — так, чтобы его нельзя было увидеть снизу, где стоял Эренфест.
Я тут же бросился записывать этот эпизод, но Игорь Евгеньевич заметил: {366}
— Не знаю, может быть, так прямо «сполз» и неудобно писать?
— Давайте тогда напишем: «спрятался за вашу спину».
— Ну, разве что так, — согласился он.
Тремя годами позже книга об Эренфесте увидела свет, и этот эпизод привлек внимание одного из читателей.
— Как же Мандельштам — крупный мужчина — мог физически спрятаться за спину невысокого Игоря Евгеньевича? — спросил он.
Я пробормотал что-то невразумительное, а при ближайшей встрече с Таммом рассказал ему об этом разговоре.
— Да, пожалуй, можно было написать так, как оно и было на самом деле. Репутация Леонида Исааковича не пострадала бы, — отозвался он.
Игорю Евгеньевичу доставляло неизменное удовольствие говорить о Мандельштаме.
— Я ему всем, всем обязан! — любил он повторять.
Ему очень нравилась речь Алексея Николаевича Крылова, произнесенная 22 декабря 1944 г. на собрании памяти Леонида Исааковича, выдержанная в несколько необычном для А.Н.Крылова тоне, но также отмеченная ярким его писательским дарованием1. Тамм хорошо ее помнил.
Не знаю, было ли известно Игорю Евгеньевичу, что А.Н.Крылов энергично поддержал его кандидатуру на выборах в Академию в 1943 г. Поддержка содержится в письмах А.Н.Крылова на имя А.Ф.Иоффе (в то время вице-президента АН СССР, академика-секретаря Отделения физико-математических наук) и П.Л.Капицы. О том, как ответственно относился Алексей Николаевич к этому представлению, свидетельствуют несколько черновых вариантов представления, в которых он последовательно оттачивал стиль и аргументацию своих писем, сделав ударение на исследованиях И.Е.Тамма по теории эффекта Черенкова2. Значение этой работы, по словам А.Н.Крылова, стало для него ясным в результате неоднократных ее обсуждений с Л. И. Мандельштамом.
В начале 1967 г. я отбирал для одной из статей фотографии, имевшиеся у нас дома, причем, естественно, мне хотелось, чтобы увидели свет ранее нигде не публиковавшиеся. Но на ряде снимков, сделанных моим отцом в 1926–1931 гг., был и совершенно незнакомые мне люд и. Я показал их Тамму, но он никого не сумел распознать:
— У меня вообще плохая память на лица! {367}
Но вот он широко и радостно улыбнулся: очередь дошла до групповой фотографии с Нильсом Бором.
— Очень характерный поворот головы! — воскликнул Игорь Евгеньевич.
От этого «фотографического эпизода» перенесусь в другое, но близкое время. Октябрь 1967 г. Вечер у Таммов. Разговор каким-то образом заходит о Бабеле. Игорь Евгеньевич говорит, что год тому назад в гостях познакомился с вдовой писателя. Прошло какое-то время, и она прислала ему «Избранное» Бабеля. Тамм с огромным сожалением рассказывает, что, очевидно, безвозвратно пропали все рукописи Бабеля — такое сокровище! Я спросил: а что еще в тот вечер говорилось об этом замечательном писателе? Тамм пояснил:
— Мы же виделись только один раз, разговор был общим, а знакомство — мимолетным.
— Но ведь почему-то она прислала вам книгу? — настаиваю я.
— Ума не приложу, почему, — пожимая плечами, отвечает он. Следующий эпизод также относится к 1967 г. Я рассказал Игорю
Евгеньевичу о прекрасной биографии Больцмана1, написанной австрийским физиком Брода, и о публикации переводов работ самого Больцмана на русский язык2. Они могли заинтересовать Игоря Евгеньевича в связи с его работами последних лет.
— Как вы относитесь к идее Больцмана (и Пуанкаре3) о прерывности (дискретности) времени?
— Такие суждения не следует принимать слишком всерьез, поскольку они имеют характер несущественных (с точки зрения уровня тогдашних знаний) догадок или предположений. Да, по сути дела, — добавил Игорь Евгеньевич, — то же справедливо и в отношении атомистических воззрений Демокрита. Атомизм древнегреческих философов, по его мнению, был скорее курьезом.
Разговор коснулся и вышедших тогда сочинений Эйнштейна (Тамм — председатель редакционной коллегии). Помню, как Игорь Евгеньевич высоко оценил труд, который вложил в эту работу Я.А.Смородинский4. {368}
— Встречались ли вы с Эйнштейном?
Оказалось, он беседовал с ним только однажды и очень недолго в доме Эренфеста в Лейдене. К сожалению, никаких конкретных воспоминаний у Тамма не осталось. Но Тамм хорошо запомнил рассказ пианиста Г.Нейгауза1 (со слов Леопольда Годовского2, его учителя, знакомого с Эйнштейном) о том, как на каком-то торжественном обеде, где непрерывно славословили Эйнштейна, он, склонившись к Годовскому, тихо сказал:
— У меня такое чувство, словно я сделал что-то плохое.
— По-видимому, он опасался, как бы его не сочли стремящимся к популярности, — пояснил Тамм.
— В четвертом томе собрания трудов Эйнштейна рассыпано много фраз, которые при желании (или невнимательном чтении) можно рассматривать как свидетельство его религиозности, — продолжал я разговор.
— Конечно же, Эйнштейн не был религиозным человеком, и его собственные высказывания на эту тему не следует воспринимать буквально — это скорее метафоры. Я знаю несколько «обычным образом» религиозных ученых, людей более чем достойных, но понять их не могу!
Для западной интеллигенции, по впечатлениям Тамма, характерны поиски идеалов, которые могли бы быть общими по обе стороны политического барьера. Подобным идеалом прежде всего является всеобщий мир, и Пагуошское движение отражает такие поиски. Попытки создать какую-то новую религию, свободную от сказочных наслоений, отражают надежду многих на Западе таким образом улучшить взаимопонимание и уменьшить угрозу войны. Основное противоречие эпохи, по словам Тамма, — конфликт старых инстинктов и новой техники. Когда же люди научаться обуздывать свои инстинкты? Ведь если раньше подобная необузданность не приводила к фатальным последствиям (сколько можно убить дубиной или ножом — двадцать, тридцать человек?), то теперь жертвою злого умысла или легкомыслия могут стать миллионы.
В октябре 1967 г. я привез Игорю Евгеньевичу книгу И.Н.Головина3 о И.В Курчатове. Он сразу начал листать ее, задерживаясь на фотографиях. {369}
— Где-то я читал, что в воспоминаниях и книгах об ученых они говорят одними афоризмами и что это — отступление от истины. Может быть, дело в другом: что именно такие высказывания лучше запоминаются?
Познакомились они с Курчатовым в Ленинграде. Тамм побывал у него в лаборатории еще тогда, когда Игорь Васильевич занимался сегнетоэлектричеством и только помышлял о переключении на ядерную тематику. Потом произошла встреча на Первой конференции по физике ядра в 1933 г. и далее — на всех последующих таких конференциях.
Тамм рассказал, как еще очень давно они разговаривали с Мандельштамом об огромной роли, которую в наш век играют организаторы науки. В числе ученых, наделенных таким талантом, он специально выделил Игоря Васильевича (с ним он много работал в 50-е годы), а также биолога В.Ю.Гаврилова.
Переходя к другой теме, он заметил: необыкновенно возросшее значение науки в жизни общества имеет и ряд отрицательных сторон. «Хорошо бы, — в шутку сказал он, — немного понизить зарплату научным работникам. Уж больно много лезет в науку всякого постороннего народа. Ей богу, такое впечатление, что быть просто разбойником куда менее выгодно!»
Разговор наш происходил днем. Игорь Евгеньевич предложил немного подышать воздухом. На лифте мы спустились во двор его дома на набережной Максима Горького, обогнули высокое здание и подошли к двум сдвинутым спинками скамейкам в небольшом скверике. Одна из них была обращена к фасаду дома, другая, более приземистая — к Москве-реке. Тамм сказал, усаживаясь:
— Эта мне более подходит по росту, да и вид приятнее.
Он немного задыхался, а передохнув, заметил:
— Это у меня эмфизема легких. В США от нее умирает больше народа, чем от туберкулеза. Но, конечно, на первом месте рак. В чем здесь дело? Видимо, действуют несколько факторов. Увеличилась средняя продолжительность жизни. Раньше люди просто не успевали умереть от рака. Особенно велики успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями, с туберкулезом. Возможно, играет роль и более правильная диагностика.
Далее Игорь Евгеньевич рассказал, что, по послевоенным данным американцев, кривая смертности от рака возрастает так же, как и кривая роста потребления табака (или числа курильщиков). Отсюда был сделан вывод о наличии очевидной корреляции. Но профессор {370} Махаланобис1, с которым Тамм познакомился в 1962 г. в Калькутте, предложил эти данные уточнить. Резкий рост числа курильщиков, как оказалось, связан с тем, что «закурили» женщины (скачок на кривой числа курильщиц), в то время как кривая смертности у них практически не изменилась. У мужчин же «кривая курильщиков» не изменилась, кривая смертности резко возросла. Одно из возможных объяснений сводится к следующему: мужчины большую часть времени проводят на производстве, в городе, где масса канцерогенных веществ. «А сколько недоразумений и псевдооткрытий связано с неумением обращаться с данными статистики и с результатами измерений! Полинг подарил мне книгу “How to Lie with Statistics” (“Как лгать с помощью статистики”), жаль, что у меня ее зачитали, тебе было бы интересно ее посмотреть», — закончил он2.
Припоминаю, что Игорь Евгеньевич творил тогда же и о неправильности и несправедливости деления профессий на престижные и второразрядные. Особенно возмутительны проявления барства и пренебрежения к представителям таких профессий, которые недалекие люди полагают второстепенными. Он, например, вспоминал захватывающе интересный разговор с шофером на Памире (тот, в частности, увлеченно ему рассказывал об астроботанике) или встречи с рабочими на Камчатке, которым он читал лекции о проблеме урана. Игоря Евгеньевича порадовали не только глубокая заинтересованность, но и солидные знания аудитории. И, перейдя от профессий вообще к наукам, он подытожил все это афористически: «Второразрядных наук нет. Есть второразрядные ученые».
Еще одна встреча. 28 декабря 1969 г. Желая развлечь Игоря Евгеньевича, я позабавил его новыми и хорошо забытыми анекдотами и услышал от него несколько по ассоциации пришедших ему на память. Разговор пошел о том, что, казалось бы, все анекдоты должны восприниматься как своеобразные маленькие трагедии — с точки зрения их сюжета («Один сумасшедший...», «Умирает теща...», «Муж застает жену...», «Некто падает с восьмого этажа...» и т.д.). Мы долго пытались найти анекдот, который бы противоречил этому правилу, и всякий раз после более основательного микроразбора оказывалось, что, если даже {371} в нем и никто не умирал, не разбивался и т.д., все же в основе анекдота лежал факт не столько смешной, сколько печальный.
— Часто, — заметил Игорь Евгеньевич, — поведение людей в тех или иных ситуациях только на первых взгляд кажется смешным. Если же вдуматься, то оно должно скорее наводить на грустные мысли. Вот я расскажу довоенную историю, происшедшую с одним молодым физиком. Он был у меня в гостях и сразу от нас поехал на вокзал, не имея билета и надеясь купить его перед отходом поезда. Вдруг в час ночи раздается звонок в дверь: это, оказывается, наш недавний гость. Выяснилось, что билета достать ему не удалось. А пояснил он это так: «Не могу же я ехать не в мягком вагоне!» Самое забавное, — закончил Игорь Евгеньевич, — что у нас не оказалось свободного места, и мы устроили его на полу! Смешное тщеславие, спесь, барство? Но ведь это скорее печально.
В воспоминаниях беседа представляется отрывочной, «дискретные» эпизоды внешне не связаны между собой — как в кинокартине, где последовательное действие редко продолжается больше 3–5 минут. По каким-то ассоциациям, ясным, возможно, в данный момент или одному из собеседников, или им обоим, разговор отходит от выбранной темы, а возникшая новая его ветвь часто оказывается настолько далеко идущей, что к исходной точке и не возвращаешься. Может быть, обмен анекдотами о сумасшедших побудил Игоря Евгеньевича рассказывать о «письмах безумцев», как он выразился. Таких патологических писем он получает очень много, и хотя темы их очень пестры, во всех есть что-то общее: «глобальный» охват проблемы, агрессивный тон.
— На псевдологическую канву наносится какой-то горячечный физический узор. Я получил недавно письмо, — рассказал он, — в котором писалось о любви Христа не только к людям, но и ко всему неорганическому миру. Это казалось понятным автору. Но заканчивал он свое письмо так: «Я никак не могу понять, как это можно, чтобы протон любил электрон, когда у них такая колоссальная разница масс!» Игорь Евгеньевич вспомнил, как однажды ответил на такого рода письмо, пытаясь все же вразумить автора, показать, что все его умствования основаны на элементарном незнании предмета. Вскоре пришло новое, краткое и грозное послание: «Мы еще сведем с вами счеты!»
Физики, принадлежавшие к поколению Игоря Евгеньевича, оказались современниками двух революций: научной и социальной. Вклад, {372} внесенный Игорем Евгеньевичем в приложение общих принципов квантовой механики к электронной теории твердых тел (кванты упругости — фононы, поверхностные уровни, теория электронов и ядер), хорошо известен. Но вряд ли многие физики младшего поколения, а тем более студенты, познающие основы теории электромагнитного поля по книге Тамма, догадываются, что он был вовлечен в водоворот революционных событий 1917 г. А ведь И.Е.Тамм являлся делегатом Первого Съезда Советов в Петрограде, был избран в исполком Совета рабочих и солдатских депутатов Елизаветграда.
В бурные годы гражданской войны он не один раз попадал в критические ситуации, когда сама его жизнь подвергалась прямой опасности; его приключения могли послужить основой увлекательной повести! О некоторых из них мне приходилось слышать от Игоря Евгеньевича. Правда, это не длинные рассказы, к которым так располагает совместный отдых или туристическое путешествие с вечерним чаепитием у разожженного костра, а скорее — микроновеллы, всплывшие в его памяти по ходу дела, когда он отвлекался от основной темы беседы.
Приведу одну из них.
Осень 1919 г. застала Тамма в занятом белогвардейцами Киеве, без документов (точнее — только с советскими документами). Ему угрожал арест или — в «лучшем случае» — мобилизация в армию. Тогда он решил пробираться в Крым, в Таврический университет. Рекомендацию ему дал знакомый киевский физик. С большим трудом Игорю Евгеньевичу удалось попасть на поезд, шедший в сторону Одессы. В Елизаветграде его могли узнать. Родной город он проехал, не вылезая из вагона. Вечером добрались до станции Новоукраинка. Дальше поезд не пошел: поступили сообщения, что часть предыдущих составов была пущена под откос махновцами. Опасаясь облав на вокзале, Игорь Евгеньевич отправился искать ночлег в небольшом городке (посаде) того же названия, расположенном в двух километрах от станции. Утром, подгоняемый голодом, он решил позавтракать в заведении, пышно именовавшемся рестораном. Не успел заказать себе чашку кофе, как в зал вошел военный патруль: началась проверка документов. Но тут, на его счастье, в ресторан зашли двое офицеров. С младшим из них он познакомился незадолго до этого в поезде. Это был грек, призванный во французскую армию; его звали мосье Жорж. По каким-то сложным семейным обстоятельствам он оказался в полыхавшей гражданской войной России и пробирался в Одессу. Мосье Жорж увидел Тамма и познакомил со своим спутником — полковником белой армии. Зная, что у него не было документов, оценив ситуацию, мосье Жорж сказал: «Да, судя по всему, хорошего завтрака здесь не получить. Полковник, пойдемте, поищем что-нибудь поприличнее». {373}
Все трое двинулись к выходу. Игорь Евгеньевич замыкал шествие. Его вид возбудил какие-то подозрения у стоявшего у двери солдата. «Документы!» — потребовал он. Но тут вмешался полковник: «Пропустите, этот господин идет со мной».
Поиски более подходящего заведения ни к чему не привели. Тогда полковник пригласил мосье Жоржа и Тамма к себе. Они вернулись на станцию. Полковник ехал в отдельном вагоне.
— С виду, — рассказывал Игорь Евгеньевич, — это был обычный товарный вагон 1918 года, а внутри — довольно хорошо обставленная комната. Не успели мы расположиться около затопленной буржуйки, на которую полковник поставил какую-то еду, удар в дверь: «Открывай!». Новый патруль. Полковник приоткрыл дверь и на вопрос, нет ли кого-либо в вагоне, ответил отрицательно. Потом, снова задвинув дверь, спросил, обращаясь к Игорю Евгеньевичу: «А я ведь даже и не знаю, кто вы такой? Хоть паспорт-то у вас есть?» Игорь Евгеньевич, улыбнувшись, ответил: «Что такое человек? Это тело, душа и ... (он сделал паузу и поднял указательный палец правой руки) — и паспорт!»
До Одессы Тамм добрался благополучно, сел на пароход до Севастополя и поздней осенью 1919 г. утвердился на кафедре физики Таврического [ныне Симферопольского ] университета — в качестве ее ассистента. Однако его политические взгляды и симпатии скоро стали известны, и к лету 1920 г. перед ним возникла необходимость бежать из Симферополя. Много позднее ему рассказали, что через несколько часов после того, как он покинул свою комнату, туда пришли, чтобы арестовать его.
Игорь Евгеньевич работал на самом переднем крае фронта теоретической физики в те годы, когда создавались общие принципы квантовой механики и шел интенсивный процесс их приложения к конкретным физическим явлениям. В такие периоды особенно часто сходные идеи и теории рождаются одновременно и независимо у разных ученых. Если бы существовали счетчики такого рода совпадений, они работали бы в режиме перегрузок! Лакмусовой бумажкой человеческих достоинств ученого служит его поведение в таких «приоритетных» ситуациях. Нужно ли говорить, что позиция, которую занимал Игорь Евгеньевич в подобных случаях, была образцовейшей, являя собой достойный подражания пример и трудно достижимый идеал. Эти повышенная щепетильность и корректность могут быть легко прослежены при прямом обращении к его публикациям. {374}
У лиц, интересующихся историей науки (которая, по справедливому утверждению, отнюдь не сводится к «приоритетологии»), распутывание приоритетных узелков не является проявлением житейского любопытства. Однако установление истины тут тем более заманчиво, что в такого рода «узелки» оказываются вплетенными и психологические нити. Здесь вопросы чисто научные оказываются особенно связанными с характерами людей, «делающих» науку. Случайные совпадения (такая случайность как раз и является ярким проявлением закономерности общего хода развития данной области науки) соседствуют со злонамеренными действиями, свидетельствующими о пренебрежении общепринятыми этическими нормами.
Хорошо помню, с каким неприязненным чувством отозвался Тамм о Г.А.Гамове в связи с его известной работой по теории α-распада. Г.А.Гамов не сослался на высоко ценимую Таммом статью Л.И.Мандельштама и М.А.Леонтовича, в которой было впервые показано, что согласно квантовой механике частица может пройти «сквозь» потенциальный барьер, а это и составляет то, что называется туннельным эффектом1. Игорь Евгеньевич недоуменно говорил:
— Ведь и человек он талантливый, и работы у него хорошие, и статью Мандельштама и Леонтовича он знал. Впрочем, все это идет не от ума или глупости, а совсем по другому департаменту...
Вопросы приоритетного характера мне случалось задавать Игорю Евгеньевичу и в связи с работами Я.И.Френкеля — тем более, что в статье, посвященной его памяти (1962 г.), он сам, хотя и вскользь, коснулся этой темы. Он очень огорчился, когда я продемонстрировал ему случаи недобросовестного замалчивания работ отца со стороны одного из его коллег. Помню, как в другой раз, в начале 60-х годов, речь зашла о довольно крупном ученом, моральные качества которого Игорь Евгеньевич высоко ценил. А я имел основания полагать, что — во всяком случае в прошлом — к его поведению такая оценка не могла быть применена, о чем и сказал.
— Этого не может быть! — возразил он.
Теперь, задним числом, я скорее сожалею, что в следующий приезд в Москву привез сохранившийся в семейных архивах документ, подтверждавший правильность моего суждения (на нем и основанного). Прочитав его, Игорь Евгеньевич помрачнел, горестно покачал головой; установилась долгая пауза. Я тогда же дал себе зарок не заниматься {375} более подобного рода «просветительством». Влияние Человека с большой буквы проявляется еще и в том, что люди могут в меру своей возможности с годами изменяться к лучшему, а к Тамму поворачивались лучшей своей стороной, делая это не из карьерных побуждений, а бессознательно, попадая под обаяние его личности. Так часто случалось с теми, кто встречался с ним.
Когда Игорю Евгеньевичу приходилось сталкиваться с проявлениями ограниченности, глупости, непорядочности, он, словно бы принимая освежающий душ, обращался к именам своих любимых коллег и друзей. Часто он говорил о руководимом им Отделе теоретической физики в ФИАНе, и я дословно помню некоторые его фразы:
— Я счастлив в своих сотрудниках! Это и способные, а многие просто очень талантливые люди. И ни одной склоки, ни одной дрязги — за столько лет!
Он не скупился на похвалы, когда речь заходила о том или ином из его ближайших учеников или сотрудников. Его лицо озарялось улыбкой, он иногда даже чуть прикрывал глаза:
— О, это умница, это мой любимец!
Но, пожалуй, резче всего говорил Тамм о более чем досадных издержках, связанных с приоритетом, когда речь заходила о работах по комбинационному рассеянию света (об этом, кстати, он также в разное время писал). Он считал вопиюще несправедливым решение Нобелевского комитета отметить премией работу одного только Рамана. Игорь Евгеньевич подчеркивал, что исследования Л.И.Мандельштама и Г.С.Ландсберга, выполненные практически одновременно с Раманом и совершенно независимо от него, отличались большей глубиной, содержали не только описание эффекта, но и правильное его истолкование. Тамм с глубоким уважением отзывался о решении Макса Борна в связи с занятой Нобелевским комитетом позицией выйти из его состава.
Другой пример, свидетельствующий о недостаточной смелости и принципиальности комитета, И.Е.Тамм усматривал в том, что этот комитет не рискнул присудить премию Эйнштейну за исследования, приведшие к созданию теории относительности. Тамм рассказал, что еще шесть лет тому назад выдвигал на Нобелевскую премию работы Е.К.Завойского и считает большой ошибкой Нобелевского комитета, что он обошел эти выдающиеся исследования, которые, кстати, были выполнены во время войны на глазах у Игоря Евгеньевича, в Казанском университете, и тогда же докладывались на фиановском семинаре.
| {376} |
В начале 1957 г. А.Ф.Иоффе пригласил Тамма выступить на семинаре Института полупроводников, посвященном памяти моего отца. Заседание семинара происходило в доме на Петровской набережной, в котором размещался еще Институт мозга и Институт озероведения. В небольшой комнате — части перегороженного фанерными стенами зала, на потолке которого сохранилась богатая роспись, собралось человек тридцать-сорок. Значение работ Я.И.Френкеля в целом раскрыл Игорь Евгеньевич. Выступивший вслед за ним Абрам Федорович основной упор сделал на влияние, оказанное ими на экспериментальную физику. Обстановка на семинаре была необыкновенно доброжелательной и неофициальной; Игорь Евгеньевич держался чрезвычайно просто, словно это была дружеская беседа.
Быть может, именно здесь будет уместно сказать несколько слов об Игоре Евгеньевиче и моем отце. Особенности характера Тамма ярко проявлялись в общении с друзьями, учениками, коллегами. Когда думаешь об этом, вспоминается один из микрорассказов Тамма о Дираке. После одного из докладов Дирака, сделанного им во время визита в нашу страну во второй половине 50-х годов, ему был задан вопрос о внутреннем строении частиц. Он ответил примерно так:
— Разве имеет значение, из какого материала сделаны шахматные фигуры? Важно, по каким законам они взаимодействуют друге другом на 64 клетках доски.
Взаимодействие Тамма с современниками (Бор, Дирак, Эренфест, Вавилов, Капица, Ландау, Мандельштам, Френкель, Фок), влияние, оказанное на него предшественниками (Фарадей, Гельмгольц), традиции Тамма в Теоретическом отделе ФИАНа, почерк Игоря Евгеньевича в работах его учеников (прошлых, нынешних и будущих) — какой все это богатый материал для исследователей!
Тамм и Френкель были практически одного возраста, в чем-то схожи даже чисто внешне: оба невысокого роста, оба очень подвижны. Правда, у Игоря Евгеньевича была поджарая, спортивная фигура, в то время как отец был склонен к полноте. Но объединяла их, конечно, прежде всего любимая профессия, хотя области прямых интересов совпадали не всегда. Они были единодушны и держались рука об руку в мужественной борьбе за новую физику и всегда попадали в одну «обойму» при критике со стороны тех философов — вульгаризаторов науки, которые отрицали значение квантовой механики и теории относительности и усматривали в них вредоносный идеализм (из теоретиков в эту «обойму» включали еще В.А.Фока и Л.Д.Ландау; из экспериментаторов — А.Ф.Иоффе и С.И.Вавилова). Хотя принципы, {377} положенные в основу построения известных курсов электродинамики Френкеля и Тамма, разительно отличались, каждый из них высоко отзывался о книге другого. Вообще, тесная их дружба не означала полного соответствия взглядов: разумеется, по каким-то вопросам они расходились.
Несмотря на частые обсуждения работ друг друга, которые можно проследить по концовкам статей и ссылкам, они только дважды выступили в печати с совместными статьями. В них критиковались ошибочные взгляды Н.П.Кастерина и А.К.Тимирязева, относящиеся к проблемам электродинамики.
Работы своих коллег они оценивали по-разному. Отец проявлял здесь больше терпимости. Скажем, если диссертация, оппонентом по которой ему предлагалось выступить, была не блестящей, нуждалась в основательной доработке, но принадлежала человеку, ранее зарекомендовавшему себя серьезными исследованиями, отец считал возможным дать на нее положительный отзыв. Игорь же Евгеньевич оценивал ее как таковую и бывал непреклонен. Помню, что мальчиком (в Казани) я прислушивался к тому, как отец призывал Игоря Евгеньевича быть снисходительным, апеллируя к ряду обстоятельств, не имеющих прямого отношения к диссертации, а касавшихся скорее самого диссертанта, но наталкивался на непреодолимое сопротивление. Не соглашаясь с Игорем Евгеньевичем, отец уважал его позицию.
Бывали забавные казусы. Так, находясь в 1931 г. в США, отец опубликовал в «Physical Review» статью о теории фотоэлектрического эффекта, изложив в ней неверно ему кем-то переданные результаты работы, принадлежавшей Тамму. Игорь Евгеньевич написал в том же журнале опровержение этой части статьи своего друга. Несколько лет тому назад (уже после смерти Игоря Евгеньевича) ассистент отца по кафедре теоретической физики Миннеаполисского университета, ныне покойный профессор Эд.Хилл прислал мне подлинники отцовских писем к нему. В письме из Ленинграда от 18 февраля 1932 г. Френкель писал ему: «Сейчас я интересуюсь вопросами квантовой теории поверхностных свойств твердых тел и работаю в этом направлении с моим другом Таммом, который в течение месяца находился здесь (не подумайте, что мы поссорились из-за моей необоснованной критики его работы о фотоэффекте, которой я в действительности не читал, и его резкого ответа, который полностью обоснован)»1.
Случалось, сколько могу судить, и Игорю Евгеньевичу ошибаться в оценках работы отца. Так было с его теорией спина электрона {378} (1925–1926 гг.), значение которой Тамм в 1958 г. пересмотрел в посвященной отцу статье1 (в сравнении с тем, что он писал о работе Френкеля в 1932 г.). Все это не омрачало их отношений, тем более близких, что дружба между ними дополнялась дружбой семей: моя мать любила Наталию Васильевну и Игоря Евгеньевича, а Наталия Васильевна, позволю себе это сказать, — моих родителей. Возможность общения с Игорем Евгеньевичем, доброе его отношение — это драгоценная часть наследства, оставленного мне родителями.
Как-то я спросил Игоря Евгеньевича об истоках его интереса к биологии. Он ответил, что еще в гимназии в Елизаветграде (Кировограде) он подружился со своим одноклассником Б.М.Завадовским, впоследствии известным ученым, действительным членом ВАСХНИЛ, специалистом по физиологии желез внутренней секреции. Завадовский-гимназист увлекался биологией и вдохновенно рассказывал о ней своим одноклассникам2. Летом 1914 г. Тамм прочел «Механику» Гельмгольца3, знакомство с этой книгой укрепило в нем желание стать физиком. Но он читал и другие его книги. На него, в частности, произвели впечатление исследования Гельмгольца по физике звука и физиологии слуховых ощущений.
По ходу разговора Игорь Евгеньевич перескочил в 50-е годы. По его словам, большое значение для возобновления его интереса к биологии имели принципиально новые открытия в ее сфере и неудовлетворенность состоянием этой науки в нашей стране. В те годы он начал встречаться со многими биологами — Б.Л.Астауровым4, Н.В.Тимофеевым-Ресовским, В.А.Энгельгардтом, В.П.Эфраимсоном5.
Несомненно, немалое влияние значительно раньше оказали на Игоря Евгеньевича биологи Таврического (Симферопольского) университета, в котором он работал в 1919–1920 гг. Из их числа надо в первую очередь назвать профессора Александра Гавриловича Гурвича и его ассистента Александра Александровича Любищева. Для них обоих был характерен живой и глубокий интерес к вопросам физики и математики. {379}
В 20–60-е годы работы А.А.Любищева знали лишь биологи и энтомологи, а ныне, уже после смерти Александра Александровича (1972), о нем пишут многие. Яркая личность Любищева, ученого и человека, привлекает внимание литераторов, физиков и математиков1.
А.Г.Гурвич вообще сыграл важную роль в научной биографии Тамма. Именно он снабдил Игоря Евгеньевича в 1920 г. рекомендательным письмом к Л.И.Мандельштаму. Игорь Евгеньевич рассказывал об этом так: «Я приехал к нему из Симферополя с письмом Гурвича, и сразу он за меня взялся, мы подружились, и с тех пор он всегда был моим наставником». Мнение Мандельштама было в сложных жизненных ситуациях чрезвычайно важным для Тамма.
Имя и работы А.Г.Гурвича были особенно популярны в 20–30-е годы; сейчас его исследования знакомы сравнительно узкому кругу специалистов2. В конце 1964 г. Наталия Васильевна Тамм сказала мне, что Игорь Евгеньевич после длительного перерыва получил письмо от Любищева. Я слышал о нем от родителей и даже помнил его приезд в Ленинград в конце 40-х годов. Но потом следы его потерялись. А оказывается, все эти годы А.А.Любищев много и плодотворно трудился в Ульяновске.
— Это необыкновенно интересный человек, обладающий к тому же замечательной памятью. Он может тебе многое рассказать о Таврическом университете, — присоединился к разговору Игорь Евгеньевич и вспомнил, как в крымские годы Любищев интересовался проблемами симметрии в органическом мире и искал способы математического его описания. Он был усердным посетителем заседаний Математического общества, которым руководил Н.М.Крылов, и собраний кафедры физики, на которых с лекциями о новой физике выступали Френкель и Тамм. Игорь Евгеньевич рассказал, как однажды Любищев обратился к нему с просьбой помочь разобраться в трудном для него месте немецкой монографии по математике. Вопрос оказался очень сложным. Тамм долго бился над ним, но так и не смог его прояснить. Однако, {380} продолжал он, лет через пять, т.е. в 1924–1925-м, уже в Москве ему попался в руки русский перевод этой книги. Игорь Евгеньевич тут же вспомнил разговор с Любищевым и нашел соответствующее место. Оказалось, оно подробно прокомментировано редактором перевода, разъяснившим принципиальную ошибку автора!
Когда уже в середине 60-х годов я в Ленинграде встретился с Любищевым, он без всяких усилий назвал и эту книгу, и параграф, в котором содержалась упомянутая ошибка. Я сразу отметил, как Александру Александровичу было приятно, что и Тамм помнил об этом эпизоде. Он воскликнул:
— Обязательно разыщу русский перевод!
Не знаю, сумел ли он осуществить свое намерение1.
Вообще, недолгое пребывание в стенах Таврического университета, убежден, оказало на Тамма столь же большое влияние, как и на моего отца, также, но более длительное время работавшего в Крыму. Там они познакомились друг с другом, оттуда берет начало их дружба, там они узнали крупных ученых и замечательных людей — литературоведа Н.К.Гудзия2, А.Г.Гурвича, А.А.Любищева, математиков Н.М.Крылова3, В.И.Смирнова4, М.Л.Франка5. Стоит заметить, что имена И.Е.Тамма и Я.И.Френкеля занесены на мраморную доску, установленную в Симферопольском университете, в числе других его основателей. Помню, с каким интересом Игорь Евгеньевич читал статьи из сборника, выпущенного к 40-летию со дня организации университета и присланного ему в подарок6.
Однако обо всем этом я узнал существенно позднее. А тогда, в октябре 1957 г., намерение Игоря Евгеньевича сделать доклад о молекулярном механизме наследственности было полной неожиданностью для меня и, думаю, для большинства ленинградских физиков и математиков. Все они, и в еще большей степени студенты — физики, биологи, математики, заполнили большую аудиторию исторического факультета Ленинградского университета, сидели на ступеньках между подымающимися вверх секторами, толпились в дверях. Лекция состоялась {381} в рамках цикла, читавшегося о генетике в университете и Ботаническом институте АН СССР.
Больше двадцати лет прошло с тех пор1, содержание доклада Игоря Евгеньевича припоминается смутно. Но многие из тех, кто на нем присутствовал, помнят, что сначала член-корреспондент АН СССР П.А.Баранов2, знавший Тамма еще по Памиру, тепло представил его собравшимся. Свой доклад Игорь Евгеньевич начал примерно так: «Я вижу, что большинство в этом зале составляет молодежь. Много лет тому назад, когда передо мной стоял вопрос о выборе будущей профессии, я не сомневался в том, что нет ничего интереснее физики. Но, признаюсь вам, если б мне нужно было выбирать себе дорогу теперь, я не уверен, что поступил бы так же. Сейчас мне представляется, что будущее принадлежит биологии!»3.
Игорь Евгеньевич рассказал о работе Гамова и исследованиях Уотсона и Крика. Именно тогда многие впервые услышали ныне столь привычные слова: ДНК, РНК, двойная спираль. Он иллюстрировал идею зашифровки наследственного кода примерами из комбинаторики. Доклад Игоря Евгеньевича мне запомнился смутно, но Л.И.Вернскому удалось найти его стенограмму, и я получил возможность несколько выдержек из него поместить здесь.
«...Я хотел бы провести резкую границу между тем, что я говорил до сих пор, и тем, что буду говорить сейчас. Все то, что я говорил, остается правильным, проверенным, то, что буду говорить, неизвестно, неопределенно, не соответствует действительности. И если буду говорить, то не потому, что конкретный способ решения, а потому, что здесь чрезвычайно важна постановка задачи и принципиальная возможность формулировать ответы... Как же себе представить запись информации?»4.
Далее Игорь Евгеньевич рассказал о неудачных попытках Фейнмана и Теллера5 построить код: «Чтобы кончить, затрачу 5 минут... Расскажу об очень интересном коде, который придумал сам Крик...» Когда доклад закончился, собравшиеся стали — сначала медленно — подавать записки с вопросами. За первой из них Игорь Евгеньевич просто спрыгнул с возвышения, на котором была установлена кафедра (а не спустился по ступенькам маленькой лесенки в другом конце {382} сцены). Сделал он это без всяких усилий, естественно и непосредственно. Ему было в то время 62 года.
Начиная с середины 60-х годов мои поездки в Москву стали все более частыми, подвижность же Игоря Евгеньевича существенно уменьшилась. Если раньше, заставая его в Москве, я считал, что мне повезло, то теперь — можно сказать, увы — вероятность того, что я разминусь с ним, с каждой поездкой уменьшалась: последние примерно четыре года жизни он почти не выезжал из города, разве что на дачу. И вот в феврале 1968 г. стало известно об операции, которую пришлось перенести Игорю Евгеньевичу. Она фатально ограничила его подвижность. Тогда стало особенно очевидно, сколь велика была любовь к нему со стороны его товарищей по работе, многочисленных друзей и коллег, которые с тревогой и надеждой следили за тем, как он выходит из тяжелого кризиса. Быть может, понимание этого — сознательно или бессознательно — придавало ему дополнительные силы и помогало физически и, в еще большей степени, духовно победить болезнь. Увидев Игоря Евгеньевича после операции, уже дома, вы сразу оказывались под необычайно сильным впечатлением прежде всего от той стойкости, с которой он встретил новую, тяжкую фазу своей болезни. Перед этим отступали на задний план ее внешние приметы. Нельзя было не восхищаться его мужеством, оптимизмом, его мощным интеллектом, жаждой жизни.
Известие о кончине Игоря Евгеньевича потрясло всех, хотя и не было неожиданным. 15 апреля 1971 г., когда после панихиды в актовом зале Физического института им. П.Н.Лебедева сотни людей вышли на Ленинский проспект, он был залит солнцем: в Москве была весна... Кортеж машин, растянувшийся на несколько кварталов, двинулся в сторону Новодевичьего кладбища. Ближайшие друзья и соратники Игоря Евгеньевича на плечах пронесли гроб с его телом к небольшой площади за оградой кладбища, на которой состоялся траурный митинг. И.М.Франк в своей речи выразил то, что было на душе у многих: «Когда Игорь Евгеньевич заболел, мы узнали, как поразительно велико мужество этого замечательного человека, как велика его преданность науке, как велик его подвиг. Никто никогда не слышал его жалоб. Прикованный к месту, дышащий только через аппарат “искусственные легкие”, он остался прежним Таммом, только, быть может, еще более благожелательным и добрым. Мы по праву гордимся им»1.
И вот, когда митинг окончился, буквально на последнем этапе {383} скорбного пути погода внезапно и резко изменилась, все потемнело, повалил крупный, тяжелыми хлопьями снег. Случайное совпадение было глубоко символичным; я помню, как кто-то, стоявший рядом со мною у открытой могилы, тихо сказал: «Словно сама природа восстала против его смерти».
При мысли о людях, горечь утраты которых не смягчается с годами, на память приходят строки Жуковского:
|
Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были. |
Те, кому выпало счастье прожить жизнь с Игорем Евгеньевичем, учиться у него, общаться и видеться с ним, должны быть благодарны судьбе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В ответ на обращение инициаторов сборника к авторам включить в свои статьи имеющиеся в их распоряжении письма И.Б.Тамма сообщаю то, что мне известно по этому поводу. Игорь Евгеньевич — после войны во всяком случае — писал мало. Как-то, говоря о своей семье, он обронил фразу: «Все мы страдаем аграфией». Тем не менее возможность поместить несколько писем Игоря Евгеньевича имеется. Три из них любезно присланы из Лейденского Музея истории науки г-ом А.Е.Энгбертсом (которому пользуюсь случаем принести свою признательность). Все они приводятся полностью. Кроме того, в Ленинградском отделении Архива АН СССР хранится около двух десятков писем И.Е.Тамма к моей матери, С.И.Френкель1.
Часто Тамм писал их от своего и Наталии Васильевны имени. Просматривая эти письма, вновь восхищаешься его замечательными душевными качествами, порывистой готовностью сразу же прийти на помощь, поддержать в трудную минуту, отвлечь и подбодрить шуткой. Из писем видно, каким он был подвижным человеком: много путешествовал по стране (Камчатка, Иркутск, Кольский полуостров, горные хребты Кавказа, Кунгей Ала-Тау и Иссык-Куль), ездил за рубеж... Характерно начало многих писем: Игорь Евгеньевич как бы извиняется: дозвониться до Ленинграда не удалось — вот он и пишет. Счастливая случайность! До предела усовершенствованные ныне средства {384} коммуникации приводят к тому, что личная переписка угасает как фактор культуры. Сколь это печально — видно, мне кажется, из приведенных ниже отрывков, в которых звучит живое слово Игоря Евгеньевича.
ул. Герцена, № 5, кв. 12
6.1. 1930
Москва
Глубокоуважаемый Павел Сигизмундович!
Пишу Вам, чтобы напомнить об обещании прислать мне Танино[1] 2-е письмо о теории Эйнштейна. Обязуюсь вернуть его Вам к назначенному сроку (прислать ли его заказным?).
Мандельштам рассказал мне о дискуссии с вами об Ungenauigkeits Relation1 и о Вашем толковании Heisenberg'овского примера на основе учета des Intensitatsabfalles der Diffraktionringe2 в микроскопе, что мне очень понравилось. На следующий день после Вашего отъезда Мандельштам придумал новую иллюстрацию для der Ungenauigkeits Relation, выходящую за традиционные пределы Heisenberg'овских примеров, — он рассматривает с точки зрения Ungenauigkeits Relation прохождение электронов через Potentialschwelle3. Очень интересно. Жаль, если он и это по своему обыкновению не опубликует. Может быть, Вы могли бы как-нибудь повлиять — Ваше толкование Heisenberg'овского примера и новый пример Мандельштама составили бы небольшую, но очень ценную публикацию[2].
Все мы продолжаем ощущать прилив бодрости, вызванный Вашим пребыванием в Москве[3], за что еще раз спасибо.
Ваш Иг.Тамм
24.II.1930
Глубокоуважаемый Павел Сигизмундович!
Вы, наверное, получили мою телеграмму. Мне страшно, страшно стыдно. Я, как писал, трижды проверял свои вычисления перед тем, как послать Вам заметку. Затем сел писать работу полностью для печати — при этом я всегда делаю все выкладки заново, не глядя в ранее написанное. И вот оказалось, что в самом начале я всюду путал знак у синуса! Если сделать все правильно, то в окончательной форме никакого отличия от формулы Клейна—Нишины нет![4]
Вся эта история тем более обидна, что мне теперь удалось привести вычисления в нравящуюся мне изящную форму. Если их совсем немного видоизменить, то можно, например, вычислить вероятность спонтанного перехода электрона из состояния положительной энергии в состояние энергии отрицательной. Этим я сейчас занят и закончу выкладки на днях. {385}
Ужасно мне неприятно, что я второй раз обращаюсь к Вам с просьбой о напечатании и второй раз с такими промахами (в прошлом году не симметризовал волнового уравнения)[5]. Пожалуйста, простите меня за это и большое спасибо за то, что Вы для меня сделали.
Ваш Иг.Тамм
Конечно, все сказанное относительно преобладающей роли переходов через состояния отрицательной энергии остается справедливым. И.Т.[6]
Ул. Герцена, д. 5, кв. 12, Москва, 9
23.II.1931
Глубокоуважаемый Павел Сигизмундович!
Надеюсь, Вы вернулись из Америки с большим запасом бодрости и отдохнувшим. Представляю себе, насколько интересным должно быть сопоставление на протяжении одного года таких антиподов, как СССР и САСШ[7].
Как выяснилось наконец позавчера, моя командировка прошла через Наркомпрос и мне почти наверное удастся выехать около 15-го апреля за границу. Вопрос о командировке возник в декабре, когда Вас не было в Европе; я написал Дираку и Иордану и получил от них официальные приглашения, необходимые для командировки. Вы понимаете, что мне чрезвычайно хотелось бы побывать в Лейдене, с которым связаны самые лучшие мои воспоминания, и повидаться с Вами и Вашей семьей и всеми старыми знакомыми. Удобно ли Вам, если я заеду в Лейден на 2–3 дня по дороге в Кембридж в 20-х числах апреля? В Кембридже мне хотелось бы пробыть до конца семестра (15–20-го VI), затем опять, если Вам удобно, заехать на некоторое время в Лейден, а в июле направиться к Иордану в Росток. Не знаю только, как эта программа уложится во времени — я рассчитывал на 5-ти месячную поездку, но меня командируют на 3 месяца и вряд ли удастся добиться большего[8].
Как и перед прошлой поездкой 1928 г., вся моя семья больна — сын только что перенес скарлатину, дочь — грипп с воспалением уха, у жены гриппозное воспаление легких (не в тяжелой форме). Далее, как и в 1928 г., я перед отъездом буду сплошь занят своей книгой «Теория электричества» (2-е издание), что совершенно отрывает от текущей литературы.
Сейчас в печати работа моя и моего сотрудника Шубина[9], которая, как мне кажется, впервые дает более или менее полную теорию фотоэффекта в металлах и которая доставила мне большое удовольствие[10]. Ее выводы будут проверяться у нас экспериментально. Надеюсь до отъезда закончить работу, с которой давно вожусь, — теорию наблюдавшейся Штерном разницы интенсивностей компоненты штарк-эффекта при наблюдении по и против поля. Явление это, как мне кажется, имеет принципиальный интерес и объясняется 1) наличием «хвоста» волновой функции электронов, вытягиваемого полем за пределы атома; 2) нестационарностью состояния атома в эл. поле (спонтанная ионизация). Однако количественные подсчеты сложны и еще не закончены.
Итак, очень рассчитываю увидеться с Вами в апреле. Сердечный привет Тат. Алекс.[11], Тат. Павл.[12] (ответить на ее письмо рассчитываю устно) и всем знакомым (Рутгерс! хотелось бы узнать его адрес)[13]. Искренне Ваш Иг.Тамм.
Извините, что письмо не написано на машинке — старался писать четко...
| {386} |
1 Имеется в виду дочь П.С.Эренфеста — Татьяна Павловна ван Аардене Эренфест, голландский математик. Работы Эйнштейна она в конце 20-х годов изучала в Гёттингене у Борна, который высоко ценил ее математические способности.
2 Публикация не состоялась. Данное замечание Тамма представляет большую ценность, являясь своеобразным документальным подтверждением того, как быстро Л.И.Мандельштам умел распутывать парадоксы, связанные с непривычными в первые годы существования квантовой механики корпускулярно-волновыми свойствами электронов. Об этом позднее, в связи с дискуссиями между Эйнштейном и Бором, неоднократно говорил и писал Тамм.
3 П.С.Эренфест приехал в СССР в декабре 1929 г. и провел более месяца в Ленинграде; в Голландию он уезжал из Москвы. В этот свой приезд он успел побывать еще и в Харькове, где начинал работать вновь созданный Украинский физико-технический институт.
4 Речь идет о работе Тамма «О взаимодействии свободных электронов с излучением по дираковской теории электрона и по квантовой электродинамике», опубликованной в немецком журнале «Ztschr. Phys.», 1930, Bd. 62, S. 544 (Тамм И.E. Собр. науч. трудов, т. 2, с. 24). В ней Тамм получил на основе точного квантово-механического рассмотрения известный ранее результат Клейна и Нишины, найденный ими, однако, не строгим образом (в рамках боровского принципа соответствия).
5 Здесь имеется в виду работа Тамма «К электродинамике вращающегося электрона», опубликованная в «Ztschr. Phys.», 1929, Bd. 55, S. 199 (Тамм И.Е. Собр. науч. трудов, т. 2, с. 5).
6 Указанное Таммом в примечании к данному письму обстоятельство играло особую роль, поскольку в 1930 г., до открытия позитрона (1932), состояние электрона с отрицательной энергией («дырка» Дирака) считалось искусственным теоретическим построением. Именно Тамм показал на примере рассеяния света на свободном электроне необходимость учета состояний с отрицательной энергией.
7 Вскоре после возвращения из СССР Эренфест несколько месяцев (с июня 1930 г. по февраль 1931 г.) провел в США.
8 Командировка Тамма за рубеж состоялась.
9 Семен Петрович Шубин (1908–1938), ученик И.Е.Тамма, доктор физико-математических наук, профессор. См. о нем статью С.В.Вонсовского, М.А.Леонтовича и И.Е.Тамма (УФН, 1958, т. 65, с. 734).
10 Имеется в виду работа «К теории фотоэффекта в металлах» (Ztschr. Phys., 1931, Bd. 68, S. 97; рус. пер.: Тамм И.Е. Собр. науч. трудов, т. 1, с. 196).
11 Татьяна Алексеевна Афанасьева-Эренфест (1876–1964), русский математик, жена П.С.Эренфеста, автор ряда работ по термодинамике и статистической механике.
12 См. примеч 1.
13 К. Рутгерс — ученик П.С.Эренфеста, известный голландский физик.
| {387} |
24 апреля 1953 г.
Я очень загружен работой, в феврале было острое переутомление, но «Узкое»1 очень быстро его ликвидировало.
17 октября 1953 г.
...Мы с Наташей лечимся в Цхалтубо от всяких хворей и решили совместно написать тебе (мы не часто бываем с ней совместно в условиях, когда можно писать), послать привет и осведомиться о твоем здоровье. (...)
Единственное удовольствие, которое мы здесь получили, это две очень интересные поездки на грузинскую старину — XI и XII века. Особенно поразили нас своим величием развалины храма 1003-го года на высоком холме, откуда чудесная панорама на Кутаиси и окрестности.
Между Москвой и Цхалтубо я сделал небольшую, но приятную прогулку в горах и две недели купался в море в Гаграх.
31 декабря 1955 г.
У меня 4 дня температура выше 38°, очень плохое самочувствие; сегодня температура упала, но обнаружился небольшой фокус, будут пенициллинить. Это все пустяки, просто я не привык еще болеть.
23 июня 1958 г.
...Завтра улетаю в Женеву. Закрутился до потери сознания — изучаю способы обнаружения атомных взрывов, чтобы действовать как эксперт, готовлюсь к одновременной с заседаниями экспертов конференции по элементарным частицам и еще куче вещей. К тому же был экспертом комиссии по выборам в Академию и т.д. Голова идет кругом с 8-ми утра и до 1 ночи.
19 ноября 1958 г. на почтовом переводе
... Не вздумай переживать этот перевод, надеюсь, что ты в ближайшие дни получишь гонорар, а то пришлю еще.
23 января 59 г. «Узкое»
...Ужасно обидно, что в этот день я не с тобой2. Я обязательно приехал бы еще вчера, если бы не был сейчас временно на полуинвалидном положении. У меня не было гриппа, это мы выдумали, чтобы ты не волновалась, а я в воскресенье, 18-го, расшибся на лыжах — сломал скулу (точнее, скульный отросток, а в скульной кости трещина). Сейчас я чувствую себя совсем хорошо, но врачи (мы ведь в «Узком») держат меня для {388} перестраховки на больничном режиме: лежать, пенициллин, повязка на голове, чтобы я не раскрывал широко рта и тем не сместил переломанные кости, и т.д. Сегодня я взбунтуюсь и пойду гулять... но... в первой половине февраля я обязательно к тебе приеду.
16 июня 1959 г. Хоста
...Новый громадный дом отдыха художественного фонда в городском парке: с одной стороны к нему примыкает непосредственно летний театр, а с другой — шоссе главное, участок подъема и ужасный шум автотранспорта. Такая акустическая обработка доводит меня иногда до нервной дрожи. Работаю, ныряю в море, но пока неудачно — либо нет рыбы, либо нет ружья.
2 августа 1959 г.
...В Киеве (на проходившей там Рочестерской конференции по физике высоких энергий и элементарных частиц. — Авт.) мне рассказали, что один крупный американский экспериментатор, изучающий магнитный момент мю-мезона, хвастает тем, что ему удалось разыскать одну Яшину (Я.И.Френкеля. — Авт.) работу еще 20-х годов о вращающемся электроне, с помощью которой оказалось очень легко разобраться в теории изучаемых им явлений.
20 мая 1960 г.
Я очень задерган, очень устал и в большом миноре, потому что полугодичная моя работа, отнявшая массу сил и энергии, закончилась нулевым результатом. Надо бы отдохнуть, но пока не удается.
| {389} |
К счастью, и сейчас, в канун столетия со дня рождения Игоря Евгеньевича Тамма здравствует множество людей, хорошо его знавших, учившихся у него или вместе с ним работавших, в памяти которых продолжает жить этот выдающийся, светлый человек. Влияние его необыкновенной личности на нашу науку и окружающих его людей было глубоким и многообразным. Оно непреходяще. Его нравственный облик был неотразим.
Уже в довоенные годы он воспринимался как «живой классик» науки, пользовавшийся исключительным авторитетом среди физиков мира. Ему принадлежали выдающиеся открытия в области физики элементарных частиц и физики твердого тела. Довоенная работа вместе с П.А.Черенковым и И.М.Франком принесла ему и им в 1958 году Нобелевскую премию по физике за, как сказано в решении Нобелевского комитета, «открытие, объяснение и использование эффекта, носящего имя Черенкова»1.
Не случайно П.Л.Капица, приглашая осенью 1943 года Нильса Бора, покинувшего оккупированную фашистами Данию, перебраться в Советский Союза, наряду с гарантиями искреннего гостеприимства добавил: «Даже самая маленькая надежда, что Вы приедете жить с нами, от всего сердца приветствуется нашими физиками: Иоффе, Мандельштамом, Вавиловым, Ландау, Таммом, Алихановым, Семеновым и рядом других...»2.
Даже мимолетная, случайная встреча с Игорем Евгеньевичем становилась запоминающимся событием.
Его редкостное обаяние сразу испытали на себе обитатели альпинистского лагеря, оказавшиеся с ним на Кавказе в один из предвоенных заездов. Он был там очень недолго и вскоре ушел на восхождение. Он был остроумен, улыбчив, любил шутить, умел рассказывать, не скрывал своей любви к горам. Но не это оказалось главным. Покорила {390} его удивительная доброжелательность к людям. Что бы где ни случилось, если кому-нибудь было хоть чуточку плохо, — он всегда был там. И в лагере все его обожали.
Вспоминают, что научные семинары Игоря Евгеньевича сильно отличались от других. Когда слушателям становилось все труднее понимать докладчика, вдруг вставал Игорь Евгеньевич. Он начинал объяснять, и картина прояснялась. Он обладал замечательным даром сразу воспринимать новое и видеть перспективу. Это делало его не только замечательным педагогом и воспитателем, но превращало в активного лидера и провозвестника зарождающихся новых направлений в науке. И он не раз (особенно в конце 40-х и в 50-е годы) демонстрировал это свое уникальное качество.
Игоря Евгеньевича очень любили коллеги и пользовались каждой возможностью обсудить с ним тот или иной научный вопрос. Он и сам искал контакта. Даже на даче, на природе, он заходил на какой-нибудь соседний участок, говорил хозяйке что-то типа «какие у вас красивые цветочки...» и тут же «извлекал» для профессионального разговора своего очередного собеседника. Тогда можно было видеть «дуэт», прогуливающийся по «большому кругу», образованному дачными проулками. Причем одного из участников «дуэта» — Игоря Евгеньевича, невысокого и очень живого, всегда можно было отличить по темпераменту и по его манере время от времени закладывать руки за спину.
Когда тяжкая болезнь приковала Игоря Евгеньевича к дыхательному аппарату и его жизненное пространство вдруг навсегда сжалось до размеров комнаты, он несколько лет до конца сохранял полное самообладание и не терял интереса к делу своей жизни — к физике. Навещавшие его видели перед собой обреченного человека, и сердце сжималось. Но всякий раз они видели и новую гору листов бумаги на столе в углу, исписанных быстрой рукой Игоря Евгеньевича, — свидетельство неугасающего интереса к захватившей его проблеме. Обрушившаяся беда была чудовищной и казалась особенно несправедливой по отношению к Игорю Евгеньевичу. Друзья и коллеги приходили к нему, чтобы поддержать. Но расставшись с ним, вдруг понимали, что он поддержал их самих.
...Многих поразили его похороны. Поразило, что пришло так много молодежи. Особенно университетских биологов, которые, казалось, пришли всем факультетом, в полном составе. Это была дань особого уважения к памяти Игоря Евгеньевича, так много сделавшего для очищения их науки от воинствующих отечественных шарлатанов.
Будучи преданным знанию и фактам, он непоколебимо выступал против всяких извращений научной истины, не считаясь с тем, были ли они порождением дремучей невежественности или следствием {391} идеологических и политических спекуляций. В этой борьбе он не раз подвергался гонениям. Но, оберегая своих учеников, неизменно отговаривал их самих от участия в подобных столкновениях и ставил в пример молодого А.Д.Сахарова, который тоща был полностью поглощен работой: «Вам могут не дать диплом защитить! Меня это беспокоит... Не лезьте в политику! Посмотрите на Андрея Дмитриевича: он занимается только наукой...»
Однако исходившая от Игоря Евгеньевича аура исключительной порядочности и чистоты, высочайшая нравственность стали для молодежи лучшим воспитательным ориентиром. Недаром Андрей Дмитриевич написал позднее в своих «Воспоминаниях», что особенно велика в его жизни была роль Игоря Евгеньевича, и тем более, «если говорить об общественных взглядах, вернее — принципах отношения к общественным явлениям»1.
Из-за репрессий против А.Д.Сахарова в двух предшествующих изданиях книги о И.Е.Тамме всякое упоминание имени Андрея Дмитриевича было запрещено. Таким образом, создавалась иллюзия, что как бы вообще не существовало замечательного явления — великого Учителя и его великого Ученика. Фактически книга выходила без одной из самых интересных и захватывающих глав2.
По режимным соображениям тех лет замалчивалась и роль Игоря Евгеньевича при создании первой советской водородной бомбы, его жизнь в Арзамасе-16 с 1950 по 1953 год. Правда, туманные упоминания об этом периоде в прошлых изданиях книги все-таки встречаются. Так, говорится, что Игорь Евгеньевич в 1950–1953 гг. «был занят работами по прикладной тематике и редко появлялся на семинаре»; что ему в этот период «приходилось долго работать вдали от Москвы, часто находиться одному, без семьи»; «приходилось летать на самолетах ЛИ-2, салоны которых не отапливались»; что «в самом начале 1950 г. Тамм возглавлял группу молодых физиков, занимавшуюся исследованиями термоядерного синтеза. Не колеблясь, он... (занялся) прикладными вопросами, которые важны были для благополучия страны.»3
Без каких-либо пояснений были приведены даже следующие строки из личного письма И.Е.Тамма от 24 апреля 1953 года (то есть относящиеся к периоду, когда создание первой в мире водородной бомбы вступило в завершающую и самую напряженную фазу): «Я {392} очень загружен работой, в феврале было острое переутомление, но «Узкое» очень быстро его ликвидировало.» Наконец, в книге было сказано, что «В 1953 г. основная задача нашей прикладной деятельности была выполнена и были проведены успешные испытания установки, над которой мы работали... Игорь Евгеньевич искренне радовался успешному завершению дела.»1 Разумеется, внимательному читателю достаточно было связать все эти разбросанные по книге свидетельства с тем, что в 1953 г. он был избран в академики, а в 1954 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда, чтобы понять: испытание советской водородной бомбы 12 августа 1953 года «не обошлось» без Игоря Евгеньевича.
О его причастности к атомной программе страны говорили и другие факты. И.Е.Тамм был членом советской делегации, направленной на совещание научных экспертов нескольких стран для проведения технических переговоров по изучению методов обнаружения ядерных взрывов. Совещание проходило летом 1958 года во Дворце Наций в Женеве, и его выводы явились основой для переговоров ядерных держав о прекращении испытаний ядерного оружия. Игорь Евгеньевич по тогдашним меркам был человеком весьма «сложных» анкетных данных. И вряд ли стоит сомневаться, что его вовлечение в атомные дела было не только следствием его высочайшей научной репутации, но, очевидно, и сильной поддержки со стороны Игоря Васильевича Курчатова. Было и еще одно интересное обстоятельство.
«Я догадываюсь, — вспоминает Е.Л.Фейнберг, — что привлечение Игоря Евгеньевича состоялось только благодаря удивительным качествам Игоря Васильевича. Ведь на моих глазах в сентябре 1943 года прошли выборы в академики на одно вакантное место по специальности «экспериментальная физика». Были два претендента — А.И.Али-ханов и И.В.Курчатов. У Алиханова были обвораживающие черты личности, и он умел просто и очень убеждающе рассказывать про свою физику. Игорь Евгеньевич был его — а не Курчатова — горячим поклонником. Поэтому он развил бешеную агитацию, чтобы избрали Алиханова. И преуспел: академиком стал Алиханов! Тогда правительство ввело дополнительное место, на которое и избрали Курчатова... При этих условиях Игорь Васильевич мог бы быть обижен на Игоря Евгеньевича и это сказалось бы на их взаимоотношениях. Но для Курчатова — человека широких взглядов и здравого понимания, главным всегда было дело, и он сознавал, что такая большая сила, как Тамм, не может оставаться в стороне. Результат получился, конечно, блестящий!» {393}
По постановлению правительства в 1948 году для расширения исследований по водородной бомбе была создана специальная группа под руководством И.Е.Тамма в Физическом институте Академии наук СССР. К этому времени в течение нескольких лет проблемой водородной бомбы уже занимался коллектив Я.Б.Зельдовича в Институте химической физики.
Вскоре, как только была организована группа И.Е.Тамма в ФИАНе, два его молодых ученика — А.Д.Сахаров и В.Л*Гинзбург — предложили две кардинальные идеи. Эти идеи и легли в основу первого термоядерного заряда — «слойки» — испытанного 12 августа 1953 года.
Дела продвигались настолько успешно, что Игорь Евгеньевич весной 1950 года вместе с А.Д.Сахаровым и Ю.А.Романовым переехал работать на объект — в нынешний Арзамас-16. Он был зачислен в штат сотрудников объекта с 23 марта 1950 года.
Как было заведено, Игорь Евгеньевич 8 апреля 1950 года заполнил здесь стандартную анкету и написал краткую автобиографию. Он указал, что «в ВКП(б) не состоял», а на вопрос «состоял ли в других партиях, в каких именно, с какого и по какое время» ответил: «с 1915 г. по апрель 1918 г. был меньшевиком-интернационалистом». Он написал, что в 1913–1914 годах учился в Эдинбургском университете в Англии и затем перевелся в Московский университет. Что был в научных командировках в Голландии, Германии и Англии. В анкете указано также: «Владею хорошо английским, французским, немецким, владею слабо украинским, итальянским, голландским... В армии не служил, на территории оккупированной не находился». А в автобиографии он написал: «В 1941 году ввиду тяжелой болезни матери и инвалидности моей сестры Татьяны отец с моей матерью и сестрой не смог эвакуироваться из Киева. При немцах он работал на заводе «Большевик» техническим переводчиком. Мать моя умерла в 1943 году. В 1944 году отец и сестра Татьяна были привлечены к ответственности по обвинению в том, что они были «фольксдойче». Сестра три месяца находилась под арестом, после чего она была освобождена и обвинение с нее и отца было снято... Брат мой Леонид Евгеньевич Тамм, инженер-химик, в 1936 году был арестован и осужден на 10 лет по 58 статье. Умер в заключении в 1942 году...»1
Эти записи Игоря Евгеньевича не только говорят о его связи с европейской научной школой. В них запечатлелось и жестокое время, которое безжалостно обошлось с самыми дорогими ему людьми. Конечно, подобные анкетные данные в сталинскую эпоху не предвещали ничего хорошего. Тем мужественнее выглядит гражданская позиция {394} Игоря Евгеньевича в истории, которая случилась на этом сверхсекретном, режимном объекте. В январе 1951 года спецслужбы установили, что возглавлявший математическую группу М.М.Агрест — глубоко верующий человек. Более того, оказалось, что в 15 лет он стал дипломированным раввином и у него чуть ли не обнаружились родственники в Израиле! Было принято решение, по которому Агрест «должен быть устранен из объекта в течение 24 часов». Н.Н.Боголюбов, Д.А.Франк-Каменецкий и И.Е.Тамм были возмущены бесчеловечностью этого решения и открыто выразили свой протест. О «24 часах» речи больше не шло. Но поддержка М.М.Агреста этим не ограничилась. Андрей Дмитриевич предоставил в распоряжение его многочисленной семьи свою пустовавшую в то время московскую квартиру. А Игорь Евгеньевич демонстративно громко заявлял на службе, что сегодня он раньше кончает работу и идет помогать уезжающему коллеге укладывать вещи.
Приезд на объект И.Е.Тамма с группой своих молодых сотрудников и новыми идеями по созданию водородной бомбы чрезвычайно усилил это важнейшее направление работ. Но не менее важным было то, что в новый коллектив физиков-теоретиков, который возглавил Игорь Евгеньевич, он вдохнул дух творчества и самоотверженного труда, заложил в нем культуру высочайшего профессионализма. Очень скоро это подразделение выросло в особый сектор, полностью специализировавшийся на разработке и совершенствовании термоядерного оружия. С отъездом И.Е.Тамма этим сектором в течение 15 лет руководил А.Д.Сахаров.
При разработке конструкции водородной бомбы физикам-теоретикам надо было решать сложнейшие задачи: в ней, при использовании в качестве «запала» атомного заряда, развиваются процессы, далеко выходящие за возможности любых мыслимых лабораторных экспериментов. Как подступиться к анализу первых мгновений за атомным взрывом? Даже постановка этих задач казалась тогда чрезвычайно трудной и необозримой. Никогда раньше подобных задач не решали. Любопытно, что еще в «московский» период работы, приступая к этим задачам, Игорь Евгеньевич (естественно, с разрешения руководства атомного ведомства) даже приглашал для обсуждения крупнейшего нашего физика и виртуознейшего математика академика В.А.Фока. Однако к существенным результатам эта встреча не привела.
Главный и очень трудный вопрос заключался в том, как инженерные конструкции и зарождавшиеся новые технические идеи перевести {395} на язык физики. Как развивающиеся при взрыве процессы сформулировать в терминах и уравнениях конкретной, решаемой математически задачи и результат довести до числа. Начальный взрыв атомного заряда, по существу — «особая точка», и надо было суметь «выйти» из нее. Игорю Евгеньевичу, благодаря его исключительной физической интуиции, удалось это сделать, и именно он первый выполнил этот важнейший расчет.
Уже на этой стадии И.Е.Тамм почувствовал, что новые задачи потребуют огромной вычислительной работы. Оказавшись на объекте, Игорь Евгеньевич устанавливает тесный рабочий контакт с математиками, которыми руководил А.Н.Тихонов. Этот шаг во многом предопределил творческое взаимодействие двух коллективов и последующий успех.
«Первый раз Игорь Евгеньевич пришел к нам, — вспоминает один из ближайших сотрудников А.Н.Тихонова В.Я.Гольдин, — вскоре после начала работ по «слойке». Наша организация называлась «Лаборатория № 8 и размещалась тогда на улице Кирова, в здании напротив Кривоколенного переулка. Лаборатория была составной частью Геофизической комплексной экспедиции, созданной для поиска урана и входившей в состав Геофизического института Академии наук. Мы оказались в этом здании осенью 1948 года, а совсем незадолго перед этим у нас стало налаживаться взаимодействие по атомной тематике с группой Л.Д.Ландау. В нашем распоряжении было четыре или пять комнат на первом этаже, а весь коллектив, кроме А.Н.Тихонова, А.А.Самарского, Н.Н.Яненко, Б.Л.Рождественского и меня, включал 30–40 молодых вычислителей, в основном девушек, работавших до 1954 года на «Мерседесах»1.
Игорю Евгеньевичу объяснили, как нас разыскать: напротив Кривоколенного переулка надо войти во двор и, увидев вывеску «Мелкооптовая овощная база», зайти в довольно неряшливый, темный коридор. Дверь на базу будет направо, а к нам — налево. Наше помещение по очереди «охраняли» весьма спокойные тетушки, естественно, без оружия. Но «бдительность» проявлял даже Андрей Николаевич Тихонов. Однажды он увидел вошедшую к нам кошку и, подойдя к ней, спросил «А допуск где?..» Нарушительница тут же стремглав выскочила через форточку...
В тот раз, — продолжает В.Я.Гольдин, — Игорь Евгеньевич довольно долго беседовал с Андреем Николаевичем. Все было страшно закрыто, и гость рассказывал нам только какие-то общие вещи. Затем, кроме Тамма, стали появляться А.Д.Сахаров и Ю.А.Романов. Наши задачи сильно усложнились, а много позже мы узнали, что работа связана с {396} созданием термоядерной бомбы. Впоследствии мы стали взаимодействовать и с другими сотрудниками Игоря Евгеньевича. Это привело к созданию различных методик, большому увеличению объема работ и, наконец, к тому, что в 1952 году мы переехали в помещение бывшего ФИАНа, влившись в только что организованное Отделение прикладной математики1, которым стал руководить М.В.Келдыш. Но, как видим, первым, кто придал нам качественно новый импульс, был Игорь Евгеньевич Тамм. Испытание первой водородной бомбы завершилось полным успехом и в числе наиболее отличившихся ученых и специалистов А.Н.Тихонов был удостоен звания Героя Социалистического Труда».
Работая на объекте, Игорь Евгеньевич являлся ответственным лицом за новое важнейшее направление — создание водородной бомбы. Он присутствовал на всех совещаниях по этой тематике, включая совещания, проводившиеся высшими руководителями атомного ведомства. Архивы Арзамаса-16 хранят множество документов той поры, в том числе собственноручно написанные И.Е.Таммом. Здесь и докладные записки о состоянии работ, информационные отчеты, письменные доклады для высокого начальства. В этих, казалось бы, формальных по своему предназначению документах Игорь Евгеньевич неизменно проявлял большую четкость и глубокое понимание обсуждаемого вопроса. Перед вами не казенные, бюрократические записки, а ясное изложение проблемы, перечисление основных трудностей и ближайших конкретных задач, которые затем обязательно решались. Какой разительный контраст с нынешней практикой, когда из года в год переписываются различные футуристические «документы», а тем временем дело стоит на месте!
Игорь Евгеньевич обладал не только яркой физической интуицией и даром образного мышления. Он понимал все тонкости новой идеи и был в состоянии оценить ее перспективность. Выше всего он ценил талант, а талантливые люди всегда находили у него поддержку. Поэтому общение с Игорем Евгеньевичем было бесценным для его сотрудников и коллег. Эти же качества делали его бесспорным авторитетом в глазах руководителей объекта и высокого начальства в Москве. Ведь лишь с годами Андрей Дмитриевич «научился» достаточно ясно излагать свои мысли. А раньше его речь зачастую состояла из отдельных фраз, которые трудно было связать между собой. Положение спасали «переводчики»... В этой ситуации роль Игоря Евгеньевича, уверенного в правильности идей Сахарова, была исключительной и необычайно важной: он наглядно, доходчиво и всегда убедительно доводил до {397} руководства и научной общественности новые предложения своего выдающегося ученика, тем самым спасая их и давая «зеленый свет».
И.Е.Тамм каким-то чудом ощущал внутренний пульс науки и воспринимал ее как единое целое. Он чувствовал в ней границы возможного, даже когда для строгого формального доказательства не было всей совокупности аргументов. В этом отношении показательно его выступление на совещании у министра среднего машиностроения В.А.Малышева в начале 1954 года.
Совещание было посвящено проблеме создания водородной бомбы по схеме так называемой «трубы». Долгое время это направление развивалось параллельно со «слойкой» Сахарова. Вел совещание И.В.Курчатов. Среди его наиболее авторитетных участников были И.Е.Тамм, А.Д.Сахаров, Я.Б.Зельдович, Ю.Б.Харитон, Л.Д.Ландау, Д.И.Блохинцев, Д.А.Франк-Каменецкий и другие»физики. Несмотря на многолетние усилия, исследования по «трубе» все не давали определенных результатов. В дискуссии по докладам последним выступил И.Е.Тамм. Он обратил внимание на то, что во всех вариантах, которые докладывались, режим детонации в «трубе», если он даже возможен, ограничен очень узкими рамками значений определяющих параметров. В том числе, диаметром «трубы». То есть вероятность режима детонации в дейтерии в условиях «трубы» очень низка. По его мнению, это и есть достаточное доказательство того, что режима детонации в такой схеме просто не существует. И нет нужды перебирать другие вариации параметров. Он добавил, что ситуация напоминает ему историю с вечным двигателем, когда Парижская академия постановила считать невозможным его создание и впредь отказалась рассматривать какие-либо новые конкретные его конструкции.
На совещании И.Е.Тамм выступил с присущей ему полной определенностью. Он вообще относился к той редкой категории ученых, которые при обсуждении трудных спорных вопросов выступают смело и даже порой резко, не боясь ошибиться или «подорвать» свой авторитет. Он, как правило, и не ошибался в своих оценках. Кстати, в биографии «трубы» это совещание оказалось последним и дальнейшие работы было решено прекратить.
Игоря Евгеньевича всегда привлекали свежие оригинальные мысли. Он воспринимал их с большой горячностью и темпераментом. Был чрезвычайно восприимчив к самой неожиданной идее, от кого бы она не исходила — будь то профессионал или, на первый взгляд, совершенно случайный человек. Он не отмахнулся от полученного им летом 1950 года (через посредничество секретариата Берии) письма никому неизвестного Олега Лаврентьева, служившего на сержантской должности в далеком Сахалинском военном округе. Автор-самоучка предлагал {398} использовать систему электростатической термоизоляции для получения высокотемпературной дейтериевой плазмы. Игорь Евгеньевич поручил молодому Сахарову разобраться в идее Лаврентьева. Позднее Андрей Дмитриевич писал, что этот «инициативный и творческий человек... поднял проблему колоссального значения»1. Очень скоро Сахарову стало ясно, что на самом деле реальные возможности открываются с применением магнитной термоизоляции. Он и Игорь Евгеньевич приступили к интенсивным конкретным расчетам.
Надо сказать, что к этому периоду И.Е.Тамм переживал некий творческий «дискомфорт». Ему принадлежала идея так называемого метода Тамма-Данкова, высказанная им сразу после войны2. Но применимость метода для ядерной физики оказалась не вполне продуктивной. Так как не все получалось, у Игоря Евгеньевича стали проскальзывать пессимистические нотки. Но плохое настроение не было уделом его характера. Ближе к 1946 году он даже попросил своего сотрудника С.3.Беленького дать ему какую-нибудь задачу «попроще» из области гидродинамики. Такая задача — о ширине фронта ударной волны — была предложена и вскоре Игорь Евгеньевич с энтузиазмом и большой точностью выполнил ее.
И.Е.Тамм с увлечением работал над проблемой магнитной термоизоляции. И не только потому, что она оказалась близка ему профессионально и он понимал ее государственную важность. Новая задача давала выход его кипучей энергии, и он опять мог много работать. Им были получены здесь чрезвычайно важные результаты в описании кинетических процессов в магнитной ловушке, включая дрейф и диффузию. В том, что идея магнитного термоядерного реактора дошла до И.В.Курчатова и была воспринята, — также исключительно велика роль Игоря Евгеньевича.
Оценивая миссию Игоря Евгеньевича в Арзамасе-16, необходимо сказать, что сам факт появления в этом коллективе столь выдающегося физика и необыкновенно яркого и цельного человека, работа бок о бок с ним в течение нескольких лет — уже все это имело огромное самостоятельное значение. То неуловимое, но глубокое по благотворности влияние, которое он оказывал при каждодневном контакте на своих коллег, дало свои замечательные результаты и на долгие годы предопределило атмосферу, стиль работы и результативность созданного им коллектива. Он как бы стихийно отвел себе здесь роль дирижера и созидателя, а прежде всего — руководителя коллектива и взял на себя всю полноту ответственности за успех нового важнейшего дела. Его {399} непримиримость к любым формам научного шарлатанства, высочайшая требовательность к научной честности, умение видеть в первых сбивчивых и, быть может, робких предложениях своих молодых сотрудников проблески таланта и путей решения технической проблемы государственной важности — эти черты Игоря Евгеньевича вышли на объекте на первый план.
По существу, с огромной силой проявилась неожиданная черта его дарования, столь редкая для физика-теоретика его класса, — умение в интересах общего дела «раствориться» в усилиях и поисках своих сотрудников, всего коллектива. Он принадлежал к числу высших авторитетов и гарантов, которым доверяло административное руководство и министерства и объекта, когда речь шла о перспективности и доброкачественности того или иного технического предложения и о компетентности их авторов. Одновременно, вместе с Я.Б.Зельдовичем, он пестовал молодых физиков-теоретиков, прививая им и поддерживая вкус к тонким проблемам современной физики «переднего края» — будь то физика ядра или элементарных частиц. Это стало залогом высочайшего профессионализма, казалось бы, оторванных от «большой науки» молодых талантов.
С появлением И.Е.Тамма и его коллег (а надо заметить, что одновременно приехали и входили в его группу Н.Н.Боголюбов, В.Н.Климов и Д.В.Ширков) коллектив физиков-теоретиков объекта по своему составу и мощи был сопоставим с теоретическими отделами, имевшимися в то время в московских физических институтах, включая Институт атомной энергии (ЛИПАН) или даже превосходил их. Недаром приезжавший на короткое время на объект И.Я.Померанчук то ли в шутку, то ли всерьез как-то заметил, что в смысле кадров теоретической физики «Саров следует назвать Нью-Москва, а Москву — Старые Васюки или Старый Саров». И действительно, коллектив теоретиков в ту пору достиг как бы «критической массы» и приобрел самодовлеющее значение, постепенно превратившись в своеобразный «мозговой трест» Арзамаса-16.
До приобщения к атомной тематике, к объекту, Игорь Евгеньевич был связан только с той физикой, которая «делается» на бумаге, на языке знаков и формул. Он занимался принципиальными, крупными задачами теоретической физики и испытывал большую радость, когда удавалось получить новый результат. На объекте он особенно ясно почувствовал и увидел, что существует иная область теоретической физики, которая требует инженерного подхода и проведения технических {400} расчетов. Конечно, ему были чужды какие-то конкретные конструкции или схемы и он не рисовал «картинок»: Игорь Евгеньевич сосредоточивал свое внимание на физической, принципиальной стороне дела.
Он передавал свой богатейший опыт сотрудникам и прививал им вкус к пониманию прежде всего физической сути процессов, происходящих в той или иной конструкции. До сих пор эта черта представляет собой отличительную особенность воспитанников Игоря Евгеньевича, продолжающих трудиться на объекте.
В то время физики-теоретики работали с большим энтузиазмом и ничто, кроме личного интереса и любопытства, над ними не довлело. Это была коллективная работа, которая сама по себе вносила новую струю, в том числе и во взаимоотношения между сотрудниками. Справедливости ради надо сказать, что тогда и время было замечательное: куда ни ткни палкой — из нее вырастало дерево. К сожалению, ныне, когда развитие вычислительных средств достигло большого совершенства и компьютеры стали доступны, формируется новое поколение теоретиков, в значительной мере попадающих под гипноз формализованных расчетов, причем физика отступает на второй план.
Игорь Евгеньевич, работая на объекте и занимаясь сугубо военной тематикой, находил время и для занятий «открытой» теоретической физикой. Примерно за час до окончания рабочего дня, когда производственные вопросы иссякали, он с увлечением принимался за свои выкладки. Именно здесь он заложил основы описания резонансных частиц.
Иногда он любил засиживаться и был удивительно быстр в вычислениях: лист следовал за листом и стопка исписанной бумаги нарастала с большой скоростью. Случалось, его новый день также начинался с незаконченных накануне выкладок. Но, спустя минут сорок или час, начиналось деловое обсуждение. Говорил он быстро, скороговоркой и даже шутил, что кто-то установил единицу скорости речи — «один тамм»...
В течение первого года, когда теоретики еще работали в здании на заводской территории, у Игоря Евгеньевича не было отдельного кабинета и он сидел в довольно большой комнате вместе с А.Д.Сахаровым и таким же курильщиком, как сам, — Ю.А.Романовым. Андрей Дмитриевич, тактичный и терпеливый, какого-либо неудовольствия из-за табачного дыма не выказывал. Работали без ограничения времени. Вопросов, связанных с техникой и наукой, было так много, что времени для разговоров на посторонние темы не оставалось.
Стиль работы Игоря Евгеньевича с переездом на объект не изменился. Однако, кроме теоретической физики, он соприкоснулся теперь {401} с конкретными техническими проблемами и задачами по реализации тех или иных предложений и идей. И, случалось, он распекал какого-нибудь нерадивого исполнителя. Однажды сотрудники оказались свидетелями, как Игорь Евгеньевич, спустившись к математикам и возмущенный, что решение одной из задач непозволительно затягивается и выполняется без должного усердия, взорвался и, почти переходя на крик, выговаривал «волынщику»: «Как вы — кандидат наук — допускаете такое!.. Рядом с вами работает молодой специалист и все успевает! Как вы можете?!»
С весны 1951 года физикам-теоретикам и математикам предоставили «красный дом» — отдельное небольшое кирпичное трехэтажное здание, которое входило в монастырский комплекс и когда-то служило гостиницей при монастыре. С этой поры из окна своего кабинета на третьем этаже Игорь Евгеньевич мог видеть через дорогу один из небольших храмов, превращенных тогда в хозяйственный магазин, а теперь, в наши дни вновь оживший для веры...
За И.Е.Таммом была закреплена легковая автомашина, которую водила Вера, — очень благожелательная, простая русская женщина. Уважительная и наделенная чувством достоинства, она у всех вызывала неизменную симпатию.
Вера возила не только Игоря Евгеньевича, но и набивавшихся в машину его молодых сотрудников. Тем более, что длительное время, 2–3 года, он жил вместе с В.Б.Адамским и Ю.А.Романовым, занимая половину двухэтажного коттеджа (молодежь «оккупировала» комнаты на первом этаже). Вторую половину коттеджа занимал Н.Н.Боголюбов с Д.В.Ширковым и В.Н.Климовым.
Обедать всегда ездили домой, пользуясь услугами прикрепленной для этой цели тети Сони. Тетя Соня готовила не только обеды, но и ужины. Пожилая, простоватая, она имела собственное представление о том, какая должна быть пища. Игорь Евгеньевич иногда ворчал, если еда была чересчур жирная. А то, шутя, вдруг замечал: «Как же так — вот у Давида Альбертовича (имелась в виду семья Франк-Каменецких) такая вкусная семга! А почему у нас на кухне этого нет?» Он мог за обедом, напустив на себя мрачный вид, неожиданно спросить у своих молодых коллег, знают ли они, что такое «черная пятка». И выслушав экзотические предположения, в том числе и о некоей пиратской организации, довольный объявлял: «Это всего-навсего новые модные дамские чулки!..» {402}
С особенным увлечением Игорь Евгеньевич рассказывал про всякие коллизии. Однажды он вспомнил, как ездил в горы и с кем-то еще поджидал приезда математика Делоне, чтобы вместе отправиться в поход. Они ждали сообщения от своего товарища и вскоре в лагерь пришла телеграмма: «Дело не идет». Поход был сорван и виной всем) оказалось то, что телеграфистка по-своему поняла необычную фамилию и изменила лишь одну букву текста.
Иногда для молодежи устраивалось чаепитие и Игорь Евгеньевич покорял своей доброжелательностью и гостеприимством. Наверху в одной из двух его комнат, большей по размерам, сооружался длинный нарядный стол, на котором были сладости, фрукты, различные бутерброды... Гостям предлагалось несколько сортов чая, но отсутствовало вино... Вскоре возникала оживленная беседа и темой общего разговора становились и литература, и живопись, и политика. Новичков, особенно девушек, поражала не только непринужденность атмосферы, но и то, как свободно чувствовали себя молодые теоретики в обществе Игоря Евгеньевича. Разговор шел совершенно на равных, и он, за столом, был олицетворением радушного хозяина. Даже в голову не приходило, что по возрасту — он старший...
Игорь Евгеньевич любил Агату Кристи и вообще иностранные детективы. Он обожал играть в шахматы, всюду находил партнера и играл с необычайным темпераментом, искренне переживая как успех, так и поражение. Даже на даче, в Жуковке, по словам академика В.А.Кириллина (бывшего заместителя главы правительства и близкого дачного соседа), «он приходил ко мне играть в шахматы — но не приходил, а прибегал...»
Игорь Евгеньевич любил «подбить» компанию, чтобы поиграть в карты. Но ценил не какую-нибудь заурядную игру, а игру высокого класса — «винт». Здесь ситуация была не столь проста, как в шахматах, ще достаточно найти одного партнера. Игре предшествовал особый «ритуал», когда надо было условиться сразу с несколькими партнерами и договориться об определенном вечере. Обучив этой игре молодежь, Игорь Евгеньевич испытывал истинное удовольствие от красивой, тонко разыгранной комбинации. И по ходу игры не стеснялся поругивать за промахи своего незадачливого партнера по «команде».
Бывало, игра затягивалась на весь вечер, особенно если подключались наиболее азартные участники — В.Ю.Гаврилов, Ю.Н.Бабаев, Л.П.Феоктистов, Ю.А.Романов, а то и приезжавший на объект К.А.Семендяев. И если Николай Николаевич Боголюбов — наш замечательнейший математик, настоящий, крупный теоретик и необычайно глубокий человек — в минуты отдыха неизменно вспоминается {403} ветеранами-«арзамасцами» как тонкий ценитель превосходных сортов коньяка, то Игорь Евгеньевич оставил на объекте память и как страстный пропагандист изысканной, «салонной» игры в карты. Из вин же он отдавал предпочтение лучшим грузинским образцам и, прежде всего «Мукузани».
Кстати, Николай Николаевич — массивный и добродушный, казалось, какого-либо эффекта от коньяка никогда не испытывал и поведение его от этого не изменялось. Он очень любил общение и появление «напитка» обставлял довольно большой театральностью. Среди теоретиков даже был известен «метод» поглощения коньяка «по Боголюбову». Он заключался в том, что берется бутылка коньяка и наливается стакан кофе. Затем отпивается глоток кофе, а содержимое стакана дополняется из бутылки. Так продолжается до тех пор, пока бутылка не оказывается пустой...
Конечно, оказавшись на объекте, Игорь Евгеньевич — человек очень общительный и имеющий широкие связи, не мог не почувствовать специфических условий замкнутого пространства, отрыва от привычной жизни в Москве. К тому же, Наталия Васильевна — жена Игоря Евгеньевича, лишь два или три раза, и то на непродолжительное время, смогла наведаться к нему. Кроме нее никто в семье не знал, куда в действительности уезжал Игорь Евгеньевич и где он теперь жил. Казалось бы, больше могли знать его московские сотрудники в ФИАНе, особенно те, с которыми у него были очень близкие отношения. Но они также не знали, где находится таинственный «объект».
Е.Л.Фейнберг запомнил занятную сценку, которая случилась, когда Игорь Евгеньевич уже вновь работал в Москве: «После каждого еженедельного «вторичного» семинара у нас с Виталием Лазаревичем Гинзбургом (а когда приезжал Андрей Дмитриевич, то и с ним) был обычай заходить в комнату к Игорю Евгеньевичу. Разговор мог идти о чем угодно, обо всем в мире. Как-то мы остались вдвоем и я сказал: «Игорь Евгеньевич, вы проговорились...» «Что такое?!» «Вы проговорились, где находится город.» Он озабоченно спросил: «Как проговорился? В чем?» Я говорю: «Вы рассказали, как прочитали о чем-то, не относящемся, конечно, к делу, в газете «Сталинградская правда». Значит, объект находится где-то недалеко от Сталинграда.«Он рассмеялся: «А-а-а, вот вы и ошиблись!..» И добавил: «Это единственный объект, о котором ничего не знают и американцы.»
Игорю Евгеньевичу на объекте пришлось свыкаться с документами особой секретности и «обзаводиться» специальной, опечатываемой папкой. Жизнь тогда была суровой, а требования режима очень строгие. К примеру, его сотрудники и сотрудники Я.Б.Зельдовича, работавшие вместе, в одном здании, формально не имели права знать о {404} работах друг друга. Даже для людей такого масштаба, как Игорь Евгеньевич, выезды за пределы зоны были редкими и строго регламентировались.
Его раздражало, если солдат на контрольном посту в здание или на какую-то территорию слишком долго проверял его пропуск: сначала изучающе смотрел в лицо, потом так же внимательно в пропуск, а затем повторял эту процедуру, как, наверно, и предписывалось наставлениями. Игорь Евгеньевич нервничал, с трудом сдерживал себя. Иногда у него прорывалось: «Сколько же можно!..»
В этих условиях отдых на природе, рыбалка, когда удавалось получить пропуска и выехать за зону, на реку Мокшу, — были особенным удовольствием. Выезжали на двух «газиках» в район Темникова большой компанией человек в семь-восемь. И располагались на берегу реки. Страстных или удачливых рыболовов не было, поэтому рыбу «ловили» на темниковском базаре. После этого у каждого появлялась своя «специализация», но, как оказывалось, рыбу умел чистить только Игорь Евгеньевич. И он безропотно исполнял свою «миссию», отправляя молодежь таскать хворост. Этим и занимались, переживая в душе чувство неловкости и вины, Д.Ширков, В.Адамский, Ю.Романов, в то время как над костром «колдовал» В.Климов...
В зимнюю пору выручали лыжи и заповедный лес всегда манил своей белоснежной красотой. Энтузиастом лыжных прогулок был Д.А.Франк-Каменецкий, который нередко ходил на лыжах обнаженный до пояса. Он и Игорь Евгеньевич были очень близки друг другу, многие отмечали сходство их натур. Давид Альбертович был ярким, уникальным человеком энциклопедических знаний и необыкновенной интеллигентности.
Между тем коллектив И.Е.Тамма на объекте постепенно подрастал. В 1951 году приехали Ю.Н.Бабаев, В.И.Ритус и М.П.Шумаев, в следующем — В.Г.Заграфов и Б.Н.Козлов... Однако по состоянию здоровья так и не смог появиться на объекте С.З.Беленький, ще он уже даже числился. Тем не менее, Семен Захарович, работавший во время войны в ЦАГИ и прекрасно знавший гидроаэродинамику, много дал для общего дела. Ему принадлежат сохраняющие и сейчас свое значение для тематики объекта основополагающие работы по развитию неустойчивости Рэлея—Тейлора.
Из-за противодействия режимных органов не смог переехать к Игорю Евгеньевичу Виталий Лазаревич Гинзбург, хотя им еще в период работы группы в Москве была высказана одна из ключевых идей — о применении легкого изотопа лития в водородной бомбе... {405}
Игорь Евгеньевич не только перевел часть своих московских сотрудников в новый коллектив, но и перенес сюда ту атмосферу и стиль, которые были в академическом институте. Он не так часто ездил в Москву — раз в один или два месяца — но, возвратившись, устраивал семинар и делился самыми свежими научными новостями. Физика для него была частью общего здания науки, а наука в его восприятии и системе оценок была международным явлением. Его взгляд на науку как на носительницу общечеловеческих ценностей и поэтому выполняющую особую миссию в мире не мог не передаваться и его сотрудникам. Он легко вспоминал различные эпизоды из истории физики и ясно понимал в ней место того или иного физического открытия или явления. Слушая Игоря Евгеньевича, нельзя было воспринимать физику иначе, как некое единое и очень совершенное произведение.
Игорь Евгеньевич вполне откровенно высказывался и остро реагировал на происходящие вокруг события общественной жизни, которые далеко не всегда были положительного свойства. Ведь это были тяжелые времена последних лет правления Сталина, и «дело врачей» — только один из ярких тому примеров.
В маленькой столовой в коттедже, когда за обедом или ужином собирались его обитатели, разговор шел не только о текущих научных заботах. Игорь Евгеньевич, касаясь некоторых правительственных решений, не боялся открыто высказать свое несогласие. Его независимость проистекала, по-видимому, и из чувства уверенности, что он необходим «объекту», и из того, что его имя известно в мире. Но, главное, он прежде всего был смелым человеком.
После смерти Сталина, а особенно после знаменитого доклада Хрущева на XX партийном съезде, люди почувствовали себя свободнее и высказывались откровеннее. У многих даже «развязались языки». Игорь Евгеньевич остался самим собой: он и прежде был внутренне свободным человеком и новая ситуация ничего ему не добавила. Многие тогда «прозрели», но не Игорь Евгеньевич: «зрячим» он был всегда. И таких людей было очень мало, хотя их влияние было исключительным. В случае Игоря Евгеньевича оно исходило от человека, изначально имеющего высокий авторитет, и потому было особенно велико. Атмосфера свободной дискуссии по любому вопросу, которая создавалась с участием Игоря Евгеньевича, позволяла высказываться критически без оглядки на официальную точку зрения или на чье-либо должностное положение и развивала, в первую очередь у молодежи, самостоятельность взглядов и оценок.
Его отношение к «объектовской» тематике было взвешенным. К примеру, его никак нельзя было записать в этакие экстрапацифисты. Он не испытывал радости, что приходится заниматься страшным оружием, {406} и воспринимал свое участие в этих работах как суровую необходимость для обеспечения равновесия в мире.
Только однажды Игорь Евгеньевич был на атомном полигоне страны. Он приехал туда, облеченный и большими правами и большой ответственностью. Это были напряженные августовские дни 1953 года, когда решающему испытанию и оценке подвергались и его собственные самоотверженные усилия последних волнующих пяти лет. 12 августа под руководством Игоря Васильевича Курчатова прогремел мощный взрыв сахаровской «слойки». Первая в мире водородная бомба стала реальностью...
Вскоре, посчитав свою миссию завершенной, он с чувством выполненного долга покинул объект, не застав гребня следующей волны, которая «захлестнула» здесь людей и привела к замечательному успеху. Он уехал, захватив лишь начальную стадию большой работы. Его, крупнейшего ученого, техника не увлекала. Он тянулся к своей прежней деятельности и прежним связям. Один из архивных документов Арзамаса-16 хранит лаконичную запись о том, что И.Е.Тамм «в соответствии с приказом т. Малышева В. А. от 30 ноября 1953 года откомандирован в распоряжение управления руководящих кадров Министерства с 1 января 1954 года.»
Такой могучий и уникальный организм, как Арзамас-16, не мог не повлиять, не произвести на Игоря Евгеньевича особого впечатления. Здесь, приобщившись к проблемам государственной важности, он, быть может, впервые оценил грандиозный масштаб и значимость этих работ, увидел, какие колоссальные силы были задействованы. Он приобрел опыт участия в совещаниях, которые время от времени проводились в высоких властных структурах. Позднее он рассказывал дома своим близким, в частности, о том впечатлении, которое вынес от подобных совещаний у Берии: он по-деловому умел проводить их умудрялся (естественно, не понимая многих тонкостей) быстро схватывать и улавливать правильные точки зрения.
И.Е.Тамм, будучи вовлеченным в работы по созданию водородной бомбы, установил и позднее поддерживал самые тесные контакты с И.В.Курчатовым и М.В.Келдышем. Он не порывал связей и с объектом, приезжая для участия в различных экспертизах, а то и в качестве гостя на какое-либо торжество. И опять жители объекта видели невысокого и очень подвижного человека, зимой приезжавшего в неизменной черной папахе.
Игорь Евгеньевич был первым, кто рассказал своим коллегам в Арзамасе-16 о замечательных открытиях, сделанных в начале 50-х {407} годов английскими и американскими учеными в области молекулярной биологии. Узнав об этих работах из западных научных журналов, он сразу понял: получены результаты фундаментального значения о молекулярной структуре основных компонентов жизнедеятельности. Произошел прорыв, который привел к новому знанию огромной важности.
Игорь Евгеньевич мгновенно увидел, что открываются захватывающие перспективы. Но не для биологов в нашей стране, где Лысенко разгромил отечественную школу генетиков и, опираясь на поддержку властей, подверг анафеме принципы молекулярной биологии. В этой ситуации Игорь Евгеньевич пришел к выводу, что содействие нашей генетике надо искать в среде физиков-ядерщиков. Являясь одним из выдающихся ее представителей, И.Е.Тамм стал действовать немедленно. Это был случай, когда в полной мере «сработала» его причастность к атомному проекту страны. Игорь Евгеньевич учитывал, что физики-ядерщики и особенно И.В.Курчатов пользуются огромным авторитетом у правительства. Поэтому он решил заинтересовать Игоря Васильевича новым направлением в биологической науке. Этому способствовало и то, что физики, занимаясь проблемой радиационной безопасности, изучали воздействие ионизирующих излучений на организм человека.
На рубеже 1957–1958 гг. И.Е.Тамм зачастил в Институт атомной энергии, стараясь увлечь Игоря Васильевича и уговаривая его развернуть многообещающие исследования с привлечением сохранившихся у нас ученых-генетиков. Вскоре в Институте начал работать специальный семинар. Его вел Игорь Евгеньевич. На первых порах круг участников был ограничен. Одним из них был М.А.Мокульский — впоследствии директор Института молекулярной генетики Академии наук.
«Семинар проходил сначала в кабинетах наших институтских академиков, — вспоминает он, — а затем и в конференц-зале. Иногда бывал Игорь Васильевич, чаще — Анатолий Петрович Александров. Игорь Евгеньевич вел заседания без какой-либо торжественности. Он был похож на главного докладчика или на экзаменатора выступающего. Все время бегал по аудитории, концентрируясь вдруг на каком-то, казалось бы, незначительном пункте доклада, сильно возбуждался. В качестве докладчиков приглашались известные биологи. Мы сидели, слушали порой непонятный для нас разговор, а Игорь Евгеньевич продолжал очень настойчиво во что-то углубляться...
Скоро выяснилось, что атомщики действительно могут оказать содействие генетикам. Проблема радиационной опасности сослужила здесь очень хорошую службу: под ее «прикрытием» в 1958 году в составе Института атомной энергии и был создан Радиобиологический {408} отдел. Его возглавил В.Ю.Гаврилов, а среди сотрудников оказались некоторые опальные генетики. В 1977 году этот отдел выделился в самостоятельный академический Институт молекулярной генетики. Конечно, Лысенко очень скоро узнал о создании нового отдела у физиков-атомщиков, но он был уже бессилен что-либо предпринять: коллектив работал под мощной защитой И.В.Курчатова. Как говорится, лед тронулся и, конечно, первый поклон тут все-таки Игорю Евгеньевичу Тамму.»
Игорь Евгеньевич этим не ограничился. Он страстно пропагандировал достижения молекулярной биологии, выступая с лекциями в научных аудиториях Москвы и Ленинграда и стараясь заинтересовать новым разделом науки прежде всего студенческую молодежь. А позднее он сыграл важную роль в окончательном ниспровержении Лысенко и его приспешников. Будучи человеком эмоциональным, И.Е.Тамм прямо-таки вскипал, когда ему приходилось говорить о Лысенко. В эти мгновения он был особенно убедителен, показывая, что такое возня вокруг науки в отличие от истинной и благородной научной борьбы.
Игорь Евгеньевич увидел особое могущество физики, работая на объекте, оценил ее значение для небывалой техники. Именно здесь он почувствовал, что наступает эра вычислительной математики — в атомной отрасли новое «поветрие» проявилось мощнее и раньше, чем где-либо. Как-то на объекте он даже рассуждал с И.Я.Померанчуком о том, что физике, как и науке в целом, повезло, что уравнение Шредингера решается аналитически. Второй раз так не повезет, и поэтому вычислительной математике уготована роль главного инструмента науки...
Сейчас, имея в виду участие И.Е.Тамма и его «фиановских» сотрудников в создании водородного оружия, можно встретить рассуждения о том, что в СССР «в урановом проекте решающую роль сыграли физики ленинградского Физтеха, а в водородном — московского ФИАНа»1. Хотя, на первый взгляд, это утверждение может показаться правдоподобным, в действительности оно не отражает реальной ситуации. Говоря кратко, идею «слойки» привнесли сотрудники ФИАНа. Но ее реализация была сложнейшей научно-технической задачей, которая потребовала вовлечения всех подразделений мощного коллектива Арзамаса-16 и самой широкой кооперации.
«Слойка» — первая в мире водородная бомба. Она явилась приоритетным достижением советских физиков и вполне могла стать реальным {409} оружием. Она «вписывалась» в ракету — знаменитая «семерка» С.П.Королева создавалась именно под этот заряд. Однако на вооружение «слойка» так и не была принята: наши физики 22 ноября 1955 года успешно испытали водородный заряд, в котором был заложен совершенно новый принцип, предопределивший современный облик отечественного водородного оружия. Этот успех был достигнут в Арзамасе-16 А.Д.Сахаровым и Я.Б.Зельдовичем и их сотрудниками. Конечно, при формулировке новых идей опыт работы над первой водородной бомбой сыграл положительную роль.
В одном из писем Игорь Евгеньевич как-то заметил, что он избалован своими учениками. Редко кому из ученых выпадает счастье воспитать такие таланты как А.Д.Сахаров, В.Л.Гинзбург или П.С.Шубин, которого Игорь Евгеньевич также очень любил, но который в Свердловске был арестован и в 1938 году расстрелян.
К своим ученикам он относился с трогательным вниманием. Стоит напомнить, что еще до испытания «слойки» Игорь Евгеньевич, характеризуя Андрея Дмитриевича как «одного из самых крупных ведущих физиков нашей страны», написал: «Не может быть сомнений в том, что А.Д.Сахаров заслуживает не только ученой степени доктора физических наук, но и избрания в Академию наук СССР.»1 Но при этом он проявлял и необыкновенную бережность и заботу по отношению к выдающемуся таланту: подписи Игоря Евгеньевича нет на документе, в котором после успеха испытания 12 августа 1953 года предлагалось избрать совсем молодого 32-летнего Сахарова сразу в академики.2 Более того, И.Н.Головин свидетельствует, что Игорь Евгеньевич говорил ему: «Зачем сразу в академики?! Сейчас Андрей — молодой человек. Его надо выдвигать в члены-корреспонденты! Андрею следует вернуться с объекта и развивать физическую науку в среде ученых...»3.
Да, Игорю Евгеньевичу «везло» на выдающихся учеников. Но выдающихся учеников не бывает без выдающихся учителей. Игорь Евгеньевич Тамм был не только великим учителем. Он был великим ученым и гражданином.
| {410} |
Лекции Игоря Евгеньевича в МИФИ1 были необычными и очень темпераментными. Суть дела излагалась предельно ясно и просто. Каждое положение подкреплялось не только доводами и выкладками, но также жестикуляцией, мимикой, изгибом всей фигуры. Он непрерывно двигался. Мне казалось, что он чем-то напоминал Игоря Ильинского2 в лучших его ролях. Во избежание недоразумения: в этом не было ничего комического: Игорь Евгеньевич никогда не «играл» и не «позировал» специально, более того, ненавидел позерство, хотя артистизм его натуре, несомненно, был свойственен. Жестикуляция возникала естественно. Закончив изложение основ теории относительности, он засунул руки в карманы и слегка подался корпусом вперед — к аудитории. Так подчеркивалось, что все излагавшееся крайне просто и естественно и только на первый взгляд кажется трудным, во всей фигуре был призыв тут же, не теряя ни минуты, заняться этим интересным и важным делом.
Я знал Игоря Евгеньевича двадцать лет. Но работать с ним вместе, вплотную, непосредственно довелось всего одну неделю — зимой 1960 г. Кажется, за эту неделю я «прочувствовал» его в большей мере, чем за все остальные двадцать лет.
Здесь придется все же сказать несколько слов о физике. Дело в том, что поступки и переживания ученого нельзя понять, не касаясь, хотя бы поверхностно, сути работы.
Каждый из нас в той или иной обстановке наблюдал, как образуется капля из пара (или кристалл из перенасыщенного раствора). Она возникает в результате малых случайных флуктуаций. Где это произойдет — заранее сказать невозможно. Весь процесс является результатом неустойчивости исходного перенасыщенного состояния по отношению к малым флуктуациям — зародышам новой фазы. Казалось {411} бы, все просто и обычно. Но с точки зрения «высокой науки» — теоретической физики — здесь возникает ряд забавных парадоксов. Исходное состояние пространственно однородно, или, как говорят, трансляционно инвариантно. Уравнение, описывающее процесс, также трансляционно инвариантно. Тогда и решение должно быть трансляционно инвариантным. Однако спонтанно возникающие объекты — капля или кристалл — явно таким свойством не обладают. Они нарушают пространственную однородность: возникает, как говорят теперь в физике, спонтанное нарушение трансляционной инвариантности.
Незадолго до описываемых событий Гейзенберг предложил свой вариант нелинейной теории поля. Было интересно выяснить, возможны ли в этой теории особые «каплеобразные» решения, соответствующие, как можно было надеяться, элементарным частицам. Игорь Евгеньевич тогда заинтересовался этими особыми решениями нелинейной теории поля. Целью было получить решение, соответствующее микрообъекту конечной энергии и размеров. Однако получить такие решения или хотя бы исследовать их качественно оказалось делом нелегким. Тамм, как обычно, предложил желающим присоединиться к работе, и я с радостью это сделал. В то время я занимался моделированием автоколебательных биологических процессов; идеи о неустойчивости, ее роли в физике были мне очень близки.
Кроме того, при решении проблемы, сформулированной Таммом, появилась необходимость использования методов качественной теории дифференциальных уравнений — вероятно, одного из самых красивых разделов теоретической физики. В задаче оказались и специфические тонкости. Фазовый портрет был автоколебательного типа, но предельный цикл выглядел настолько необычно, что вызвал интерес в центре автоколебательной науки — в группе Е.А.Андроновой-Леонтович1 в г. Горьком. Работа оказалась новой и увлекательной. Сейчас уже можно сказать, что она опережала время, по крайней мере, на десять лет. Работать с Игорем Евгеньевичем — не легко и не просто; его сила и стремительность порою подавляли. Тамм никогда не произносил слов «не терять ни минуты!», но это всегда чувствовалось. Он шел «как танк»: препятствия и технические трудности разлетались в разные стороны. Очень скоро выяснилось: интересующие нас решения есть, они возникали в совершенно однородном пространстве сами собой, именно — как капля из перенасыщенного пара. Объекты обладали забавной внутренней структурой, конечными размерами и другими интересными свойствами. Проблема нарушения трансляционной инвариантности была решена походя, с легкостью и изяществом, присущими {412} И.Е.Тамму. Каждое из решений, конечно, не было инвариантным в обычном для квантовой теории смысле, но решений возникало много — центр тяжести «частицы» мог находиться в любой точке пространства. При преобразовании сдвига (X -» X + А) каждое решение не переходило само в себя, но зато переходило в новое решение, эквивалентное прежнему. В этом расширенном по предложению Тамма смысле трансляционная инвариантность решений восстанавливалась.
Когда работа уже близилась к концу, во весь рост встал второй парадокс, разрешение которого неясно и по сей день. Дело в том, что микрообъект (элементарная частица, или, что то же, квант) возникал как решение уравнений классического (вторично не квантованного) нелинейного поля. Можно ли описать «квант» без вторичного квантования? Это казалось святотатством. Появились сомнения в правильности поставленной цели.
И тогда Тамм сразу остыл — он не мог работать, когда конечная цель неясна. Работа не была закончена (и, разумеется, не опубликована).
Через несколько лет автолокализованными решениями нелинейных классических уравнений теории поля занялись другие теоретики. Проблеме посвящены сейчас уже сотни работ. Все, что было понято и получено за одну неделю, сейчас уже не ново: все-таки прошло пятнадцать лет1. На этом пути получены и новые яркие результаты. Тем не менее основная проблема — та, что остановила Тамма, до сих пор не решена. Правда, современных теоретиков это не смущает.
Игоря Евгеньевича нет среди нас, и мы не знаем, как он отнесся бы к своей работе сейчас. Вряд ли он изменил бы своему девизу — ясность цели и стремительность в ее достижении.
| {413} |
Народная мудрость, выраженная в поговорках и пословицах, гласит, что для того, чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Хоть это и непочтительно по отношению к народной мудрости, но думается, что в некоторых случаях она неправа.
Во-первых, необходимая длительность знакомства зависит от человека, которого хочешь узнать. То, о чем говорит поговорка, пожалуй, справедливо в отношении очень обычного, очень скучного, неяркого человека. Тут, действительно, немало времени потребуется, чтобы разузнать, есть ли в таком человеке хоть что-нибудь, отличающее его от множества очень сходных. А яркая, незаурядная личность порой даже при мимолетном знакомстве с несколькими блестящими мыслями, неожиданным поступком, характерным проявлением душевных качеств может сказать так много, что кажется, словно полжизни знаешь этого человека, крепко к нему привязываешься, а порой, может быть, и напротив — чувствуешь себя глубоко чуждым ему.
А во-вторых — и это главное, о чем я бы хотел сказать, — существуют разные условия, в которых раскрывается человеческая личность. По моему глубокому убеждению, в их числе особенное место занимает жизнь в условиях горных походов. Своеобразное сочетание, с одной стороны, трудностей и лишений, которые приходится преодолевать, а с другой — неповторимых красот и очарования горных вершин позволяет удивительно быстро, в сто раз скорее, чем в обыденной обстановке, узнать человека.
Все сказанное выше целиком приложимо к моему знакомству, и, надеюсь, что мне позволено это сказать, — к дружбе и близости с Игорем Евгеньевичем Таммом.
Судьбе угодно было устроить так, что наши две первые встречи с ним — одна совсем мимолетная, другая чуть более длительная, произошли в горах на уровне не ниже примерно полутора-двух тысяч метров над уровнем моря.
Мне вспоминается самая первая наша встреча. Произошла она, должно быть, в начале 30-х годов на северных склонах Эльбруса. Наша {414} небольшая группа начала движение в горы, к хребтам западного Кавказа, по мало хоженным в то время путям. И в каком-то совсем безлюдном, глухом месте нам навстречу спускаются два альпиниста с изрядными следами солнечных ожогов на лицах, по виду весьма усталые, но радостные и оживленные. Я подошел, разговорился и с удивлением узнал, что мои собеседники — физики, имена которых я не мог не знать, но которых никак не ожидал встретить в глуши. Это были Игорь Тамм и выдающийся английский ученый Поль Дирак. Дирак приехал в Советский Союз на какое-то научное совещание и, имея в распоряжении несколько свободных дней, воспользовался приглашением Игоря Евгеньевича, уже знавшего, что у Дирака, как и у него самого, одно и то же, как говорят англичане, «хобби» — вторая страсть в жизни: наряду с преданностью владычице их дум физике они оба — увлеченные горовосходители1. Тамму не стоило большого труда уговорить Дирака предпринять попытку восхождения на Эльбрус с северной стороны. Вот на обратном пути из этого увлекательного путешествия я их и встретил. Игорь Евгеньевич сразу покорил меня красочным описанием перипетий их совместного восхождения к самой высокой вершине Европы, которое они сочетали в часы отдыха с не менее увлекательными экскурсами в самые высокие области теоретической физики.
В сфере науки области наших интересов с Таммом лежали очень далеко друг от друга. Не припомню контактов с ним на этом поприще в течение долгих лет. И надо же было так случиться, чтобы судьба и во второй раз свела нас вместе на почве той же общей привязанности — любви к горным вершинам. Шел 1947 год. Давал уже себя знать мой возраст, но хотелось еще раз подышать воздухом ледников и альпийских лугов, а главное — привить ту же любовь двум дочкам. Мы отправились в горный лагерь спортивного общества «Наука» на Али-беке, над Домбайской поляной. Поселились в лагерной палатке. Чуть в стороне стоял маленький домик, где жили несколько альпинистов-ученых: Игорь Евгеньевич Тамм, крупный математик Борис Николаевич Делоне и еще два-три человека.
И тут не потребовалось целого пуда соли — достаточно оказалось пары щепоток, брошенных в туристский котелок, где варился горячий ужин, чтобы, сидя вечерами вокруг костра и ведя оживленные беседы, мы так хорошо и крепко узнали друг друга, что с этих пор у нас завязалась настоящая дружба. Игорь Евгеньевич нас восхищал: он делал трудные восхождения, не уступая молодым. Я особенно вспоминаю поход на один из труднодоступных пиков Аманаузского массива. {415} Мы, оставшиеся в лагере, не без некоторой тревоги посматривали на часы — контрольный срок возвращения участников похода неумолимо приближался, а их все не было. Но вот вдали мелькнули первые фигуры, вышла вся цепочка, и скоро усталые, но довольные участники похода делились воспоминаниями о переживаниях и событиях, среди которых было немалое число и весьма серьезных, требовавших мужества, искусства и выдержки.
Так я познакомился с Таммом-альпинистом раньше, чем по-настоящему узнал его как выдающегося физика, и больше того — как ученого с необычайно широким диапазоном интересов, ясностью мышления, способностью схватывать, казалось бы, необычайно далекие для него проблемы и с удивительной доходчивостью их излагать и анализировать перед пестрой по составу аудиторией. Именно в его изложении широкие круги московских ученых-естествоиспытателей услышали первые ясные формулировки принципиальных основ генетического кода — той новейшей области естествознания из сферы биологии, где мы являемся в последние годы свидетелями наиболее блестящих успехов. Тамм поднимал свой голос против попыток в системе Академии наук навязать противоречившие интересам науки взгляды. Нет никакого сомнения, что огромный научный авторитет Тамма и его высокий моральный облик внесли немалый вклад в ту оздоровительную работу, которая в короткий срок привела к ликвидации отставания во многих важнейших областях нашей биологической науки.
Так, в годы его сил и здоровья, Игорь Евгеньевич Тамм сохранился в моей памяти в трех образах: в горном лагере, у туристскою костра или за проверкой шипов-трикони на альпийских ботинках; с мелом в руках перед черной доской в переполненной аудитории Института атомной энергии и, наконец, на трибуне Общего собрания Академии наук. И во всем он был мастер высокого класса: на скалистых кручах горных вершин, на международных высотах научного творчества в семье нобелевских лауреатов, на самых высоких уровнях морально-духовных качеств.
В совсем другие тона окрашены воспоминания, относящиеся уже к периоду, когда силы Игоря Евгеньевича подтачивал зловещий недуг, приведший к трагическому, преждевременному концу. Как-то мы оказались с ним одновременно на больничных койках в стационаре Академии наук в почти соседних комнатах. У меня было какое-то преходящее заболевание, а Игорь Евгеньевич был помещен с первыми, еще сравнительно не очень тяжело выраженными проявлениями тех нарушений, которые в последующее время неумолимо развивались и унесли его из жизни. В те дни, о которых я здесь упоминаю, уже отчетливо проявлялись глубокие затруднения дыхания, вынуждавшие {416} к неподвижному коечному режиму. Другой человек впал бы в физическую и интеллектуальную прострацию, утратил бы все интересы, выходящие за сферу мыслей о своем здоровье. Не таким был Игорь Евгеньевич. Он прямо выхватывал у меня из рук последние тетрадки научных журналов, которые мне приносили из института, откликался на каждую новинку из жизни науки, с увлечением вступал в обсуждение деталей из области биологических исследований, начавших быстро расти в нашей стране. Больничные беседы остались у меня в памяти, как яркое воспоминание об обреченном, но мужественно сопротивлявшемся Тамме. С еще большей силой такие же впечатления возникали от встреч в более поздние периоды его болезни, когда он находился уже дома, прикованный к дыхательной машине. Наведываясь к нему, я видел его в кругу учеников и сотрудников, с листами исписанной бумаги, набросками графиков.
Грустные штрихи, относящиеся к самому последнему отрезку жизни Игоря Евгеньевича, лишь дополняют и завершают яркий его образ. А этот образ живого Тамма насыщен замечательными чертами. Он всегда один и тот же: пламенная энергия и ледяной рассудок, моральная непреклонность и сердечная отзывчивость, способность полностью, безраздельно отдаваться тому, что его захватывает. Человек, обладавший такими чудесными качествами, должен был бы еще долго и плодотворно жить!
В заключение позволю себе прибегнуть к маленькому плагиату у самого себя. На одном из дружеских собраний я обратился к Игорю Евгеньевичу с шутливым приветствием, которому придал не очень уклюжую стихотворную форму:
|
Поэт я преплохой... Прости мне ассонансы И мой привет прими, мой Игорь дорогой: Умом ты меришь кривизну пространства, Но никогда, ни в чем не покривишь душой. |
| {417} |
Адамский Виктор Борисович (р. 1923 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, окончил МГУ. С 1950 г. сотрудник ВНИИЭФ (Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики — Арзамас-16; ныне Российский Федеральный Ядерный Центр — ВНИИЭФ), лауреат Ленинской премии.
Альтшулер Семен Александрович (1911–1983) — физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР, один из первых аспирантов И.Е.Тамма. Учился и по окончании аспирантуры работал в Казанском университете.
Андроникашвили Элевтер Луарсабович (1910–1989) — физик-экспериментатор, академик АН ГССР. Организатор и директор (с 1951 г.) Института физики АН ГССР. Учился в Ленинграде, ряд лет (1940–1941 и 1945–1948) работал в Институте физических проблем у академика П.Л.Капицы в Москве. Лауреат Государственных премий СССР.
Белоусова Наталья Александровна (р. 1905) — искусствовед, кандидат искусствоведения, давний друг семьи Таммов.
Биллиг Евгения Соломоновна (1889–1978) — биолог, кандидат биологических наук, близкая родственница семьи Л.И.Мандельштама и друг семьи Таммов.
Блюменфельд Лев Александрович (р. 1921 г.) — биофизик, доктор химических наук, организатор и заведующий кафедрой биофизики на физическом факультете МГУ.
Болотовский Борис Михайлович (р. 1928 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, с 1951 г. сотрудник ФИАНа, с 1955 г. — в Отделе теоретической физики.
Бернский Леонид Игоревич (р. 1949 г.) — археолог, внук И.Е.Тамма.
Вонсовский Сергей Васильевич (р. 1910 г.) — физик-теоретик, академик АН СССР, РАН. Окончил Ленинградский университет. С 1932 г. работает в Свердловске. С 1971 г. председатель Президиума Уральского научного центра АН СССР. Лауреат Государственных премий СССР, член зарубежных академий.
Гинзбург Виталий Лазаревич (р. 1916 г.) — физик-теоретик, академик АН СССР, РАН и член ряда зарубежных академий наук. После окончания физического факультета МГУ и аспирантуры при нем с 1940 г. сотрудник Отдела теоретической физики ФИАНа (фактически работал в этом Отделе еще в аспирантуре). Много лет был заместителем И.Е.Тамма по заведованию отделом, а после его кончины в 1971 –1989 г. возглавлял этот отдел. Лауреат Ленинской и Государственной премий.
Головин Игорь Николаевич (р. 1913 г.) — физик-теоретик и экспериментатор, доктор физико-математических наук. Окончил физический факультет МГУ и аспирантуру (у И.Е.Тамма) МГУ. С 1944 г. сотрудник, в 1950–1958 {418} заместитель директора (И.В.Курчатова) Института атомной энергии (менявшего названия: Лаборатория № 2 АН СССР, затем Лаборатория измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН), затем Институт атомной энергии, в настоящее время Российский научный центр «Курчатовский институт»). Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР.
Данин Даниил Семенович (р. 1914 г.) — писатель, автор книг о Резерфорде и Боре и других книг о науке и ученых. Учился на химическом и физическом факультетах МГУ. Лауреат Государственной премии РСФСР.
Завойский Евгений Константинович (1907–1976) — физик-экспериментатор, академик АН СССР. Окончил Казанский университет и затем работал в нем. С 1947 г. в Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова. Лауреат Ленинской и Государственной премий.
Казакова Елена Алексеевна (1909–1989) — кандидат технических наук и кандидат педагогических наук, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный участник альпинистских восхождений и туристических походов, в которых участвовал И.Е.Тамм.
Киржниц Давид Абрамович (р. 1926 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР и РАН. Окончил МГУ, затем ряд лет работал в заводской лаборатории в Горьком. С 1954 г. сотрудник Отдела теоретической физики ФИАНа. Заведует сектором сверхпроводимости.
Конен Валентина Джозефовна (1909–1991) — музыковед, доктор искусствоведения, автор многих книг по истории музыки. Окончила Джульярдскую школу музыки (Нью-Йорк) и Московскую консерваторию. Друг семьи Таммов.
Крайнин Владимир Александрович (1913–1993) — псевдоним Цукермана Вениамина Ароновича. Физик-экспериментатор, доктор технических наук. С 1946 г. сотрудник, заведующий лабораторией ВНИИЭФ (Арзамас-16). Лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда. См. книгу: В.А.Цукерман, З.М.Азарх «Люди и взрывы». Изд-во Арзамас-16, 1994.
Кузнецов Борис Григорьевич (1903–1984) — профессор, доктор экономических наук, автор многих книг по истории и философии науки (в том числе об Эйнштейне, о Галилее и др.).
Марков Моисей Александрович (1908–1994) — физик-теоретик, академик АН СССР и РАН. Окончил физический факультет МГУ. С 1934 по 1949 г. работал в Отделе теоретической физики ФИАНа, затем руководил отдельной теоретической группой в ФИАНе, а также сотрудничал в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна) и в Институте ядерных исследований АН СССР, В 1967–1984 гг. академик-секретарь Отделения ядерной физики АН СССР.
Никитин Фауст Васильевич (1894–1979) — генетик, зоолог-селекционер, Лауреат Государственной премии СССР. Товарищ И.Е.Тамма по гимназии. {419}
Огиевецкий Виктор Исаакович (р. 1928 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. Окончил Днепропетровский университет. С 1956 г. работает в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна).
Пайерлс (Peierls) Рудольф Эрнест (р. 1907 г.) — английский физик-теоретик немецкого происхождения, член Лондонского королевского общества.
Парийская Лидия Викторовна (1904–1988) — инженер, сотрудник Отдела теоретической физики ФИАНа (1943— 1973 гг.). Друг семьи Таммов.
Райский Соломон Менделевич (1905–1979) — физик-экспериментатор, оптик и спектрометрист, доктор технических наук. В 1931 –1941 гг. сотрудник Оптической лаборатории Г.С. Ландсберга в НИИФизики МГУ, с 1941 г. в различных институтах АН СССР (в 1946–1948 гг. в ФИАНе).
Ритус Владимир Иванович (р. 1927 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. Окончил физический факультет МГУ. В 1951–1954 гг. сотрудничал с И.Е.Таммом, с 1954 г. сотрудник Отдела теоретической физики ФИАНа.
Романов Юрий Александрович (р. 1926 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. Окончил МГУ в 1947 г., затем аспирант Отдела теоретической физики ФИАН. С 1950 г. — сотрудник ВНИИЭФ (Арзамас-16), в 1955–1967 гг. — ВНИИТФ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической физики — Челябинск-70, ныне Российский Федеральный Ядерный Центр — ВНИИТФ). Лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда.
Рытое Сергей Михайлович (р. 1908 г.) — физик-теоретик (работал и экспериментально), член-корреспондент АН СССР и РАН, окончил физический факультет МГУ, ученик и сотрудник Л.И. Мандельштама. В 1934— 1958 гг. сотрудник ФИАНа, затем Радиотехнического института АН СССР.
Сасоров Василий Павлович (р. 1908 г.) — физик, окончил Политехнический институт в Ленинграде, кандидат технических наук, заслуженный мастер спорта СССР (альпинизм). Друг И.Е.Тамма.
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) — физик-теоретик и общественно-политический деятель. Окончил МГУ. В 1945–47 гг. аспирант И.Е.Тамма, в 1947–50 и 1969—89 — сотрудник Отдела теоретической физики ФИАНа, в 1950–68 гг. — сотрудник Арзамаса-16. Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и Нобелевской премии мира. Академик АН СССР и АН ряда стран.
Смирнов Юрий Николаевич (р. 1937 г.) — физик-теоретик, окончил Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук, в 1960 г. — сотрудник Арзамаса-16. В 1964–1968 гг. и с 1962 г. в Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова, в 1968—92 гг. — непосредственный участник работ по мирному использованию подземных ядерных взрывов.
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900–1981) — биолог широкого профиля (см. начало его статьи), доктор биологических наук, член академий наук многих стран. {420}
Фабелинский Иммануил Лазаревич (р. 1911 г.) — физик-экспериментатор, оптик, член-корреспондент АН СССР и РАН. Окончил физический факультет МГУ, после чего работал в Оптической лаборатории Г.С.Ландсберга в НИИФизики МГУ. С 1943 г. в Оптической лаборатории им. Г.С.Ландсберга в ФИАНе.
Файнберг Владимир Яковлевич (р. 1926 г.) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. Окончил Московский инженерно-физический институт, с 1951 г. работает в Отделе теоретической физики ФИАНа.
Фейнберг Евгений Львович (р. 1912 г.) — физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР и РАН. Окончил физический факультет МГУ и аспирантуру при нём. Формально с 1938 г., а фактически с 1935 г. работает в Отделе теоретической физики ФИАНа. Лауреат Государственной премии СССР.
Франк Илья Михайлович (1908–1989) — физик-экспериментатор, автор ряда теоретических работ, академик АН СССР. Окончил физический факультет МГУ. В 1934–1970 гг. в ФИАНе. С 1957 г. директор Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (Дубна). Лауреат Государственной и Нобелевской премий.
Френкель Виктор Яковлевич (р. 1930 г.) — физик-экспериментатор, историк физики, доктор физико-математических наук. Окончил Политехнический институт в Ленинграде, работает в Санкт-Петербургском физико-техническом институте.
Харитон Юлий Борисович (р. 1904 г.) — физик и химик, академик АН СССР и РАН. Окончил Ленинградский политехнический институт в 1925 г. С 1921 г. сотрудник Петроградского (затем Ленинградского) физико-технического института (в 1926–28 гг. работал у Резерфорда в Кэмбридже). С 1931 г. — в Институте химической физики АН СССР. С 1946 г. — главный конструктор по созданию ядерного оружия в Арзамасе-16. С 1958 г. — научный руководитель (с 1993 г. — почетный научный руководитель) ВНИИЭФ (Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Российский Федеральный Ядерный Центр Арзамас-16). Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, трижды Герой Социалистического Труда.
Чернавский Дмитрий Сергеевич (р. 1926 г.) — физик-теоретик, биофизик, доктор физико-математических наук. Окончил Московский инженерно-физический институт. С 1952 г. работает в Отделе теоретической физики ФИАНа.
Энгельгардт Владимир Александрович (1894–1984) — биохимик, академик АН СССР. В 1959 г. организовал и возглавил Институт молекулярной биологии АН СССР в Москве. Лауреат Государственной премии СССР.
| {421} |
Курсивом выделен номер страницы, на которой имеется сноска с краткими сведениями об упоминаемом лице. Сведения об авторах см. с. 418–421
Абрагам М. 348
Аганин 38
Агрест М.М. 395
Алибон 167
Алиханьян А.И. 27, 29, 30, 174
Альтшулер С.А. 13, 133, 184, 247, 280, 308, 324, 418
Андреев А.П. 191
Андроникашвили Э.Л. 418
Андронов А.А. 21, 145, 236, 245, 247
Андронова-Леонтович Е.А. 412
Андрусов Н.И. 35
Арбузов А.Е. 355
Арнольд И.В. 152
Арцимович Л.А. 29 33, 159, 163, 165, 166
Афанасьева-Эренфест Т.А. 115, 387
Ахматова А.А. 90
Бабель И.Э. 368
Багрицкий Э.Г. 91
Байрон Дж. 98
Балдин A.M. 92
Баранов П.А. 382
Баранцев 381
Барков 255
Бек Г. 110
Беленький С.З. 16, 51, 53, 56, 226, 297, 309, 399, 405
Берия Л.П. 128, 157, 160–165, 274, 398, 407
Берне Р. 91
Бете Х.А. 25
Бетховен 205
Бечер 13
Бидл Дж. 338
Биллиг Е.С. 418
Блондло Р. 352
Блох Ф.133
Блохинцев Д.И. 151, 154, 247, 398
Блюменфельд Л.А. 176, 283, 418
Боголюбов Н.Н. 159, 254, 395, 400, 402, 404
Бодлер Ш. 91
Болотовский Б.М. 80, 242, 299, 359, 418
Больцман Л. 368
Бом Д. 215
Бонгард М.М. 63
Бор М. 182
Бор Н. 5, 11, 23, 43, 56, 66, 83, 85, 124, 155, 156, 169–171, 178, 180, 181, 183, 214, 217, 255, 282–285, 301, 310, 322, 332, 333, 362, 364, 368, 377, 390, 419
Бошьян 275
Бракенмейер 222
Бреховских Л.М. 314
Брода Е. 368
Брокгауз 87
Бронштейн М.П. 256
Брэгг Г. 131
Брыкало П.Е. 222
Быков 275
Вавилов С.И. 8, 12, 49, 58, 61, 80, 119, 145, 149, 155, 156, 200, 236, 239, 248, 307, 319, 323, 347, 348–351, 353, 377, 390
Вагин А.С. 37
Ваградов Г.М. 78
Валлер И. 344
Ванников Б.Л. 157, 160–162, 256
Вахушти 78
Ведеников Г.С. 187
Вейль Г. 133
Вейцзеккер К.Ф., фон 125
Векслер В.И. 8, 52, 58, 59, 226
Бернский Л.И. 9, 147, 382, 415, 418
Вигнер Ю. 125
Вижье Ж.П. 215
Вирсма 119
Владимирский В.В. 236
Вознесенский А. 209
Волкова И.М. 358
Вольпин М. 358
Вонсовский С.В. 172, 283, 387, 418
Вышнеградский А.Н. 302
Гааз В., де 363
Гаврилов В.Ю. 62, 167, 242, 370, 403, 409
Гайсинский 109
Галанин А.Д. 249
Галенц 29
Галицкий В.М. 159
Гамов Дж. 42, 121, 176, 375, 382
Гегель Г. 215
Гейгер X. 192
Гейзенберг В. 16, 54–56, 124, 125, 133, 151, 179, 280, 299, 365, 385, 412
Гейтлер В. 179
Геккель Э. 98
Гелл-Манн М. 125
Гельфанд И.М. 226
Гессен Б.М. 39, 72, 103, 112, 154, 332
Гинзбург В.Л. 14, 16, 33, 51, 53, 54, 55, 60, 141–143, 158, 172, 239, 314, 328, 330, 354, 394, 404, 405, 410, 415
Гиппократ 89
Годовский Л. 369
Головин И.Н. 150, 161, 163, 165, 369, 410, 418
Гольдины В.Г. и О.Е. 357
Гольдин В.Я. 396
Гольфанд Ю.А. 52
Гончаров В.В. 157
Горелик Г.С. 236
Гортер К.Я. 124
Григорян А.Т. 215
Гудзий Н.К. 381
Гук Р. 218
Гумилевы.С. 91
Гурвич А.Г. 34, 37, 62, 110, 345, 379, 380
Гурвич Л.Д. 345
Гюйгенс X. 352
Гэд Ж. 99
Дайсон Ф. 16, 280, 298, 299, 301
Даньков 15, 16, 202, 203, 280, 295, 296, 298
Дебай П. 365
Декарт Р. 214
Делоне Б.Н. 117, 251, 403, 415
Дельбрюк М. 282
Демокрит 368
Деннисон Д. 118
Дзержинский Ф.Э. 255
Дивильковский М.А. 153
Дикке Р. 118
Дикэ 118
Дирак П. 9–13, 22, 36, 83, 85, 93, 94, 115, 116, 118, 119, 128, 131, 133, 179, 217, 247, 248, 252, 277, 285, 363–366, 377, 387, 415
Дмитриев 102
Дорофеев И.Г. 188
Драбкина С.И. 151
Дэвисон С. 361
Дяткина М.Е. 44
Евтушенко Е.А. 122
Жарков Г.Ф. 52
Жейенье Г. 124
Жолио-Кюри Ф. 352
Жорес Ж. 219
Жуковский В.А. 384
Жуковский Н.Е. 246
Завадовский Б.М. 62, 103, 11, 112, 224, 339
Завадовский М.М. 62
Заграфов В.Г. 405
Зелинский А.Н. 198
Зельдович Я.Б. 159, 165, 239, 254, 274, 394, 398, 404, 410
Зигбан (Сигбан) К. 344
Зрелов В.П. 61
Иванова М.И. 293
Ильинский И.В. 411
Инденбом В.Л 58
Инденбом Л.А. 58
Иоффе А.Ф. 7/3, 116, 119, 135, 317, 364–367, 377, 390
Иоффе М.С. 165
Исакович А.С. 38
Исакович М.А. 235
Исакович (Арнольд) Н.А. 235
Исакович (Райская) Н.А см. Райская Н.А.
Итон С. 127
Кадышевич А.Е. 156
Калашников С.Г 154
Канторович Л.В. 339
Капица П.Л. 31, 41, 45, 66, 118, 135, 176, 274, 284, 285, 333, 356, 367, 377, 390, 418
Капорето 216
Карпов Л.Я. 43
Кассо Л.А. 21
КастереН 193
Катаев В.А 36
Катон М. 225
Кедрин Д.Б. 91
Кельвин 351
Кеннеди Д. 126
Керенский А.Ф. 105
Кикоин И.К. 136
Кириллин В.А 403
Клейн О 10, 115, 116, 120, 364, 385, 387
Кобылянский 223
Козлов Б.Н. 405
Кольман Э. 153
Кольцов Н.К. 282
Компанеец А С. 200
Кондорский Е.И. 136
Коровин 106
Королев С.П. 410
Котляревский И.П. 91
Крайнин В.А. (Цукерман В.А.) 479
Крамерс X. 776
Крик Ф. 45, 121, 176, 209, 232, 284, 382
Крылов А.Н. 40, 41, 154, 302, 367
Кузнецов Б.Г. 479
Курчатов И.В. 74, 62, 156–167, 185, 186, 209, 315, 319, 330, 366, 369, 370, 393, 398, 399, 407–409, 419
Курчатова М.Д. 157
Кэррол Л. 90
Лазарев П.П. 773
Ландау Л.Д. 21, 26, 27, 31, 75, 134, 145, 174, 177, 181, 200, 226, 239, 274, 275, 280, 301, 308, 309, 317, 324, 333, 365, 368, 377, 390, 396?, 398
Ланде А. 22
Ландсберг Г.С. 8, 9, 38, 117?, 141, 149, 154, 231, 235–237, 245, 248, 292, 300, 347, 376, 420, 421
Ландсберг Ф.С. 235
Латтэс 273
Левин Дж. 361
Леднев Н.А. 68
Леман Г. 299
Леонтович М.А. 8, 92, 117, 128, 149, 152, 153, 161, 163–166, 235, 236, 245, 247, 255, 375, 387
Лепешинская О.Б. 275
Лермонтов М.Ю. 91
Лир Э. 82
Лифшиц Е.М. 21
Лобачевский Н.И. 206
Ломоносов М.В. 20
Ломсадзе Ю.М 52
Лоренц Х.А. 77, 114, 115, 323, 364
Лоу Ф. 125
Лукирский П.И. 136
Лукомский С.М. 187
Лукрецкий 215
Лукьянов С.Ю. 165
Луначарский А.В. 107
Лысенко Т.Д. 46, 73, 275, 408, 409
Львович 358
Максимов А.А. 153
Мамасахлисов В. 30
Мандельштам Л.И. 7–9, 14, 18, 21, 23, 37–41, 49, 56, 60, 64, 92, 110–112, 116, 117, 131?, 139. 140, 145, 149, 151, 152, 220, 235, 236, 245, 247, 248, 255, 292, 306, 327, 330, 333, 346, 347, 351–353, 358, 360, 365–367, 369, 375–377, 380, 385, 387, 390, 418, 420
Мах 352
Махаланобис П. 371
Махнев В.А. 162
Махно Н. 311
Меллер Г.Дж. 282
Менделеев Д.И. 85
Мендельсон Я. 86
Мещеряков М.Г. 159
Мигдал А.Б. 27, 29, 30, 159, 174
Миллер М.А. 72
Михайлов В.М. 52
Можайский А Ф. 256
Мокульский М А 408
Морозов П.М. 165
Морс Ф. 118
Мотт Н. 118
Моттельсон Б. 341
Наполеон Б. 315
Насонов Д.Н. 121
Негри А. 95
Нейгауз Г Г. 369
Нейман Дж., фон 133
Новиков П.С. 92
Ньютон И. 40, 85, 153, 154, 218, 302
Огиевецкий В.И. 420
Оглоблин Н.В 34
Оккиалини Дж. 273
Олифант М.Л.Э. 26
Оппенгеймер Р 10
Орджоникидзе С. 93
Павлов Н.И. 157, 158, 162, 164
Папалекси Н.Д. 8, 38, 41, 42, 110, 111, 144, 235, 245, 248, 358
Пастернак Б.Л. 81, 90, 91, 339, 362
Переверзев Д.С. 262
Перельман Я.И. 366
Перон 163
Петржак К.А. 239
Петров К.В. 264
Петушковы 358
Писаржевский О.Н. 177
Платон 215
По Э. 91
Погребысский И.Б. 214
Подольский Б. 13
Померанчук Я.И. 226, 254, 309, 400, 409
Понтекорво Б.М. 323
Попова Л.М. 312
Прокофьев С. 157
Пушкин А.С. 306
Пятаков Г.Л. 93
Райнвотер (Рейнвотер) Дж. 341
Райский С.М. 420
Райт 256
Резерфорд Э. 26, 41, 180, 285, 419
Рентген В. 302
Рихтер 163
Рождественский Б.Л. 396
Розенталь С. 178
Романов Ю.А. 277, 331, 394, 396, 401, 403, 405, 420
Рост Ю. 263
Романюк 398
Ромм М.И. 58
Ротблат А 126
Рубинин П.Е. 176
Румер О.Б 90
Рузвельт Т. 332
Сарьян М.С. 29
Сасоров В.П. 420
Сахаров А.Д. 3, 16, 17, 68–73, 127–129, 157–165, 186, 207, 313, 330, 331, 392, 394–399, 401, 404, 410, 420
Сахарова К. А. 278
Семендяев К.А. 403
Семенов Н.Н. 323
Сенников В.Ф. 72
Сент-Экзюпери 358
Силин В.П. 52, 53, 202, 295, 296, 298
Симанзик К. 299
Сименон Ж. 92
Синцов 58
Сказкин С.Д. 177
Смирнов Б. 87
Смирнов В.И. 381
Смородинский Я.А. 368
Смушковы, М.А. и В. 111
Сноу Ч. 114
Солженицын А.И. 320
Соколов А.А. 69
Сольвей Е. 124
Спиноза 217
Спитцер Л. 160
Сталин И.В. 72, 128, 160, 162, 164, 273, 323, 331, 333, 394, 406
Станкевич 21
Старокадомская Е.Л. 92
Старокадомский М.Л. 92
Стрелецкий Ю.В. 191, 194, 195, 197
Стрелков С.П. 236
Суворов А.В 223
Сыркин Я.К. 44
Сыроватский С.И. 52
Таврог М. 172
Тамм Е.Ф. 7?, 83, 97, 100, 105, 106, 222, 394
Тамм И.И. 125
Тамм Л.Е. 71, 72, 93, 109, 153, 222, 394
Тамм Н.В. 35, 39, 42, 87, 92, 101–103, 186, 209, 224, 232, 238, 244, 255, 278, 281, 303, 306, 313–315, 355–357, 361, 363, 379, 380, 384, 388, 404
Тамм О.М. 86, 100, 101, 106, 222, 304, 394
Тамм Т.Е. 394
Татум Э. 338
Теллер Э. 382
Тенцинг 277
Терлецкий Я.П. 156
Тер-Микаелян М.Л. 52
Тимофеев-Ресовский Н.В. 45, 176, 379, 420
Тихонов К. К. 94
Толстой Л.Н. 98, 100, 302, 305
Томонага С. 124
Томсон Дж. Дж. 10
Тоннеля М.А. 215
Троцкий Л.Д. 128
Трэси С 357
Туполев А.Н. 216
Тхоржевский И. 90
УилерД.А. 156
Уилкинс176
Уитмен У. 91
Уиттекер Э.Т. 101
Уланова Г.С. 157
Умов Н.А. 154
Уотсон Д. 45, 176, 209, 232, 284, 382
Усачев Ю.Д.52
Уэланд 44
Фабелинский И.Л. 9, 149, 150, 288, 378, 421
Файнберг В.Я. 52, 55, 56, 202, 230, 296, 298, 421
Фаулер Р. 131
Фейнберг Е.Л. 51, 53, 56, 73, 75, 83, 89, 226, 255, 276, 278, 297, 328, 393, 404, 421
Фейхтвангер Л. 199
Феоктистов Л.П. 403
Ферми Л. 343
Ферми Э. 12, 24, 123, 201, 203, 240, 295, 297, 309, 323, 343
Флеров Г.Н. 239
Фок В.А. 13, 15, 43, 72, 239, 280, 319, 377, 395
Фоккер А. 7/6, 364 Фрадкин Е.С. 52, 358
Франк И.М. 8, 12, 49, 58, 60, 78, 119, 120, 145, 156, 200, 248, 323, 381, 390, 421
Франк-Каменецкий Д.А. 398, 402
Фраунгофер 366
Френкель В.Я. 9, 62, 80, 81, 242, 290, 359, 364, 421
Френкель С.И. 356, 379, 384, 388
Френкель Я.И. 9, 21, 37, 62, 80, 81, 113, 135, 136, 155, 289, 290, 330, 355, 359, 361, 375, 377–381, 388, 389
Фриш О.Р. 22
Фурье Ш. 120
Хаббард Дж. 133
Харадзе Е К 31
Харитон Ю.Б. 17, 199, 208, 239, 398, 421
Хевисайд 351
Хемингуэй Э.М. 138
Хилл Эд. 378
Хиллари 277
Хрущев Н.С. 167, 273, 284, 406
Хунд Ф.28
Хуэтсон У. 118
Хюльтен Е. 344
Циммерман В. 299
Цветаева М.И. 95
Цомакион 38
Цукерман В.А. см. Крайнин В.А.
Чаплыгин С.А. 154
Чеботарев Н.Г. 25
Чезаро Э. 381
Черенков П.А. 8, 12, 49, 58, 61, 80, 119, 120, 145, 156, 200, 212, 239, 248, 307, 323, 338, 341, 342, 344, 347, 348–354, 390
Черенкова М.А. 338
Черчилль У. 332
Четвериков С.С. 282
Чолаков В. 390
Чу Дж. 125
Чуковский К.И. 304
Швингер Дж. 299
Шекспир В. 91
Шиллер Ф. 91
ШляпцевБ.С. 191, 195, 196, 198
Шмидт О.Ю. 356
Шпильрейн Я.Н. 330
Штарк И. 386
Шредингер Э. 43, 151, 285, 375, 409
Штерн Л.С. 105
Шуберт Ф. 205
Шубин С.П. 17, 70, 71, 131 — 133, 247, 256, 330, 386, 387, 410
Шубина Л.А. 131
Шубниковы Л.В. и О.Н. 115, 258, 363, 364
Шуйская Н.В. см. Тамм Н В
Шуйский К.В. 224
Шумаев М.П. 405
Шура-Бура М.Р. 298
Шюлер 13
Эдисон Т. 84
Эйнштейн А. 5, 43, 56, 68, 85, 112, 153, 210, 247, 252, 285, 308, 333, 361, 369, 376, 385, 419
Энгельгардт В.А. 167, 379, 421
Энгбертс А. 384
Эпштейн П.С 366
Эрдман Н. 358
Эренфест П.С. 77, 80, 83, 112–116, 119, 359, 363–367, 369, 377, 385–387
Эренфест Т.П. 115, 363, 364, 385, 386, 387
Эфраимсон В.П. 379
Юкава X. 13, 122, 123, 280, 324, 362
Яковлева В.И. 776
Яковлев И.А. 72
Яненко Н.Н. 396
| {427} |
1 В настоящем сборнике подстрочные примечания даны редколлегией (кроме специально оговоренных авторских).
2 В дальнейшем этот институт будет неоднократно именоваться сокращенно ФИАН, как это было принято в Академии наук СССР, а Отдел теоретической физики — ОТФ. В настоящее время это — Отделение теоретической физики им. И Е.Тамма Физического института Российской академии наук (ФИРАН).
3 Впервые опубликовано в книге: Тамм И.Е. Собр. науч. трудов. M.: Наука, 1975. Т. 1. В настоящем сборнике представлен уточненный текст статьи.
4 Официально его должность именовалась так: «заведующий водопроводом и электрическим освещением». См.: «Ежегодник «Голоса Юга»: Адрес-календарь и справочная книга по г. Елизаветграду и уезду. Елизаветград, 1913, ч. II, с. 10.
5 Мандельштам Л.И. (1879–1944) — физик, теоретик и экспериментатор, академик АН СССР. С 1925 г. заведующий кафедрой физического факультета Московского университета. Создал крупную школу физиков. О его взаимоотношениях с И.Е.Таммом, а также с другими упоминаемыми ниже лицами см. в воспоминаниях Е.С.Биллиг, Л.И.Бернского, СМ.Райского и др. Лауреат Государственной премии СССР. См. также: Академик Л.И.Мандельштам, к 100-летию со дня рождения. М.: Наука, 1979.
6 Лебедев П Н. (1866–1912) — физик-экспериментатор, первый измерил давление света, что имело принципиальное значение. Создал обширную физическую школу, первую в России. К ней принадлежали академики П П Лазарев, С И Вавилов, Н.Н.Андреев и многие другие. В выстроенном для него на общественные средства здании института (завершено после его смерти) разместился получивший его имя Физический институт АН СССР (ФИАН), который занимал это здание в течение 17 лет.
7 Вавилов С.И. (1891–1951) — физик-экспериментатор, историк физики, организатор науки, академик АН СССР, президент АН СССР (с 1945 г.), директор ФИАН (с 1932 г ) После переезда Академии наук из Ленинграда в Москву, по существу, заново организовал ФИАН как крупный современный многопрофильный научный центр по физике. С.И.Вавилов сразу пригласил в ФИАН ведущих московских физиков, — Л.И.Мандельштама, И.Е.Тамма, Г.С.Ландсберга, М.А.Леонтовича, а из Ленинграда — Н.Д.Папалекси, Д.В Скобельцына, Н.Н.Андреева и других, более молодых, многие из которых впоследствии стали известными учеными (И.М.Франк, П.А.Черенков, В.И Векслер, С.Н.Вернов, М.А.Марков и др.). Лауреат Государственных премий. См о немтакже Сергей Иванович Вавилов Очерки и воспоминания 2-е изд. М.: Наука, 1981.
8 Ландсберг Г.С. (1890–1957) — физик, академик АН СССР. До 1941 г. руководитель оптической лаборатории НИИ физики МГУ, с 1953 г. — Оптической лаборатории ФИАНа и профессор МГУ. Лауреат Государственной премии.
9 Раман Чандрасекхара Венката U888–1970) —физик, член Индийской АН, её основатель и президент, лауреат Нобелевской премии, член ряда академий наук.
10 Френкель Я.И. (1894–1952) — физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии. Близкий друг И.Е.Тамма (см. ниже воспоминания его сына В.Я.Френкеля, а также И.Л Фабелинского; см. Воспоминания о Я.И.Френкеле Л : Наука, 1971).
11 Бриллюэн Л (1889–1969) — французский физик-теоретик, с 1944 г. — в США, Член Национальной АН США.
12 Дирак П.A.M. (1902–1984) — английский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, член многих академий мира. И.Е.Тамм работал у него в Кембридже в 1931 г., и они очень подружились. Впоследствии Дирак приезжал в СССР, и И.Е.Тамм ходил с ним на альпинистские восхождения на Кавказе (см. ниже воспоминания Л.И.Бернского, В.Я.Френкеля и др.).
13 Клейн О. (1894–1977) — шведский физик-теоретик, член Шведской АН. Нишина У. (1890–1951) — японский физик, теоретик и экспериментатор. Член Японской АН.
14 Оппенгеймер Р. (1904–1967) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США и ряда других академий. Возглавлял научную и техническую часп работ по созданию атомной бомбы в США.
15 Эренфест П. (1880–1933) — физик-теоретик, в 1907–1912 гг. работал в Петербурге, затем в Голландии. Сохранил тесные дружеские связи с советскими физиками.
16 Борн M. (1882–1970) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, член многих академий, лауреат Нобелевской премии.
17 Лоренц Х.А. (1853–1928) — голландский физик-теоретик, создатель классической электронной теории, член многих академий наук.
18 Шубин С.П. (1908–1938) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. С 1932 г. работал в Свердловске. Погиб в заключении (посмертно реабилитирован).
19 Черенков П.А. (1904–1990) — физик-экспериментатор, академик АН СССР, лауреат Государственных и Нобелевской премий С 1930 г — в Физическом институте АН СССР.
20 Фок В. А. (1898–1974) — физик-теоретик, академик АН СССР. В 1944–1953 гг. сотрудник ФИАНа. С И.Е.Таммом его связывали добрые отношения и частые научные контакты (особенно до войны). Член рада зарубежных академий. Лауреат Государственной премии.
21 Подольский Б. (1896–1966) — американский физик-теоретик, профессор. В 1934 г. работал в Украинском физико-техническом институте (Харьков).
22 Юкава X. (1907–1981) — японский физик-теоретик, член Японской и многих других академий наук, лауреат Нобелевской премии.
23 Курчатов И.В. (1903–1960) — физик-экспериментатор и организатор науки, академик АН СССР, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР. Руководил научной и технической программами решения атомной проблемы в СССР во всех ее аспектах, в частности организовал и возглавил Институт атомной энергии (ныне Российский научный центр “Курчатовский институт").
24 Александров А.П. (1903— 1994) — физик-экспериментатор и организатор науки, академик АН СССР, в 1975— 1986 гг. — президент АН СССР. Член ряда зарубежных академий Лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР.
25 Дайсон Ф.Д. (р. 1923) —американский физик-теоретик, член Национальной АН США и Лондонского королевского общества.
26 Гейзенберг В. (1901 –1976) — физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии. Член многих академий.
27 Беленький С.З. (1916–1956) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. В 1939–1941 гг. был аспирантом И.Е.Тамма, совместно с которым и выполнил указанную работу. В 1946–1956 гг. сотрудник Отдела теоретической физики ФИАНа, заведовал сектором теории частиц высоких энергий.
28 Снайдер X. (1913–1962) — американский физик-теоретик.
29 Для современного читателя нужно пояснить, в чем была ее особая роль. Дело в том, что после реформы реакционного министра просвещения Кассо в 1911 г. Московский университет в знак протеста покинула основная группа лучших ученых, в частности выдающийся физик П.Н.Лебедев. Уровень преподавания резко упал. Игорь Евгеньевич вспоминал, как в 1916 г. он студентом слушал курс теории электричества, кажется, профессора Станкевича, который, дойдя до уравнений Максвелла, сказал: «Эта теория так сложна, что мы ее проходить не будем». Такое отставание от современной физики тяжело сказывалось еще в 20-х и даже в 30-х годах, когда некоторые профессора отстаивали механическую теорию эфира как основу электромагнитных явлений. Первым, кто пытался внести новый дух, был Н.Н.Андреев, впервые прочитавший (приблизительно в 1917–1918 гг.) факультативный курс теории относительности, а ранее опубликовавший прекрасный обзор по спектральной теории волновых процессов в оптике и т.п. Однако он один не мог существенно изменить ситуацию. Приглашение (в 1924 г.) на физический факультет Л.И.Мандельштама (по деятельной инициативе молодых аспирантов и общественных студенческих организаций, в особенности А.А.Андронова) и И.Е.Тамма имело большое значение для подъема преподавания на современный уровень. Глубоко физич-ный и современный курс Игоря Евгеньевича — результат нескольких лет преподавания как в МГУ, так и во «2-м МГУ» (ныне Московский государственный педагогический университет им. В.И Ленина), где он тоже читал лекции. В курсе использовались и многочисленные советы Л.И.Мандельштама. Учебник сыграл революционизирующую роль в принципиальном преобразовании подготовки физиков в нашей стране. Следует напомнить, чго основанный на других принципах, очень своеобразный курс Я.И.Френкеля, как и курс В.К.Фредерикса, содержащий много интересного, и переводные книги появились на 5–6 лет позже. Но даже и теперь, когда мы имеем совершенно оригинальный курс Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшица и другие пособия, книга И.Е.Тамма несомненно сохраняет свое особое место в нашей литературе. Она много раз переиздавалась у нас и за рубежом. Последний раз — в 1989 г.
30 Блэкетт П.М. (1897–1974) — английский физик, член и президент, с 1965 г., Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии.
31 Штерн О. (1888–1969) — немецкий физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии; Фриш О.Р. (1904–1979) — английский физик-экспериментатор (австрийского происхождения), член Лондонского королевского общества.
32 Бете Х.А. (р. 1906) — немецкий, с 1935 г. американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии.
33 Перрен Ж.Б. (1870–1942) — французский физик, член Парижской академии наук.
34 Алиханьян А.И. (1908–1978) — физик-экспериментатор, член-корреспондент АН СССР и академик АН АрмССР, организатор и директор Ереванского физического института. Лауреат Ленинской и Государственных премий.
35 Мигдал А.Б. (1911–1991) — физик-теоретик, ученик Л.Д.Ландау, академик АН СССР. Создал школу физиков-теоретиков.
36 На горе Алагез, вблизи Еревана, была создана научная станция по изучению космических лучей.
37 Алиханьян А.И.
38 Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е.Жуковского в Москве.
39 Хунд Ф. (р. 1896 г.) — немецкий физик-теоретик.
40 Андроников И.Л. (1908–1990) — писатель и литературовед, доктор филологических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий.
41 Мамасахлисов В.И. (1907–1972) — физик-теоретик, академик АН ГССР.
42 Харадзе К.К. (р. 1907) — астроном, академик АН СССР и РАН, академик АН Грузии.
43 Алиханов А.И. (1904–1970) — физик-экспериментатор, академик АН СССР и АН ГССР, организатор и директор Института теоретической и экспериментальной физики в Москве. Брат А.И.Алиханьяна.
44 Арцимович Л.А. (1909–1973) — физик-экспериментатор, академик АН СССР, в то время академик-секретарь Отделения общей физики и астрономии АН СССР.
45 Известным биологом — профессором А.Г.Гурвичем (1874–1954).
46 Андрусов Н.И. (1861–1924).
47 Стопами апостолов, (лат.)
48 Папалекси Н.Д. (1880–1947) — физик и радиотехник, академик АН СССР, с 1935 г. в ФИАНе. Со студенческих лег близкий друг Л.И.Мандельштама, с которым постоянно сотрудничал в области радиофизики и радиотехники.
49 Щеголев Е.Я. (1883–1956) — радиотехник, доктор технических наук, многолетний сотрудник Л.И Мандельштама и Н.Д.Папалекси.
50 Гессен Б М (1893–1938) — философ, член-корреспондент АН СССР Близкий друг И К.Тамма еще по Елизаветграду, погиб в заключении в 1936 г., посмертно реабилитирован.
51 Боровое — курорт в Казахстане, куда во время Великой Отечественной войны были эвакуированы некоторые пожилые и больные академики
52 Крылов А.Н (1863–1945) — математик, механик, создатель важных разделов науки о кораблестроении и судовождении, академик АН СССР Перевел основной труд Ньютона с латыни на русский язык.
53 См. Академик А.Н. Крылов Воспоминание и очерки. М Изд-во АН СССР, 1956, с 504 — Примеч авт.
54 Капица П.Л. (1894–1984) — физик-экспериментатор, автор теоретических работ, академик АН СССР, член многих зарубежных академий, лауреат Государственных и Нобелевской премий. Организатор (1935 г.) и директор Института физических проблем (ныне носящего его имя) в Москве. В 1921–1934 гг. работал в Англии у Резерфорда.
55 Гамов Д. (Георгий Антонович) (1904–1968) — физик-теоретик, до 1934 г. в СССР, с 1934 г. в США, член Национальной академии США.
56 Шредингер Э. (1887–1961) — один из создателей квантовой механики. Член многих академий, лауреат Нобелевской премии.
57 Полинг Л.К. (р. 1901) — американский химик, физик и биохимик, член Национальной академии США и академий наук ряда других стран. Лауреат Нобелевской премии по химии и Нобелевской премии мира.
58 Сыркин Я.К. (1894–1974) — химик, академик АН СССР, лауреат Государственной премии.
59 Дяткина М.Е. (1915–1972) — доктор химических наук.
60 См. воспоминания Н.В.Тимофеева-Ресовского в наст. кн.
61 Крик Ф. (р. 1916), английский физик, биофизик, и Уотсон Д.Д. (р. 1928), американский биохимик, — авторы «двойной спирали» — модели дезоксирибонуклей-новой кислоты (ДНК) как материального носителя наследуемых признаков. Лауреаты Нобелевской премии.
62 ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина.
63 Современному читателю нужно пояснить, что, как пишет БСЭ, «в 1936 и 1939 гг. имел место ряд острых дискуссий по методологическим проблемам теоретической биологии. В ходе этих дискуссий подверглись резкой, субъективной критике некоторые положения генетики и дарвинизма и основанные на них принципы селекции. Группа ученых (Т.Д.Лысенко и др.) отстаивала ошибочные, механистические взгляды на природу наследственности, видообразования, естественного отбора, органической целесообразности и др. ... После сессии ВАСХНИЛ (1948) (этой академией руководила указанная влиятельная в то время группа при прямой открытой поддержке ЦК КПСС и лично Сталина. — Ред.) обстановка особенно обострилась, исследования ряда направлений общей биологии полностью прекратились. Все это создало почву для распространения непроверенных фактов и гипотез. ...» и «сильно затормозило развитие в СССР генетики, эволюционного учения, цитологии, молекулярной биологии, физиологии, эволюционной морфологии, систематики и других отраслей. Коренная нормализация положения произошла в октябре 1964 г., когда были предприняты меры по восстановлению и развитию современного генетического и других направлений.... (Но и до этого, с конца 50-х годов, положение понемногу выправлялось. — Ред.). Это обеспечивает активное участие советской биологии в бурном развитии мирового естествознания. ...» (БСЭ. 3-е изд., т. 3, с. 352, стб. 1042. M., 1970). В настоящее время все рассказанное представляет собою лишь поучительный и печальный эпизод в истории советской науки.
64 Петровский И.Г. (1901–1973) — математик, академик АН СССР, лауреат Государственной премии.
65 Хайкин С.Э. (1901 –1968) — физик, радиофизик школы Л.И.Мандельштама, доктор физико-математических наук; в 1945–1955 гг. — в ФИАНе, где положил начало советской наблюдательной радиоастрономии. Друг И.Е.Тамма.
66 Физики-теоретики, впоследствии доктора физико-математических наук, работавшие в Отделе теоретической физики (ОТФ): Гольфанд Ю.А. (1922–1994) — работал в ОТФ в 1951–1973 гг.; Жарков Г.Ф. (р. 1926 г.) — с 1948 г.; Силин В.П. (р. 1925 г.) — с 1949 г., с 1949 г. заведует Отделом физики плазменных явлений, лауреат Государственной премии СССР, чл.-кор. РАН; Сыроватский СИ. (1925–1979) — с 1951 г. заведовал сектором динамики космической и лабораторной плазмы, лауреат Государственной премии (посмертно); Файнберг В.Я., Чернавский Д.С.
67 Ломсадзе Ю.М. (1924–1988) — аспирант ОТФ в 1948–1951 гг., впоследствии в Ужгородском государственном университете, затем в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова (г. Орджоникидзе) профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой.
68 Тер-Микаелян М.Л. (р. 1923) — физик-теоретик, академик АН АрмССР, организатор и директор Института физических исследований АН АрмССР под Ереваном. В 1 948–1952 гг. — аспирант ОТФ ФИАНа.
69 Фрадкин Е.С (р. 1924) — физик-теоретик, академик РАН, в 1948–1951 гг. аспирант, затем сотрудник ОТФ ФИАНа. Ныне заведует сектором квантовой теории поля. Лауреат Государственной премии.
70 Балдин A.M. (p. 1926) — физик-теоретик, академик АН СССР и РАН. В ФИАНе в 1949–1968 гг. Директор Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (Дубна). Лауреат Государственной премии.
71 Михайлов B.M. (1928–1953)
72 Рабинович М.С. (1919–1983) — физик-теоретик, аспирант ОТФ ФИАНа в 1944–1946 гг., затем сотрудник лаборатории В.И. Векслера, заведующий Лабораторией физики плазмы ФИАНа. Доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий.
73 Усачев Ю.Д. (1927–1990) — физик-теоретик, кандидат физико-математических наук, с 1950 г. аспирант, сотрудник лаборатории В.И. Векслера, затем Лаборатории электронов высоких энергий ФИАНа.
74 Векслер В.И. (1907–1966) — физик-экспериментатор, академик АН СССР. В ФИАНе с 1936 г., с 1949 — также в ОИЯИ. Директор Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. Лауреат Ленинской и Государственной премий, премии «Атом для мира» США.
75 В памяти В.Я.Файнберга этот эпизод запечатлелся несколько иначе, как видно из его воспоминаний, помещенных в этом сборнике. Расхождения относятся к существу замечаний В.Я.Файнберга на семинаре. Ознакомившись с моим вариантом, Файнберг сказал: «Может быть, ты и прав, хотя мне кажется, что речь шла о причинности, а не об эрмитовости». Я со своей стороны думаю, что физическое существо дискуссии точнее отражено у В.Я.Файнберга. Но и для него, и для меня в описываемом эпизоде важно на это, а проявившиеся здесь черты Игоря Евгеньевича. И в этом отношении наши воспоминания совпадают. — Примеч. авт.
76 Тамм И.Е. Собр. научн. трудов. М.: 1975, т. 2, с. 433. — Примеч. авт.
77 Под знаменем марксизма, 1933, № 2, с. 220–231. — Примеч. авт.
78 Там же, с. 233.
79 Не случайно кинорежиссер М.И.Ромм обратился к Тамму с просьбой о консультации во время работы над фильмом «Девять дней одного года». Об этом он рассказал в своих воспоминаниях (см.: Ромм М.И. Чистота видения. — в кн.: Экран, 1964. M.: Искусство, 1965). В письме к своему сотруднику Л.А.Инденбому М.И.Ромм писал: «Сам Тамм — любезнейший, старомодный интеллигент, ужасающе вежливый, подвижный и энергичный. Ему бы Синцова играть2. Тамм восхищался художественной стороной и тем, что физики похожи на физиков. Однако немножко предостерег, что многовато облученных...» (письмо хранится у сына Л.А.Инденбома, доктора физико-математических наук В.Л.Инденбома). — Примеч. авт.
80 Синцов — персонаж упомянутого фильма, физик-атомщик, гибнущий от облучения нейтронами.
81 Тамм И.Е., Франк И.М. — ДАН. 1937, т. 14, с. 107. — Примеч. авт.
82 Тамм И.Е. Собр. научн. трудов, т. 1, с.77. — Примеч. авт.
83 «Ликбез» — «ликвидация безграмотности» — лозунговое название широкой общественной и государственной кампании по обучению грамоте неграмотного взрослого населения в первые годы Советской власти.
84 См. воспоминания И.М.Франка, относящиеся к ФИАНу 30-х годов, в наст. кн.
85 Зрелов В.П. (р. 1937) — физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук, сотрудник ОИЯИ.
86 Академик ВАСХНИЛ, эндокринолог, основатель Государственного биологического музея им. К.А.Тимирязева (1895–1951).
87 О давних корнях интереса И.Е.Тамма к биологии (начиная с 1920 г.) см. воспоминания Н.А.Белоусовой и В.Я.Френкеля в наст. кн..
88 Гаврилов В.Ю. (1918–1973) — биофизик, радиобиолог (по образованию астроном), кандидат физико-математических наук, один из организаторов и начальник Отдела радиационной биологии Института атомной энергии (ныне Институт молекулярной генетики РАН). Лауреат Государственных премий.
89 Интерес к биофизике, прививавшийся в отделе Игорем Евгеньевичем, стал традиционным: уже после смерти Игоря Евгеньевича был создан сектор теоретических проблем биофизики, который возглавляет Д.С.Чернавский. Под его же руководством работает общемосковский семинар, поддерживается тесное научное сотрудничество с рядом биологических, биофизических и биохимических учреждений.
90 Бонгард M.M. (1924–1971) — биофизик и кибернетик, доктор физико-математических наук.
91 Ландау Л.Д. (1908–1968) — физик-теоретик, академик АН СССР, член многих зарубежных академий наук. С 1938 г работал в Москве, в Институте физических проблем Глава большой школы физиков-теоретиков Лауреат Ленинской, Государственных и Нобелевской премии. С И.Е.Таммом Л.Д.Ландау связывали дружеские отношения. Перед войной, когда теоретические группы Тамма и Ландау были малочисленными, на некоторое время установился порядок, согласно которому раз в неделю, по пятницам, поочередно либо Ландау со своими сотрудниками приезжал в ФИАН, либо Тамм со своими приезжал в ИФП для неформального, без какой-либо программы разговора о своих работах, планах, о состоянии исследования различных проблем и т.п. Эти встречи были прерваны войной (см. воспоминания Е.Л.Фейнберга в наст. кн.).
92 Одно английское издательство решило издать серию биографий Нобелевских лауреатов. В 1968 г. оно обратилось в Агентство печати «Новости» (АПН) за содействием. Позднее, уже после кончины Игоря Евгеньевича в 1971 г., от этого же издательства пришло повторное письмо в АПН с просьбой подыскать советского автора для работы над научной биографией И.Е.Тамма, а агентство переадресовало эту просьбу в Отдел теоретической физики ФИАНа. Отделом была выдвинута кандидатура доктора физико-математических наук Б.М.Болотовского и заключено соответствующее соглашение с агентством. Затем к Б.М.Болотовскому присоединился В.Я.Френкель, и они приступили к обработке материалов (Б.М.Болотовский многократно беседовал с И.Е.Таммом о его работах, в частности об истории создания теории эффекта Вавилова–Черенкова, а В.Я.Френкель расспрашивал его в процессе написания биографии Я.И.Френкеля и П.С.Эренфеста). Пока вышла только биографическая статья этих авторов в сборнике: Игорь Евгеньевич Тамм. М.: Знание, 1973.
93 Из любимого И.Е.Таммом стихотворения Б.Л.Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...» (см. ниже).
94 Английский художник, путешественник и поэт, создавший альбомы зарисовок многих стран, по которым он путешествовал (он называл себя «географическим художником»), а также юморист (XIX в.).
95 Письмо И.Е.Тамма П.Эренфесгу (24.1 1.1930). — Примеч. авт.
96 Ледерберг Д. — исследователь генетики микроорганизмов. Ледерберг и Тамм познакомились в 1958 г. в Стокгольме, где им вручались Нобелевские премии (см. воспоминания И.М.Франка в наст. кн).
97 Бор О. (р. 1922 г.) — физик-теоретик, сын Нильса Бора, возглавивший после его смерти институт Бора в Копенгагене, лауреат Нобелевской премии.
98 Вайскопф В. (р. 1908 г.) — австрийский, после 30-х гг. американский физик-теоретик. Член Национальной АН США и многих других академий. Был в дружеских отношениях с И.К.Таммом.
99 Паули В. (1900–1958) — швейцарский физик-теоретик, член многих академий наук, лауреат Нобелевской премии.
100 О «музыкальных моментах» жизни И.Е.Тамма рассказано в воспоминаниях В.Д.Конен в наст. кн.
101 Шамиль (1799–1871) возглавлял борьбу горцев Дагестана и Чечни против царских колонизаторов. В 1859 г. был взят в плен и поселен в Калуге, откуда в 1870 г. выехал в Мекку. Умер в 1871 г. в Медине.
102 У Игоря Евгеньевича по-французски: «Sans theorie on ne sait ni qu'on dit quand on parte, ni qu'on fait quand on agit». Этот афоризм, видимо, ему очень понравился. Придя в институт, он написал его по-французски на доске и подводил всех, спрашивая: «Понимаете?» (см. воспоминания Е.Л.Фейнберга в наст. кн.)..
103 Юность, 1956, № 8, с. 70—71. — Примеч. авт.
104 Когда Игорь Евгеньевич прочитал эти стихи в юбилейной статье, он в применении к себе прочел их по-новому. Его взволновал конкретный смысл формулировок Пастернака — он кинулся к авторам статьи спрашивать: «Тут сказано: “Но пораженья от победы ты сам не должен отличать...” — Что это значит? Как это?» Позднее у меня сложилось убеждение, что и строки о поражении и победе оказались чрезвычайно близки Игорю Евгеньевичу, его отношению к творчеству. Упорная работа одинаково может кончиться удачей или неудачей, и он никогда не останавливался ни на том ни на другом, т.е. в сущности, не различал их! Потерпев неудачу, вновь, еще упорнее, брался за дело (как, например, в 1928 г. в Голландии после месяцев, не увенчавшихся успехом, или в последние годы, когда не поддавалась теория). А одержав победу, всегда переходил на новый фронт, в новое наступление. — Примеч. авт.
105 Леонтович М.Л. (1903–1981) — физик-теоретик, академик АН СССР, ученик Л.И.Мандельштама лауреат Ленинской премии, Новиков П.С. (1901–1975) — математик, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, Парийский Н.Н. (р. 1900 г.) — астроном, член корреспондент АН СССР, Старокадомская Е.Я. (1898–1979) — физик, кандидат физико математических наук, Старокадомский М.Л. (1901–1954) — композитор. Марийская Л.В. — см. с. 420.
106 См. также воспоминания Л.В.Парийской в наст. кн.
107 Тамм Л.Е. (1901–1938) — крупный инженер-химик, работавший в Донбасе; в связи с процессом Пятакова обвинен во вредительстве и расстрелян
108 Приключения в горах: Альманах Кн. 1. М.: Физкультура и спорт, 1961, с. 45 — Примеч. авт.
109 Тихонов К.К. (1912–1973) — инженер, профессор Московского института инженеров транспорта, альпинист
2
110 См также воспоминания С.М.Рытова в наст. кн.
111 См воспоминания Е.А.Казаковой в наст. кн.
112 Негри Ада (1870–1945) — итальянская поэтесса. Ее поэзия была популярна в России в начале XX в.
113 В этом году И.Е.Тамму присвоили звание Героя Социалистического Труда.
114 Для Игоря Евгеньевича, как альпиниста в более молодые годы, это было бы чрезвычайно легкое восхождение, легче его только категория 1а (самая трудная по этой квалификации — 5б). Таким образом, в официальной справке можно усмотреть и элмент юмора.
115 О том, что значит тройка по латинскому языку, см. воспоминания Ф.В.Никитина в наст. кн.
116 Любопытная описка молодого И.Е.Тамма: в тексте драмы — «рабочий» (см. Андреев Л. Избранное. M., 1959, с. 55). Первое свидетельство о его знакомстве с марксистской терминологией.
117 Любопытно, что до 1950–1960-х годов появление Homo sapiens датировали обычно не более чем 100 тысячами лет и только в начале 1970-х годов, после находок Лики в Восточной Африке и уточнения возраста яванских находок, граница появления Homo sapiens приблизилась к 1,9–2,1 млн лет! — Примеч. авт.
118 Гед Ж. (1845–1922) — деятель французского и международного социалистического движения.
119 Уиттекер Э.Т. (1873–1956) — английский математик, член Лондонского и Эдинбургского королевских обществ.
120 См. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти на Украине, ч.1. Киев: Политиздат Украины, 1977, с. 516. «На собрании объединенной социал-демократической организации большевики объявили о создании большевистской фракции и о предоставлении ей автономии» (Известия Елизаветградского Совета рабочих и солдатских депутатов, № 86, 1917, 17 сент.). — Примеч. авт.
121 Письмо Л.С.Штерна (г. Херсон, 19.XII 1953 г.). Л.С.Штерн ошибся, на самом деле у И.Е. был партийный псевдоним «Товарищ Егор». — Примеч. авт.
122 Будучи меньшевиком-интернационалистом, И.Е.Тамм выступал против меньшевиков-оборонцев, поддерживавших войну, и потому часто оказывался вместе с большевиками. — Примеч. авт.
123 «Трудовой список», запись 1. Все приводимые здесь даты и выписки, касающиеся 1919–1920 гг., привожу по «Трудовому списку» И.Е.Тамма, составленному Научно-исследовательским институтом физики МГУ (42 записи на пяти листах) 2.XII. 1932 г, , и по удостоверениям и справкам, приложенным к нему. Копия списка и другие материалы, не отмеченные сносками, хранятся в архиве семьи. — Примеч. авт.
СРКСД — Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
124 Известия, 1917, 20 июня; 21 июня — Примеч. авт.
125 «Трудовой список», запись 2. — Примеч. авт.
126 Паустовский К.Г. Собр. соч. M., 1958, т. 3, с. 567—788. — Примеч. авт.
127 Впоследствии, до начала 90-х гг., ул. Герцена. — Примеч. авт.
128 «Трудовой список», запись 3. — Примеч. авт.
129 В.И.Ленин выступал на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию дважды — 6 и 19 мая. (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 38). Рассказ Игоря Евгеньевича относится ко второму выступлению Ленина, а не к его приветственной речи съезду. — Примеч. авт.
130 После отхода советских частей на север командующим деникинскими войсками генералом Бредовым в Киеве была объявлена «мобилизация всех мужчин до 40-летнего возраста». — Примеч. авт.
131 Цитирую по черновику письма — Примеч. авт.
132 К своей двоюродной сестре Марии Аркадьевне и ее мужу Вадиму Смушкову. Гостиница «Метрополь» в то время была превращена в один из «Домов Советов», в которых предоставлялись комнаты руководящим советским и партийным работникам.
133 Б.М Гессен и Б.М.Завадовский — Примеч. авт.
134 Предводителев А.С. (1891 — 1973) — физик, член-корреспондент АН СССР. С 1915 г работал в Московском университете, с 1930 г. — профессор, в 1937–1946 гг. — декан физического факультета и директор НИИФизики.
135 «Очень хорошей» (нем ) (или «значительной», «основательной»). Эти слова Эйнштейна сообщил И.Е.Тамму П. Эренфест. — Примеч. авт.
136 Elektrodynamik der anisotropen Medien in der speziellen Relativitatstheorie (In Gemeinschaft mit L.I. Mandelstam). — Math. Ann., 1925, Bd. 95, H. 1, S. 154–160. — Примеч. авт.
137 Zur Quantentheorie des Paramagnetismus. — Ztschr. Phys., 1925, Bd. 32, H. 18, S.582–595, Taf. — Примеч. авт.
138 Лазарев П.П. (1878–1942) — физик и биофизик, академик АН СССР. В 1921 — 1931 гг. организатор и директор Института физики (с 1927 г. Ин-т физики и биофизики), помещавшегося в здании на Миусской пл. в Москве, которое в 1934–1951 гг. было предоставлено ФИАНу.
139 Иоффе А.Ф. (1880–1960) — физик и организатор науки, академик АН СССР и член многих зарубежных академий, организатор и директор Ленинградского физико-технического института (с 1923 г.), а также организатор физико-технических институтов в Харькове, Днепропетровске, Свердловске и Томске. Лауреат Ленинской и Государственной премий.
140 Фрумкин А.Н. (1895–1976) — физико-химик, академик АН СССР, лауреат Государственных премий.
141 В Главэлектро И.Е.Тамм проработал несколько лет (с 1922 по 1927 г.), совмещая эту работу с преподаванием физики и теоретическими исследованиями. Здесь он занимался уже в основном теоретическими разработками по прикладной тематике.
142 Сноу Ч.П. (1905–1980) — английский писатель, много писавший о науке, по образованию физик, в 1930–1939 гг. работал у Резерфорда.
143 Сноу Ч.П. Две культуры. M.: Прогресс, 1973, с. 134–135. — Примеч. авт.
144 Фоккер А.Д. (1887–1972), Крамерс Х.А. (1894–1952), де Крониг Р.Л. (р. 1904) — голландские физики-теоретики.
145 Яковлева В.И. — близкая знакомая семьи Таммов.
146 Для осмотра достопримечательностей. (англ.)
147 Делоне Б.Н. (1890–1980) — математик, член-корреспондент АН СССР, член академии Леопольдина, один из старейших советских альпинистов. И.Е.Тамм неоднократно ходил с ним в горы.
148 Мотт Н.Ф. (р. 1905), Гэрни Р.У. (1899–1953) — английские физики; Морс Ф.М. (р. 1903), Хустон У. (1900–1968), Деннисон Д.М. (1900–1976), Дикэ (непутать с Дикке Р., р. 1916) — американские физики.
149 Зоммерфельд А. (1868–1951) — немецкий физик-теоретик, создатель крупной школы, член многих академий наук.
150 Нобелевские лекции. М.: Физматгиз, 1960. — Примеч. авт.
151 Тамм И.Е., Франк И.М. Когерентное излучение быстрого электрона в среде. — Compt. rend. Acad. sci. URSS, Moscou, 1937, vol. 14, N 3. — Примеч. авт.
152 Sommerfeld A. — Götting. Nachr., 1904, Bd. 99, S. 363; Klein F., Sommerfeld A. Theorie des Kreisels. Leipzig, 1910, Bd. 4. — Примеч. авт.
153 Игра слов: распространенное в теоретической физике понятие «предельный переход» по-немецки выражается словом «Grenzubergang», означающем также «переход границы». — Примеч. авт.
154 Из стенограммы выступления на коллоквиуме в Институте биофизики АН СССР 30. X. 1956 г. — Примеч. авт.
155 Насонов Д.Н. (1895–1957) — цитофизиолог, член-корреспондент АН СССР, академик АМН СССР, в 1957 г. директор Института цитологии АН СССР.
156 Из стенограммы лекции Игоря Евгеньевича в ЛГУ 23.X.1957 г., с. 1–2.— Примеч. авт.
157 Одна по мирному использованию атомной энергии, вторая — по физике высоких энергий. — Примеч. авт.
158 Мёллер К. (1904–1980) — датский физик-теоретик, член датской, шведской и норвежской академий. Розенфельд Л. (1904–1974) — бельгийский физик-теоретик, член ряда академий наук; Маршак Р. (1916–1994) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США. Саката С. (1911–1970) — японский физик-теоретик.
159 Особое отношение к Игорю Евгеньевичу со стороны физиков и самого Юкавы на этой конференции объяснялось тем, что отправным пунктом мезонной теории Юкавы послужила работа Тамма «Обменные силы между нейтронами и протонами и теория Ферми» (Тамм И.Е. Собр. науч. трудов, 1975, т. 1, с. 287–288). — Примеч. авт.
160 Игорь Евгеньевич любил повторять слова Бора, что истинно новая теория должна поначалу казаться сумасшедшей, безумной (crazy). В Киото Тамм сделал доклад «О кривом импульсном пространстве», который закончил обращением к участникам: «Благодарю вас за внимание к столь проблематичным и безумным идеям» (Тамм И.Е. Собр. науч. трудов. М., 1975, т. 2, с. 218–225) — Примеч. авт.
161 Sakata, Maki, Ohnukl Remarks on a new concept of elementary particles and the method of the composite model. — In: Proc. Intern. Conf. on Elementary Particles, Kyoto, 1965. Kyoto, 1966, p. 109–118. — Примеч. авт.
162 Sakata, Maki, Ohnuki. — In: Proc. Intern. Conf. on Elementary Particles. Kyoto, 1966, p. 110.
163 В научную комиссию Института Сольвея в 1967 г. входили: Амальди, Брэгг, Гортер, Гейзенберг, Мёллер, Перрен, Тамм, Томонага и Жейенье (секретарь).
Амальди Э (р. 1908) — итальянский физик-экспериментатор, член ряда академий. Брэгг Л. (1890–1971) — английский физик, Нобелевский лауреат («Брэгг-сын»), Томонага С. (1906–1979) — японский физик-теоретик, член Японской и ряда других академий наук, Нобелевский лауреат. Жейенье Ж. — бельгийский физик-теоретик, постоянный секретарь Сольвеевских конгрессов.
164 Гелл-Манн М. (р. 1929) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США, Нобелевский лауреат Вейцзеккер К.Ф. фон (р. 1912) — немецкий физик-теоретик и астрофизик Чу Д. (р. 1924) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США Вигнер Ю. (1902–1995) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США и ряда других академий, Нобелевский лауреат Лоу Ф. (р. 1921) — американский физик-теоретик, член Национальной АН США.
165 Стенограмма VI Междунар. Пагуошской конф. ученых, с. 34–36. — Примеч. авт.
166 Rotblat J. Pugwash: A history of the conferences on science and world affairs. — Czechosl. Acad. Sci., 1967, p. 42 (Ротблат — английский ученый-ядерщик, Генеральный секретарь Пагуошского постоянного комитета).
167 Гимн был сочинен Игорем Евгеньевичем по-русски, а на конференции он прочитал его, сразу же переводя на английский. — Примеч. авт.
168 Шубин С.П. (1908–1938) — в годы массовых репрессий был арестован как «враг народа» и вскоре расстрелян.
169 Брэгг-отец Г. (1862–1942) — английский физик, член Лондонского королевского общества и ряда академий, удостоен Нобелевской премии вместе с сыном Лоуренсом. Фаулер Р.Г. (1889–1944) — английский физик-теоретик, член Лондонского королевского общества.
170 Блох Ф. (р. 1905) — швейцарский (до 1934), затем американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, член многих академий.
171 Хаббард Д. (1931 — 1980) — английский физик-теоретик.
172 См. также воспоминания С.А.Альтшулера в наст. кн.
173 Вейль Г. (1885–1955) — немецкий математик, с 1939 г. в США. Нейман Д. (Янош) фон (1903–1957) — американский математик и физик-теоретик венгерского происхождения. Член многих академий.
174 Шур Я.С. (1908–1986) — физик, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии.
175 ИФП — Институт физических проблем АН СССР, которым руководил его организатор академик П.Л.Капица.
176 ЛФТИ — Ленинградский физико-технический институт АН СССР, которым руководил основавший его академик А.Ф.Иоффе.
177 Кондорский Е.И. (р. 1908) — физик, профессор МГУ, лауреат Государственной премии.
178 Кикоин И.К. (1908–1984) — физик-эксперементатор, академик АН СССР, лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
179 Лукирский П.И. (1894–1954) — физик-экспериментатор, академик АН УССР.
180 Проблемы теоретической физики: Сборник памяти И.Е.Тамма. М.: Наука, 1972. — Примеч. авт.
181 Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971), 2-е изд., доп. М., 1974 (Материалы к библиографии ученых СССР. Сер. физ., вып. 16). — Примеч. авт.
182 Тамм И.Е. Собр. науч. трудов: В 2-х т. М.: Наука, 1975. — Примеч. авт.
183 Тамм Е.И. Основы теории электричества. 10-е изд. М., 1989. — Примеч. авт.
184 Настоящая статья была опубликована в журнале «Природа» (1975, № 3, с. 65). В текст внесены некоторые изменения и дополнения. — Примеч. авт.
185 Под знаменем марксизма, 1933, № 2. — Примеч. авт.
186 Докторантура — просуществовавшая недолгое время (лет 10) форма «повышенной аспирантуры». В докторантуру зачислялись на два года лица, имевшие ученую степень кандидата, для подготовки докторской диссертации.
187 ЖЭТФ — «Журнал экспериментальной и теоретической физики», центральный отечественный журнал по физике.
188 Как сообщил мне Л.И. Бернский (внук И.Е.Тамма), в бумагах Игоря Евгеньевича имеется несколько переписанных от руки стихотворений «из Хайяма» (без указания источника). Одно из них приведено даже в трех вариантах, из которых один таков:
|
Над чашею пустой порой сидим одни, — Без песен, без любви бредут уныло дни... Но как же так, аллах?! Ведь в книге жизни Как полноценные нам зачтены они? — Примеч. авт. (См. воспоминания Л.И.Бернского в наст. кн.). |
189 Написано в 1975 г.
190 Так сначала назывался секретный институт И В Курчатова (впоследствии Лаборлория измерительных приборов АН СССР — ЛИПАН), ставший позже Институтом атомной энергии.
191 Первое Главное Управление при Совете Министров СССР управляло всеми делами по «атомной проблеме» (его возглавлял Борис Львович Ванников (1897–1962), А.П.Завенягин был его заместителем). Оно подчинялось Спецкомитету, который возглавлял Л.П.Берия.
192 Сокращенный вариант воспоминаний Д.С.Данина, написанных для данного сборника, см.: Наука и жизнь, 1977, № 10.
193 См. воспоминания С.В.Вонсовского в наст. кн.
194 Рубинин П.Е. (р. 1925) — сотрудник Института физических проблем.
195 Об этом научном семинаре см. воспоминания Л.А.Блюменфельда, а также Н.В.Тимофеева-Ресовского в наст. кн.
196 Сказкин С.Д. (1890-1973) — историк, академик АН СССР.
197 См. сноску на с. 46.
198 Говорю в сослагательном наклонении, потому что стенографический отчет о Бруклинской конференции с выступлением Виктора Вайскопфа был опубликован только в 1972 г., когда И.Е.Тамма уже не было в живых. — Примеч. авт.
199 Гейтлер (Гайтлер) В.Г. (1904–1981) — немецкий, швейцарский физик-теоре тик Член ряда академий.
200 Не привожу здесь «боровских рассказов» Игоря Евгеньевича. Наиболее интересные из них вошли в мою книгу «Нильс Бор» (М: Мол. гвардия, 1978.560 с.) — Прим. авт.
201 Маргарет Бор (р. 1890) — жена Нильса Бора.
202 Оригинал по-английски. — Примеч. авт.
203 Написано до кончины С.Л.Альтшулера в 1983 г.
204 Дерягин Б.В. (1902–1994) — физикохимик, уже тогда член-корреспондент АН СССР; Лукомский С.М. (р. 1909) — инженер-технолог, кандидат технических наук; Ведеников Г.С. (р. 1914) — инженер-строитель, кандидат технических наук.
205 Мата (перс. мато—тадж.) — название кустарной материи, обрывки которой находили у основания горы Таш-камень. Очевидно, их выдувал ветер из гнезд орлов. — Примеч. авт.
206 Туркестанские ведомости. 1898, № 92; Известия Туркестанского отдела Российского Императорского Географического общества, 1915, т. II, вып. 2, ч. 2. — Примеч. авт.
207 Пересказываю в сокращенном виде. — Примеч. авт.
208 Федоров Н.Н. (р. 1914) — радиоинженер, тогда кандидат, ныне доктор технических наук. Остальные упоминаемые ниже члены экспедиции — альпинисты: Шляпцев Б.С. (р. 1925) — инженер-конструктор; Андреев А.П. (р. 1924) — рабочий-фрезеровщик; Ивкин А.С. (р. 1928; ниже упоминается как Леша) — рабочий-электромонтер; Стрелецкий Ю.В. (р. 1928; упоминается как Юра) — инженер-механик; Буравцев Л.В. (р. 1926; упоминается как Леня) — инженер-механик.
209 Кастерс Н. Десять лет под землей. M., 1956. — Примеч. авт.
210 В Москве археолог А.Н.Зелинский любезно расшифровал наши находки. Амулет и оселок относятся к VI—V вв. до нашей эры — сакскому периоду культуры. Пряжка конской упряжи была отнесена к поздней сакской культуре, II—I вв. до нашей эры. Эти находки позволяют несколько расширить на север область распространения сакской культуры на археологической карте Памира.
211 Компанеец А.С. (1914–1974) — физик-теоретик, ученик Л.Д.Ландау, доктор физико-математических наук.
212 Поясним для читателя-неспециалиста, что поляризация вакуума — фундаментальное явление микромира, характерный масштаб которого в сто раз меньше размера атома. С вакуумной техникой это явление не имеет ничего общего, кроме созвучия в названии.
213 См. также воспоминания В.Я.Файнберга в наст. кн.
214 Речь идет, разумеется, о его временном переезде (вместе с А.Д.Сахаровым) в Арзамас-16 для участия в создании водородного оружия.
215 Академика Ю.Б.Харитона.
216 Кюри П. (1859–1906) — французский физик, лауреат Нобелевской премии.
217 Б.Г.Кузнецов являлся до своей кончины председателем этого комитета.
2181 Бройль Л. де (р. 1892) — французский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики; лауреат Нобелевской премии и член многих академий.
219 Погребысский И.Б. (1906–1972) — математик, историк математики, доктор физико-математических наук.
220 Вижье Ж.П. — французский физик-теоретик, сотрудник Л. де Бройля. Бом Д Д. (р. 1907) — американский физик-теоретик.
221 Тонелля M.A. (1912–1980) — французский физик-теоретик и историк науки.
222 Григорян А.Т. (р. 1910) — историк механики, доктор физико-математических наук.
223 Туполев А.Н. (1888-1972) — авиаконструктор, академик АН СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий.
224 Несколько видоизменены слова Ньютона из его письма Гуку: «Я вижу дальше, потому что стою на плечах гигантов».
225 Учебник Краевича для гимназий был самым распространенным учебником физики в России начала XX в.
226 Оствальд В.Ф. (1853–1932) — немецкий физикохимик и философ, лауреат Нобелевской премии и член ряда академий. Делил ученых по характеру их творчества на классиков и романтиков.
227 Померанчук И.Я (1913–1966) — физик-теоретик, ученик Л.Д.Ландау, академик АН СССР, в 1940–1943 гг. работал в ОТФ ФИАНа, лауреат Государственных премий
228 Гельфанд И.М. (р. 1913) — математик, академик АН СССР, лауреат Государственных премий, член многих зарубежных академий.
229 Руськин В.И. (р. 1934) — физик-теоретик, кандидат физико-математических наук.
230 Воспоминания/Пер. с анг. И.М.Дремина.
231 Ландсберг-Барышанская Ф.С. (р. 1900) — физик-экспериментатор, кандидат физико-математических наук.
232 Исакович M.A. (1911–1982) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук; Исакович (Арнольд) Н.А. (1909–1986) — искусствовед; Исакович (Райская) Н.А (1913–1988) — физик.
233 Андронов А. А. (1901–1952) — физик-теоретик, один из основателей теории автоколебаний и регулирования, академик АН СССР. Создал свою школу.
234 Горелик Г.С. (1906–1957) — физик-теоретик и экспериментатор, доктор физико-математических наук; Стрелков С.П. (р. 1905) — физик, доктор физико-математических наук, ученики Мандельштама; Владимирский В.В. (р. 1915) — член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий.
235 С перечисленными выше учеными С.И.Вавилова связывали многолетние дружеские отношения и совместная работа. В частности, именно С.И.Вавилов сыграл важную роль в приглашении Л.И.Мандельштама в Московский университет (см.: Сергей Иванович Вавилов: Очерки и воспоминания. М.: Наука, 1979, с. 153, 155 и др.).
236 Арнольд В.И. (р. 1937) — математик, академик РАН, лауреат Ленинской премии.
237 Зельдович Я.Б. (1914–1987) — физик-теоретик, астрофизик, академик АН СССР, член ряда зарубежных академий. Лауреат Ленинской и Государственных премий.
238 Иваненко Д.Д. (1904–1994) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии.
239 Лейпунский А.И. (1903–1972) — физик-экспериментатор, академик АН УССР, лауреат Ленинской премии.
240 Флеров Г Н. (1913–1990) — физик-экспериментатор, академик АН СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий.
241 Петржак К.А. (р. 1908) — физик и радиохимик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственных премий.
242 Харитон Ю.Б. (р. 1904) — физик-экспериментатор, академик АН СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий.
243 Ферми Э. (1901–1954) — итальянский физик-теоретик и экспериментатор, лауреат Нобелевской премии, член многих академий. В его честь назван 100-й элемент (фермий).
244 Казимир X. (р 1909) — голландский физик-теоретик Член Нидерландской АН и ряда других академий.
245 О высокой оценке И.Е.Таммом деятельности В.Ю.Гаврилова пишут также В.Я.Френкель и Б.М.Болотовский в наст. кн.
246 Пауэлл С.Ф. (1903–1969) — английский физик-экспериментатор, член Лондонского королевского общества и академий многих стран, лауреат Нобелевской премии.
247 Витт А.А. (1902–1937) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. Ученик Л.И.Мандельштама. Погиб в заключении.
248 Блохинцев Д.И. (1908–1979) — физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР, член ряда зарубежных академий, лауреат Ленинской и Государственных премий. В 1935–1947 гг. сотрудник ОТФ ФИАНа.
249 Галанин А.Д. (р. 1916) — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии.
250 Существует любительская фотография, на которой зафиксирован И.Е.Тамм в воздухе во время прыжка, однако качество ее очень низкое, и воспроизвести фотографию в книге невозможно.
251 Ледоруб Дирака от Игоря Евгеньевича перешел ко мне. Им я пользуюсь до сих пор. — Примеч. авт.
252 Отрывок из книги А.Д.Сахарова «Воспоминания». Опубликовано, в частности, в журнале «Знамя», № 11, 1990 г., с. 145–151.
253 Так в прежние времена, в целях сохранения секретности, говорили о ядерном центре Арзамас-16.
254 На I Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов в июне 1917 г.
255 Неточно. Голосование было против одобрения нового наступления на фронте, начатого правительством Керенского.
256 Клавдия Алексеевна, первая жена А.Д.Сахарова, скончавшаяся в 1969 г.
257 Написано для стенгазеты ФИАНа по случаю смерти И. Е.Тамма (апрель 1971 г.).
258 Кольцов Н.К. (1872–1940) — биолог, генетик, член-корреспондент АН СССР.
259 Четвериков С.С. (1880— 1959) — биолог.
260 Меллер Г.Д. (1890— 1967) — американский генетик. Член ряда академий, лауреат Нобелевской премии.
261 Дельбрюк M (р. 1906) — американский (до 1937 г. — немецкий) физик-теоретик, генетик, вирусолог, член Национальной АН США, лауреат Нобелевской премии (по биологии).
262 Ляпунов А А. (1911–1973) — математик, член-корреспондент АН СССР.
263 См. сноску на с. 46.
264 Этот эпизод вряд ли будет понятен современному читателю без пояснений. В первой половине 30-х годов в нашей высшей школе происходили поиски новых форм учебного процесса, иногда принимавшие нелепые формы, вскоре устраненные и забытые. Так, года два господствовал «бригадно-лабораторный метод»: каждая группа студентов разбивалась на «бригады» по 4–6 человек, изучавших учебный материал совместно (число общих лекций было резко сокращено). Экзамены или зачеты сдавались тоже совместно, на вопрос экзаменатора мог отвечать любой член бригады по ее выбору, и если он отвечал хорошо, то вся бригада получала хорошую оценку. Затем ввели порядок, когда оценки, выставляемые студентам профессорами, корректировались представителями студенчества («треугольником» группы — староста, парторг, профорг). Они могли снизить эту оценку, если студент проявлял себя плохо, например, в общественном поведении, или, наоборот, повысить ее, например, если студент пришел из рабочей или крестьянской среды со слабой подготовкой, но относительно быстро (хотя, по мнению профессора, недостаточно) повышал свои знания. Были даже (совсем уже недолго) экспериментальные группы «на хозрасчете»: группа получала определенный денежный лимит на оплату преподавателей и сама решала, как использовать его и кого именно пригласить для чтения лекций. Подобные эксперименты, имевшие целью взять под контроль «реакционно настроенных профессоров», обладали некоторыми положительными чертами («активные методы обучения»), но в целом быстро обнаружили несостоятельность и были отменены. Подконтрольность и как бы недоверие, естественно, оскорбляли людей вроде Игоря Евгеньевича, вся педагогическая страсть которых (как это было очевидно любому) имела одно стремление: дать студенту максимум знаний, зажечь его, ввести в науку, приобщить его к ней. Поэтому, возможно, смешная реакция Игоря Евгеньевича на выговор старосты группы, о которой пишет И.Л.Фабелинский, может быть объяснена и по-другому: его оскорбляла ситуация подобной подконтрольности.
265 Воспоминания о Я.И.Френкеле. Л., 1976, с. 243 (см. также воспоминания В.Я.Френкеля в наст. кн.).
266 Рэлей Д.У. (1842–1919) — английский физик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии.
267 Тамм И.Е. Собр. науч.трудов. M.: Наука, 1975, т. 2, с. 100 (J.Phys., 1945, vol. 9, № 6, р.449). — Примеч. авт.
268 См. воспоминания ЕЛ.Фейнберга в наст. кн.
269 Тамм И.Е. Собр.науч. трудов, т. 2, с. 136 (ЖЭТФ, 1954, т. 26, с. 649). — Примеч. авт.
270 Келдыш M.B. (1911–1978) — математик, академик АН СССР, президент АН СССР (1961–1975), член ряда зарубежных академий, лауреат Ленинской и Государственной премий.
271 Шура-Бура M.P. (р. 1918) — математик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии.
272 Швингер Д. (1918–1994), Фейнман Р. (1918–1988) — американские физики-теоретики, члены Национальной АН США и многих других академий, лауреаты Нобелевской премии.
273 Леман Г., Циммерман В., Симанзик К. — немецкие физики-теоретики. Снайдер — английский физик-теоретик.
274 Heisenberg W. — Ztschr. Naturforsch., 1950, Bd. 5a. S. 251, 367.
275 См. об этом эпизоде воспоминания Б.М.Болотовского в наст. кн.
276 Американский центральный физический журнал «Physical Review».
277 Выражение, принятое у немецких физиков в те времена, когда там бывал Игорь Евгеньевич. Он его очень любил. Оно означало довольно безответственную и сырую идею, возникшую во время свободной болтовни за кружкой пива.
278 Чуковский К.И. Современники. M.: Мол. гвардия, 1962. 704 с. (Сер. «Жизнь замечательных людей»).
279 Оно, конечно, всем известно, но все же приведем его здесь, чтобы было понятнее, что именно имел в виду Игорь Евгеньевич:
|
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить, Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей Другой пример на память мне приводит: Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако ж прав упрямый Галилей. — Примеч. авт. |
280 См. воспоминания В.Д.Конен в наст. кн.
281 См. воспоминания С.А.Альтшулера в наст. кн.
282 Вообще, стоит заметить, какая-либо похвальба со стороны Тамма была совершенно невозможна (разве только шуточная — во время игры в волейбол и т.п.). Никогда не слышал от него, чтобы при каком-либо научном сообщении он вставил: “Я это раньше говорил” или что-нибудь еще более скромное в том же роде. Это было и его личной, и семейной органической чертой. Однажды его внук, вернувшись из детского сада, на вопрос деда, чем они там занимались сегодня, ответил: «Плели корзиночки» и неосторожно добавил: «Моя корзиночка была лучше всех!» Всеобщий хохот закрепил эту фразу навсегда. Внук вырос, он уже сам отец, и Игоря Евгеньевича уже нет, но фраза «Моя корзиночка была лучше всех» живет в семье как характеристика хвастуна до сих пор. — Примеч. авт.
283 Тамм Е.И. (р. 1926) — физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук, сотрудник ФИАНа с 1949 г. Лауреат Государственной премии. Заслуженный мастер спорта (альпинизм). В 1982 г. возглавлял советскую экспедицию на Эверест.
284 Попова Л.М. — врач, доктор медицинских наук, заведовавшая отделением Института неврологии Академии медицинских наук СССР.
285 Разумеется, в действительности это был хотя и исключительный, но не единственный случай психологической устойчивости. Но обычно известная уравновешенность если и приходит, то много позже.
286 Скобельцын Д.В. (1892–1990) — физик-экспериментатор (автор и теоретических работ), академик АН СССР. Лауреат Ленинской и Государственной премий. В 1951–1972 гг. директор ФИАНа (сотрудник ФИАНа с 1940 г.).
287 См. воспоминания С.М.Райского в наст. кн.
288 Бреховских Л.М. (р. 1917) — физик-теоретик, академик АН СССР. В то время (1946) кандидат физико-математических наук, сотрудник ФИАНа. Лауреат Ленинской и Государственных премий.
289 Он с горьким юмором вспоминал приказ, который отдавал Наполеон во время египетской кампании при нападении мамелюков: «Построиться в каре, ослы и ученые — в середину» (ослы — драгоценный транспорт, ученые сопровождали экспедицию). — Примеч. авт.
290 См. воспоминания С.М.Райского в наст. кн.
291 См. воспоминания В.А.Крайнина в наст. кн.
292 Миткевич В.Ф. (1872–1951) — электротехник, академик АН СССР, лауреат Государственной премии.
293 Эти оппоненты утверждали, что механическое перемещение вещества — необходимый первичный элемент любого материалистически понимаемого физического процесса. В действительности же изменение электромагнитного поля сопровождается перемещением запасенной в пустоте энергии даже без присутствия в этом пространстве каких-либо тел. — Приметает.
294 Ср. с изложением этого эпизода у В.Ф.Миткевича в его книге «Основные физические воззрения» (1936, 2-е изд., с. 161); см. также: Изв. АН СССР. Сер. физ., 1936, № 1–2, с.И8.
295 Несмеянов А.Н. (1899–1980) — химик, академик АН СССР, президент АН СССР (1951–1961), член ряда зарубежных академий, Лауреат Ленинской и Государственной премий.
296 Понтекорво Б.М. (1913–1994) — физик-экспериментатор, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии.
297 Семенов Н.Н. (1896–1986) — физик и химик, академик АН СССР и член многих зарубежных академий, лауреат Государственной и Нобелевской премий.
298 Эти строки были написаны, когда мне не было еще известно высказывание Л.Д.Ландау, приводимое С.А.Альтшулером — Примеч. авт.
299 Гессен Борис Михайлович (1936–1989) — друг Игоря Евгеньевича с гимназических лет. См. сноску на с. 39.
300 Шубин Семен Петрович (1908–1938) — талантливый физик-теоретик, ученик Мандельштама, затем Тамма, доктор физико-математических наук.
301 Шпильрейн Ян Николаевич — доктор технических наук.
302 Френкель Яков Ильич (1894–1952), известный физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР.
303 Харитон Ю.Б., Адамский В.Б., Романов Ю.А., Смирнов Ю.Н. «Игорь Евгеньевич Тамм глазами физиков Арзамаса-16». См. в наст. кн., а также в журнале «Природа», 1995, №7.
304 Написано для настоящего сборника. Впервые опубликовано в «Вестнике Академии наук СССР» (1978, № 7, с. 105–115) под названием «Игорь Евгеньевич Тамм — воспоминания разных «лет».
305 Канторович Л В (1912–1986) — математик, экономист, академик АН СССР и член ряда зарубежных академий, лауреат Ленинской, Государственной и Нобелевской (по экономике) премий.
306 Я рассказал об этом в статье сборника, посвященного памяти И.Е.Тамма. Проблемы теоретической физики. М. Наука, 1972, с. 362–363. См. также наст. кн.
307 См. в кн.: Проблемы теоретической физики, с. 365. — Примеч. авт.
308 Рейнвотер Д. (р. 1917) и Моттельсон Б. (р. 1926) — соответственно американский и датский физики, члены соответствующих национальных академий, Нобелевские лауреаты.
309 Она опубликована в кн.: Игорь Евгеньевич Тамм. Сб. статей. M.: Знание, 1973. — Примеч. авт.
310 Ферми Л. — жена Энрико Ферми, автор книг «Атомы у нас дома» и др.
311 Точнее, Сигбан К. (р. 1918) — шведский физик-экспериментатор, член Шведской и многих других академий, лауреат Нобелевской премии.
312 Хюльтен Е. (р. 1891) — шведский физик-теоретик, Валлер И. (р. 1898) — шведский физик-теоретик, члены Шведской АН и члены Нобелевского комитета.
313 Полагаю, что удивить меня плохим жильем было трудно, так как я сам в то время вообще не имел постоянного пристанища и относился к этому равнодушно: снимал угол, спал на диване в зубоврачебном кабинете, а одно время даже на столе читального зала детской библиотеки, когда она бывала закрыта. — Примеч. авт.
314 Проблемы теоретической физики, с. 352. — Примеч. авт.
315 Здесь приведены с некоторыми уточнениями фрагменты из работы И.М.Франка «О когерентном излучении быстрого электрона в среде», на которую он неоднократно ссылается в предшествующей статье (полностью опубликована в книге: Проблемы теоретической физики. Сборник памяти И.Е Тамма. М.: Наука, 1972, с. 352–378). В статье рассказано о совместной с Таммом работе, за которую ее авторы удостоены Нобелевской премии.
316 Статьи С.И.Вавилова и П А.Черенкова, мне кажется, следует рассматривать как две части одной общей работы — экспериментальную и теоретическую. Что касается цвета свечения, то, как выяснилось позже, его спектр уже был известен, хотя никто из нас об этом не знал. Фотографии спектра были получены в работах Малле (1926–1929 гг.), наблюдавшего свечение ряда жидкостей и отметившего необычность его свойств. Теперь же голубое свечение воды обычно показывают экскурсантам, знакомящимся с атомными реакторами. — Примеч. авт.
317 Разумеется, это относится и к С.И.Вавилову. Со свойственной ему физической интуицией С.И.Вавилов отнесся с живым интересом к этой идее, ожидая ее дальнейшего развития. — Примеч. авт.
318 Движение электрона со скоростью, большей скорости света в пустоте, было рассмотрено Зоммерфельдом еще в 1904–1905 гг. Было показано, что если было бы возможно V > c, то электрон непрерывно излучал бы свет. Однако невозможность V > c привела к тому, что работы Зоммерфельда оказались забытыми. О них вспомнил А.Ф.Иоффе при обсуждении нашей работы еще до опубликования. Позже аналогия нашей теории с зоммерфельдовской была рассмотрена И.Е.Таммом. Сам Зоммерфельд был рад этому неожиданному для него развитию теории и откликнулся на нашу статью письмом, присланным И.Е.Тамму. (См. наст. кн., с. 120).
Оказалось, как обнаружил С.И.Вавилов, еще до Зоммерфельда лорд Кельвин в 1901 г. отметил, что атом при сверхсветовой скорости должен излучать свет. При этом он пользовался аналогией с волнами Маха. В действительности для атома в отличие от заряженной частицы дело обстоит несколько сложнее. При V > c/n атом должен самовозбуждаться, излучая при этом частоты аномального эффекта Доплера и теряя кинетическую энергию.
Но у Кельвина, оказывается, был предшественник, о котором он не знал. В 1888 г. Хевисайд, по существу, предсказал явление, открытое Черенковым, хотя тогда еще ничего не было известно ни о существовании быстрых электронов, ни о радиоактивности. О работе Хевисайда, забытой всеми, вспомнили лишь недавно, более чем через 80 лет после ее опубликования. — Примеч. авт.
319 Ошибочные опыты Р. Блондло, полагавшего, что он открыл новый вид излучения, теперь совершенно забыты. Однако в то время N-лучи служили понятием нарицательным. Когда в силу каких-либо экспериментальных ошибок наблюдалась «мистика» вместо реальных явлений, говорили, что это N-лучи. — Примеч. авт.
320 Это была приятная после напряженной работы прогулка по Садовому кольцу, вероятно, 3–4 км. И.Е.Тамм жил у Земляного вала, а я недалеко от площади Маяковского. — Примеч. авт.
321 См. наст. кн., с. 266.
322 Арбузов А.Е. (1877–1968) — химик-органик, академик АН СССР, учился и работал в Казани. Лауреат Государственных премий СССР.
323 Шмидт О.Ю. (1891–1956) — математик, геофизик, исследователь Арктики, академик АН СССР, государственный и общественный деятель, организатор науки.
324 Так звали И.Е.Тамма родные и друзья по гимназии. — Примеч. авт.
325 Гольдин О.Е. (1903–1982) — электротехник, Гольдина В.Г. (р. 1908) — радиотехник, кандидаты технических наук. Часто общались с И.Е.Таммом.
326 Подробно см.: Волкова И.М. Одесская группа радиоспециалистов. — В кн.: Академик Л.И. Мандельштам: К 100-летию со дня рождения. M., 1979, с. 210–212. — Примеч. авт.
327 Френкель В.Я. Яков Ильич Френкель. М.; Л., 1966. — Примеч. авт.
328 Френкель В.Я. Пауль Эренфест. M.: Атомиздат, 1971. — Примеч. авт.
329 На самом деле гиперболический синус — функция нечетная, что очевидно каждому студенту первого курса.
330 Игорь Евгеньевич Тамм (1895–1971). М., 1974, с. 5. (Материалы к библиографии ученых СССР. Сер. физ., вып. 16). — Примеч. авт.
331 Дэвисон С., Левин Дж. Поверхностные (таммовские) состояния. М.: Мир, 1973. — Примеч. авт.
332 Шубников Л.В. (1901–1945) и его жена Ольга Николаевна (Трапезникова) — физики-экспериментаторы, доктора физико-математических наук. В 1926–1931 гг. были командированы в Голландию и работали у В. де Гааза.
333 Эренфест—Иоффе. Научная переписка/Под ред. В.Я.Френкеля. M., 1973, с. 204. — Примеч. авт.
334 Зееман П. (1865–1943) — голландский физик, член Нидерландской АН, лауреат Нобелевской премии.
335 Эренфест—Иоффе. Научная переписка, с. 207. — Примеч. авт.
336 Эренфест—Иоффе. Научная переписка, с. 203. — Примеч. авт.
337 Так называли Л.Д.Ландау его друзья и близкие.
338 Дебай П. (1884–1966) — физик и химик, с 1940 г. в США, член многих академий наук, лауреат Нобелевской премии.
339 Перельман Я.И. (1882–1942) — популяризатор физики, математики и астрономии (автор книг «Занимательная физика», «Занимательная астрономия» и др.).
340 Вечерняя Красная газета (Ленинград), 1933, 28 сент. — Примеч. авт.
341 Эпштейн П.С. (1883–1966) — американский (с 1921 г.) физик-теоретик, член Национальной АН США.
342 Она заканчивалась фразой: «Да будет земля ему пухом, ибо праведник он был» (Крылов А.Н. Воспоминания и очерки. М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 503). — Примеч. авт.
343 ЛО Архива АН СССР, ф. 759, оп. 2, ед. хр. 104, л. 3–4. — Примеч. авт.
344 Больцман Л. (1844–1906) — австрийский физик-теоретик, один из основоположников классической статистической физики, член Австрийской и многих других академий наук.
345 Broda E. Ludwig Boltzmann. В., 1957; см. также сборник (Больцман Л. Статьи и речи. M., 1970), в котором помещены обширные выдержки из книги Брода. — Примеч. авт.
346 Пуанкаре А. (1854–1912) — выдающийся французский математик. Член Парижской академии наук. Автор важнейших работ, приведших к созданию теории относительности.
347 Смородинский Я.А. (1917–1991) — физик-теоретик школы Л.Д.Ландау, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР.
348 Нейгауз Г.Г. (1888–1964) — пианист и педагог, профессор, создавший пианистическую школу. И.Е.Тамм слышал этот его рассказ на вечере студентов физфака МГУ, на который они оба были приглашены.
349 Годовский Л. (1870–1938) — пианист, один из крупнейших после Листа, педагог и композитор.
350 Головин И.Я. И.В.Курчатов. М.: Атомиздат, 1967.
351 Махаланобис П.Ч. (1893–1972) — индийский статистик и экономист, организатор и директор Индийского статистического института в Калькутте, член Плановой комиссии и советник Правительства Индии, член Лондонского королевского общества и иностранный член АН СССР. Приехав в Москву в 60-х годах, Махаланобис навестил И.Е.Тамма в его квартире.
352 Последующие более строгие медико-статистические исследования, по-видимому, все же определенно установили канцерогенную опасность курения.
353 См. по этому поводу: Тамм И.Е. Собр. научн. трудов. M., 1975, т. 2, с. 382, 459. Упоминаемая статья М.А.Леонтовича и Л.И.Мандельштама «К теории уравнения Шредингера» (Ztsch. Phys., 1928, Bd. 47, S. 131) перепечатывалась в Полном собрании трудов Л.И.Мандельштама (Изд-во АН СССР, 1948, т. 1, с. 286) и к ее 50-летнему юбилею в журнале «Успехи физических наук» (т. 124, вып. 3, с. 547).
354 О взаимоотношениях И.Е.Тамма и Я.И.Френкеля см. также воспоминания И.Л.Фабелинского в наст. кн.
355 Тамм И.Е., Смородинский Я. А. — В кн.: Френкель Я.И. Собр. трудов. M.; Л., 1958, т. 2, с. 455–460. — Примеч. авт.
356 Б.М.Завадовский, как отмечается в статье о нем в 3-м изд. БСЭ, был автором ряда научно-популярных книг по биологии. — Примеч. авт.
357 Гельмгольц Г.Л.Ф. (1821–1894) — немецкий физик, математик, физиолог и психолог, член многих академий наук.
358 Астауров Б.Л. (1904–1974) — биолог, генетик, академик АН СССР, президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова.
359 Эфраимсон В.П. (р. 1908) — генетик, доктор биологических наук.
360 Любищев А.А. (1890–1972) — биолог широкого профиля, профессор. См. о нем, например: Мейен С.В., Соколов Б.С. Шрейдер Ю.А. Классическая и неклассическая биология. Феномен Любищева. — Вестн. АН СССР, 1977, № 10, с. 112–124; Шрейдер Ю.А. Три жизни профессора Любищева. Пути в незнаемое. Сб. № 14. M.: Сов. писатель, 1978, с. 393–397.
361 Об А.Г. Гурвиче см.: Белоусов Л.В., Гурвич А. А., Залкинд С.Я., Каннегиссер Н.Н. Александр Гаврилович Гурвич. M., 1970. А.Г.Гурвич открыл и изучил со своими сотрудниками лучи, испукаемые клетками при делении, он назвал их митогенетическими. Он использовал доступные тогда очень слабые экспериментальные средства, и большинство биологов считало опыты недоказательными. Однако через двадцать лет после написания настоящей статьи результаты А.Г.Гурвича полностью подтверждены новыми методами исследователями разных стран (Германии, Голландии, Японии и других стран), в сентябре 1994 года в Москве состоялся Международный симпозиум по этой актуальной проблеме.
362 Как сообщил мне профессор Баранцев, в переписке И.Е.Тамма и А.А.Любищева речь шла о книге Э. Чезаро «Элементарный учебник алгебраического анализа». — Примеч. авт.
363 Гудзий H.K. (1887–1965) — литературовед, академик АН УССР.
364 Крылов H.M. (1879–1955) — математик, академик АН СССР и АН УССР.
365 Смирнов В.И. (1887–1974) — математик, академик АН СССР, лауреат Государственной премии.
366 Франк М.Л. (1878–1941) — математик, профессор; отец И.М. Франка.
367 Загородских Ф.С., Зайцев В.Л., Секиринский С.А. История Крымского педагогического института. Симферополь: Крымиздат, 1960. 187 с. (Так назывался университет с 1925 по 1972 г.) — Примеч. авт.
368 Написано в 1980 году.
369 Баранов П.А. (1892–1962) — ботаник, член-корреспондент АН СССР.
370 В журнале «Техника—молодежи» (1957, № 9) опубликована статья И.Е.Тамма под знаменательным заглавием «Роль ведущей науки естествознания перейдет в относительно недалеком будущем от физики к биологии». — Примеч. авт.
371 Стенограмма лекции И.Е.Тамма «Физика и генетика», прочитанного в ЛГУ 23 октября 1957 г., с. 13.
372 Теллер Э. (р. 1908) — американский, венгерского происхождения, физик-теоретик, член Национальной АН США.
373 В кн.: Академик Игорь Евгеньевич Тамм. Сб. статей. M.: Знание, 1973. — Примеч. авт.
374 ЛО Архива АН СССР, ф. 953, оп. 3, ед. хр. 54, л. 1–30. — Примеч. авт.
375 Соотношение неопределенностей (нем.) — Примеч. авт.
376 Спадание интенсивностей дифракционных колец (нем.). — Примеч. авт.
377 Потенциальный барьер (нем.) — Примеч. авт.
378 Санаторий АН СССР под Москвой. — Примеч. авт.
379 23 января 1952 г. скончался отец; с 1953 г. Игорь Евгеньевич почти ежегодно приезжал в этот день в Ленинград. — Примеч. авт.
380 Чолаков В. Нобелевские премии. М.: Мир, 1987, с. 356.
381 Капица П.Л. Письма о науке. М.: Московский рабочий, 1989, с. 209.
382 Андрей Сахаров. Воспоминания. Нью-Йорк, Изд-во имени Чехова, 1990, с. 163. См. в наст. кн.
383 См. наст. кн. с. 3.
384 См. 2-е изд. наст. кн. M.: Наука, с. 45, 122, 167, 168, а также наст. кн. с. 51, 146, 207, 209.
385 См. 2-е изд. наст. кн. М.: Наука, с. 298, 195, а также наст. кн. с. 386, 242.
386 Тогда, до посмертной реабилитации брата после смерти Сталина, И.Е. еще не знал, что брат был расстрелян гораздо раньше.
387 Простейший электрический арифмометр.
388 Ныне — Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии наук.
389 Андрей Сахаров. Воспоминания. Нью-Йорк, Изд-во имени Чехова, 1990, с. 186.
390 Речь идет о методе в фундаментальной физике — теории квантованных полей, которой Игорь Евгеньевич в эти годы занимался.
391 Горелик Г.Е. С чего начиналась советская водородная бомба? Вопросы истории естествознания и техники. М.: Наука, 1993, № 1, с. 86.
392 «Природа», 1990, № 8, с. 12.
393 См. указанную на с. 409 статью Г.Е.Горелика, с. 94, 95.
394 Andrei Sakharov. Facets of a life, Editions Frontieres, 1991, p.614; Ю.Н.Смирнов, «Этот человек сделал... больше, чем мы все...», «Октябрь», 1994, № 12, с. 174.
395 МИФИ — Московский инженерно-физический институт, в котором И.Е.Тамм тогда заведовал кафедрой теоретической физики.
396 Ильинский И.В. (1901–1987) — актер театра и кино, Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР.
397 Андронова-Леонтович Е.А. (р. 1905) — математик, доктор физико-математических наук.
398 Написано в середине 70-х годов.
399 Неточно. Дирак ходил в горы только с И.Е.Таммом, который и увлек его альпинизмом (информация Л.И.Бернского).
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ.............. | 3 | |||
7 | ||||
В.Л. Гинзбург, Е.Л. Фейнберг | ||||
УЧИТЕЛЬ.......................... | 21 | |||
С.А.Альтшулер | ||||
В ГОРАХ И В НАУКЕ.................... | 27 | |||
Э.Л.Андроникашвили | ||||
ЛЕТОМ 1920 ГОДА..................... | 34 | |||
Н.А.Белоусова | ||||
ИЗ ОСТАВШЕГОСЯ В ПАМЯТИ............... | 37 | |||
Е.С.Биллинг | ||||
ВОСПОМИНАНИЯ БИОФИЗИКА.............. | 43 | |||
Л. А. Блюмендфельд | ||||
ШКОЛА ТАММА....................... | 48 | |||
Б.М.Болотовский | ||||
и из семейного архива).................... | 79 | |||
Л.И.Бернский | ||||
ВСЕГДА САМА ЖИЗНЬ................... | 130 | |||
С.В.Вонсовский | ||||
ОБ ИГОРЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ ТАММЕ............. | 138 | |||
В.Л.Гинзбург | ||||
О НАСТАВНИКЕ В НАУКЕ И В ЖИЗНИ.......... | 149 | |||
И.Н.Головин | ||||
КВАНТЫ ПАМЯТИ.................... | 184 | |||
Д.С.Данин | ||||
187 | ||||
Е.К.Завойский | ||||
СНОВА ВМЕСТЕ К ВЕРШИНАМ.............. | 187 | |||
Е.А.Казакова | ||||
НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ........... | 200 | |||
Д.А.Киржниц | ||||
ТРИ ЭПИЗОДА....................... | 204 | |||
В. Д. Конен | ||||
| ||||
СПОСОБНОСТЬ УДИВЛЯТЬСЯ.............. | 206 | |||
В. Л. Крайнин (В.А.Цукерман) | ||||
ЛИЧНОЕ И ВНЕЛИЧНОЕ.................. | 213 | |||
Б.Г.Кузнецов | ||||
220 | ||||
М.А.Марков | ||||
ГИМНАЗИЯ........................ | 222 | |||
Ф.В.Никитин | ||||
225 | ||||
В.И.Огиевецкий | ||||
RECOLLECTIONS...................... | 228 | |||
Р.Е.Пайерлс | ||||
НАШ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ................. | 230 | |||
Л. В. Парийская | ||||
235 | ||||
С.М.Райский | ||||
ДВАДЦАТЬ БЛИЗКИХ ЛЕТ................. | 239 | |||
В.И.Ритус | ||||
ИЗ ДАВНИХ ВРЕМЕН.................... | 245 | |||
С.М. Рытов | ||||
АЛЬПИНИСТСКИЙ ЭТЮД................. | 250 | |||
В.П.Сасоров | ||||
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И.Е.ТАММЕ............ | 270 | |||
А.Д.Сахаров | ||||
282 | ||||
Н. В. Тимофеев-Ресовский | ||||
СО СТОРОНЫ........................ | 286 | |||
И. Л. Фабелинский | ||||
СТРАСТЬ К НАУКЕ..................... | 294 | |||
В.Я.Файнберг | ||||
ЭПОХА И ЛИЧНОСТЬ.................... | 302 | |||
Е.Л. Фейнберг | ||||
335 | ||||
И.М.Франк | ||||
ВСТРЕЧИ.......................... | 355 | |||
В.Я.Френкель | ||||
| ||||
390 | ||||
Ю.Б.Харитон, В.Б.Адамский, Ю.А.Романов, Ю.Н.Смирнов | ||||
ОДНА НЕДЕЛЯ....................... | 411 | |||
Д.С.Чернавский | ||||
КАКИМ ОН ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ............. | 414 | |||
В.А.Энгельгардт | ||||
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ............ | 418 | |||
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН..................... | 422 | |||
| {430} |
Научно-популярное издание
Воспоминания о И.Е.Тамме
Ответственный редактор Е.Л.Фейнберг
Корректор В.А.Кулямин
Художник Б.М.Рябышев
ЛР № 020242 от 23.10.91
Набор выполнен фирмой “Консайн”.
Подписано в печать с оригинал-макета 15.05.95.
Формат 60×84/16. Бумага офс. №1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27, 0 Уч. изд. л. Тираж 1000 экз. Заказ тип. №2795C-044
Издательство литературы по атомной технике /ИздАТ/
Фирмы коммерческой рекламы и научно-технической пропаганды
113105 Москва М-105, Варшавское ш., 3; тел. 955-28-96
Московская типография № 2 Российской академии наук
121099 Москва Г-99, Шубинский пер., 6