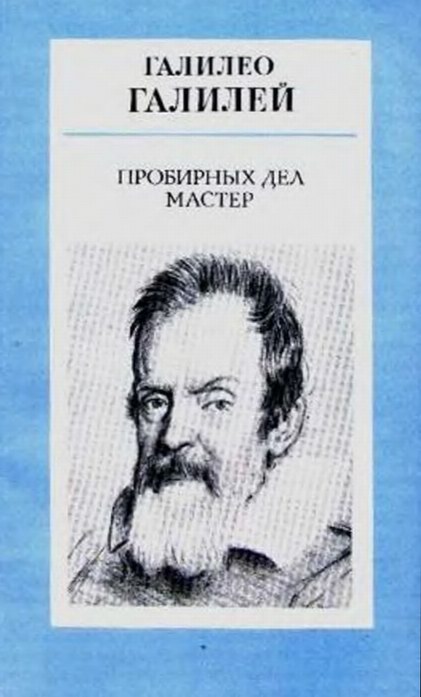
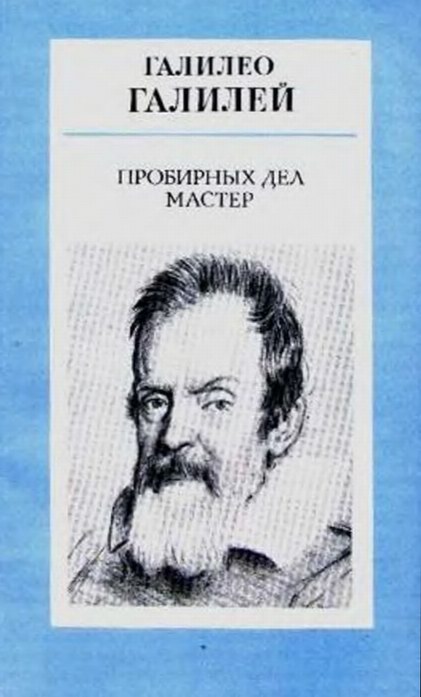
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Популярные произведения
классиков естествознания»
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
ПРОБИРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Перевод
Ю. А. ДАНИЛОВА

МОСКВА «НАУКА» 1987
| {1} |
ББК 20 г
Г 15
УДК 520(091)
Составитель и переводчик
Ю. А. ДАНИЛОВ
Рецензент
Л. А. МАКСИМОВ
Галилео Галилей.
Г 15 Пробирных дел мастер / Пер. Ю. А. Данилова.— М.: Наука, 1987.—272 с.— (Серия «Популярные произведения классиков естествознания»).
Небольшое по объему произведение Галилея написано в ходе дискуссии о природе комет, развернувшейся между представителями старой схоластической науки и зарождавшегося естественнонаучного мышления. Выдержанное в остро полемической манере, блестящее по форме, сочинение Галилея по существу представляет собой манифест нового естествознания, ставящего доказательства, основанные на наблюдении, эксперименте и точном математическом расчете, превыше догмы, авторитета и риторических ухищрений. На русском языке публикуется впервые.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей — от студентов до специалистов в области естественных наук, философии и истории науки.
ББК 20 г
Ответственный редактор
Я. А. СМОРОДИНСКИЙ
|
|
| {2} |
4
Разрешено к печати
и просмотрено преподобнейшим магистром
святого апостольского дворца
7
Его святейшеству папе Урбану VIII
8
Галилео Галилею...
от Иоганна Фабера
9
Вышеозначенному синьору
Галилею
от синьора Франческо Стеллути
11
15
262
271
| {3} |
«Книги имеют свою судьбу» — гласит латинская пословица. Необычная судьба выпала небольшому произведению Галилея «Пробирных дел мастер» («Il Saggiatore» (1623)), русский перевод которого с небольшими комментариями предлагается вниманию читателя.
Долгое время о существовании этой книги за пределами Италии было известно лишь узкому кругу историков науки, да и ныне о ней знают далеко не столь широко, как о «Звездном вестнике» (1610), «Диалоге о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» (1632) и «Беседах и математических доказательствах, касающихся двух новых отраслей науки» (1638).
В отличие от «Звездного вестника» «Пробирных дел мастер» не содержит сообщений о поистине чудесных и преудивительных зрелищах (горах на Луне, четырех спутниках Юпитера, тонкой структуре Млечного Пути, распавшегося на мириады звезд), открывшихся флорентийскому патрицию и государственному математику Падуанской гимназии Галилео Галилею, когда он, «оставив земное, ограничился исследованием небесного» [1, с. 22] и в ночь с 7 на 8 января 1610 г. навел построенную им зрительную трубу на небо. Не найдем мы в «Пробирных дел мастере» развернутой аргументации и обстоятельного разбора доказательств, отличающих «Диалог», который стал заметной вехой в утверждении гелиоцентрической системы мира Коперника и ниспровержении геоцентрической системы мира Птолемея, и «Беседы», в которых старый маэстро как бы подвел итог своим многолетним трудам на поприще новой науки. И все же именно «Пробирных дел мастер», а не перечисленные выше более известные произведения Галилея по праву может быть назван манифестом новой науки, подвергающей все сомнению, ставящей доказательства, основанные на наблюдении, опыте и точном математическом расчете, превыше авторитета, догмы и риторических ухищрений. Именно «Пробирных дел мастер» по праву может быть назван «самым галилеевским» из всех {4} перечисленных выше произведений Галилея. Именно при чтении «Пробирных дел мастера» становится понятна та магия, которая позволяла Галилею столь успешно обращать в новую науку даже тех, кто не помышлял о ней (к числу новообращенных принадлежал и Вирджинио Чезарини, которому адресовано сочинение Галилея).
В конце 1618 г. в небе Италии одна за другой вспыхнули три кометы. Особенно яркой была третья комета, наблюдавшаяся с ноября 1618 по январь 1619 г. Всеобщий интерес к хвостатым звездам послужил стимулом к возобновлению старого спора о природе комет. По Аристотелю, все бренное, преходящее, способное рождаться и умирать, принадлежит подлунному миру. Мир же небесный, надлунный, включает в себя все вечное, непреходящее, совершенное. Если комета — реальное тело, то, поскольку она появляется и исчезает, в рамках аристотелевой концепции ей место только в подлунном мире. Иное дело, если комета, как полагал, в частности, Галилей,— оптическая иллюзия, игра света в испарениях, поднявшихся в верхние слои атмосферы: бесплотное видение, разумеется, может, ничему не противореча, оказаться и в надлунном мире. Второстепенный, казалось бы, вопрос приобретал первостепенное значение. Этим и объяснялась острота развернувшейся дискуссии.
Но главное, чем интересен «Пробирных дел мастер»,— это страстная и вместе с тем незаметная (во всяком случае, ускользнувшая от папы Урбана VIII, имевшего обыкновение слушать это сочинение за трапезой, и даже от недреманного ока инквизиции) проповедь нового научного метода. В одном месте Галилей приводит знаменитые слова об открытой книге Природы, доступной пониманию лишь того, кто знает язык математики, в другом роняет замечание в духе атомистики Демокрита о том, что все сущее представляет собой результат комбинации лишенных качественных отличий элементов, в третьем язвительно высмеивает приверженность своего оппонента к доказательствам, основанным на чужих мнениях, пусть даже речь идет о величайших римских поэтах Вергилии, Овидии, Сенеке, Горации.
Откликаясь на насущные потребности своего времени, Галилей создал новые, проникнутые гуманизмом формы научного трактата. Вот как характеризует отличительные особенности галилеевского изложения известный исследователь его научного творчества Б. Г. Кузнецов [2, с. 55—56]: «Оттачивая свои аргументы в поисках {5} не только убедительных (в смысле физической корректности), но и убеждающих построений, Галилей рисовал количественную картину мира. Но ее он все же рисовал, и она оставалась картиной, не превращаясь ни в чертеж, ни тем более в уравнения Лагранжа, освобожденные даже от чисто геометрической наглядности. В XVII в. чертеж и уравнения еще не могли найти отклик в сердцах людей».
Импрессионистическую манеру Галилея, заботившегося прежде всего о художественной убедительности своих произведений, отмечает и Л. Ольшки [3, с. 194]: «Без одной силы его остроумия, без тысячи оттенков его выпадов, его иронии и сдержанного гнева от «Il Saggiatore» остался бы ряд малоинтересных вопросов или даже мелочей, представляющих исторический интерес».
Новый научный метод в развернувшейся дискуссии отстаивали Галилей и его ученик Марио Гвидуччи, старую схоластическую традицию — влиятельный профессор математики Римской коллегии Орацио Грасси, выпустивший трактат «Астрономические и философские весы» под псевдонимом Лотарио Сарси. Критику отдельных утверждений Гвидуччи, в сочинении которого (по когтям узнают льва!) отчетливо были слышны галилеевские мотивы, Сарси представил в виде взвешивания на весах. В ответ разгневанный Галилей, разделив все сочинение своего оппонента на 63 отрывка, «взвесил» каждый из них на особо чувствительных весах, которые употребляются в пробирном деле. Отсюда и непонятное на первый взгляд название трактата — «Пробирных дел мастер».
Галилей и его оппонент говорят на разных языках не только в переносном, но и в буквальном смысле: Грасси изъясняется на официальном языке науки того времени — латыни (его текст отмечен в книге курсивом), Галилей (и это было большим новшеством) предпочитает излагать свои мысли на живом и понятном не только в научных кругах итальянском языке.
Русский перевод замечательного шедевра Галилея выходит в наши дни, когда искусство вопрошания природы, ведения живого диалога с ней достигло небывалой высоты. Мы надеемся, что по прочтении «Пробирных дел мастера» современный читатель поймет, сколь многим живущие ныне обязаны великим мастерам прошлого, среди которых почетное место принадлежит Галилео Галилею.
Ю. Данилов
| {6} |
|
Разрешено к печати Заместитель епископального иероцензора По повелению преподобнейшего магистра святого дворца я прочитал сочинение «Пробирных дел мастер» и не только не усмотрел в нем ничего, что наносило бы ущерб морали, но и обнаружил множество тонких соображений, относящихся к натуральной философии. Я убежден, что им суждено прославить наш век в веках грядущих не только как воспреемника трудов философов прошлого, но и как открывателя многих тайн природы (перед которыми оказались бессильными наши предшественники), чему немало способствуют глубокие и здравые суждения автора сего сочинения. Почитаю за счастье родиться его современником, ибо золото истины он взвешивает не на глазок и не грубым безменом, а на чувствительнейших весах. В коллегии св. Фомы на Минерве в Риме Преподобнейший о. Николо Рикарди Разрешено к печати Ордена доминиканцев павлианский магистр |
| {6} |
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ
ПАПЕ УРБАНУ VIII
В дни всеобщего торжества просвещения и самой добродетели, когда весь Город1 и в особенности Святой престол, озарен еще большим, нежели обычно, блеском от того, что небесному и божественному провидению благоугодно было возвести на престол Вас2, сердце каждого в благоговейном порыве устремляется к достохвальным занятиям и добродетельным поступкам. Следуя столь замечательному образцу, мы решили предстать перед Вами, памятуя о своей бесконечной признательности за те милости, которыми нас непрестанно осыпает Ваша нескудеющая рука, преисполненные радости и глубокого удовлетворения от созерцания на столь возвышенном престоле столь высокого помыслами покровителя. В знак нашей преданности мы как истинные верноподданные преподносим Вам в дар «Пробирных дел мастера» нашего Галилея, флорентийского открывателя не новых земель, а невиданных частей неба, в сочинении которого содержатся исследования небесных светил, обычно повергающих многих в сильнейшее изумление. Сей труд мы посвящаем и преподносим Вашему Святейшеству как одному из тех, кто наполнил свою душу истинными украшениями и блеском и устремил свои возвышенные помыслы к великим свершениям. Мы надеемся, что трактат Галилея о необычных светилах в небе послужит свидетельством нашего живейшего и непреходящего страстного желания послужить Вашему Святейшеству и воздать должное Вашим щедротам. А пока мы смиренно припадаем к Вашим стопам и молим по-прежнему осенять благодатными лучами наши ученые изыскания и согревать нас живительным теплом Вашего благотворного покровительства.
В Риме 20 октября 1623 г.
Вашего Святейшества покорнейшие
|
и преданнейшие слуги |
| {8} |
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЮ
ЧЛЕНУ АКАДЕМИИ ДЕИ ЛИНЧЕИ ИЗ ФЛОРЕНЦИИ,
первому среди математиков нашего века,
открывателю чудес в небе с помощью телескопа,
нового ока Природы,
ОТ ИОГАННА ФАБЕРА4,
члена Академии деи Линчей из Бамберга,
римского медика и аптекаря Его Святейшества
|
Порта5 был первым, кто телескопом занялся, Германец6, возможно, вторым, Ты, Галилей, трудами своими стал третьим, Но далеко всем иным до тебя, Как звездам небесным до нашего шара земного. Что в телескоп свой они измеряли? Несколько миль на земле или — с риском для жизни — на море. Ты же их всех превзошел бесконечно, Поднявшись на славный Олимп В искусстве взирать в телескоп. Посторонись же, Веспуччи7, и ты, о Колумб8! Пусть каждый проложит свой путь в неизведанном море. Пусть была неизвестна древним земля антиподов И ускользало от их астрономов многое в небе! Звезд вереницу и целых созвездий немало Ты даровал всем на свете живущим. Низкий поклон твоему, Галилей, телескопу, что звезды приблизил. Смертные в Риме и в мире за то тебя любят. Уж не волшебным ль искусством очки одряхлевшему миру Ты подарил, дабы в ясном рассудке, Но с немощным телом и зрением слабым Взирал он сквозь стекла двойные? Новые звезды с небес к нам сквозь линзы спустились, Равно и те, что Путь Млечный несметной толпой устилают9, Рядом (о дивное чудо!) мы оком двойным холодный Сатурн наблюдаем10. Кинфией11 новой Венера с рогами12 сияет средь ночи. Луны (их счетом четыре) Юпитер кругом обступили13. Даже ярчайшие наши светила, Солнце с Луной, в телескопе своп вид изменяют. Ты, о дневное светило, казалось всегда нам ярко пылающим шаром, Ныне твой лик испещрили — увы! — безобразные пятна14. {9} Верили все, что Луна гладка, словно шар, и округла. Ныне же горы вздыбились вдруг на Луне15. Оком волшебным зрим мы в туманностях прежних Ныне ярчайшие звезды. Но и сие не предел: кометы хвостом Звезды иные прикрылись, но тщетно, Око их блеск различает и в самой возвышенной дали. С видом ученым сам Аристотель Вводил в заблужденье умы. «В стихии воздушной хвостатые звезды живут»,— наставлял он. Блеском безвредным считал он кометы И полагал, будто воздух, Дабы огонь восприять, сух должен быть. Если поверить решиться в эти слова, не страшась злого рока, Гибель они предвещают тому, кто хвостатые звезды увидит. Боюсь я, однако, что бесплодные годы кометы сулят лишь тому, У кого жадный огнь пожирает Царственный жезл и власти лишает над математикой всей. Но Галилей все уладил: В книжке своей небольшой тайны кометы поведал, Оком своим рысьеглазым он наблюдал ход явлений И опроверг измышления многих ученых мужей. Дерзко деянье его! Хрупок его телескоп, Он же пронзил им неба алмазную твердь и хрустальные стены. Знай, Галилей: телескопом (разум твой в этом порука) Тебе суждено озарить обитель бессмертных богов. |
| {10} |
ВЫШЕОЗНАЧЕННОМУ
синьору ГАЛИЛЕЮ
от синьора
ФРАНЧЕСКО СТЕЛЛУТИ16,
члена Академии деи Линчей
|
Из всех живых существ — Птиц, что летают в воздухе, Рыб, что плывут в холодных волнах, Зверей, что рыщут на суше и оставляют повсюду свои следы, Только человек наделен разумом, Только он видит и постигает, Уступая разве что ангелам. Соперничая с природой, Он подражает ее твореньям И воспроизводит их. Движимый разумом, Он создает своим искусством Произведения, достойные великих мастеров. Если ему надобно изобразить Какое-то существо, То он может сделать так, Чтобы изображение могло Поводить глазами и шевелить всеми членами. Создал же некогда Архит17 Деревянных голубей, летавших, как живые. Некий мудрец, которого и поныне Почитают великим, С волшебным искусством Наделял статуи голосом и даром речи. Он ваял различные фигурки, И те, подобно птицам, Услаждали слух мелодичным пением. Другие создавали из гладкого прозрачного стекла Небольшие подобия мироздания, Воспроизводя в них все, что происходит на небе. И крохотные светила Двигались и обращались, Как настоящие далекие звезды. В необъятных бескрайних просторах неба Гремят иногда Раскаты грома и блещут, {11} Наводя страх, молнии. Но и человек создал огонь, способный летать, И оглушительно ревет свинец, Изрыгаемый высверленными в железе стволами. Некоторые храбрецы дерзают Оставить за спиной Геркулесовы Столбы18, Держа путь туда, где до них не бывал никто. Полое дерево — дом их, ветром влекомый По скользкой равнине Бездонного океана. К Старому Свету они добавили Новый. Превзойдя всех своей дерзостью, Презрев людские обычаи, Дедал19 измыслил своей хитростью Изготовить крылья из перьев В надежде взлететь. И взлетел, быстролетной птицей Прорезав влажный соленый воздух. По зрелом размышлении я скажу так: Сколь же силен и горд должен быть ты, Что усладил свое зренье и поведал О виденном тобой, превосходящем человеческое воображение Без тебя, Галилей, мы — рыси, слепые, как крот. Рядом с тобой все рысьеглазые20, Как Аргус21 безглазый. Твой проницательный взор Черпает силу не только В ярком блеске, Который придают светилам тобой изготовленные линзы, Ибо более яркий свет Воссиял в твоем разуме, И свет этот затмевает свет видимый. То, что укрыла на своей груди Природа от чуждого взгляда, Ныне твоим проницательным взглядом Открыто для размышлений. Иные полагают, будто то же было известно От мудреца из Стагир22, Но тот видел все смутно, как бы в тени. То, чему учишь ты о тайнах природы, Почерпнуто не из древних хартий И не из новой книжной премудрости, И о звездах узнал ты не из бесед с друзьями. Упорные труды, {12} Поиски и доказательства, глубокие исследования — Вот что пробудило от сна твои познания. Хотя человек и пользуется исправно своими чувствами, Он едва ли может понять, Как нос ощущает запах, Как осязает рука, видит глаз, слышат уши. Все это открыто и непонятно, И не может язык поведать, Как он различает яства по вкусу. Кто с радостью не хотел бы узнать, Как мы ощущаем холод и жар, Как получаются те чудеса, Которые мы наблюдаем на небе,— Ответы на все те загадки, которые ты разгадал. Нет ничего ни близкого, ни далекого, Что бы укрылось от твоего проницательного взгляда. По словам жителей побережья Близ Халкиды23, некогда. Один человек пытался понять, Почему волны всегда теснятся в Эврипе24. Если бы ты, от которого ничто не укроется, Объяснил бы ему причину, То он не утопился бы с горя в волнах. О тех, кто жил задолго до нас, С почтением можно сказать, Что они разделяют с твоим разумом звездный троп. Но и они не думали, Что светлые пятнышки в небе Превратятся в многие тысячи звезд. Они не повернулись бы спиной, Как и подобает благовоспитанным людям, Не сбились бы с истинного пути, Не отвели бы семи планетам определенное место на небе, Не стали бы навязывать Блуждающим звездам с золотыми волосами, которых мы наблюдаем, Где тем надлежит находиться и в каких пределах. Новые невиданные ранее блуждающие светила Ты поместил среди звезд Там, где Юпитер благосклонно рассылает свои лучи. Ты наблюдал его в необычном виде, Движущегося в кругообращении, И ее, поспешающую перед Солнцем. {13} Неподвижных звезд с их лучистым сиянием Ты видел столько в бездонных глубинах неба, Что глаз отказывается их сосчитать. Их несметное множество, И уже ничуть не меньше, Чем песчинок на берегу моря. Как не воздать хвалу Отважным новым Тифиям27, Снискавшим славу перед небесами, Положив на карту неведомые ранее моря и земли. Ты же добавил не новые земли, Как эти храбрецы, Л обнаружил высоко в небе новые звезды. Мы считаем благой вестью, Когда Тифии открывают новые земли, Новые не для обитающих там аборигенов: Проложив пути через волнистый лик океана, Отважные путешественники открывают неведомые края для нас. Ты же совершил более дерзкое открытие, Подарив всем людям и нашему веку новые орбиты. В большом долгу перед тобой Люди, которым ты подарил Поистине новые объекты. Твои хрупкие стекла Позволили нам с легкостью направить взоры к небу, И небо в долгу перед тобой, Ибо ты открыл немало светил там, где раньше казалось пусто. Если бы ты не устремил свой взор ввысь, Наблюдая необъятные небесные просторы, То все в небе осталось бы Таким же, каким было до нас. Ты же снял покровы С шаров, окруженных золотыми лучами, И дал им движение, славу, место и имя. Славу, которую принесли небу Открытые тобой светила, Не отнять теперь у него И под страхом смерти. Пусть же, пока обращается небо, Не меркнет, как яркие звезды, Твоя слава, ибо тебе небо обязано столь многим. |
| {14} |
ПРОБИРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР,
в котором
с помощью особо чувствительных
и точных весов
будут взвешены доводы, содержащиеся
в
«Астрономических и философских вебах»
Лотарио Сарси28
из Сигуэнсы,
написанный в форме письма
к преславному и достопочтеннейшему
монсиньору
дону ВИРДЖИНИО ЧЕЗАРИНИ29,
члену Академии деи Линчей,
камергеру Его Святейшества
Я никогда не мог понять, знаменитейший синьор, как случается, что все, чем бы я ни занимался, стоило лишь мне для удовольствия или пользы других счесть возможным представить свои исследования публике, вызывало у многих желание умалить, похитить или опорочить ту толику признательности, которую, как я полагаю, заслуживали если не мои труды, то по крайней мере мои намерения. В моем «Звездном вестнике»30 было приведено множество удивительнейших открытий на небе. Казалось бы, они должны были бы обрадовать всех любителей истинной философии. Но едва лишь «Звездный вестник» вышел из печати, как со всех сторон стали появляться люди, обуреваемые завистью к тем похвалам, которые снискали мои открытия. Немало нашлось и тех, кто единственно из стремления противоречить мне не счел зазорным усомниться в том, что неоднократно наблюдал своими глазами.
Светлейший великий герцог Тосканский Козимо II31, славной памяти государь мой, некогда повелел мне записать мои соображения относительно того, почему тела плавают или тонут в воде. Дабы выполнить его повеление, я изложил на бумаге все, выходящее за рамки учения Архимеда32, что счел необходимым и что, по всей видимости, можно было сказать по этому поводу,
| {15} |
 |
Титульный лист книги Галилео Галилея |
| {16} |
|
ПРОБИРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР, в котором из Сигуэнсы, дону Вирджинио Чезарини, члену Академии деи Линчей, Галилео Галилеем, членом Академии деи Линчей В РИМЕ, MDСXXIII Напечатал Джакомо Маскарди |
| {17} |
не погрешая против истины. И что же? Немедленно в печати появилось множество нападок на мое «Рассуждение»33. Каждое мое суждение оспоривали, нимало не считаясь с тем, что все мои доводы были подкреплены и обоснованы геометрическими доказательствами, и такова сила человеческих страстей, что мои противники упустили из виду главное: противореча геометрии, они тем самым отрицали истину.
А кто только и под какими псевдонимами не нападал на мои «Письма о солнечных пятнах»34! Они должны были открыть перед умственным взором широкий простор для восхитительных размышлений, но их с презрением и насмешками отвергли многие из тех, кто либо усомнился в истинности содержавшихся в них утверждений, либо не сумел оценить их по достоинству. Другие, не желая соглашаться с моими доводами, выдвигали против меня самые смешные и невероятные аргументы. Нашлись и такие, кто, будучи покорен и убежден весомостью приводимых мной доводов, пытался лишить меня славы, делая вид, будто им никогда не попадались на глаза мои сочинения, и пытаясь выдавать себя за открывателей столь впечатляющих чудес. Я не говорю уже о моих приватных беседах и большей частью неизданных доказательствах и утверждениях, вызвавших серьезные возражения и отвергнутых как якобы не заслуживающие внимания, хотя именно на них впоследствии столь рьяно претендовали те, кто с поразительной ловкостью пытался присвоить честь их открытия проницательности своего разума.
Немало таких узурпаторов я мог бы назвать поименно, но обойду их молчанием, ибо по существующему обычаю за первое преступление принято карать не столь сурово, как за последующие. Но я не стану более молчать о лице, нанесшем мне оскорбление уже вторично и пытавшемся с неслыханной дерзостью проделать со мной еще раз то, что оно уже проделало несколько лет назад, присвоив себе изобретение моего геометрического циркуля35, хотя я за много лет до того показывал свой циркуль многим синьорам и обсуждал его с ними, а затем издал его описание. Да простится мне на этот раз, если я вопреки своей натуре, привычке и намерениям дам волю негодованию и выскажу громогласно, возможно, с чрезмерной горечью, то, что на протяжении многих лет таил про себя. Я говорю о Симоне Марио36 из Гунтценхаузена. {18}
В бытность свою в Падуе, где тогда жил и я, этот синьор написал по-латыни трактат о пользовании моим циркулем и, присвоив себе его изобретение, поручил одному из своих учеников, дабы тот издал его сочинение под своим именем. Затем, должно быть, для того, чтобы избежать наказания, он незамедлительно покинул родные края, бросив своего ученика37, как говорится, на произвол судьбы. За отсутствием Симона Марио я был вынужден выступить против его ученика, сделав это так, как изложено в «Защите»38, написанной и опубликованной мной.
Через четыре года после выхода моего «Звездного вестника» тот же синьор, желая украсить себя чужими трудами, без тени смущения выдал себя за автора всего, что я открыл и напечатал в указанном сочинении. В своем трактате под названием «Мир Юпитера»39 он имел наглость утверждать, будто наблюдал Медицейские планеты40, обращающиеся вокруг Юпитера, раньше, чем я. Но, поскольку редко бывает так, что истина позволяет себе быть подавленной ложью, Вы можете видеть, как он сам своей небрежностью и полным непониманием вооружает меня в своем трактате аргументами, позволяющими изобличить его на основании неопровержимых улик и выявления допущенных им бесспорных ошибок, доказав тем самым, что он не только не наблюдал Медицейские светила раньше меня, но и заведомо не наблюдал их через два года после меня. Более того, есть все основания полагать, что этот синьор вообще не наблюдал их.
Хотя самые убедительные тому доказательства можно было бы почерпнуть из разных мест в его книге, я приведу лишь одно подтверждение сказанному, оставляя все прочее до другого раза, дабы не растекаться чрезмерно и не уклоняться от главного. Во второй части своего «Мира Юпитера», рассматривая явление шестое, Симон Марио пишет о том, как путем тщательных наблюдений он установил, что четыре спутника Юпитера никогда не выстраиваются вдоль прямой, параллельной плоскости эклиптики, если не находятся на максимальных удалениях от Юпитера, а в остальное время движутся с наклоном, значительно отличающимся от указанной прямой. Он утверждает, что спутники Юпитера всегда наклонены к северу от этой прямой, когда находятся ближе всего к нам на своих орбитах, и, наоборот, к югу, когда находятся дальше всего от нас. Дабы {19} сохранить такую картину, орбиты спутников должны быть наклонены к югу от плоскости эклиптики в своих верхних частях и к северу в своих нижних частях. Но это его учение изобилует ошибками, со всей очевидностью обнаруживающими и подтверждающими его обман.
Прежде всего неверно, что четыре орбиты спутников наклонены относительно плоскости эклиптики: в действительности они всегда параллельны ей41. Неверно также, что спутники никогда не выстраиваются вдоль прямой, если не находятся на максимальном удалении от Юпитера: случается иногда, что на любом (максимальном, среднем или минимальном) удалении они видимы на идеальной прямой и сливаются друг с другом. Кроме того, когда два из них движутся в противоположные стороны и проходят очень близко от Юпитера, они совпадают столь точно, что два спутника легко принять за один. Наконец, неверно, что когда они образуют с плоскостью эклиптики некий угол, то они всегда наклонены к югу, когда находятся в верхней половине своих орбит, и к северу, когда находятся в нижней половине. Точнее говоря, так они бывают наклонены лишь иногда, а в остальное время они наклонены по-другому, т. е. к северу, когда находятся на верхней полуокружности, и к югу, когда находятся на нижней полуокружности. Симон Марио, не поняв или не наблюдав этого, нечаянно выдал свою ошибку. Вот как обстоит дело в действительности.
Четыре орбиты Медицейских планет всегда параллельны плоскости эклиптики, а поскольку мы находимся в той же плоскости, всякий раз, когда Юпитер имеет нулевую широту (т. е. лежит на эклиптике), движения этих светил представляются нам происходящими по одной и той же прямой, а их соединения в любом месте всегда происходят со всей полнотой и без отклонения. Когда же Юпитер лежит вне плоскости эклиптики и имеет относительно этой плоскости северную широту, четыре орбиты спутников остаются параллельными эклиптике, причем те части орбит, которые расположены дальше всего от нас (неизменно остающихся в плоскости эклиптики), кажутся нам наклоненными к югу относительно тех частей этих орбит, которые расположены ближе к нам и кажутся наклоненными к северу. Напротив, когда Юпитер находится под южной широтой, то наиболее удаленные от нас части тех же малых орбит кажутся нам наклоненными к северу больше, чем более близкие части. Таким образом, когда Юпитер находится под {20} северной широтой, его спутники кажутся наклоненными в другую сторону, чем когда Юпитер лежит под южной широтой: в первом случае они видны наклоненными к югу, когда находятся в верхних частях своих орбит, и к северу, когда находятся в их нижних частях, а во втором случае наклонены в противоположную сторону, т. е. к северу в верхней половине орбит и к югу в нижней. Наклон бывает больше или меньше в зависимости от того, больше или меньше широта Юпитера.
Симон Марио пишет о том, что наблюдал четыре Медицейских светила всегда наклоненными к югу в верхней половине их орбит. Следовательно, он производил свои наблюдения, когда Юпитер находился под северной широтой. Но, когда я производил свои первые наблюдения, Юпитер находился в южных широтах и пребывал в них долгое время, выйдя в северные широты только через два с лишним года. Это означает, что широты четырех светил могли выглядеть так, как их описывает Симон, только через два с лишним года, поэтому если он вообще видел и наблюдал их, то на два с лишним года позже, чем я.
Таким образом, его собственные писания обвиняют его во лжи, когда он утверждает, будто наблюдал [спутники Юпитера] раньше, чем я. Но позволительно пойти дальше и высказать гораздо более правдоподобное убеждение в том, что он вообще не наблюдал их, поскольку он утверждает, будто, по его наблюдениям, они выстраиваются в идеальную прямую, только когда находятся на максимальном удалении от Юпитера. Истина же состоит в том, что на протяжении четырех месяцев, с середины февраля по середину июня 1611 г., Юпитер находился под малой или нулевой широтой и четыре светила, о которых идет речь, во всех своих положениях неизменно выстраивались по прямой.
Обратите внимание на хитрость, с которой он тщится доказать, будто опередил меня. В своем «Звездном вестнике» я писал, что провел первое наблюдение седьмого января 1610 г., продолжая наблюдения в последующие ночи. И тут появляется Симон Марио и, присвоив мои же наблюдения, печатает в заглавии своей книги и еще раз во введении к ней, будто проводил свои наблюдения в 1609 г., пытаясь внушить людям, что именно он был первым. Но самое раннее из наблюдений, которые он выдает за свои, есть не что иное, как второе наблюдение, проведенное мной. Тем не менее он утверждает, {21} будто оно было проведено в 1609 г. О чем Симон Марио не удосуживается уведомить читателя, так это о том, что поскольку он не принадлежит к нашей церкви и не принял григорианский календарь, то седьмое января 1610 г. для нас, католиков, то же самое, что двадцать восьмое декабря 1609 г. для еретиков. Вот то, что касается приоритета якобы произведенных им наблюдений. Он также ложно приписывает себе открытие их периодических движений, обнаруженных мной после неусыпных и утомительных трудов и описанных в моих «Солнечных письмах», а позднее в напечатанном мной трактате о телах, пребывающих в воде. О том, что Симон видел эту мою книгу, можно судить по его сочинению. Именно у меня он вне всякого сомнения почерпнул движения [спутников Юпитера].
Боюсь, что я позволил себе гораздо большее отступление, чем требовалось в данном случае. Возвращаясь к затронутой теме, я хотел бы заметить, что после столь ясных доказательств у меня не осталось ни малейших сомнений в недоброжелательности и упорном неприятии моих работ. Я намеревался хранить полное молчание об этом, дабы избавить себя в будущем от неприятного ощущения мишени для частой и меткой стрельбы и дабы не давать другим повода для развития столь предосудительных наклонностей. Разумеется, мне неоднократно представлялась возможность напечатать другие свои сочинения, возможно, не менее удивительные для философских школ и не менее значимые для науки, чем те, которые были напечатаны раньше. Но перечисленные выше причины были столь действенны, что я умышленно ограничился мнениями и суждением нескольких синьоров, моих настоящих и искренних друзей, которым я поверял свои мысли и с которыми обсуждал их. Мне доставляло удовольствие делиться мыслями по мере того, как мой разум создавал их, не испытывая при этом более тех жалящих уколов, которые так досаждали мне прежде.
Названные выше синьоры, мои друзья, выказав немалое одобрение моим идеям, стали приводить различные доводы, стремясь убедить меня, дабы я пересмотрел принятые мной решения. Прежде всего они пытались убедить меня не обращать внимания на настойчивые нападки, ссылаясь на то, что все эти нападки в конечном счете обращаются против тех, от кого они исходят, и, придавая моим аргументам большую живость и привлекательность, еще более подчеркивают необычную {22} природу моих сочинений. Приводили они и известную сентенцию о том, что пошлость и посредственность мало кого трогают, если трогают вообще, и на них не следует обращать внимания, что человеческий разум влечет только к необыкновенному и трансцендентному, а это, в свою очередь, рождает в скверных умах зависть и толкает их на клевету. Эти и аналогичные аргументы, подкрепленные авторитетом указанных синьоров, почти поколебали принятое было мной решение не браться более за перо, однако желание жить спокойно и без подобных споров возобладало, и, укрепившись в своем намерении, я счел было, что вынудил умолкнуть все языки, с такой готовностью перечившие мне.
Но стоило мне прийти в такое расположение духа, как выяснилось, что все мои старания были напрасны. Как ни старался я хранить молчание, мне не удалось избегнуть довлеющего надо мной рока, неизбежно вынуждающего меня иметь дело с теми, кто пишет против меня и ищет со мной ссоры. Тщетно воздерживался я от высказываний, все люди, столь рьяно стремившиеся досадить мне, принялись приписывать мне сочинения других авторов. Развернув против меня яростную кампанию, они совершили нечто такое, чего, по моему разумению, никогда не произошло бы, не будь их дух обуреваем чрезмерным желанием [досадить мне].
Синьору Марио Гвидуччи42 в соответствии с его положением, разумеется, не могло не быть разрешено чтение лекций в академии и напечатание его «Рассуждения о кометах»43 без Лотарио Сарси, лица никому не ведомого, который за это напустился на меня и без всякого почтения к такому прекрасному человеку [как Марио Гвидуччи] приписал мне авторство «Рассуждения». Я же не имел к этому сочинению никакого отношения, если не считать того, что синьор Гвидуччи оказал мне честь и почтил меня, выразив согласие с моими мыслями,— согласие, которое он неоднократно высказывал в беседах с указанными синьорами, моими друзьями, во время частых к его удовольствию встреч с ними. Но даже если бы все «Рассуждение о кометах» было делом моих рук (мысль, которая не могла бы прийти в голову всякому, кто знает синьора Марио), то как назвать поведение Сарси, с таким рвением обнажившего мое лицо и «разоблачившего» меня в то время, как я высказал желание остаться инкогнито? После подобного поступка, подвергшись неожиданно для себя обращению столь {23} необычного свойства, я решил нарушить данный мною же зарок не издавать более своих сочинений. Я предприму все, что в моих силах, дабы его [Лотарио Сарси] неподобающий поступок не остался безнаказанным, в надежде, что это послужит уроком для тех, кто, как говорится, не может пройти мимо спящей собаки, чтобы не подразнить ее, и кто назойливо пристает к людям, жаждущим, чтобы их оставили в покое.
Мне доподлинно известно, что имя Лотарио Сарси, о котором прежде никто и не слыхивал, служит лишь маской для кое-кого, кто предпочитает не раскрывать своего настоящего имени. Не в моем обыкновении доставлять неприятности другому, срывая с него маску на манер Сарси, поскольку мне представляется недостойным состязаться в такого рода занятии, к тому же это вряд ли может чем-либо помочь моим сочинениям или снискать к ним благорасположение. Думаю, что с ним [Лотарио Сарси] надлежит поступить как с лицом неизвестным, дабы иметь больший простор для более ясного изложения своих аргументов и более свободного объяснения моих идей. Мне хорошо известно, что те, кто предпочитает скрываться под маской, неоднократно оказывались людьми подлыми, пытавшимися под прикрытием псевдонима снискать авторитет среди синьоров и ученых и использовать затем в каких-либо своих целях то достоинство, которым наделяет благородство. Случалось им бывать и синьорами, которые, оставаясь неопознанными, отбрасывают прочь респектабельный декорум, приличествующий их рангу, и свободно и открыто разговаривают обо всем с первым встречным по обычаю многих городов Италии, от души наслаждаясь своей шуткой и столь малопочтенным занятием. Думаю, что к последним принадлежит и тот, кто скрывается под маской Лотарио Сарси, ибо если бы он был одним из первых, то с его стороны было бы весьма неразумно пытаться ввести публику в заблуждение. Насколько я могу судить, только оставаясь анонимом, он мог позволить себе высказать то, что никогда не осмелился бы заявить мне в лицо. Не следует поэтому ставить мне в вину, если я, пользуясь привилегией, предоставленной мне любителями маскарадов, обойдусь с ним весьма вольно. Пусть ни он, ни кто-нибудь другой не надеются, что я буду взвешивать каждое слово,— вполне возможно, что говорить я буду гораздо откровеннее, чем это пришлось бы ему по вкусу.
Я хотел бы, чтобы Вы, знаменитейший синьор, {24} первым ознакомились с моим ответом [Лотарио Сарси], ибо, будучи человеком наиболее сведущим, благороднейшим и лишенным какой бы то ни было пристрастности, Вы должным образом поймете мои побудительные мотивы и не сможете не осудить наглость тех, кто не по своему невежеству (ибо невежество здесь играет лишь самую незначительную роль), а по злому умыслу пытается исказить мои аргументы перед простыми, несведущими людьми. Хотя при первом чтении сочинения Сарси я намеревался изложить свой ответ в простом письме к Вашей милости, приступив к делу, я обнаружил, что вопросы, затронутые в его трактате и требующие внимания, множатся у меня под рукой, и был вынужден далеко выйти за рамки письма. Тем не менее я не оставил своего первоначального намерения адресоваться к Вашей милости, сколь бы обширен ни был мой ответ. Мне пришло в голову назвать свой ответ «Пробирных дел мастер», дабы не выходить за пределы метафоры, к которой прибег Сарси, ибо мне показалось, что при взвешивании утверждений синьора Гвидуччи он использовал слишком грубые весы, и я предпочел выбрать весы, применяемые в пробирном деле, позволяющие определять менее одной шестидесятой грана44. Используя их со всей возможной тщательностью и не пропуская ни одного из выдвинутых им утверждений, я подверг анализу каждое из них. Все взвешивания я буду различать по номерам с тем, чтобы, если они когда-нибудь попадутся на глаза синьору Сарси и он пожелает ответить, ему нетрудно было осуществить свое намерение, не пропустив ничего.
Переходя, наконец, к конкретным соображениям, уместно сказать несколько слов о титульном листе его сочинения, дабы ничто не избежало взвешивания. Синьор Лотарио Сарси назвал свой труд «Астрономические и философские весы». В приведенной после заглавия эпиграмме он излагает мотив, побудивший его остановить свой выбор именно на этом варианте названия. Оказывается, комета, появившаяся и исчезнувшая под знаком Весов, мистически навела его на мысль взвесить на точных весах все утверждения трактата о кометах, напечатанного синьором Марио Гвидуччи. Замечу, что Сарси при первом же удобном случае начинает произвольно подтасовывать факты, дабы они наилучшим образом отвечали его намерениям. Подобный стиль сохраняется на протяжении всего трактата. Ему пришел в голову каламбур относительно весов, [на которых он взвешивает аргументы {25} Гвидуччи], и небесных Весов, и, так как ему кажется, что его метафора выиграла бы, если бы комета появилась в Весах, он совершенно произвольно утверждает, будто она действительно появилась именно там. Его нимало не заботит, что при этом он противоречит истине и даже в каком-то смысле самому себе, ибо он противоречит своему учителю, который на странице 10 своего «Возражения»45 приходит к выводу о том, что, «в какую бы из этих дат ни засияла комета, ее истинное место рождения находится в Скорпионе», несколькими строками ниже замечает: «...родилась она [комета] в Скорпионе, т. е. в главном доме Марса» — и чуть дальше продолжает: «Я, насколько можно судить, видел, где она родилась, и в соответствии со всем утверждаю, что это было в Скорпионе». Думаю поэтому, что более уместным (и соответствующим истине, если учесть, что именно в действительности написал Сарси) было бы назвать его сочинение «Астрономический и философский скорпион», как то созвездие, о котором наш замечательный поэт Данте46 написал, что это [группа звезд]
|
С холодным зверем сходная чертами, Который бьет нас, изгибая хвост47, |
и поистине для меня [в этом сочинении] не было недостатка в жалящих уколах. Уколы эти были гораздо более болезненными, чем уколы скорпионов, ибо последние, как друзья человека, не жалят прежде, чем мы не заденем их и не принудим их к защите, в то время как вышеуказанный синьор непременно ужалил бы меня, не помышлявшего задевать его. Но, по счастью, мне известно противоядие и лекарство, быстро исцеляющее от подобных укусов, и я раздавлю скорпиона и натру им раны: его тело впитает его же собственный яд, и я останусь живым и невредимым48.
I
Итак, мы приступаем к трактату и свое первое взвешивание произведем над некоторыми словами из первого абзаца, а именно над фразой, начинающейся так: «Но один человек...» Но прежде приведем весь первый абзац целиком в таком виде, в каком он стоит в печатном тексте, дабы не упустить ничего.
| {26} |
ПЕРВОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
О ТОМ, ЧТО ГАЛИЛЕЙ ПРОТИВОПОСТАВИЛ
НАШИМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ
В прошлом году три огненные полосы сияли на небе с необычайной яркостью, и не было никого, кто, обладая ограниченным умом и не слишком острым зрением, не обращал бы на них время от времени свой взор, и не было никого, кто не дивился бы в то время их яркости. Но так как масса людей, несмотря на великую тягу к знанию, не обладает всем необходимым для исследования природы вещей, они требуют, и вполне справедливо, объяснения столь важных явлений от тех, кто специально занимается созерцанием всего неба и всего мироздания. Было решено поэтому немедленно запросить академии философов и астрономов. Но почему все сразу решили, что именно наша Григориана49, известная широтой интересов своих академиков, должна считаться, помимо прочего, глазами всех и что именно к ней надлежит обращаться с вопросами и именно от нее ждать ответов? И хотя явление так и не получило своего объяснения, можно было бы по крайней мере попытаться исполнить свой долг и удовлетворить желание вопрошавших, и те, кому выпала такая задача, справились с ней неплохо, если вы поинтересуетесь мнением даже величайших умов. Но один человек, Галилей, неодобрительно, причем в самой резкой форме, отозвался о предложенном нами объяснении.
В заключительных словах абзаца он [Лотарио Сарси] утверждает, что мы резко отозвались о «Возражении» его учителя. На это я пока не считаю нужным отвечать, поскольку его утверждение абсолютно ложно. Тщательно проштудировав трактат синьора Марио, я не смог найти ни одного такого места, где бы содержалась резкая критика, и сам Сарси не приводит в подтверждение своих слов ни одной выдержки. Впрочем, к этому мы еще вернемся.
II
Далее следует (и это будет нашим вторым взвешиванием):
Сначала мы были огорчены тем, что наши умозаключения вызвали неодобрение человека, пользующегося столь высокой репутацией, но затем, к своему утешению, обнаружили, что в споре о кометах он обошелся и с {27} самим Аристотелем50, и с Тихо51, и с другими ничуть не милостивее. Следовательно, тем академикам, которые довольствуются тем, что делали общее дело заодно с величайшими умами, вряд ли нужны еще какие-то оправдания; но, поскольку великие мужи безмолвствуют, рассудить, кто прав, могли бы лишь судьи.
Он [Лотарио Сарси] утверждает здесь, будто сначала очень расстроился, узнав о моем неодобрительном отзыве о «Возражении», но вскоре, добавляет он, утешился, видя, что даже Аристотель, Тихо и другие подверглись столь же суровой критике, и поэтому тем, кого я в чем-либо обвинил, якобы нет необходимости приводить в свое оправдание дополнительные доводы, ибо их мнения не расходятся с мнениями наиболее выдающихся умов: отстаиваемое ими дело говорит само за себя, даже если бы они хранили молчание, и тем самым отстаивает их правоту в умах людей беспристрастных. Из этих слов я заключаю, что тот, кто оспаривает мнение авторов, известных как величайшие умы, не заслуживает особого почтения, ибо он упускает из виду, что некоторые люди выступают в защиту подвергаемых критике, даже если доверие к тем в глазах ученых основывается исключительно на их авторитете.
Я хотел бы обратить внимание Вашей милости на то, как Сарси случайно или по небрежности пачкает здесь репутацию своего учителя отца Грасси, видевшего в своей «Проблеме» главную цель в том, чтобы подвергнуть критике взгляды Аристотеля о кометах. Это отчетливо видно в его книге, и сам Сарси повторяет и подтверждает это на странице 45*. Следовательно, если тех, кто выражает свое несогласие с мнением великих людей, надлежит оставить без внимания, то отец Грасси также не заслуживает упоминания. Мы же не только не оставили без внимания его взгляды, но и рассмотрели их наряду с мнениями величайших умов, причислив его к их числу, поэтому в этом отношении он столь же возвышен нами, сколь принижен своим учеником. Я не вижу, на что может сослаться в свое оправдание Сарси, разве что он имел в виду иное: простому смертному не подобает быть оппонентом выдающихся гениев; необходимо с должным почтением относиться к умам в высшей степени выдающимся; к последним он относит своего учителя, {28} а всех остальных из нас — к безликому стаду. Но даже при этом он бросает нам упрек за то, что мы взяли на себя смелость сделать то, что приличествует делать его учителю.
III
Далее следует (и это наше третье взвешивание):
Но, так как мудрейшие мужи сочли желательным, дабы аргументы, которые Галилей выдвигает против тех, кто не снискал его расположения, а также аргументы, которыми он подкрепляет свои взгляды, были рассмотрены по крайней мере кем-нибудь несколько более тщательно, я решил кратко изложить те и другие аргументы.
Смысл этих слов, продолжающих сказанное выше, позволяет, насколько можно судить, прийти к заключению, что на людей, дерзающих противоречить самым выдающимся гениям, не следует обращать внимание и лучше всего просто не замечать их, однако если таким людям требуется дать ответ, то подобную задачу следует поручать лицам, занимающим скорее низкое, нежели высокое, положение. В нашем случае мудрейшие мужи сочли приличным, дабы Галилею отвечал не отец Грасси или кто-нибудь другой, равный ему по значимости, a saltern aliqius — просто кто-нибудь. На это мне нечего возразить или ответить, разве что, сознавая и признавая мое низкое состояние, склонить голову перед приговором таких мужей. Я ничуть не удивляюсь, что Сарси по собственной воле избрал жребий быть просто «кем-нибудь», кто взялся бы, засучив рукава, выполнить задачу, которая, по мнению мудрейших из мужей (и его самого), не могла бы быть поручена никому, кроме самого что ни на есть заурядного слуги. У меня в голове не укладывается (ибо естественный инстинкт побуждает каждого человека скорее преувеличивать, нежели приуменьшать, свои заслуги), для чего этому Сарси понадобилось столь сильно принижать свое положение и добиваться, дабы с ним обращались как с «кем-нибудь». Невероятность подобного стремления заронила во мне кое-какие подозрения, и в конце концов я стал сомневаться, не вкралась ли в эти слова незначительная опечатка и не следует ли вместо «должны быть рассмотрены кем-нибудь несколько более тщательно» читать «должны быть рассмотрены несколько более тщательно». Такой вариант я считаю правильным, поскольку он согласуется со всем остальным трактатом, в то время как другой вариант {29} довольно плохо согласуется с тем уважением, которое, как мне хотелось бы думать, Сарси испытывает по отношению к самому себе.
Продолжив вместе со мной изучение его сочинения, Ваша милость увидит, как верно мое замечание о том, что написанное синьором Марио он [Сарси] изучил кое-как (или даже никак не изучил), обращая внимание на мелочи, имеющие лишь косвенное отношение к главному, и пропуская основные выводы и заключення. Поступил же он так, ибо знал в душе, что не может не одобрить последние и не признать их истинность, а это шло бы вразрез с его основной задачей — всячески опорочить и опровергнуть их, о чем он сам пишет на странице 168 следующими словами: «Эти замечания, высказанные нами по поводу взглядов Галилея, имеют непосредственное отношение к комете. Ибо он, изложив весьма многословно и расплывчато свою точку зрения за время весьма продолжительного спора, противится нашим дальнейшим замечаниям и не дает нам изложить наши возражения против его позиции. Но как я могу предугадать то, о чем он умалчивает?» В этих словах, помимо его [Сарси] исключительного стремления опровергать меня, я хотел бы отметить два обстоятельства. Во-первых, он делает вид, будто не понимает многих вещей из-за того, что они, по его словам, неясно изложены, хотя, как выяснилось, именно эти вещи не встретили возражений у других. Во-вторых, он утверждает, что не смог опровергнуть те положения, которые я не выдвинул, а он не смог предугадать. Но, как Вы, Ваша милость, увидите, в действительности большая часть из того, что он берется опровергать, не была изложена мной, а была лишь предугадана или, лучше сказать, вымышлена им.
IV
Надеюсь, что я тем самым смогу удовлетворить многих из тех, кто отнюдь не одобряет того, что сделал Галилей. При обсуждении я буду постоянно воздерживаться от слов, которые более свидетельствуют о раздражении и гневе, нежели о научном подходе, хотя я охотно предоставляю этот способ ответа другим, если они того пожелают.
Итак, примем во внимание, что, поскольку Галилей предпочел обсуждать суть дела через посредников и толкователей, он тем самым открыл тайны своего разума {30} всякому, кто пожелает, не сам, а через Марио, консула Флорентийской академии. Следовательно, и мне позволительно излагать то, что я слышал от своего учителя Горацио Грасси о последних открытиях того же Галилея, но не консулу, а изучающим математику, и не одной академии, а всем академиям и всем, кто понимает латынь. Пусть Марио не удивляется тому, что я отвергаю консула и предпочитаю иметь дело непосредственно с Галилеем. Прежде всего в письмах, адресованных друзьям в Риме52, Галилей со всей ясностью признает, что все эти аргументы были плодом его размышлений. Кроме того, поскольку тот же Марио искренне признался, что он, будучи сильно приверженным истине, стремился предложить [читателю] не свои открытия, а то, что получил как бы под диктовку от Галилея, я рассудил вполне справедливо, что мне удобнее обсуждать все вопросы с тем, кто диктует, чем с консулом.
Во всей этой части вводных замечаний я хотел бы прежде всего отметить утверждение Сарси, будто своими опровержениями он сделал нечто, приветствуемое многими. Возможно, что он действительно сделал это для тех, кому не довелось читать трактат синьора Марио. Но если они поверили Сарси на слово, данное им с глазу на глаз и вполне конфиденциально, то это далеко уведет их от написанного, так как в своем напечатанном и опубликованном сочинении он не может удержаться от того, чтобы не излагать под видом якобы написанного синьором Марио великого множества вещей, которых никогда не было не только в сочинении [синьора Марио], но даже в наших помыслах. Далее он утверждает, что хотел бы воздержаться от слов, которые свидетельствуют о раздражении и гневе, нежели о научном подходе. В дальнейшем мы увидим, придерживается ли он своего обещания, а пока я лишь отмечу вырвавшееся у него признание о том, что он раздираем изнутри раздражением и гневом, ибо в противном случае его намерение воздерживаться от резкостей было бы если не ошибочным, то поверхностным: воздержание излишне там, где нет склонности и предрасположения.
Что же касается того, о чем он пишет дальше,— своего желания стать посредником, дабы поведать всем о моих последних открытиях, о которых он узнал от отца Горацио Грасси, своего учителя, то ни во что подобное я решительно не верю. Я убежден, что упомянутый им отец никогда не высказал бы, не придумал бы и не одобрил {31} бы те фантастические измышления, о которых пишет Сарси, весьма далекие во всех отношениях от всего, чему учат в коллегии отца Грасси, в чем я надеюсь убедить и Вас. Позвольте, не сходя с места, спросить: кто на свете, зная щепетильность святых отцов, поверит в то, что будто один из них публично написал, что в приватных письмах к друзьям в Риме я открыто называл себя автором трактата синьора Марио? Это немыслимо, но даже если бы нечто подобное было возможно, то тот, кто публикует подобные сведения, заведомо должен был бы получать удовольствие, сея семена разногласий между близкими друзьями. А как следует назвать поведение того, кто берет на себя вольность печатать приватные заявления других людей? Я счел за лучшее сообщить Вашей милости, как обстоит здесь дело в действительности.
Все время, пока комета была видна, я был прикован болезнью к постели, и друзья часто навещали меня на скорбном одре. Между нами часто происходили беседы, во время которых мне случалось высказывать мысли, вызывавшие значительные сомнения в правильности ранее существовавших учений об интересовавшем нас предмете. Синьор Марио часто бывал у меня среди прочих моих друзей и однажды сообщил мне, что намеревается выступить с сообщением о кометах перед академией, и выразил готовность упомянуть в своем сообщении, если мне будет угодно, наряду со сведениями, почерпнутыми у других авторов, и плодами собственных размышлений то, что узнал от меня, поскольку я сам не был в состоянии писать. Столь любезное предложение я расценил как дар судьбы и не только принял его, но и поблагодарил синьора Марио, выразив ему свою признательность. А тем временем из Рима и других мест поступали настойчивые просьбы от других друзей и патронов, которые, должно быть не ведая о моей немощи, желали знать, не могу ли я что-нибудь сказать об интересующем их предмете. На эти запросы я отвечал, что обдумал несколько вопросов, но не мог изложить их на бумаге из-за немощи, но надеюсь, что мои соображения и сомнения вскоре будут помещены в рассуждении некоего синьора, моего друга, который, дабы почтить меня, взял на себя труд собрать их и поместить в свой трактат. Обо всем этом я и сообщил, и это же было напечатано в нескольких местах самим синьором Марио. Следовательно, ничто не побуждало Сарси приукрашивать истину, ссылаясь на мои письма, или приписывать синьору Марио малое участие в создании {32} «Рассуждения» (в которое он вложил несравненно больше, чем я), низводя его до роли простого переписчика.
Но, коль скоро ему [Лотарио Сарси] так угодно, пусть будет так, как он желает, и пусть синьор Марио воспримет аргументы, приводимые мной в защиту его трактата, как своего рода уплату за честь, оказанную им мне.
V
Возвращаясь к трактату [Сарси], Ваша милость может перечитать следующие слова:
Прежде всего меня глубоко огорчили сетования Галилея на то, что с ним якобы несправедливо обошлись в нашем «Возражении», Мы утверждали там, что применение телескопа не приводит к увеличению размеров кометы, и заключали на основании этого, что комета удалена от нас на очень большое расстояние. По его [Галилея] же словам, он гораздо раньше утверждал, что эти соображения не имеют значения. Но предположим, что он действительно утверждал нечто подобное. Разве ветры не донесли бы тотчас его суждение до моего учителя? Слова великих людей часто способствуют распространению их славы. Что же касается этого его замечания, то, как ни странно, ни единый его слог не достиг нас. Несмотря на его притязания в этом вопросе, он, по свидетельству многих, знает, сколь велико благоволение к нему моего учителя и сколь неумеренные похвалы воздает тот ему и в приватных беседах, и в публичных дискуссиях, Галилей заведомо не может отрицать, что мой учитель не изрек в его адрес ни единой хулы, ни единого намека в каких-либо иных выражениях. Если у Галилея на этот счет есть какие-нибудь сомнения, то ему можно напомнить, с каким почетом принимали его в свое время математики в Римской коллегии, и не только в то время, когда шла публичная дискуссия о Медицейских планетах и телескопе и он внимал похвалам и (с такой скромностью!) краснел от них, но и на более поздних собраниях в том же месте, когда другая персона, размышлявшая о телах, плавающих в воде, непрестанно расточала хвалу Галилею, Я не могу взять в толк поэтому, что заставляет Галилея порочить доброе имя Римской коллегии, утверждать, будто ее преподаватели несведущи в логике, и, не колеблясь, заявлять, что наши взгляды на природу комет лишены смысла и опираются на ложные аргументы. {33}
По поводу приведенной выше цитаты я должен прежде всего заявить, что никогда не жаловался на то, будто со мной дурно обошлись в «Возражении» отца Грасси, ибо я абсолютно уверен в том, что его преподобию и в голову не приходило обидеть меня. Если же в ходе спора я тем не менее считал, что отец Грасси намеревается включить меня в число тех, кого он критикует за неодобрительное отношение к аргументу, проистекающему из незначительного увеличения кометы, то это отнюдь не дает права Сарси думать, будто на этом основании я должен чувствовать себя обиженным и жаловаться. Возможно, причина для сетований существовала бы, если бы я придерживался ложных взглядов и ложность их была бы сделана достоянием публики. Но поскольку мое утверждение находилось в полном согласии с истиной, а мнение другого было ложно, то многие мои оппоненты, в особенности столь почтенные, как отец Грасси, могли доставить мне только удовольствие, но никак не огорчение, ибо куда больше восторга приносит победа над храбрым и многочисленным противником, нежели над несколькими слабыми оппонентами.
Со всех концов Европы стали поступать сведения, доходя, как пишет Сарси, до его учителя, а через некоторых людей попутно и до нас, о том, что самые известные астрономы, как правило, проявляют большой интерес к указанному аргументу [незначительному увеличению кометы при наблюдении ее в телескоп]. И в наших краях, и в самом нашем городе было предостаточно людей, разделявших упомянутое выше мнение. Узнав об этом, я решил ясно и без обиняков дать понять, что почитаю подобное рассуждение безосновательным. Многие стали потешаться над моими словами, и число их приумножилось, когда они обнаружили, что на их стороне авторитетная поддержка и подтверждение математиков из Римской коллегии. Не стану отрицать, что это доставило мне кое-какие неприятности. Оказавшись перед необходимостью отстаивать свое утверждение перед лицом столь многочисленных оппонентов, которые, ощутив столь мощную поддержку, укрепили свои позиции и стали наседать на меня еще более неотступно, я не видел иного способа возразить им, кроме как причислив к ним и отца Грасси.
Таким образом, понуждаемый непредвиденными обстоятельствами, а отнюдь не по воле случая, я направил свое противление в том направлении, в каком менее всего хотел бы его направить. Но я никогда не жаждал вопреки {34} утверждению Сарси, дабы мое мнение на крыльях ветра Донеслось до Рима, как это обычно бывает с высказываниями великих и знаменитых личностей. Мое честолюбие не простирается столь далеко. Должен признаться, что при чтении «Весов» меня несколько удивило, почему то, о чем я говорил, не достигло ушей Сарси. Разве не удивительно, что до него дошло так много такого, о чем я никогда не говорил и не помышлял (в его трактате приведено много такого рода измышлений), и в то же время Ее дошло ни единого слова из того, о чем мною было говорено неоднократно? Может быть, ветры, которые гонят облака, а заодно и химеры и чудовища, принимающие самые причудливые формы, были недостаточно сильны Для того, чтобы переносить массивные и тяжелые вещи?
Из слов, идущих далее, я заключаю, что Сарси, должно быть, ставит мне в великую вину, что я уступаю в любезности отцам из Римской коллегии и не ответил комплиментом на комплименты, которыми они осыпали меня во время публичных лекций о совершенных мной небесных открытиях и моих соображениях о телах, пребывающих в воде. Что я должен был сделать? Воздать хвалу и выразить одобрение «Возражению» отца Грасси, отвечает Сарси. Но поскольку отношения между тобой и мною, синьор Сарси, подлежат взвешиванию и должны строиться, как принято говорить, на деловой основе, то я спрошу тебя: признают ли преподобные отцы мои идеи за истинные или считают их ложными? Если они признают мои идеи истинными и как таковым воздают им хвалу, представляется весьма интересным, что ты [Лотарио Сарси] требуешь от меня в качестве компенсации за предоставленную мне ссуду, дабы я превозносил то, что почитаю ложным. Если же [преподобные отцы] признают мои идеи лишенными смысла и тем не менее восхваляют их, то мне не остается ничего другого, как поблагодарить их за вежливость, однако я был бы более признателен им, если бы они указали мне мою ошибку и открыли истину, ибо пользу от точной поправки я ставлю несравненно выше, чем всякую помпу и церемонии. А поскольку я полагаю, что все добрые философы думают так же, то не чувствую себя связанным каким-либо долгом ни в том, ни в другом случае.
Возможно, ты [Лотарио Сарси] скажешь, что мне следовало молчать. На это я отвечу, во-первых, что синьор Марио и я были связаны обещанием опубликовать наши идеи еще до того, как был напечатан трактат отца Грасси, {35} поэтому хранить молчание означало бы для нас навлекать на себя всеобщее презрение и насмешки. Добавлю, что я не преминул бы попросить и, возможно, даже стал бы умолять синьора Гвидуччи воздержаться от печатания его «Рассуждения», если бы в этом сочинении содержалось что-нибудь наносящее ущерб достоинству знаменитой коллегии или любому из ее профессоров, Но коль скоро все мнения, против которых мы выступили, разделялись другими до того, как их стал разделять математик и профессор коллегии, я не усматриваю, каким образом одно лишь удостоение этих взглядов одобрения его преподобия налагает на нас обязательство пренебречь истиной и сокрыть ее, дабы продлить заблуждение. Следовательно, упрек в том, что они слабы в логике, может быть брошен Тихо и другим, с таким единодушием воспринявшим аргумент, о котором идет речь. Мы обращаем внимание на это единодушие не для того, чтобы выделить кого-нибудь или заклеймить их, а единственно с целью предостеречь других от ошибки и придать очевидность истине. Не думаю, чтобы действия такого рода заслуживали порицания.
Таким образом, у Сарси нет оснований утверждать, будто я виновен в умалении достоинства Римской коллегии. Напротив, ибо если голос Сарси исходит из коллегии, то у меня имеются основания подозревать, что моя теория и моя репутация считаются в указанной коллегии дурно пахнущими не только ныне, но и всегда, ибо в «Весах» ни одна из моих мыслей не удостоилась одобрения. В них не содержится ничего, кроме неприятия моих идей, полного обвинений, осуждения и, если верить слухам, хвастливых угроз уничтожить меня53. Но, поскольку я не верю ни этим слухам, ни тому, что в коллегии существуют подобные идеи, мне не остается ничего другого, как предположить, что философия Сарси такого свойства, которое позволяет ему восхвалять или поносить, подтверждать или опровергать одни и те же теории в зависимости от того, движет ли им благоволение или гнев. В этом отношении он напоминает мне человека, преподававшего в свое время философию в Падуанском университете. Рассердившись, как это часто бывает, на одного из своих ученых коллег, он заявил однажды, что если тот не исправится, то он тайно подошлет кого-нибудь к нему на лекции, дабы выведать, чему он учит, и будет в отместку всегда утверждать противоположное.
| {36} |
VI
Читаем, Ваша милость, дальше:
Но, дабы не тратить время даром, замечу прежде всего, что мне не понятно, как может Галилей якобы на законном основании противиться моему учителю и даже обвинять того в ошибке, насколько можно судить, потому, что тот якобы неотступно следует словам Тихо и вторит ему во всех его тщетных предприятиях. Но это ложь от начала и до конца, ибо если не считать способа и метода вычислений, с помощью которых было обнаружено местоположение кометы, то Галилей, как явствует из его же слов, не нашел в нашем «Возражении» ничего такого, в чем мы следовали бы Тихо. Даже с помощью своего телескопа рысьеглазый астролог не может заглянуть в сокровенные мысли нашего разума. Но даже если мой учитель разделяет взгляды Тихо, разве это преступление? Кому, если не Тихо, он мог бы следовать? Птолемею54, горло каждого последователя которого ныне находится в опасной близости от обнаженного меча Марса? Или Копернику55? Но всякий, кто достойно исполняет свой долг, призовет всех держаться от него подальше, а также отринет и отвергнет его недавно осужденную гипотезу. Итак, остается только Тихо, Лишь его мы можем выбрать кормчим среди неведомых путей небесных светил. Почему же, спрашивается, Галилея столь разгневало, что мой учитель не отверг Тихо? Тщетно Галилей взывает к Сенеке56; тщетно оплакивает он превратности нашего неспокойного времени, ибо просто не понимает истинного и незыблемого положения земных вещей; тщетно сетует он на несчастья нашего времени, как будто нет ничего, что могло бы сделать более счастливым время, которое он считает несчастливым.
Из того, что пишет здесь Сарси, я могу заключить, что он не читал достаточно внимательно ни «Рассуждение» синьора Марио, ни даже сочинение отца Грасси, ибо как одному, так и другому трактату он приписывает утверждения, которые в них не содержатся. Правда, ему настоятельно необходимо, дабы такие вещи были написаны, дабы иметь зацепку и каким-то образом заклеймить меня как коперниканца, а поскольку их нет, он вынужден измышлять их.
Начать хотя бы с того, что в трактате синьора Марио отцу Грасси не ставится в упрек и не вменяется в вину приверженность взглядам Тихо и дотошное следование {37} всем благоглупостям, которые тот наворотил. Приведем те выдержки [из «Рассуждения» Гвидуччи], на которые ссылается Сарси. На одной странице читаем: «Я хотел бы обратить внимание на одного профессора математики Римской коллегии, который в недавно опубликованном трактате расписался под каждым утверждением Тихо и привел несколько новых соображений, подтверждающих правильность взглядов последнего». На другой странице
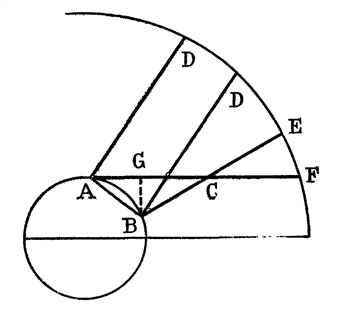 |
Рис. 1 |
Проводя хорду АВ дуги земного шара через два указанных места [рис. 1] и визируя из точки А неподвижную звезду в D, он предполагает, что угол DAB прямой, а это не только не верно, но даже невозможно. Отрезок АВ — хорда дуги, по утверждению самого Тихо, меньшей шести градусов. Дабы указанный угол был прямым, неподвижная звезда D должна была бы отстоять от зенита в точке А менее чем на три градуса. Но это заведомо не так, поскольку ее минимальное расстояние от зенита больше сорока восьми градусов, ибо, согласно самому Тихо, склонение неподвижной звезды D в созвездии Орла, или, если угодно, Альтаир, равно 7°52' (северное), в то время как широта Ураниборга составляет 55°54' [северная]. Далее он [Тихо] пишет, что одна и та же неподвижная звезда видна из двух мест А и В в одном и том же месте на восьмой сфере, поскольку вся Земля, не говоря уже о ее малой части АВ,— величина неощутимо малая по сравнению с огромными размерами восьмой сферы. Прости меня, Тихо, но велика или мала Земля, не имеет в данном случае ни малейшего отношения к делу. То, что одна и та же звезда видна отовсюду на Земле в одном и том же месте, зависит от того, что звезда эта действительно находится на восьмой сфере, и ни от чего более, подобно тому как буквы на этой странице никогда не изменят своего видимого расположения относительно страницы, как бы ты ни менял положение глаза, которым рассматриваешь страницу. В то же время любой предмет, помещенный между глазом и страницей, будет изменять свое видимое положение относительно букв, если двигать текст. Одна и та же буква будет видна то справа от него, то слева, то выше его, то ниже. Аналогичным образом места планет на небесной сфере, если рассматривать их из различных мест на Земле, потому и изменяются, что небесная сфера расположена очень далеко позади них. Малость Земли сказывается при этом лишь в следующем: более удаленные от нас планеты подвержены меньшим изменениям, чем более близкие, а для последней, {39} самой далекой от нас планеты размеры Земли недостаточны, дабы изменения ее положения были ощутимы.
Далее, когда Тихо добавляет, будто происходящее согласуется с законами дуг и хорд, Вы, Ваша милость, можете убедиться, как далек он от этих законов и даже от начал геометрии. Тихо утверждает, будто две прямые AD и BD перпендикулярны АВ, но это невозможно, так как только одна прямая, падающая из вершины, перпендикулярна касательной и прямым, ей параллельным, между тем эти линии вообще не исходят из вершины, а АВ не касательная и не параллельная ей прямая. Кроме того, он [Тихо] требует, чтобы они были параллельны, а несколько далее утверждает, будто они пересекаются в центре, между тем как эти линии (даже если отвлечься от противоречия между требованиями пересекаться и быть параллельными), если их продолжить, проходят далеко от центра. Наконец, он заключает, будто прямые, проведенные из центра окружности, в точках А и В перпендикулярны [хорде], что невозможно, поскольку из всех прямых, проведенных из центра к хорде АВ, только прямая, проходящая через середину хорды, перпендикулярна последней, а прямые, проходящие через концы хорды, наклонены к ней более других и проходят более косо, чем другие прямые.
Судите сами, Ваша милость, с какими и сколь многочисленными нелепостями обрек бы согласиться своего учителя Сарси, если бы то, о чем он говорил, было истиной, а именно утверждение, будто он [отец Грасси] в поисках местоположения кометы следовал рассуждениям Тихо и его методу доказательства. Сарси может убедиться также, насколько лучше, чем он сам, не прибегая ни к астрологии, ни к телескопу, я проник не скажу в его сокровенные помыслы, ибо, дабы уловить их, у меня не хватает остроты зрения и слуха, но в смысл его писаний, столь ясный и наглядный, что для этого не требуются глаза рыси, как изящно выразился Сарси в насмешку над нашей академией. Поскольку эта насмешка затрагивает не только меня, но и Вашу милость и других князей и знаменитых синьоров, я извлеку корысть из поучения Сарси и пренебрегу его насмешкой, укрывшись под Вашей сенью, или, лучше сказать, развею свои сумерки Вашим блеском.
Но вернемся к основной теме нашего разговора. Как Вы убедитесь сами, он [Сарси] еще раз представляет дело так, будто я вменяю отцу Грасси в тяжкую вину его {40} приверженность теории Тихо, и вопрошает возмущенно: «Кому же он должен следовать? Птолемею, учение которого, как показали недавние наблюдения Марса, ложно? Или, быть может, Копернику? Но его [Коперника] должен отринуть каждый, ибо его гипотеза осуждена окончательно и бесповоротно». По этому поводу я выскажу несколько замечаний. Прежде всего я хотел бы возразить, что совершенно неверно, будто я когда-нибудь критиковал кого бы то ни было за приверженность Тихо, даже если у меня были весьма веские основания для этого, что наконец стало ясно его последователям из трактата «Анти-Тихо» знаменитого Киаромонти61. Следовательно, в том, что касается этого замечания, Сарси очень далек от истины. Еще меньшее отношение к делу имеет упоминание о Птолемее и Копернике, не написавших ни слова о расстояниях, величинах, движениях и теории комет, которые мы здесь только и рассматриваем. С тем же основанием он мог бы упомянуть Софокла62, Бартоле63 или Ливия64.
Сдается мне, что я распознал у Сарси твердое убеждение в том, будто при философствовании необычайно важно опираться на мнение какого-нибудь знаменитого автора, словно наш разум непременно должен быть обручен с чьими-то рассуждениями, ибо в противном случае он пуст и бесплоден. Он [Сарси], по-видимому, полагает, что философия — книга чьих-то вымыслов, такая же, как «Илиада»65 или «Неистовый Орланд»66 — книги, для которых менее всего значит, истинно ли то, что в них написано. В действительности же, синьор Сарси, все обстоит не так. Философия написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее — треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту. Сарси, должно быть, полагает, что наш разум непременно должен находиться в рабском подчинении у какого-нибудь другого человека (я уже не говорю о том, что, низводя тем самым всякого, в том числе и себя, до роли жалкого подражателя, он восхваляет в себе то, что осуждал в синьоре Марко) и что, созерцая небесные тела, непременно следует следовать кому-то. {41}
Но даже если принять подобное предположение, то я все равно не усматриваю, почему он выбирает Тихо и ставит его превыше Птолемея и Николая Коперника, ибо они оба построили и довели до конца полные системы мира. Тихо, насколько я могу судить, этого не сделал. Не считает же Сарси достаточным то, что Тихо отверг две другие системы мира и пообещал нам новую67, хотя и не выполнил впоследствии своего обещания. Я хочу, дабы Сарси не только убеждал в ошибочности двух других систем мира, но и признал кое-что относительно системы мира Тихо; ибо что касается системы Птолемея, то ни Тихо, ни другие астрономы, ни даже Коперник не могли со всей отчетливостью опровергнуть ее, поскольку на их пути всегда стоял самый главный аргумент, почерпнутый из движений Марса и Венеры.
Так как диск Венеры в двух соединениях и в моменты элонгации от Солнца обнаруживает мало изменений по величине, а диск Марса в перигее не более чем в три или четыре раза больше, чем в апогее, вряд ли кого-нибудь удастся убедить в том, что диск Венеры в одном положении может быть в сорок раз, а диск Марса в шестьдесят раз больше, чем в другом положении, как это требовалось бы, если бы обращение этих планет вокруг Солнца происходило в соответствии с теорией Коперника. И тем не менее я доказал, что в действительности все обстоит именно так и доступно нашим чувствам, а с помощью телескопа сделал это ощутимо очевидным для каждого, кто пожелал в него взглянуть. Что же касается гипотезы Коперника, то разве не божественная мудрость избавила нас, католиков, для нашего же блага от ошибки и просветила нашу темноту? Не думаю, чтобы такая милость и благость могли бы произойти от причин и опытов, охваченных Тихо.
Таким образом, хотя две системы мира заведомо неверны, а системы Тихо не существует, Сарси не следовало бы упрекать меня за то, что я вместе с Сенекой жажду постичь истинное устройство Вселенной. Запрос велик, и, хотя я очень хотел бы знать [истинную картину мироздания], я не осуждаю нищету и несчастья нашего века, как это утверждает Сарси, в слезах и стенаниях, равно как и в трактате синьора Марио не сыскать подобных жалоб. Но Сарси, побуждаемый необходимостью скрыть и подкрепить те из своих идей, которые он хотел бы объяснить, продолжает подготавливать и множить нападки на самого себя, с которыми, кроме него, более никто не {42} выступает. Даже если бы я оплакивал эту нашу беду, то и в этом случае Сарси не мог бы поставить мне в упрек с должным основанием, что я напрасно изрек свои жалобы, ибо я не имел бы возможности помочь горю. Мне кажется, что именно это обстоятельство является истинной причиной моего сожаления и что, с другой стороны, у меня не было бы повода для оплакивания чего бы то ни было, имей я возможность помочь горю.
VII
А теперь, Ваша милость, прочитайте следующее: Хотя для того, чтобы иметь возможность обсуждать что-либо во введении, я вынужден заниматься опровержением даже столь малозначительных вещей, для меня поистине было неожиданностью, что столь обходительный синьор, каким все его [Галилея] считают, станет всячески возражать против шутливых и иронических замечаний, оброненных в нашем «Рассуждении», с большей суровостью и неприязнью, чем сам Катон, презрительно обронит в ответ, что природа не находит восторга в поэзии. Но сколь далек я от такого мнения! Я всегда считал природу поэзией. Природа никогда не производит яблоки и другие фрукты, не дав прежде распуститься цветам как источникам наслаждения. Кто мог бы подумать, что Галилей окажется столь грубым и потребует, дабы все приятное, как своего рода приправа к серьезным материям, было напрочь удалено? Такое требование достойно скорее стоика, нежели члена академии. И все же он может справедливо упрекнуть нас, если мы с помощью шуточек и иронических замечаний попытаемся уклониться от более серьезных вещей, вместо того чтобы объяснить их. Казалось бы, кто станет возражать против того, чтобы серьезнейшие из причин иногда излагались в изящной и шутливой форме? Однако наш член академии решительно возражает. Мы не склонны подчиняться запрету. Что из того, если избранная нами изысканная манера изложения ему не по вкусу? У нас есть немало эрудированных друзей, которым она нравится.
Не разделяют его мнение и те особы, славные по рождению и учености, которые приняли участие в нашей дискуссии, справедливо полагая, что затеяна она с единственной целью — дабы комету, обычно принимаемую за предвестника печальных событий и несчастий, рассмотреть под умиротворяющим воздействием спокойных и {43} небудоражащих слов. Вы можете сказать, что все это — материи незначительные. Так оно и есть, и поэтому к ним необходимо относиться надлежащим образом.
Резюмируя в нескольких словах написанное здесь, должен заметить, что и синьор Марио, и я не настолько аскетически сдержанны, дабы питать непреодолимое отвращение к шуткам или поэтическим красотам. В подтверждение сошлемся на различные прелестные замечания, то и дело вставляемые отцом Грасси в свой трактат и придающие последнему необычайную живость, против которых синьор Марио не возразил ни единого слова. Сколь занимательно читать о рождении, колыбели, обителях и похоронах кометы, о том, что она зажглась, дабы осветить торжественную вечерю Солнца с Меркурием. Нас ничуть не задевало, что светильники, [о которых говорит отец Грасси], были возжжены через двадцать дней после трапезы, и в еще меньшей степени заботило, что там, где есть Солнце, свечи не нужны и бесполезны и что в действительности то был не ужин, а легкий завтрак, т. е. трапеза при свете дня, а не поздним вечером — во время, неведомое Солнцу. Все эти мелочи мы не удостоили ни единым вопросом потому, что сама манера, в какой они были высказаны, не оставляет желать ничего лучшего относительно истинности понятий, лежащих в основе всех этих шутливых замечаний, которая хорошо известна сама по себе и столь очевидна, что не требует никакого другого и более глубокого доказательства.
Но вот мы переходим к фундаментальному и весьма трудному вопросу, и Сарси пытается убедить меня без всяких шуток в том, будто в природе существует особая небесная сфера для комет, и в то время, как Тихо не смог разобраться в своем собственном объяснении нерегулярности видимого движения его кометы, Сарси надеется, что мой разум удовольствуется и умиротворится крохотным поэтическим цветком, который к тому же не приносит плода. Именно это и отвергает синьор Марио, когда вполне правильно и в полном соответствии с истиной заявляет, что природа не находит восторга в поэзии68. Это утверждение абсолютно правильно, несмотря на то что Сарси всячески подчеркивает свое несогласие с ним, делая вид, будто он не отличает природу от поэзии и не знает, что басни и всякого рода вымыслы имеют первостепенное значение для поэзии, которая без них не могла бы существовать, в то время как любого рода фальшь {44} противна природе и может быть найдена в ней ничуть не с большей вероятностью, нежели тьма в свете.
Но пора нам перейти к более серьезным вопросам, поэтому я попрошу Вашу милость прочитать следующий отрывок.
VIII
Перехожу к более серьезным вопросам. Мой учитель решил, что положение кометы надлежит исследовать на основании трех аргументов: прежде всего по наблюдениям ее параллакса, затем по характеру ее приближения и движения и, наконец, по тем вещам, которые могут быть наблюдены в телескоп. Галилей пытается подорвать доверие к ним один за одним и лишить их значимости. Когда, опираясь на множество наблюдений, произведенных из различных мест, мы показали, что комета подвержена малым изменениям аспекта69 и поэтому ее можно считать находящейся дальше Луны, он возражает, ссылаясь на то, будто аргументы, основанные на использовании параллакса, не имеют значения, если предварительно не установлено, являются ли наблюдаемые объекты реальными телами, существующими в одном месте, или не существующими в определенном месте кажущимися образованиями. Разумеется, он прав, но в нашем случае необходимость в его возражении отпадает. Действительно, что, если считать вопрос о кометах уже решенным? Поскольку мы среди прочих состязаемся с перипатетиками, чье мнение многие разделяют и поныне, бессмысленно исключать кометы из числа кажимостей, ибо мы имели бы дело с сомнением, никем не разделяемым. Ведь и сам Галилей, когда он спорит с Аристотелем, использует аргументы ничуть не более строгие и сильные, чем те, которые основаны на использовании параллакса. Почему же в таком случае нам непозволительно использовать тот же аргумент по вполне аналогичному и тождественному поводу?
Дабы понять, сколь важные вопросы затронуты в приведенном отрывке, достаточно кратко обозреть, что утверждает синьор Марио и что вменяется ему здесь в вину. Синьор Марио высказывает общее утверждение: «Тем, кто желает определить местоположение кометы с помощью параллаксов, надлежит сначала удостовериться в том, что она представляет собой находящийся в определенном месте реальный объект, а не некую расплывчатую {45} видимость, поскольку основанные на использовании параллакса заключения имеют доказательную силу для реальных объектов, но не для кажущихся». Свои слова он [синьор Марио] подкрепляет многочисленными примерами и добавляет, что отсутствие параллакса делает несовместимыми два утверждения Аристотеля, согласно которым комета есть огонь, т. е. вполне реальная вещь, п расположена в воздухе в непосредственной близости от Земли. И тут встает Сарси и заявляет: «Все это хорошо, но к делу не относится, ибо если мы выступаем против Аристотеля, то было бы напрасной тратой времени доказывать, что комета не просто видимость, коль скоро мы согласны с ним в том, что это реальное тело. Но коль скоро мы принимаем ее за реальное тело, наш аргумент, основанный на использовании параллакса, обретает доказательную силу». «Наш противник,— добавляет он [Сарси],— сам не выдвигает против Аристотеля более весомого аргумента. Но коль скоро он этого не делает, то почему бы нам не воспользоваться таким же аргументом в такой же оказии?»
Трудно понять, что здесь утверждает Сарси и в чем он, по его мнению, опровергает синьора Марио, поскольку оба говорят одно и то же, а именно что аргумент, основанный на использовании параллакса, утрачивает доказательную силу для кажущихся объектов, но в полной мере обретает ее для реальных тел и, следовательно, свидетельствует против Аристотеля, когда тот считает комету реальным телом. Если Сарси позволит мне высказать откровенно мое мнение, то какие-нибудь еще комментарии здесь излишни: он пытался разодеть замечания синьора Марио в пышные одежды, дабы ослепить их блеском читателя и создать у него впечатление, будто синьор Марио допустил ошибку. А для того, чтобы возражение Сарси имело хотя бы какую-то силу, ему было необходимо изменить общее утверждение синьора Марио, обращенное ко всем: «Всякий, кто захочет применить аргумент, основанный на использовании параллакса, к кометам, должен предварительно убедиться в том, что кометы реальные тела», на частное утверждение: «Если отец Грасси желает обратить аргумент, основанный на использовании параллакса, против Аристотеля, который считает кометы реальными телами, а не кажущимися образованиями, то ему необходимо сначала доказать, что кометы действительно вполне реальные тела, а не обман зрения». Тогда синьор Марио действительно был бы виновен {46} в тяжкой ошибке, как того и желал Сарси. Но синьор Марио никогда не писал и не измышлял подобной глупости,
IX
Далее надлежало бы опровергнуть Анаксагора70, пифагорейцев71 и Гиппократа72, но никто из них не утверждал, что комета всего лишь обман зрения. Анаксагор учил, что комета — это скопление звезд; Гиппократ и Эсхил ни в чем не расходились с пифагорейцами. Когда Аристотель объяснял взгляды пифагорейцев, согласно которым комета — одна из блуждающих звезд, приближающихся к нам очень медленно, а пролетающих очень быстро, он присовокупил: «Весьма сходными с этими взглядами пифагорейцев представляются взгляды Гиппократа Хиосского и его ученика Эсхила. Они добавляли, однако, что хвост не принадлежит своей комете, но она иногда приобретает его, блуждая в пространстве, потому что наш зрительный луч, отражаясь от влаги, увлекаемой за кометой, достигает Солнца73». Но, когда Галилей в самом начале своего возражения повторяет заключения тех же самых персон, он утверждает, будто они учили, что комета — это звезда, проходящая иногда очень близко от Земли и увлекающая за собой пары, из которых она устраивает не голову, а свой хвост. К этому я могу присовокупить, что ему [Галилею] нет дела до истинного положения вещей, ибо в дальнейшем, опираясь на те же места, он доказывает, что, по мнению пифагорейцев, комета существует как преломление света, тогда как, по их учению, в комете нет ничего кажущегося, кроме хвоста. Таким образом, он [Галилей] понимает, что комету, если говорить о ее голове, никто из них не считал одной лишь видимостью. В чем же в таком случае состоит его возражение, ибо по этому вопросу все согласились с приведенным нами доводом за то, чтобы лишить этот весьма яркий светоч его призрачной и воображаемой яркости и отвести от него упрек, не выдвигаемый никем из тех, с чьим мнением следовало бы считаться.
По-видимому, Галилей кое в чем обязан Кардану74 и Телезио75, хотя, достигнув бесплодной и неудачной философии, они не были благословлены в потомстве и оставили грядущим поколениям книги, но не учеников. Для нас же и Тихо, как свидетельствует сам Галилей, довольно и того, что у академий философов, многочисленных и не ведающих ошибок, и на проводимых ими диспутах комета {47} никогда не вызывала подозрения в том, будто она обманчивая и ложная видимость. Но, если найдется кто-нибудь, кто открыто учит, будто это явление надлежит отнести к чистой видимости, я счел бы уместным указать ему на то, сколь далека, если я не ошибаюсь, комета по своим свойствам и движениям от радуг, гало и корон. Из этих аргументов следует, что комета, если исключить ее хвост, действует не по прихоти Солнца (особенность, присущая всем оптическим иллюзиям), а свободно движется и перемещается туда, куда влечет и направляет ее природа.
Пытаясь показать, что общий вопрос, поставленный синьором Марио, напрасен и излишен, Сарси еще раз утверждает, будто ни один из авторов, заслуживающих внимания, древних или современных, не предполагал, что комета может быть просто иллюзией и что по этой причине его учителю, имеющему обыкновение спорить только с людьми самой высокой репутации и черпающему вдохновение из побед над ними, не было необходимости исключать комету из компании чистейших иллюзий. На это я отвечу, во-первых, что Сарси мог бы по той же самой причине игнорировать синьора Марио и меня, поскольку мы оба не принадлежим к числу тех древних и современных авторов, против которых выступает его учитель. Мы намеревались говорить только с теми людьми, древними или современными, кто во всех своих исследованиях стремится докопаться до истины в природе, и полностью избегаем тех, кто усердно встревает в шумные диспуты, дабы снискать себе всеобщее признание и пышную хвалу не открывателей истины, а лишь людей, одержавших победу над другими. Не следовало ему столь ревностно опровергать то, что ничуть не предосудительно ни для него самого, ни для его учителя.
Во-вторых, ему [Сарси] следовало бы иметь в виду, что тот, кто высказывает некоторое убеждение, не продумав его до конца (в особенности, если речь идет о детали, упущенной тысячью других людей, высказывавших то же убеждение), заслуживает несравненно большего снисхождения, нежели тот, кто придумывает нечто глупое и бесполезное. Он [Сарси] мог бы и должен был бы признаться, что ни его учителю, ни предшественникам последнего и в голову не приходило считать комету обманом зрения, вместо того чтобы называть глупыми наши соображения, ибо один путь, ничем не задевая достоинства его [Сарси] учителя, свидетельствовал бы о прямоте и беспристрастности, {48} тогда как второй, неизбежно нанося ущерб моей репутации (если бы Сарси преуспел в своем намерении), выдает дух, движимый некоторым пристрастием.
Синьор Марио в надежде сделать нечто полезное и желанное для тех, кто занят поиском истины, со всей скромностью заметил, что было бы хорошо понять, какова природа кометы, дабы выяснить, имеем ли мы дело с обманом зрения или с реальным телом. Он [Гвидуччи] и не думал критиковать отца Грасси или кого-нибудь еще за то, что те не выяснили этого раньше. И тут появляется Сарси и принимается пылко доказывать, что предложение [синьора Марио] не относится к делу и заведомо неверно. Тем не менее, дабы быть готовым к любому повороту событий (а вдруг предложение [синьора Марио] все же окажется заслуживающим внимания?), он самым разбойничьим образом лишает меня чести, объявляя во всеуслышание, будто речь идет о старой идее Кардана и Телезио, о которой его учитель презрительно отозвался как о фантазии слабых философов, не имеющих последователей. Под этим предлогом и без всякого стыда за наносимое им бесчестье он лишает их доброго имени, дабы скрыть крохотное пятнышко на репутации своего учителя.
Ну что же, Сарси, хотя ты выдаешь себя за ученика преподобных отцов в натуральной философии, тебе не пристало выдавать себя за такового в моральной философии, ибо тебе никто не поверит. Я не знаю, о чем писали Кардан и Телезио, но, судя по появившимся теперь косвенным указаниям, я легко могу догадаться, что Сарси не уловил в их писаниях главного. Для его пользы и в их защиту я не могу пройти мимо этого и не показать, сколь превратно он судит, называя их науку жалкой только потому, что у них было мало последователей.
Сарси, должно быть, считает, что весь сонм хороших философов можно заключить в каких-то стенах. Я же полагаю, Сарси, что они летают, и летают только как орлы, но отнюдь не как галки. Орлы встречаются крайне редко, их мало видно и еще меньше слышно, в то время как птицы, летающие стаями, оглашают небо пронзительными криками, галдят, когда садятся, и гадят на землю под собой. Но если истинные философы подобны орлам, а не фениксу, синьор Сарси, то толпа глупцов, не знающих ничего, несметна; велико число тех, кто знает малую толику философии, наперечет можно назвать тех, кто основательно изучил часть ее, и лишь один знает все — Господь Бог. Если высказать без обиняков то, на что я {49} пытаюсь здесь намекать, и видеть в науке метод доказательства и рассуждений одних людей, доступных восприятию других людей, то я глубоко убежден, что по мере совершенства наука будет все меньшему учить и все меньше доказывать. Следовательно, она будет становиться все менее привлекательной и число тех, кто ею занимается, будет все более сокращаться.
Вместе с тем пышность титулов, равно как и грандиозность и обилие обещаний, привлекает естественное любопытство людей, непрестанно вовлекая их в различного рода заблуждения и химеры, не предоставляя в то же время единого образца строгости доказательства, способного вернуть им вкус к пресноте обычной пищи. В результате бесчисленное множество людей занимается ныне наукой, и счастлив тот, кто, движимый необычным внутренним светом, способен выбраться из темных и запутанных лабиринтов, по которым он мог бы до скончания века блуждать вместе с толпой, все более и более удаляясь от выхода.
Имея в виду все это, я в тех случаях, когда речь идет о философских материях, считаю не очень разумным судить о взглядах человека по числу его последователей. Но, хотя я допускаю, что число последователей даже самой лучшей философии может быть очень мало, я не склонен думать, однако, что взгляды и теории, которые разделяет небольшое число людей, непременно совершенны, ибо мне отлично известно, что некоторые могут придерживаться ошибочных взглядов, отвергаемых всеми остальными. Какой из этих двух причин обусловлена малочисленность последователей двух авторов, названных Сарси бесплодными и оставленными всеми, мне неизвестно. Я недостаточно изучил их работы, дабы судить об этом.
Возвращаясь к нашему предмету, замечу, что Сарси несколько запоздало пытается убедить нас в том, будто его учитель не упомянул о комете как о бестелесном подобии [реального тела], к которому неприменим аргумент, основанный на использовании параллакса, только потому, что эта идея уже была им отвергнута как несостоятельная. Но такое оправдание, говорю я, запоздало, ибо его учитель написал в «Проблеме»: «Все, что ни установлено между небесным сводом и Землей, при наблюдении из различных мест соответствует различным частям небесного свода». Из этих строк видно, что он и не помышлял о радугах и гало, ложных солнцах и других {50} отражениях, не подчиняющихся указанному закону, ибо, приди ему такое в голову, он непременно упомянул бы об этом и оговорил, особенно потому, что он сам, отказавшись от взглядов Аристотеля, склонился к взглядам Кеплера, согласно которым комета могла быть просто бликом.
Но продолжим. Я вижу, что Сарси проводит резкое различие между головой кометы и ее хвостом, или завитком. Он утверждает, что если говорить о хвосте, то тот действительно может быть обманом зрения и видимостью (как полагали пифагорейцы, о которых упоминает Аристотель), но что касается головы, то, по его мнению, это реальное тело и никто и никогда не думал иначе. Здесь я хотел бы иметь четко определенное различие между тем, что Сарси понимает под реальным, и тем, что он считает кажущимся, и критерий, по которому он называет нечто реальным или кажущимся. Если он называет голову реальной потому, что та существует в реальной субстанции и материальна, то скажу, что в таком случае и хвост реален, ибо если разогнать пары, от которых наш зрительный луч отражается к Солнцу, то тем самым был бы отнят и хвост, подобно тому как если разогнать облака, то исчезнут радуги и гало. Если же он требует, дабы хвост был нереальным, потому что того бы не было без отражения зрительного луча к Солнцу, то я скажу, что такое же утверждение справедливо и относительно головы. Голова не меньше, чем хвост, представляет собой отражение лучей от какого-то материала, каким бы тот ни был, и, хотя как отражения они [голова и хвост кометы] всего лишь видимости, как материал они реальны.
Если Сарси допускает, что изменение положения со стороны наблюдателя вызывает или может вызвать изменение того места в материале, где зарождается хвост, то я отвечу на это, что все сказанное им относится и к голове. Не думаю, чтобы древние философы считали иначе. Если бы они полагали, например, что голове присуще быть постоянно сверкающей звездой и только хвосту свойственно быть видимостью, то они сказали бы, что, когда из-за наклонения сферы наш зрительный луч не отражается к Солнцу, хвост не был бы видим, между тем как звезда, т. е. голова кометы, видна всегда. Но они ничего такого не говорили, утверждая лишь, что не видна целиком вся комета, а это со всей очевидностью указывает на одинаковое происхождение головы и хвоста. Впрочем, говорили древние такое или не говорили, ныне к этому {51} аргументу привлек внимание синьор Марио, имевший весьма веские причины для того, чтобы поднять этот вопрос. Его можно взвесить, как это и было сделано синьором Сарси, и в надлежащем месте мы увидим, что он написал об этом.
X
А пока пусть Ваша милость прочитает следующие строки:
По той же причине я должен ответить на возражения против аргумента, основанного на движении кометы, поскольку из того, что положение кометы день за днем соответствует прямой на плоскости, подобной солнечным часам, мы заключили, что движение кометы происходит по большому кругу. На это Галилей возразил, что выводить ничего было не нужно, поскольку если комета действительно приближается по прямой, то ее положения, описываемые на манер солнечных часов, непременно образуют прямую; тем не менее это движение происходило бы не по большому кругу. Хотя движение по прямой действительно следовало бы описывать прямой, возражения были направлены против тех, кто не сомневался в круговом движении кометы, т. е. против Анаксагора, пифагорейцев, Гиппократа и Аристотеля; единственно, что они пытались установить, так это обращается ли комета, которая, по их мнению, вынуждена пребывать на круговой орбите, по очень большой или по очень маленькой орбите. Из ее видимого движения по прямой был сделан надлежащий и непреложный вывод о том, что это движение описывает большой круг, ибо никто не представлял это движение как прямолинейное и перпендикулярное.
Когда до Галилея Кеплер в небольшом приложении о движении комет76 попытался объяснить то dice движение прямыми линиями, он увидел, с какого рода трудностями сопряжено такое объяснение, и поэтому счел, что это движение не перпендикулярно Земле, а происходит в некотором поперечном направлении, и не постоянно, а несколько медленнее вначале и наиболее быстро в середине. Кроме того, он считал, что оно должно опираться на круговое движение самой Земли, которым, возможно, и объясняются все явления комет, однако подобное объяснение неприемлемо для нас, католиков. Учитывая это, я решил, что подобного мнения, несовместимого с благочестием и Священным писанием, не следует и придерживаться, и если Галилей впоследствии полагал, что с {52} незначительными изменениями такое прямолинейное движение удастся приписать кометам, то он, как будет показано мной ниже, не доказал этого корректно. А пока пусть он поймет, что мы ни в чем не погрешили против законов логики, когда из движения, которое кажется происходящим по прямой, заключили, что оно происходит по большому кругу. Ибо что толку исключать прямолинейное и перпендикулярное движение, коль скоро утверждалось, что кометы им не обладают?
Синьор Гвидуччи с самыми похвальными намерениями сгладить дорогу для искателей истины обратил внимание на ошибку тех, кто считал, что, коль скоро видимое движение кометы происходит по прямой, она в действительности движется по большому кругу. Он утверждал, что, хотя движение по большому кругу всегда выглядело бы как движение по прямой, отнюдь не обязательно движение, которое кажется происходящим по прямой, должно происходить по большому кругу, как это предполагают те, кто из видимого прямолинейного движения кометы заключает, будто та движется по большому кругу. К их числу принадлежит и отец Грасси. Опираясь на авторитет Тихо, первым запутавшего вопрос о движении кометы, он пренебрег тем, мимо чего вряд ли прошел бы, если бы не его предшественник. Для меня небольшая ошибка отца Грасси поэтому вполне простительна, хотя из сказанного синьором Марио я заключаю, что преподобный отец использовал это утверждение [Тихо] и оценивал его высоко. Но тут появляется Сарси, продолжая следовать своим предопределенным курсом, и изо всех сил пытается представить дело так, будто это замечание его учителя не имеет особого значения, в надежде, что таким образом ему удастся выгородить отца Грасси, но достигает противоположного эффекта (если отец Грасси давал свое согласие на оправдательные доводы, приводимые Сарси в его защиту), ибо, пытаясь исправить одну ошибку, он [Сарси] допускает много новых ошибок.
Во-первых, считая напрасным и излишним обращать внимание на то, что не заметил ни он сам, ни другие, Сарси утверждает, будто его учитель дискутировал с Аристотелем и пифагорейцами, которые никогда не упоминали о прямолинейном движении кометы (было бы неуместным пытаться опровергать здесь это его утверждение). Но, как показывает тщательное рассмотрение, подобное оправдание мало чем помогло преподобному отцу, ибо те же противники никогда не упоминали и о движении по {53} меньшим кругам, следовательно, пытаться доказывать, будто кометы движутся по большим кругам, было бы столь же излишним. Следовательно, Сарси должен либо найти, что древние писали о движении комет по меньшим кругам, либо признать, что для его учителя считать движение комет происходящим по большому кругу было столь же излишним, как и по прямой.
Во-вторых, по собственному правилу Сарси, еще большей ошибкой было опускать из рассмотрения прямолинейное движение, поскольку последнее приписывал кометам Кеплер, а его упомянул сам Сарси. Совершенно неудовлетворительным представляется и другой довод, который он приводит в оправдание, ссылаясь на то, что к указанному мнению Кеплер пришел, исходя из движения Земли — утверждения, не согласующегося с соображениями благочестия и противного Священному писанию, а потому, по мнению Сарси, не заслуживающего внимания. Отчего же? Напротив, тем более веским должен быть побудительный мотив для того, чтобы опровергнуть такой аргумент и доказать его несостоятельность. Очень не плохая мысль: доказать, если возможно, исходя из физических причин, ложность положений, объявленных противоречащими Священному писанию!
В-третьих, оправдание Сарси имеет еще один изъян, поскольку прямолинейным кажется не только движение, действительно происходящее по прямой, но и любое другое движение в той плоскости, в которой находится глаз наблюдателя. На это указал синьор Марио. Следовательно, Сарси придется изыскать иной способ убедить нас в том, что никому и никогда не приходило в голову приписывать кометам какое-нибудь другое движение, кроме кругового. Не знаю, как ему удастся сделать это, так как если никто другой не упоминал о некруговом движении, то сам Сарси сделал это, написав ниже несколько строк, когда, отстаивая удаление от Солнца более чем на девяносто градусов, он допустил некруговое движение и счел приемлемым движение по овалу, потребовав даже, чтобы движение по овалу было нерегулярным. Таким образом, либо рассматриваемое движение должно быть то круговым, то происходящим по овалу, то полностью нерегулярным в зависимости от того, что требуется Сарси, либо он должен признать, что его попытка защитить своего учителя несостоятельна.
В-четвертых, что, если я приму утверждение о круговом движении кометы, сообразуясь не с общим мнением, {54} а с истиной и непреложной необходимостью? Будет ли Сарси считать неопровержимо доказанным, что движение кометы происходит по большому кругу, поскольку его учителю и другим оно казалось происходящим по прямой? Мне известно, что до сих пор Сарси думал именно так, но он заблуждался, и я, если бы был уверен, что не причиню ему беспокойства, избавил бы его от ошибки. Для этого мне пришлось бы спросить его, какие круги на сфере он называет большими. Я знаю, что он ответил бы мне: «Те, которые проходят через ее центр, являющийся также центром Земли, и делят ее пополам». На это я бы возразил: «Но тогда круги, описываемые Венерой, Меркурием и Медицейскими планетами, надлежит считать не большими, а весьма малыми кругами, так как последние из названных светил обращаются по кругу, имеющему своим центром Юпитер, а остальные — Солнце. Тем не менее тому, кто наблюдает, как выглядит их движение, будет казаться, что оно происходит по прямой». Объясняется это тем, что наш глаз находится в той же плоскости, в которой лежит и круг, описываемый упомянутыми звездами. Отсюда мы заключаем, что из прямолинейности видимого движения нельзя делать никаких заключений, кроме одного: движение развертывается в плоскости, проходящей через глаз, т. е. в плоскости большого круга, но отнюдь не обязательно по окружности большого круга (с тем же основанием можно утверждать, что движение происходит по меньшему кругу). Само по себе движение может происходить по окружности или какой-нибудь другой линии сколь угодно нерегулярно и тем не менее казаться прямолинейным. Таким образом, два рассмотренных нами утверждения не эквивалентны и принимать одно из них за другое означает вносить путаницу и ошибку в логику.
Если бы я был уверен, что Сарси поймет меня правильно, я бы попытался сравнить допущенную им ошибку с другой, аналогичной ей, которую, по моим наблюдениям, проглядели некоторые из величайших умов и над которой сам Сарси не задумывался. Мне не хотелось бы причинять ему неприятность, показывая, что я не просмотрел ее, как это сделали многие другие люди, проницательнее меня, но я непременно хотел бы продемонстрировать ее Вам, Ваша милость.
Путем тончайших наблюдений было замечено, что кончик хвоста, голова кометы и центр солнечного диска всегда видимы на одной прямой, из чего было сделано {55} весьма правдоподобное предположение, что хвост есть не что иное, как преломление солнечного света, простирающееся в сторону, диаметрально противоположную Солнцу. До сих пор, насколько мне известно, никто не думал, что, если даже Солнце и вся протяженность кометы располагаются по прямой, это не доказывает, что прямая, проведенная от кончика хвоста к голове кометы, если ее продолжить, закончится в Солнце. Дабы три или более точки казались расположенными на одной прямой, достаточно, чтобы они находились в плоскости, проходящей через глаз [наблюдателя]. Например, Марс или Луну иногда можно наблюдать на прямой, проходящей через две неподвижные звезды, но это отнюдь не означает, будто прямая, соединяющая эти две звезды, проходит через Марс или Луну. Таким образом, из того, что хвост кометы кажется расположенным прямо противоположно Солнцу, не следует решительно ничего, кроме того, что хвост кометы и Солнце лежат в плоскости, проходящей через глаз [наблюдателя].
В-пятых, я хотел бы обратить внимание на то, что можно было бы назвать некоторым непостоянством в словах, приведенных в конце отрывка, который мы с Вашей милостью только что прочитали. Сарси намеревается показать в дальнейшем, сколь неверно я, т. е. синьор Марио, приписал комете прямолинейное движение, а тремя строками ниже утверждает, что нет необходимости неодобрительно относиться к прямолинейному движению, поскольку со всей ясностью и определенностью оно никогда не наблюдалось у комет. Но если невозможность прямолинейного движения столь ясна и определенна, то для чего ему все-таки понадобилось опровергать его? И в каком смысле все это ясно и определенно, как утверждает Сарси, если никто не рассматривал [прямолинейное движение], не говоря уже о том, чтобы опровергать его? Такое движение, утверждает Сарси, рассматривал только Кеплер. Но Кеплер не опровергает его, а, напротив, вводит как возможное и истинное. Мне думается, что Сарси, чувствуя свою неспособность сделать что-нибудь еще, пытается запутать читателя. Но я приложу все усилия, дабы распутать завязанные им узлы.
XI
Дойдя до этого места, он [Галилей] приводит против нас следующий аргумент: «Если бы комета двигалась {56} вокруг Солнца, то, так как она удаляется от Солнца на целый квадрант, когда-нибудь она должна была бы опуститься до Земли», А что, если ее движение не круговое, а эллиптическое, сжатое сверху и снизу и растянутое в каждую сторону? А что, если оно не эллиптическое, а совершенно нерегулярное — ведь именно в системе Галилея комета могла бы двигаться свободно, без всякого сопротивления? В этом случае можно было бы не опасаться, что земля Тартар77 когда-нибудь увидит свет комет, приблизившихся к ней почти вплотную.
Во-первых, если я приму брошенный Сарси в мой адрес упрек в небрежности (я якобы упустил из виду различные движения, которые можно было бы приписать комете), то решительно не вижу, каким образом он сможет избавить от аналогичной критики своего учителя за то, что тот не рассмотрел возможность прямолинейного движения кометы. Если же он оправдывает своего учителя, ссылаясь на то, что рассмотрение прямолинейного движения было бы излишним, поскольку оно не было введено ни одним другим автором, то я не усматриваю, почему мои рассуждения заслуживают критики: прощение может быть даровано и мне, поскольку ни один другой автор не вводил тех чуждых движений, о которых упоминает Сарси. Кроме того, синьор Сарси, твой учитель, а не я должен был бы подумать о тех движениях, которые позволили бы дать удовлетворительное объяснение столь больших удалений кометы [от Солнца]. Если какое-нибудь движение удовлетворяет этому требованию, то ты должен был бы назвать его и считать приемлемым только его; тебе не следовало бы обходить его молчанием и приводить вместе с Тихо простое круговое движение вокруг Солнца, которое совсем непригодно, дабы спасти наблюдаемые явления, а затем делать вид, будто не он [Грасси], а мы совершили крупную ошибку, не предугадав, что он мог думать про себя совсем не то, о чем писал.
Кроме того, синьор Марио никогда не утверждал, что природа не оставила нам способа спасти отклонение в девяносто градусов; если столь большое отклонение действительно имело место, то совершенно очевидно, что на то были какие-то причины. По его [Сарси] словам, согласно гипотезе, принятой преподобным отцом, столь большое отклонение невозможно без того, чтобы комета не коснулась и даже не проникла внутрь Земли. Что касается этого пункта, то оправдания Сарси тщетны, хотя он, {57} судя по всему, думает, что когда дело касается его учителя, то хороши любые, даже самые пустяковые, оправдания, а когда речь заходит обо мне, то самые убедительные аргументы утрачивают силу. Если это так, то я с радостью сберегу свой покой и уступлю ему спорный вопрос.
Во-вторых, я хотел бы привести еще один довод в свое оправдание за то, что выдал себя за синьора Марио. Открыто признаваясь, что никогда не помышлял о движениях
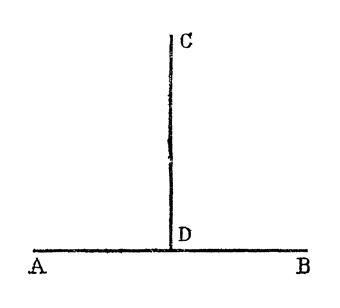 |
Рис. 1 |
Итак, два из предложенных [Сарси] средств мы исключили; остались еще один эксцентрик (центр его смещен либо вправо, либо влево от прямой DC) и {58} нерегулярная кривая. Что касается эксцентрика, то начертить его на бумаге так, чтобы получить требуемое отклонение, не совсем безнадежно; но я скажу Сарси, что если бы он попытался начертить Солнце с орбитами Меркурия и Венеры вокруг него и Землю, охваченную орбитой Луны (эту часть чертежа необходимо подготовить заранее), а затем попробовал бы изящно вписать эксцентрик для кометы, то, как мне кажется, столкнулся бы с такими чудовищными нелепостями, что побоялся бы спасать своего учителя с помощью такого паллиатива, даже если бы это было возможно. Что же касается нерегулярных линий, то они позволяют спасти не только ту видимость, о которой идет речь, но и любую другую; однако я предупреждаю Сарси, что введение таких линий, ничем не подкрепляя взгляды, отстаиваемые его учителем, лишь в еще большей мере ставят их под сомнение, и не только потому, что он [Грасси] никогда не упоминал о нерегулярных линиях и, напротив, принимал круговую орбиту, самую регулярную из существующих, но и потому, что принятие их было бы поступком весьма легкомысленным. Сарси и сам поймет это, если поразмыслит над тем, что, собственно, означает нерегулярная линия.
Регулярными называются такие линии, которые, имея неизменное и не оставляющее никаких неясностей описание, поддаются определению и позволяют доказать их качества и свойства. Так, спираль — регулярная линия, и ее определение порождается двумя равномерными движениями — одним прямолинейным и другим круговым; то же можно сказать и об эллипсе, возникающем при сечении конуса или цилиндра, и т. д. Нерегулярные же линии лишены какого бы то ни было описания, они зыбки и случайны и поэтому не поддаются определению; ни одно свойство таких линий не может быть доказано, о них не может быть известно ни слова. Следовательно, сказать: «Такие-то события происходят из-за того, что линия нерегулярна»,— то же самое, что сказать: «Я не знаю, почему эти события происходят». Введение таких линий ничем не лучше симпатии, антипатии, оккультных свойств, влияний и других слов, используемых некоторыми философами для сокрытия правильного ответа, долженствующего гласить: «Я не знаю». Такой ответ приемлем в гораздо большей степени, нежели другие, ибо чистосердечное признание прекраснее двойственности, способной ввести в заблуждение. Таким образом, отец Грасси поступил гораздо благоразумнее, не вводя нерегулярных {59} линий как средство для достижения того, что ему требовалось, чем его ученик, упомянувший о них.
Если честно сказать, как представляется мне дело, то я убежден, что сам Сарси достаточно хорошо понимает недостаточность и необоснованность своего ответа. Я сужу об этом по тому, с какой поспешностью он стремится разделаться с ним, хотя сам по себе вопрос чрезвычайно важен для рассматриваемого круга явлений и трудность, указанная синьором Марио, весьма серьезна. Сам Сарси служит моим лучшим свидетелем тому, когда на странице 78, говоря о некотором аргументе, выдвинутом его учителем, он пишет: «О том, какое значение мы придаем этому аргументу, мне кажется, можно судить хотя бы по тому, что изложен он кратко, и это малословие связано с тем, что уже было объяснено гораздо более полно и подробно в двух предыдущих аргументах». О краткости и простоте, с которыми Сарси затрагивает рассматриваемый вопрос, можно судить, помимо всего прочего, по тому, что он не приводит чертежа эксцентриков и эллипсов, вводимых им для спасения всей теории. Зато в дальнейшем нам предстоит встретить целое море чертежей, вкрапленных в длинный экскурс, призванный подкрепить некий опыт, не получающий в конечном счете ни малейшей помощи в главном. Но даже если я не скажу более ни слова, Ваша милость может пуститься в нижеследующий океан различий, силлогизмов и других логических параферналий и убедиться, сколь высоко ставит Сарси то, что я, должен честно признаться, склонен считать переливанием из пустого в порожнее.
XII
Поскольку Галилей возражает против пренебрежения логикой со стороны моего учителя, посмотрим, как он сам соблюдает правила этой дисциплины, но не на многих примерах, ибо нам будет достаточно одного или двух.
Мы утверждали, что при наблюдении звезд в телескоп они видны при очень малом увеличении. Он же утверждает, что поскольку огромное число звезд, укрывающихся от самого наблюдательного глаза, видимы в телескоп, то следует утверждать, что они получают увеличение, которое не неощутимо, а бесконечно, ибо ничто и нечто разделяет бесконечный разрыв. Таким образом, из того, что мы наблюдаем нечто невидимое ранее, Галилей делает вывод о бесконечно большом увеличении объекта, т. е. {60} по крайней мере о кажущемся увеличении его размеров. Я же считаю, что никакого заключения ни о бесконечно большом увеличении, ни о любом приращении сделать нельзя. Во-первых, хотя разрыв, отделяющий видимое от невидимого, по крайней мере с одной точки зрения, бесконечен, однако невидимое находится к видимому в таком же отношении, как ничто к нечто, т. е. ни в каком. Тем не менее когда нечто, чего не было, возникает, о нем не говорят, что оно выросло или увеличилось, поскольку всякое приращение неизменно предполагает нечто существовавшее ранее; не говорим же мы, что Земля, когда она была создана Богом, бесконечно возросла, ибо до сотворения не было ничего, и всякое тело прирастает и становится больше только в том случае, если до того существовало нечто меньшее. Следовательно, из того, что сначала не было видно ничего, а затем стало видно что-то, нельзя сделать вывод о каком бы то ни было, не говоря уже о бесконечном, увеличении. Но дабы не задерживаться на этом, условимся называть переход от небытия к бытию увеличением. Из того, что звезды, невидимые ранее, были наблюдены в телескоп, Галилей заключил, что они получили бесконечное увеличение, хотя ему следовало бы помнить о том, что в другом месте он утверждал, что телескоп увеличивает все предметы одинаково. Следовательно, если он увеличивает звезды, видимые невооруженным глазом, в некотором вполне определенном отношении, то, делая наблюдаемыми самые мелкие звезды, ускользающие от глаза, он увеличивает их в той же пропорции. А это означает, что их увеличение не бесконечно, ибо бесконечность не допускает никакой пропорции.
Во-вторых, для того чтобы бесконечное увеличение было возможно у величины, становящейся видимой из невидимой (а на это указывает употребленное Галилеем слово «приращение»), необходимо доказать бесконечность несоразмерности между невидимой и видимой величиной; в противном случае вывод о бесконечно большом увеличении был бы невозможен. Действительно, предположим, что некто рассуждает следующим образом: «То, что переходит из невидимого в видимое, увеличивается бесконечно. Звезды становятся из невидимых видимыми, следовательно, они увеличиваются бесконечно». В большой посылке необходимо ввести различие, дабы подчеркнуть, что звезды увеличились бесконечно в отношении видимости, и в то же время отрицать, что они увеличились в отношении размеров. То же различие (а именно то, что звезды {61} увеличились в отношении видимости, но не величины) должна распространяться и на заключение. Отсюда ясно, что термин «приращение» используется в большой посылке не в том же смысле, в каком используется в заключении, ибо если в первой имеется в виду приращение видимости, то в последнем речь идет о приращении величины. Пусть Галилей увидит, как это согласуется с законами логики.
В-третьих, я утверждаю, что логическим путем невозможно прийти к какому-либо заключению относительно увеличения, ибо, по закону логиков, если какое-нибудь следствие может проистекать от нескольких причин, то, располагая причиной, неверно делать вывод о том, что оно вызвано только одной причиной. Например, так как причиной тепла могут быть огонь, движение, Солнце и другие источники, неверно приписывать тепло одному лишь огню. Следовательно, если становится видимо нечто ранее невидимое, то причин тому может быть много и видимость нельзя приписывать только одной из них. Думаю, что видимость может быть обусловлена несколькими причинами: сам по себе объект остался неизменным, но его визуальная сила как таковая возросла; исчезло некоторое препятствие или та же самая сила возросла за счет применения какого-нибудь инструмента, например телескопа; сила осталась неизменной, но объект либо освещен более ярко, либо приблизился к наблюдателю; и последнее, объект увеличился в объеме. Любой из перечисленных мной причин достаточно для того, чтобы вызвать один и тот же эффект. Следовательно, если на основании наблюдаемого эффекта заключают, что звезды, первоначально скрытые от глаза, приобрели бесконечное увеличение, то подобный вывод вряд ли можно признать правильным по закону логиков, ибо остальные причины, способные привести к тому же эффекту, при этом упускаются из виду.
Галилей необдуманно приписывает приращение телескопу, ибо если бы он внезапно открыл глаза, которые до того были закрыты, то мог бы с тем же основанием утверждать, что все предметы бесконечно увеличились, ибо сначала звезды не были видны, а затем стали видны. Если усе он утверждает, что сказанное им относится только к Предметам, наблюдаемым в телескоп, и что он не допускает существование других причин, поскольку в данном случае речь идет только о телескопе, я отвечу, что всего этого недостаточно для правильного аргумента. Дело в том, что в телескоп предметы, невидимые без него, видны {62} по-разному: рассматриваемые под большим углом предметы кажутся в телескоп больше; собираемые лучи и изображения оказывают более сильное действие; но пока достаточно того, что в телескоп видны те предметы, которые ранее ускользали от зрения. Поэтому делать вывод о том, что наблюдаемый эффект обусловлен только одной из нескольких причин, было бы безосновательно.
В-четвертых, не согласуется с законом логиков и то, что если звезды не увеличиваются при разглядывании их в телескоп, то в силу замечательного свойства этого инструмента кажутся ярче. В этом отношении Галилей, по-видимому, делит эффекты, производимые телескопом, на две части, как бы говоря: телескоп либо увеличивает звезды, либо делает их ярче; телескоп не увеличивает звезды, следовательно, он делает их ярче. Однако существует другой закон логиков, гласящий, что при разбиении на части необходимо включать в рассмотрение все части. В разбиение же Галилея включены не все эффекты телескопа, а перечисленные им эффекты не присущи телескопу, ибо увеличение яркости, как он полагает, не может быть действием телескопа, а набор изображений или лучей, которые считаются характерными для телескопа, он опускает из рассмотрения; следовательно, его деление ошибочно. Не стану более ничего добавлять к сказанному, но хотел бы обратить внимание на то немногое, что отмечено мной и может быть найдено при чтении почти в одном месте; остальные же места я пока опускаю, дабы он [Галилей] мог понять, что и его аргументация не свободна от ошибок, за которые он критикует других.
Но что (ибо мне не хотелось бы проходить здесь мимо того, о чем не слышал Галилей), что, говорю я, если он сам не позаботился наделить этой способностью телескоп? Что, если я докажу, что ему следовало наделить телескоп ею? Телескоп, по его утверждению, увеличивает предметы или увеличивает их яркость с помощью некоторой скрытой и неслыханной силы. Так и есть: телескоп делает более яркими все светящиеся предметы. Если мне удастся доказать это, то я надеюсь снискать превеликую благодарность Галилея: в то время как он беззастенчиво похваляется телескопом в отношении даваемого тем увеличения, я докажу, что телескоп наделен уже упоминавшейся неслыханной силой. Итак, примемся рассуждать.
Мы говорим, что телескоп увеличивает предметы, поскольку он переносит их к глазу под большим углом, чем они видны без этого инструмента. Кроме того, из {63} оптики известно, что любые предметы, наблюдаемые под большим углом, кажутся больше; но когда телескоп собирает изображения светящихся предметов и рассеянные лучи и сосредоточивает их почти в одной точке, то он создает гораздо более яркий зрительный конус, или светящуюся пирамиду, по которой мы наблюдаем яркие объекты, и тем самым приближает светящиеся предметы к глазу посредством более яркой пирамиды, как бы увеличивая их. Подобно тому как больший или меньший угол, под которым мы видим предмет, заставляет его казаться большим или меньшим, так и более или менее яркая пирамида, по которой мы наблюдаем светящееся тело, делает предмет более или менее ярким.
Кроме того, достаточно очевидно (и подтверждается опытом и здравым смыслом), что более яркая зрительная пирамида возникает от собирания лучей. Разум учит, что, чем меньше пространство, в котором собрано данное количество света, тем ярче оно освещено содержащимся в нем светом, а лучи, собранные в один [луч], сжимают то же количество света в меньшем пространстве и, следовательно, освещают это пространство ярче. Но то же самое доказывает опыт, если мы подставим зажигательное стекло солнцу. Мы увидим, что в лучах, собранных в одну точку, не только дерево загорается, а свинец плавится, но и глаз почти слепнет от такого света, поскольку тот очень ярок. Исходя из этого, я утверждаю, что телескоп придает звездам большую яркость, так же как тот же телескоп увеличивает их. Таким образом, сколь удачно, что этот самый наш телескоп позволяет мне делать более яркими звезды и Солнце и их светлое сияние.
Здесь, как видит Ваша милость, в отместку за темное место, допущенное, как отметил синьор Марио, отцом Грасси, который следовал по стопам Тихо и других, Сарси хочет показать, что я не силен ни больше ни меньше как в логике, когда привожу аргументы, дабы доказать, что для неподвижных звезд телескоп дает такое же увеличение, как и для других предметов, а не неощутимо малое или несуществующее, как писал отец Грасси. [По мнению Сарси], «многие звезды, полностью не видимые невооруженным глазом, становятся легко различимыми в телескоп, поэтому их увеличение следовало бы назвать бесконечным, а не несуществующим».
Здесь Сарси облачается в боевые доспехи и предпринимает серию продолжительных атак, изо всех сил пытаясь доказать, что я очень плохой логик, коль скоро назвал {64} увеличение не видимых невооруженным глазом звезд «бесконечным». В моем возрасте я попросту заболеваю от такого рода перебранок, хотя в детстве, когда и у меня был учитель, я с восторгом предавался им. Поэтому в ответ на все это я отвечу кратко и просто, что Сарси выдает себя с головой: именно к нему в полной мере относится то, что он с такой настойчивостью пытается приписать мне, т. е. обвинение в неладах с логикой, ибо он принимает относительное за абсолютное.
Никто и никогда не утверждал, что увеличение неподвижных звезд бесконечно велико. Напротив, отец Грасси написал, что оно равно нулю, а синьор Марио заметил, что это неверно, поскольку очень много совершенно невидимых звезд становятся видимыми [в телескоп], и добавил, что такое увеличение следовало бы скорее называть бесконечным, чем никаким. Кто же так глуп, что не понимает простых вещей: если прибыль в тысячу на капитал в сто мы называем большой, а не нулевой, а ту же прибыль на капитал в десять — очень большой, а не нулевой, то прибыль в тысячу на нулевой капитал правильнее было бы назвать бесконечной, нежели нулевой. Когда синьор Марио говорил об абсолютном увеличении, даже Сарси знал (и написал об этом в нескольких местах), что синьор Марио считает увеличение не видимых невооруженным глазом звезд таким же, как и увеличение всех других предметов, видимых в тот же инструмент. Поэтому когда в приведенном выше отрывке он [Сарси] пытается обвинить синьора Марио в том, что у того короткая память, и говорит, что в других случаях синьор Марио высказывал утверждение об одинаковом увеличении всех предметов одним и тем же инструментом, то подобное обвинение просто глупо. Даже если бы синьор Марио назвал увеличение бесконечным, не пояснив, что именно имеется в виду, то и тогда столь резкая критика, как выпад [Сарси], была бы для меня полной неожиданностью, поскольку в обыденной речи слово «бесконечный» часто употребляется вместо «очень большой».
Здесь, действительно, перед Сарси открываются широкие возможности показать себя более искушенным логиком, чем все остальные авторы в мире, употребляющие, смею заверить, в девяти случаях из десяти слово «бесконечный» вместо «очень большой». Но это еще не все, Сарси. Что бы ты стал делать, если бы повстречал Проповедника78 и услышал из уст его: «Число глупцов бесконечно»79? Затеял бы спор и принялся доказывать, что {65} его утверждение ложно? Ты мог бы, ссылаясь на ничуть не меньший авторитет Священного писания, доказать, что мир не вечен, а поскольку мир сотворен во времени, то людей не было и не может быть бесконечно много, а так как глупость владычествует только среди людей, утверждение, о котором идет речь, не могло бы быть истинным, даже если бы все люди в прошлом, настоящем и будущем были глупцами, ибо даже если бы миру было суждено существовать вечно, то и тогда число людей не было бы бесконечно велико.
Но вернемся к предмету нашего рассмотрения. Что можно сказать о другой ошибке, столь тонко подмеченной Сарси в том месте, где мы называем увеличением то, что происходит, когда невидимый предмет при наблюдении в телескоп становится видимым? Он утверждает, что в этом случае неправильно говорить об увеличении, поскольку увеличение предполагает существование некоторой величины и увеличение есть не что иное, как превращение меньшего в большее.
Я решительно не знаю, что сказать в ответ на это в оправдание синьора Марио, разве что тот изъяснялся, как принято говорить, на обыденном языке. Считая, что способность телескопа показывать нам предметы, которые мы не можем обнаружить без него, ничем не отличается от способности телескопа увеличивать изображения видимых предметов, и зная, что последнюю способность принято называть увеличением изображения или видимого предмета, он [синьор Марио] позволил себе перенести это название в том же смысле на то, что Сарси считает правильным называть не увеличением, а переходом от небытия к бытию. Например, если телескоп позволяет нам читать с большого расстояния текст, в котором без телескопа мы различили бы только заглавные буквы, то, рассуждая логически, следовало бы говорить не об увеличении телескопом заглавных букв, а о том, что телескоп способствует переходу строчных букв из небытия в бытие. Но если слово «увеличение» не пристало использовать в тех случаях, когда нет ничего, что могло бы воспринять увеличение, то, возможно, для Сарси ничуть не более обоснованно употребление слова «переход», или «перевод», в тех случаях, когда не существует двух конечных точек: той, из которой нечто исходит, и той, в которую оно переходит.
И кто знает? Может быть, синьор Марио считал и продолжает считать, что чистые изображения от очень далеких {66} предметов доходят до нас под столь острыми углами, что перестают восприниматься нашими органами чувств и как бы существовать, хотя в действительности они существуют. Если мне будет позволено высказать мое мнение, то я полагаю так: не существуй они в действительности, все телескопы в мире были бы не в состоянии превратить их из ничто в нечто. Иначе говоря, изображения невидимых звезд ничуть не меньше, чем изображения видимых звезд, распространяются по Вселенной и их увеличение можно предсказать при всем почтении к Сарси и ничуть не погрешая против логики. Но стоит ли задавать все новые и новые вопросы о том, относительно чего я располагаю веским и решающим доказательством? Существует дополнительное сияние, видимое нами, но не окружающее в действительности звезды, ибо оно кроется в наших глазах, от звезды же исходит только голос и четко ограниченное изображение. Нам доподлинно известно, что любая туманность — это скопление огромного количества крохотных звезд, каждая из которых в отдельности не видна; тем не менее занимаемое ими поле не остается невидимым. Оно наблюдаемо в виде небольшого беловатого пятнышка, образующегося от слияния ореолов, окружающих каждую из этих крохотных звездочек. Но так как все ореолы существуют в наших глазах, то и каждое изображение каждой звездочки должно существовать реально и вполне определенно в наших глазах. Отсюда напрашивается и другой вывод. В небе нет ни туманностей, ни даже Млечного Пути, и то и другое не более чем ощущения наших глаз, и вот в каком смысле: если бы наше зрение было настолько острым, чтобы различать все эти крохотные звездочки, то в небе не было бы ни туманностей, пи Млечного Пути.
Подобные заключения не высказывались прежде другими. Полагаю, что Сарси также не разделял их, и тем не менее он настаивает, что синьор Марио якобы согрешил, назвав «увеличением» то, что, по его [Сарси] мнению, следовало бы назвать «переходом от небытия к бытию». Что ж, пусть будет так! С разрешения синьора Марио я целиком уступаю Сарси (дабы не ввязываться в новую драку) победу в той схватке, равно как и в следующей, где Сарси признает, что обнаружение ранее невидимых неподвижных звезд в телескоп допустимо называть увеличением в отношении видимости, но не в отношении величины. Уступаю ему все это, если только он согласится признать, что и невидимые и видимые звезды (увеличиваясь {67} в каком угодно отношении) в конечном счете достигнут столь большого увеличения, при котором станет ясна полная несостоятельность теории его учителя, который написал, будто звезды вообще не увеличиваются. Именно на этом утверждении он основал третий из тех аргументов, с помощью которых вознамерился доказать основной тезис своего трактата, а именно тезис о местоположении кометы.
Но что мы ответим на еще одну ошибку в логике, которую не преминул приписать нам Сарси? Но давайте сначала выслушаем, в чем она состоит, дабы решить, какой ответ будет наиболее подходящим. Не довольствуясь достигнутым (ведь он [Сарси] показал, что открытие невидимых звезд не подобает называть бесконечным увеличением), Сарси продолжает доказывать, будто усматривать причину открытия невидимых ранее звезд в телескопе означает совершать тяжкую ошибку в логике, по законам которой в тех случаях, когда некое следствие может проистекать от многих причин, недопустимо выводить его из какой-нибудь одной причины. Дабы показать со всей ясностью, что нечто невидимое сначала может стать видимым по многим причинам (помимо телескопа), Сарси одну за другой перечисляет эти причины, утверждая, будто их все необходимо исключить, показав, что они не имеют отношения к открытию звезд с помощью телескопа. Дабы парировать возражения Сарси, синьор Марио должен был бы, во-первых, показать, что приставление телескопа к глазу само по себе не увеличивает остроту зрения (ибо острота зрения есть одна из причин, по которой нечто первоначально невидимое могло бы стать видимым); во-вторых, он [синьор Марио] должен был бы показать, что действие телескопа не сводится к удалению облаков, деревьев, крыш или каких нибудь других препятствии [между глазом и наблюдаемым предметом]; в-третьих, что оно не сводится к пользованию обычными очками (я, Ваша милость, просто перечисляю причины, названные самим Сарси, ничего в них не изменяя); в-четвертых, что оно не сводится к более яркому освещению предмета; в-пятых, что оно достигается не путем приближения звезд к Земле или нашего вознесения в небо, вследствие чего расстояние, отделяющее нас от звезд, уменьшилось бы; в-шестых, что оно не заставляет звезды раздуваться, вследствие чего они могли бы стать больше и заметнее; в-седьмых, и в-последних, что оно состоит не в раскрытии глаз, бывших до того закрытыми. Каждая из этих причин, {68} особенно последняя, вполне достаточна для того, чтобы мы увидели то, чего не видели раньше.
Не знаю, что и сказать тебе, синьор Сарси, разве что твоя аргументация просто великолепна. Единственное, что не удовлетворяет меня, так это то, что все перечисленные тобой возражения в полной мере относятся к твоему учителю, не столь уже сильно задевая синьора Марио или меня. Я спрашиваю тебя, оказывает ли любая из причин, приводимых тобой как могущих позволить нам видеть то, что без них мы не видели бы (например, приближение предметов, введение паров или линз между [глазом и предметом] и т. д.), повторяю, я спрашиваю тебя, оказывает ли любая из этих причин такое действие (увеличение видимых предметов), какое оказывает телескоп? Думаю, что на мой вопрос ты ответишь утвердительно. Но тогда я добавлю: обвинил ли ты своего учителя открыто в том, что и он плохой логик? Ведь он во всеуслышание заявляет, что признал бы увеличение Луны и всех других предметов одним лишь телескопом, нимало не заботясь о том, дабы исключить любую из других причин, тогда как, по-твоему, непременно должен был бы сделать это. Впрочем, подобная обязанность отнюдь не ложится на синьора Марио: ведь он обращался не ко всем, а только к твоему учителю и пытался доказать, что сказанное твоим учителем о действии инструмента [телескопа] неверно. Соответственно он подошел к вопросу так, как подходил его противник, и отнюдь не был обязан поступать так в других случаях. В действительности выдвинутое тобой обвинение в прегрешениях против логики в большей мере относится к твоему учителю, поскольку он нарушил то же самое правило в другом, наиболее важном случае: я имею в виду заключение об обращении по большому кругу на основании прямолинейности видимого движения, ибо тот же эффект может быть обусловлен истинно прямолинейным движением или любым другим движением в той же плоскости, в которой лежит глаз [наблюдателя]. Весьма проницательные люди могли бы с полным основанием заняться исследованием всех трех случаев, и, как явствует из твоих же слов, твой учитель не отвергал как неприемлемое движение по овальной и даже нерегулярной линии. Но, честно говоря, я не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме последнего глупца, счел любую из семи перечисленных тобой причин имеющей хотя бы какое-то отношение к открытию невидимых звезд при наблюдении в телескоп. {69}
Я отнюдь не имею в виду причислять Сарси к глупцам, потому что он, Ваша милость, сам поставил себя в глупое положение, ибо говорил не по внутреннему убеждению: ведь в конце концов он почти признал, что, поскольку мы не рассматриваем ничего, кроме телескопа, все остальные причины вполне допустимо не учитывать. Но открытое признание обнаружило бы бессодержательность выдвинутого им предыдущего обвинения и опровергло бы самую мысль о том, что я плохой логик, которая могла бы произвести впечатление на некоторых из его [Сарси] читателей. Дабы избежать этого, он добавляет, что и сказанного недостаточно для безупречного рассуждения, ибо телескоп делает видимым ранее невидимое не одним, а двумя способами. Во-первых, позволяя рассматривать предметы под большим углом, отчего они кажутся больше, и, во-вторых, объединяя лучи и изображения, отчего те оказывают более сильное действие. А поскольку ни одной из этих причин не достаточно для того, чтобы сделать видимым не воспринимаемое [глазом], мы не можем по следствию заключить, какой из двух названных причин оно вызвано.
Таковы его собственные слова, внутренний смысл которых, должен признаться, я не могу постичь, ибо они несколько излишне общи. Ему, Сарси, следовало бы, как мне кажется, более внимательно следить за точностью выражений, ибо его утверждение может быть истолковано в нескольких смыслах. Первое толкование, которое приходит на ум, явно внутренне противоречиво, ибо то, отчего становится больше угол, под которым виден предмет, оказывает действие, противоположное тому, отчего сжимаются лучи и изображения. Так как лучи передают изображение, трудно понять, как при этой передаче они сжимаются и в то же время образуют больший угол: если угол образован сходящимися лучами, то ограничиваемый ими угол должен становиться уже, а не шире. Если же Сарси придумал другую конфигурацию, при которой лучи, сходясь, образуют больший угол (я отнюдь не отрицаю, что такую конфигурацию можно было бы найти), то он должен был бы описать ее и указать присущие ей отличительные особенности, дабы не оставлять читателя в самой гуще сомнений и неясностей.
Но допустим, что телескоп действительно действует теми двумя способами [о которых говорит Сарси]. Я хотел бы знать, действует ли он всегда обоими способами сразу или в одних случаях действует только одним {70} способом, а в других только другим, вследствие чего, когда телескоп используется для увеличения угла, он перестает ограничивать лучи, а когда он ограничивает лучи, то всегда сохраняет исходную величину угла. Если же телескоп всегда действует обоими способами, то Сарси поступает весьма необдуманно, критикуя синьора Марио за то, что тот не указал, каким именно способом действует телескоп, и не исключил другой способ. Но коль скоро телескоп действует только одним способом, то Сарси повинен в ошибке, ибо он не отметил, каким именно способом действует телескоп, и не исключил другого, показав, например, что, когда мы смотрим в телескоп на Луну, которая претерпевает сильное увеличение, телескоп действует, увеличивая угол, а когда мы смотрим на звезды, только концентрирует лучи и не увеличивает угол. С полной уверенностью заявляю, что, хотя я бесконечно много (возможно, мне следовало бы сказать «очень много») раз смотрел в инструмент, мне ни разу не удалось заметить какого-нибудь различия в его действии, и я считаю поэтому, что он всегда действует одинаково.
Более того, я глубоко убежден, что и Сарси придерживается того же мнения, а коли так, то две операции, а именно увеличение угла и ограничение лучей, всегда совпадают, отчего возражение Сарси становится целиком и полностью несостоятельным. Не подлежит сомнению, что всякий, кто приписывает следствие, могущее проистекать от нескольких не связанных между собой причин, одной вполне определенной причине, совершает ошибку. Но коль скоро причины всегда неразделимы, то следствие можно приписать какой угодно из них, поскольку всякий раз, когда имеет место следствие, имеет место и указанная причина.
Например, всякий, кто скажет: «Такой-то зажег огонь. Следовательно, он воспользовался зажигательным стеклом», заведомо совершит ошибку, ибо огонь мог быть зажжен от удара молота по железу, раздуванием искры, попавшей на трут, высечен кресалом из кремня или добыт каким-нибудь другим способом. Но если кто-нибудь скажет: «Я слышал, как мой сосед высекал огонь» — и добавит: «Следовательно, у него есть кремень», то было бы неразумно возражать против этого на том основании, что для высекания огня, помимо кремня, надобно иметь стальное кресало, трут и сернистый материал, поэтому-де нельзя, не погрешая против логики, с полной уверенностью утверждать, что [у соседа] есть кремень. {71} Таким образом, если увеличение угла и сближение лучей всегда идут рядом в действиях телескопа и одна из указанных причин делает видимым то, что ранее было невидимо, то почему бы не приписать следствие любой из двух названных выше причин?
Думаю, что мне удалось в какой-то мере проникнуть в замыслы Сарси. Если я не ошибаюсь, ему хотелось вы убедить читателя в том, во что он сам не верит,— будто восприятие глазом ранее невидимых звезд зависит не от увеличения угла, а от схождения лучей и звезды становятся видимыми не потому, что их изображения увеличиваются, а потому, что их лучи сосредоточены в меньшем объеме. Но он [Сарси] не желает выступать открыто, ибо другие аргументы, выдвинутые синьором Марио и обойденные Сарси молчанием, оказались бы для него непосильным бременем, в особенности аргумент, состоящий в том, что расстояния между звездами воспринимаются увеличенными в том же отношении, как и предметы здесь, внизу, хотя расстояния между звездами не должны увеличиваться в своих размерах, если размеры звезд остаются неизменными, поскольку отрезки, разделяющие звезды, отстоят от нас так же далеко, как сами звезды.
Но довольно об этом. Я ничуть не сомневаюсь, что если бы Сарси не счел за труд объяснить себе, как он понимает две операции, производимые телескопом (я имею в виду сосредоточение лучей и увеличение угла;, то ему стало бы ясно, что они не только выполняются одновременно, но и, по существу, представляют собой одно и то же, вследствие чего лучи никогда не сходятся без того, чтобы при этом не увеличился угол. Дабы придерживаться другого мнения, ему [Сарси] пришлось бы показать, что телескоп иногда сближает лучи, не увеличивая угол, причем так бывает только при наблюдении неподвижных звезд. Но ничего такого он [Сарси] не докажет до скончания века, ибо это глупейший вымысел, или, если называть вещи своими именами, фальшивка.
В мои намерения, Ваша милость, не входило тратить столько слов на подобный пустяк, но, чем больше сделаешь, тем меньше останется делать. Что же касается еще одного обвинения в нарушении законов логики, то, по утверждению [Сарси], синьор Марио, разделяя действия телескопа, включил в их число несуществующее и исключил то, что ему непременно следовало бы включить. Ибо у него [синьора Марио] сказано: «Телескоп делает {72} звезды видимыми, либо увеличивая их изображения, либо увеличивая их яркость», тогда как, по мнению Сарси, ему следовало бы сказать: «...увеличивая их изображения или сосредоточивая изображения и лучи». На это я отвечу, что синьор Марио отнюдь не намеревался разделять неразделимое, а он и я считаем, что именно так обстоит дело с действием телескопа, позволяющего наблюдать предметы. Когда он [синьор Марио] говорит: «Если телескоп не делает звезды видимыми, увеличив их, то он должен каким-то неслыханным образом придавать звездам большую яркость», то это отнюдь не означает, будто он вводит усиление яркости в качестве причины, по которой невидимые ранее звезды становятся видимыми. Он лишь противопоставляет увеличение звезд другой причине как заведомо невозможной, намереваясь сделать еще более очевидной истинность первой причины.
Так же обычно мы поступаем в обыденной речи, когда говорим, например: «Если враги не взобрались на стены крепости по штурмовым лестницам, то они, должно быть, свалились с неба». Но если Сарси полагает, что может снискать шумный успех, оспаривая подобные обороты речи, то перед ним открывается еще один путь (помимо того, о котором шла речь в связи с «бесконечным») к победе в логической битве против всех авторов на свете. Но, пытаясь разыгрывать из себя великого логика, он предстает перед нами еще более великим софистом. Сдается мне, Вы улыбаетесь, Ваша милость? Но что тут поделаешь! Сарси взбрело в голову перечить всему, что написано в трактате синьора Марио, и он старается добиться своего всеми правдами и неправдами. Что касается меня, то я не только склонен простить его, но и воздам ему хвалу, ибо, как мне кажется, он свершил невозможное.
Но вернемся к предмету нашего разговора. Мы уже убедились в том, что синьор Марио не считал всерьез усиление яркости свойством телескопа. Но это еще не все: сам Сарси также признает, что усиление яркости было упомянуто как невозможное свойство. Следовательно, яркость отнюдь не является одной из альтернатив. Если говорить о нас [с синьором Марио], то, как я уже заметил, никакой альтернативы вообще не существует. Что же касается объединения изображений и лучей, на которые Сарси ссылается как на альтернативу, якобы упущенную синьором Марио в его разбиении [действий телескопа], то было бы неплохо, если бы Сарси указал, чем второе действие отличается от первого. До сих пор мы {73} считали, что оба действия по существу представляют собой одно и то же, но если нас уверяют, что в действительности мы имеем дело с двумя совершенно различными операциями, то нам хотелось бы понять, в чем мы ошиблись. Но даже если бы мы допустили ошибку, то это не логическая ошибка, допущенная при перечислении альтернатив, а ошибка в оптике — в неадекватном и неполном понимании того, как действует инструмент.
Когда Сарси в заключение говорит, что ему не хотелось бы понапрасну тратить время и перечислять другие ошибки, помимо случайно обнаруженных им в одном месте [трактата синьора Марио], и он поэтому опускает другие ошибки, я прежде всего благодарю его за сострадание к нам. Затем я радуюсь за синьора Марио, который может отныне пребывать в уверенности, что не допустил ни малейшей логической ошибки во всем трактате, ибо, хотя Сарси и намекает, будто в трактате имеется великое множество других ошибок, я склонен думать, что им выбраны как самые грубые именно те, которые он особо выделил и критиковал. Предоставляю Вам судить путем умозаключений о качестве и значимости остального.
Перехожу к рассмотрению заключительной части, в которой Сарси из любезности ко мне пытается облагородить телескоп, наделяя его замечательным свойством усиливать яркость и увеличивать те предметы, которые через него рассматриваются. Но прежде чем переходить дальше, я хочу поблагодарить его [Сарси] за любезность и спрашиваю себя, не налагает ли это на меня серьезные обязательства, коль скоро мы намереваемся рассмотреть силу доказательства, приведенного им в обоснование этого пункта. А так как в его собственном объяснении мне показалось, что по какой-то непонятной причине автор ходит вокруг да около, повторяя снова и снова одно и то же утверждение, я попытаюсь извлечь самую суть. Мне кажется, что она сводится к следующему: «В телескоп предметы кажутся больше, потому что мы видим их под большим углом, чем они видны без инструмента. Кроме того, сводя почти в точку изображения светящихся тел и рассеянные ими лучи, телескоп делает гораздо более ярким конус (или световую пирамиду), по которому мы видим предметы. Таким образом, светящиеся предметы видны [в телескоп] увеличенными и как бы освещенными более ярким светом. То, что [телескоп] придает зрительной пирамиде большую яркость, ограничивая лучи, доказывается как умозрительно, так и на опыте. Разум учит {74} нас, что свет, собранный в меньшем пространстве, должен быть ярче, а опыт показывает, что линза из стекла, подставленная под солнце, не только зажжет дерево там, где собираются лучи, но и расплавит свинец и ослепит глаз. Из всего этого можно сделать вывод: утверждать, что телескоп придает звездам большую яркость, столь же правильно, как утверждать, что оп увеличивает их».
Самое малое, что я могу сделать в ответ на любезность Сарси и добрую волю, которую он проявил, возвышая и облагораживая замечательный инструмент [телескоп], это полностью согласиться со всеми приведенными выше утверждениями и опытами. Однако меня огорчает, что в известном смысле они более предосудительны для него, будучи правильными, нежели были бы, будучи ложными, ибо главный вывод, который они были призваны доказать, в корне неверен, и я не считаю возможным полагать, будто те, кто выводит ложное заключение из истинных посылок, не погрешают серьезно против логики. Верно, что телескоп увеличивает предметы, позволяя рассматривать их под большим углом, и совершенно верно, что предметы мы видим в перспективе. Не менее верно, что более тесное схождение лучей световой пирамиды усиливает их яркость и, следовательно, делает то же самое с рассматриваемыми предметами. Причина, которой приписывает это явление Сарси, правильна: один и тот же свет, будучи ограниченным меньшим пространством, освещает его ярче. Наконец, нет ничего ошибочного и в его опыте с линзой, которая зажигает и плавит, собирая солнечные лучи. Но совершенно неверно, будто светящиеся предметы кажутся нам в телескоп более яркими, чем без него; в действительности же мы видим их [в телескоп] более тусклыми. Если бы Сарси, наблюдая Луну в телескоп, открыл другой глаз и посмотрел прямо на Луну, то он смог бы без труда сравнить блеск огромной Луны, видимой в телескоп, с блеском малой Луны, видимой невооруженным глазом. После такого наблюдения он заведомо написал бы, что свет непосредственно наблюдаемой Луны гораздо ярче, чем свет другой Луны, [наблюдаемой в телескоп].
Таким образом, ложность заключения, о котором идет речь, совершенно очевидна. Нам остается показать, что ошибка кроется в неверном выводе из истинных посылок. Сарси, как мне кажется, не учел того, что случилось бы с купцом, который, проглядывая свои бухгалтерские книги, вздумал бы читать записи только на одной стороне {75} — кредит и на основании прочитанного стал бы убеждать себя, что он платежеспособен и даже богат: заключение купца было бы верно только в том случае, если бы не существовало записей на другой стороне — дебит. Верно, синьор Сарси, что линза, т. е. выпуклое стекло, собрала бы лучи и тем самым умножила свет, свидетельствуя в пользу твоего заключения. Но где ты оставил вогнутое стекло? Это дополнение линзы в телескопе является его наиболее важной частью, ибо вогнутое стекло держат у глаза и лучи сквозь него проходят в конце пути; оно соответствует подведению баланса и окончательному расчету в главной книге. Разве ты не видишь, что, хотя выпуклая линза собирает лучи, вогнутое стекло делает их расходящимися и порождает обращенный конус? Если бы ты попытался поймать лучи, проходящие через оба стекла телескопа, как ты делал, наблюдая лучи, преломленные одной линзой, то увидел бы, что в то время, как последние собираются в одной точке, первые расходятся бесконечно или, если говорить точнее, на огромное расстояние. Это очень хорошо видно на опыте при получении изображения Солнца на листе бумаги, например при наблюдении за солнечными пятнами. По мере того как конец телескопа отодвигается все дальше и дальше, конус лучей описывает на листе все более широкий круг, и, чем шире такой круг, тем менее ярок он по сравнению с остальной частью листа, на которую попадают прямые солнечные лучи. Даже если ты ничего не знал об этом и о всех других опытах, то мне все равно трудно поверить, будто тебе никогда не приходилось слышать о том, что, чем больше кажется предмет через вогнутое стекло, тем темнее его изображение. Как же в таком случае ты можешь ожидать, что телескоп одновременно с увеличением предметов будет придавать им большую яркость?
Оставь же, синьор Сарси, все попытки возвеличить этот инструмент твоими замечательными новыми свойствами, если только в твои намерения не входит навлечь на него дурную славу среди тех, кто и до сих пор не питал к нему особого доверия. Нельзя не заметить, что в своей отповеди я обошел молчанием одно твое [Сарси] замечание, как если бы оно было верным, тогда как в действительности оно ложно. Я имею в виду твое утверждение, будто усиление света при схождении лучей делает видимый предмет более ярким. Так было бы в том случае, если бы свет исходил от источника, дабы упасть на предмет, но в нашем случае свет попадает в глаз и оказывает {76} противоположное действие: он не только раздражает глаз, но и придает среде большую яркость, а чем ярче среда, тем, смею тебя уверить, темнее кажутся предметы [на ее фоне]. Именно поэтому звезды так ярко сверкают по ночам на небе, когда оно темное, и бледнеют, когда небо начинает светлеть. Не могу поверить, Ваша милость, что Сарси не был осведомлен о столь очевидных вещах; он вызвался доказать парадокс не столько по внутреннему убеждению, сколько для того, чтобы показать живость своего ума. В этом меня убеждает его последнее заключение, когда он, должно быть, для того, чтобы показать, что говорит в шутку, утверждает следующее: «Итак, я с полным основанием утверждаю, что телескоп делает звезды более яркими, равно как и увеличивает их». Ваша милость знает, что и он сам [Сарси], и его учитель всегда утверждали и продолжают утверждать, будто телескоп совсем не увеличивает звезды. Как мы увидим в дальнейшем, Сарси вынужден поддержать подобное мнение.
XIII
Прочитайте, Ваша милость, следующие строки: Спешу перейти к третьему аргументу и полагаю, что должен привести его дословно, дабы все могли понять, чем, по признанию Галилея, он так недоволен. Вот что пишет Галилей: «В-третьих, я убежден в том же, потому что, когда комета наблюдаема в телескоп, она претерпевает едва заметное увеличение. Однако длительным опытом было обнаружено и доказано, исходя из оптических соображений, что все предметы, наблюдаемые в указанный инструмент, кажутся больше, чем при рассмотрении их невооруженным глазом. Но по известному правилу увеличение кажется тем меньше, чем больше удалены предметы. Я знаю, что для некоторых этот аргумент малоубедителен, но те, кто так считает, по-видимому, не придают должного значения началам оптики, которые (и это надлежит понимать) играют важную роль в том, что мы теперь обсуждаем». Прежде всего я намереваюсь объяснить, для чего аргумент такого рода понадобилось включать в нашу дискуссию, ибо мне не хотелось бы, чтобы другие придавали ему большее значение, чем мы сами, ведь мы не принадлежим к тем, кто обманывает покупателей, а продаем товар по той цене, которую он стоит.
Когда моему учителю были предоставлены наблюдения знаменитых астрономов со всех концов Европы, ни {77} один из них не преминул заметить, что комета, которую они наблюдали в очень длинный телескоп, получала едва заметное увеличение. Из чего они заключили, что комета должна находиться по крайней мере за Луной. После того как этот вопрос, равно как и другие, был обсужден на различных диспутах при огромных скоплениях людей, не было недостатка в тех, кто прямо и открыто утверждал, что подобному аргументу не следует придавать веры и что телескоп тешит глаз бесплотными видениями и прельщает разум различными картинами, но не воспроизводит точно и без погрешностей даже наблюдаемое вблизи, не говоря уже о предметах, удаленных от нас на огромные расстояния,— их телескоп изображает в диком и искаженном виде. Дабы иметь возможность придать некую достоверность наблюдениям наших друзей и в то же время публично разоблачить невежество тех, кто не придает этому инструменту [телескопу] никакого значения, мы во всеуслышание заявляем, что указанный аргумент надлежит ставить на третье место и приводить в заключение слова Галилея о его неудовольствии.
Тешим себя надеждой, что, защищая от клеветнических наветов телескоп, хотя и не родное, но приемное дитя Галилея, нам удастся снискать его доброе, а не дурное расположение. О том, какое значение мы придаем этому аргументу, мне кажется, можно судить хотя бы по тому, что изложен он кратко, и это малословие связано с тем, что все уже было объяснено гораздо более полно и подробно в двух предыдущих аргументах. Эти аргументы не сокрыты от Галилея, если он захочет их принять. Когда мы узнали, что он сильно разгневался, прослышав о третьем аргументе, и посчитал себя единственной мишенью этих слов, мой учитель предпринял все необходимое, дабы через друзей уведомить Галилея, что и не помышлял наносить ему ущерб ни письменно, ни устно, и, хотя Галилей поведал тем, от кого он получил эти сведения, что дух его спокоен и он воспринял переданные ему слова, все dice впоследствии он предпочел потерять друга, нежели поступиться аргументом.
Относительно того, что здесь написано, необходимо прежде всего выяснить, почему Сарси утверждает, будто отец Грасси очень огорчил меня. В трактате синьора Марио нет и намека на какие-нибудь сетования с моей стороны. Я никому не изливал своих жалоб и не ношу их в душе. У меня нет причин жаловаться. С моей стороны было бы очень глупо жаловаться кому-нибудь на то, что {78} люди, пользующиеся высокой репутацией, высказали несогласие с моей точкой зрения, когда я могу легко и просто доказать свою правоту. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, состоит в том, что Сарси, не знаю почему, лишь делает вид, будто я обижен, скрывая за этим тайные мотивы, вынуждающие его гневаться на меня, о чем я очень сожалею, ибо предпочел бы тратить время на что-нибудь более близкое мне по духу.
Я хочу, чтобы Сарси понял одно: в намерения отца Грасси отнюдь не входило наносить мне оскорбления, когда он критиковал как несведущих тех, кто приуменьшал значение аргумента, проистекающего из слабого увеличения кометы, наблюдаемой в телескоп. Но если меня когда-нибудь называли среди таких людей, то мне должно быть позволено представить свои доводы и защитить свою точку зрения, тем более что она вполне обоснованна и соответствует истине. Допускаю также, что Сарси не погрешает против истины, утверждая, что его учитель исходил из лучших намерений, когда выступал в поддержку моей точки зрения в надежде сохранить доброе имя и приумножить славу телескопа вопреки клеветническим утверждениям тех, кто называл телескоп лжецом и обманщиком зрения, тем самым пытаясь лишить инструмент присущих ему высоких достоинств. Поступая так, преподобный отец действовал из преотличных и заслуживающих всяческих похвал побуждений, в то время как выбор и самое качество контраргументов Сарси, которые он выдвинул против вздорных обвинений злокозненных лжецов, пытаясь спасти истинные достоинства телескопа приписыванием ему ложных, представляются мне жалкими и пагубными. Здесь вряд ли уместно вдаваться в обсуждение высоких достоинств инструмента [телескопа], и, надеюсь, Сарси великодушно простит меня, если я выражу свою признательность ему не столь велеречиво, как подобало бы, и не выскажу, сколь многим обязан ему за новые отличия и почести, излившиеся на телескоп. Здраво рассудив, он поймет, что вряд ли может рассчитывать на прилив признательности и благодарности с моей стороны тем людям, которые высказывают глупые и ложные утверждения, приписывая телескопу несуществующие свойства, и угрожают лишить меня своего расположения, если я раскрою их ошибки, указав истину.
Сразу после этого, хотя это и не очень уместно, ему приходится назвать телескоп моим приемным детищем, пояснив в то же время, что тот отнюдь не является моим {79} детищем. Как же так, синьор Сарси? Если ты изо всех сил пытаешься показать, сколь многим я обязан за блага, выпавшие на долю моего предполагаемого детища, то к чему говорить мне, что это лишь приемное дитя? Здраво ли это с точки зрения риторики? Ведь я мог бы подумать в таком случае, что ты пытаешься уверить меня в том, будто телескоп мое детище, даже если в действительности ты уверен в обратном. Та роль, которую мне довелось сыграть в создании этого инструмента [телескопа], равно как и вопрос, могу ли я с достаточным основанием называть его своим детищем, давно изложены мной в «Звездном вестнике».
Я писал там, что до Венеции, где мне довелось быть в то время, дошли вести о том, что некий голландец подарил графу Морицу Нассаускому зрительную трубу, позволяющую видеть далекие предметы с такой же отчетливостью, как если бы они находились совсем рядом. Нот и все. Услышав эти вести, я возвратился в Падую, где жил в ту пору, и принялся размышлять над проблемой. В первую же ночь после своего возвращения я разрешил ее; на следующий день построил инструмент и послал известие об этом тем же друзьям в Венеции, с которыми накануне обсуждал этот предмет. Сразу же затем я приступил к созданию другого, еще лучшего инструмента, который шесть дней спустя привез с собой в Венецию; там его за месяц с лишним осмотрели с превеликим восхищением почти все синьоры, занимающие видное положение, чем немало утомили меня. Наконец, по совету одного; из покровителей, питающего ко мне дружеские чувства, я преподнес телескоп в дар государю в присутствии собравшегося в полном составе совета. Сколь высоко был оценен мой дар и с каким восторгом он был принят, свидетельствуют хранящиеся у меня письма герцога, в которых светлейший государь с присущей ему щедростью в воздаяние за преподнесенное ему изобретение вновь назначает и утверждает меня пожизненно профессором университета в Падуе с вдвое большим против прежнего жалованьем, что почти втрое превышает жалованье некоторых моих предшественников. Эти события воспоследовали не в глухом лесу и не в пустыне; произошли они в Венеции, и если бы тебе довелось быть там, ты не осмелился бы выговаривать мне, как школьный учитель [провинившемуся ученику]. Но милостью Божьей большинство упомянутых мной синьоров все еще живут там, и у них ты можешь разузнать все подробнее. {80}
Но, может быть, кто-нибудь скажет, что в открытии и в решении какой-нибудь задачи немалую помощь оказывает возможность сначала каким-то образом убедиться в правильности найденного решения и обрести уверенность в том, что не пытаешься совершить невозможное, и поэтому моя осведомленность и достоверное знание, что зрительная труба уже кем-то изготовлена, оказали мне большую помощь, без которой я вряд ли смог бы совершить свое открытие. На это я отвечу с оговорками, Я скажу, что известие действительно оказало мне помощь, ибо пробудило во мне желание поразмыслить над ним, и что, не будь его, я вряд ли задумался бы над этим; но мне не верится, чтобы подобные известия могли каким-нибудь образом, помимо сказанного, способствовать изобретению. Кроме того, должен сказать, что решение известной и вполне определившейся задачи требует несравненно большего хитроумия, нежели задача, о которой не думали и не упоминали, ибо при решении последней немаловажную роль может сыграть счастливый случай, тогда как решение всецело основано на рассуждениях. Ныне доподлинно известно, что голландец, который впервые изобрел зрительную трубу, был простым мастером, изготовлявшим обыкновенные очки. Перебирая стекла разных сортов, он случайно посмотрел сквозь два стекла сразу, одно выпуклое и одно вогнутое, находившиеся на различных расстояниях от глаз. Он заметил возникающий при этом эффект и таким образом открыл инструмент. Я же, побуждаемый упомянутым выше известием, открыл то же самое путем рассуждений, в действительности простых. Их-то я и хочу поведать Вашей милости. Воспроизвести их здесь я считаю уместным в надежде, что их простота сделает менее недоверчивыми людей, которые, подобно Сарси, хотели бы умалить все достохвальное, что есть в зрительной трубе, если оно принадлежит мне.
Рассуждал я следующим образом. У этого устройства непременно должно быть либо одно, либо более чем одно стекло. Оно не может состоять из одного стекла, ибо форума последнего непременно была бы либо выпуклой, т. е. более толстой в середине, чем по краям, либо вогнутой, т. е. более тонкой в середине, либо оно должно быть заключено между параллельными поверхностями. Но последняя из названных [форм] не изменяет видимые предметы, увеличивая или уменьшая их; вогнутое [стекло] уменьшает их, а выпуклое увеличивает их, давая сильно искаженное и неясное изображение. Следовательно, для {81} получения требуемого эффекта одного стекла недостаточно. Переходя затем к двум стеклам и зная, что стекло с параллельными поверхностями, как уже было сказано, ничего не изменяет, я пришел к выводу, что сочетание его с любым из двух других не даст желаемого эффекта. Поэтому мне оставалось выяснить, что даст сочетание выпуклого стекла с вогнутым, и, как вы увидите, именно оно и дало то, что я искал. Так я шел к своему открытию, и сознание того, что мое заключение правильно, ничуть не помогло мне.
Но если Сарси и другие полагают, будто уверенность в результате оказывает большую помощь в поиске путей его осуществления, то пусть они обратятся к истории; из нее они узнают, что Архит изготовил голубя, который мог летать, а Архимед — зеркало, способное воспламенять на больших расстояниях80, и сконструировал прочие замечательные машины, другие изобрели вечный огонь и еще сотни столь же удивительных вещей. Поразмыслив, они [Сарси и другие] могут с легкостью открыть к великой чести и пользе для себя, как сконструировать подобные вещи, или, если им не удастся додуматься, но крайней мере извлечь некоторую пользу, уяснив кое-что относительно того, много ли сулит им предварительное знание реальности эффектов, которое сказывается гораздо меньше, чем они полагают.
Но вернемся к тому, о чем вынужден сказать Сарси. Он достаточно осторожно избегает утверждения, будто аргумент, основанный на едва заметном увеличении очень далеких предметов, не имеет никакого значения, ибо это неверно, но вместе с тем заявляет, что ни он сам, ни его учитель никогда не придавали этому аргументу большого значения. При этом он ссылается на то, что его учитель очень мало написал об указанном аргументе, тогда как два других аргумента изложил пространно и расширенно, не жалея слов. На это я отвечу, что не по числу слов, а по их действенности мы судим о других, исходя из их высказываний. Всякий знает, что существуют доказательства, которые в силу самой своей природы не могут быть изъяснены иначе как длинно, в то время как есть и такие [доказательства], в которых длина была бы совершенно излишней и утомительной. Обратившись к словам, мы увидим, что их для изложения [третьего] аргумента пошло ровно столько, сколько понадобилось для вразумительного и полного объяснения. Кроме того, отец Грасси сам пишет, что этот аргумент, будучи следствием из {82} основных начал оптики, весьма подкрепляет его точку зрения. Это позволяет составить достаточно ясное представление о том, сколь высокую оценку он [отец Грасси] по крайней мере пытается приписать третьему аргументу, хотя я охотно верю вместе с Сарси, что в его [отца Грасси] глазах этот аргумент имеет очень малое значение. К такому выводу меня вынуждает прийти не краткость аргумента, а другое, гораздо более здравое предположение. Состоит оно в следующем. Преподобный отец делает вид, будто доказывает, что комета удалена от нас на огромное расстояние, поскольку та ведет себя как неподвижная звезда, получая от телескопа очень малое увеличение. Когда же он приступает непосредственно к определению местоположения кометы, то помещает ее ниже некоторых предметов, получающих от того же инструмента очень большое увеличение. В действительности он помещает ее ниже Солнца, которое, как хорошо известно преподобному отцу и Сарси, увеличивается в сотни или тысячи раз. Но Сарси не разобрался в хитроумном приеме, посредством которого его учитель пытался высказать учтивое одобрение своим друзьям, ничем не омрачая то удовольствие, которое они испытывали по поводу изыскания нового аргумента, и в то же время втайне представая весьма проницательным и великолепно осведомленным в глазах тех, кто более рационален и в меньшей море склонен продаваться эмоциям. Действуя так, он подражает великодушному поступку одного достославного синьора, который сбросил свой флеш, дабы не омрачать радужного настроения юного принца, своего партнера: открыв свои карты и увидев, что ему выпало «сорок пять»81 и это сулит в перспективе неизбежный выигрыш, этот синьор бросил свои карты на стол. Синьор Марио, пожалуй, несколько сурово попытался сформулировать свои идеи и показать пустоту и ложность [третьего] аргумента, выложив на стол все свои карты. Он преследовал иную цель, [чем пресловутый синьор, не желавший огорчить партнера], ибо стремился загладить недочеты и исправить ошибки не без сострадания к тем, кто их допустил, и отнюдь не стремился усугублять ошибки и преувеличивать их, дабы не доставлять никому неприятностей.
В конце Сарси пишет, что его учитель и в мыслях не держал оскорблять меня, когда критиковал тех, кто придирается к [третьему] аргументу. На это мне нет необходимости отвечать что-нибудь еще, ибо я уже высказал {83} то, что думаю и что до сих пор никем не оспаривалось. Со своей стороны мне бы хотелось, чтобы и Сарси поверил, что, критикуя его учителя, я и в мыслях не имел чем-либо оскорбить его, а, напротив, старался помочь любому, кто совершит подобную ошибку. Не могу я также взять в толк, что заставило его [Сарси] думать обо мне как о человеке, предпочитающем потерять друга, нежели упустить шутку; мне непонятно также, как утверждение «Этот аргумент неверен» может считаться проявлением остроумия.
XIV
Но продолжим чтение, Ваша милость:
Разберем теперь этот вопрос более основательно. Я говорю, что в этом аргументе нет ничего чуждого истине, ибо мы утверждаем, что, чем ближе наблюдаемые в телескоп предметы, тем сильнее они увеличиваются, а чем дальше, тем слабее они увеличиваются. Нет ничего более близкого к истине, однако Галилей отрицает это. Если бы только он принял наши доводы! Поскольку в руках у Галилея имеется его телескоп, к тому же преотличный, я хочу спросить у Галилея, не растянется ли его инструмент; если Галилею вздумается взглянуть в него на что-нибудь в собственной спальне или не выходя за пределы собственного двора? Должно быть, Галилей согласится, что телескоп растянется. А если Галилею вздумается взглянуть в тот же самый инструмент из своего окна на что-нибудь вдали, то разве для этого ему не придется сложить свой телескоп, от чего длина того сильно сократится? Если я попытаюсь доискаться до того, почему длина телескопа сокращается, то мне придется обратиться к самой природе инструмента, т. е. из начал оптики с необходимостью следует, что этот инструмент надлежит растянуть при рассмотрении близких предметов и сложить при рассмотрении далеких. Таким образом, поскольку, по его же [Галилея] собственным словам, увеличение предметов становится больше или меньше в зависимости от того, растянут телескоп или сложен, позволительно сделать следующий вывод: при рассмотрении предметов в растянутый телескоп они увеличиваются, а при рассмотрении в сложенный телескоп увеличиваются меньше; все близкие предметы надлежит рассматривать в растянутый телескоп, все далекие — в сложенный телескоп; следовательно, близкие предметы увеличиваются сильнее, а далекие {84} слабее. Если доказано, что большая и малая посылки в этом рассуждении истинны, то, полагаю, он [Галилей] не станет отрицать того, что с необходимостью следует из них. Более того, он согласен с тем, что и первое утверждение, и второе заведомо верны.
Относительно тех предметов, которые рассматриваются [в телескоп] с расстояния менее полумили, ему не требуется никакого доказательства. Что же касается более далеких предметов, то их обычно рассматривают через телескоп, растянутый на одну и ту же длину не потому, что его не следовало бы складывать и дальше, а по иной причине: дальнейшее сокращение длины весьма мало и сказывается весьма слабо, вследствие чего им можно пренебречь и часто действительно пренебрегают. Тем не менее если мы стремимся постичь природу вещей и должны говорить с геометрической строгостью, то всегда требуется еще большее сокращение длины.
Происходит все это так же, как если бы кто-нибудь сказал следующее. Возьмем какой угодно видимый предмет. Чем больше он удаляется от глаза, тем меньше угол, под которым он виден. Это утверждение бесспорно верно. Однако, когда предмет, находящийся против глаза, достигает определенного расстояния и угол зрения, под которым он виден, становится очень малым, при дальнейшем увеличении расстояния, хотя оно может быть очень большим, угол зрения не убывает сколько-нибудь ощутимо (хотя можно доказать, что он становится все меньше и меньше). Поэтому и углы, под которыми изображения приходят к телескопу, едва изменяются после того, как предметы удаляются на очень большое расстояние, ибо дело обстоит так, как если бы все лучи падали под прямым углом к линзам. Следовательно, отпадает необходимость в сколько-нибудь значительном изменении длины инструмента. Тем не менее бесспорно истинным надлежит считать утверждение, что по самой природе телескопа чем дальше находятся предметы, тем короче должен быть телескоп, в который их рассматривают, поэтому и увеличивает он их сильнее, чем близкие предметы, и, хотя того требует, как я говорил, лишь очень большая строгость рассуждений, я утверждаю, что звезды надлежит рассматривать в более короткий телескоп, чем Луну.
Сарси, как Вы видите, готовится здесь с восхитительной прямотой утверждать с помощью хитроумных силлогизмов, будто ничто не может быть более истинным, чем часто высказываемое утверждение, что видимые в телескоп {85} предметы имеют тем большее увеличение, чем ближе они находятся, и тем меньше, чем они дальше. Самоуверенность его столь велика, что он почти обещает убедить меня в своей правоте, хотя я и поныне отрицаю его утверждение. Полагаю, что пока Сарси будет плести свою ткань, он настолько запутается в ней (гораздо сильнее, чем он предполагает, закладывая основу), что в конце охотно признает себя побежденным. Это ясно каждому, кто обратит внимание на то, что в конце его утверждения в точности совпадают с тем, о чем писал синьор Марио, хотя, разумеется, они всячески замаскированы и скрыты по частям среди множества словесных орнаментов и арабесок или искажены и представлены в таком ракурсе, что те, кто знакомится с ними не столь основательно, могут принять их за несколько иное, чем они представляют собой в действительности.
А пока, дабы не разочаровывать его [Сарси], я добавлю, что если утверждение, которое он тщится доказать, верно, то основанный на этом утверждении аргумент, используемый его [Сарси] учителем и другими астрономами — друзьями последнего для определения местоположения кометы, не только наиболее остроумный, но и наиболее решающий аргумент из всех, но этот эффект телескопа намного превосходит все остальные из-за проистекающих из него важных следствий. Я не перестаю удивляться, как Сарси, знающий, что этот аргумент верен, утверждал несколько выше, будто он и его учитель придают этому аргументу меньшее значение, чем двум другим (аргументу, основанному на круговом движении, и аргументу, основанному на малости параллакса), которые, да позволено мне будет сказать, не годятся третьему аргументу даже в служанки.
Ваша милость, если это верно, то перед Сарси открылась бы дорога к замечательным открытиям, которые многие другие пытались сделать, но так и не смогли. Не только любое расстояние на Земле можно было бы измерять из одного места, но и расстояния до небесных тел можно было бы определять безошибочно. Ибо если мы наблюдаем с расстояния в одну милю окружность, диаметр которой [при наблюдении в телескоп] кажется в тридцать раз больше, чем при наблюдении невооруженным глазом, то, увидев башню, высота которой при наблюдении в телескоп увеличивается в десять раз, мы можем быть уверены, что башня находится в трех милях от пас. Если бы диаметр Луны казался в три раза больше, чем {86} при наблюдении невооруженным глазом, то мы могли бы утверждать, что Луна находится в десяти милях от нас, а Солнце находилось бы в пятнадцати милях, если бы его диаметр только удваивался. А если бы в некий особо сильный телескоп мы увидели Луну с трехкратным увеличением и она находилась бы от нас, как хорошо говорит отец Грасси, на расстоянии более ста тысяч миль, то шар на куполе в миле от нас увеличился бы по диаметру более чем в миллион раз. Дабы внести посильную лепту в столь рискованные умозаключения, я задам несколько пустяковых вопросов, которые пришли мне в голову, пока Сарси развивал свои соображения. Если Вашей милости угодно, Вы можете при удобном случае показать их ему, дабы, отвечая на них, он мог более тщательно обосновать всю свою позицию.
Итак, Сарси хочет убедить меня в том, что неподвижные звезды не получают от телескопа сколько-нибудь ощутимого увеличения. Он начинает с предметов в комнате и спрашивает, придется ли мне сильно вытянуть телескоп, если я захочу взглянуть на них. На этот вопрос я отвечу утвердительно. Затем он переходит к предметам, видимым из окна на большом расстоянии, и замечает, что если я захочу их увидеть, то мне придется сильно укоротить телескоп. Я охотно подтверждаю и это. Согласен я и с тем, что, как он утверждает, в силу самой природы инструмента более длинная труба требуется при рассмотрении очень близких предметов, а более короткая — при рассмотрении более далеких. Признаю также, что более длинная труба сильнее увеличивает предметы, чем более короткая, и, наконец, готов признать пока весь его силлогизм, заключение которого гласит, что в общем случае ближние предметы увеличиваются сильнее, а дальние слабее. Применительно к сказанному выше это означает, что неподвижные звезды, будучи далекими объектами, увеличиваются слабее, чем предметы в комнате или на дворе, ибо, сдается мне, что Сарси заключает именно в такие пределы предметы, которые он называет далекими, умышленно не отодвигая границу на большее расстояние.
Но подобное утверждение, как мне кажется, далеко не удовлетворяет требованиям Сарси, ибо я могу задать ему следующий вопрос, спросив, относит ли он Луну к классу ближних предметов или к классу дальних? Если он относит ее к дальним предметам, то он придет относительно нее к такому же заключению, к какому пришел для неподвижных звезд, а именно к малому увеличению. Но {87} такой вывод прямо противоречит, его учителю, который, дабы поместить комету выше Луны, требует, чтобы Луна была среди тех предметов, которые сильно увеличиваются, и даже пишет, что Луна растет сильно, а комета слабо. Если же Сарси относит Луну к близким предметам (т. е. к тем, которые сильно растут), то я отвечу ему, что не следует с самого начала ограничивать близкие предметы стенами дома, ибо они должны включать в себя все по крайней мере в сфере Луны. Пусть Сарси, расширив [границу близких] предметов до указанного предела, вернется к своему первоначальному вопросу и спросит меня: нужно ли мне очень сильно удлинять телескоп для того, чтобы увидеть близкие предметы, т. е. те, которые не выходят за сферу Луны? На этот вопрос я отвечу отрицательно, и тут лук нашего стрелка оказывается сломленным, и стрельба силлогизмами на этом завершается.
Во-первых, если вернуться назад и рассмотреть аргумент [Сарси] получше, то мы обнаружим в нем слабое место. В нем принимается за абсолютное то, что надлежит понимать относительно, или за ограниченное то, что в действительности неограниченно; словом, неполная дихотомия, как принято называть эту ошибку в логике, была допущена, когда Сарси разделил все видимые предметы на далекие и близкие, не указав при этом границ и пределов между тем, что близко, и тем, что далеко. Он допустил такую же ошибку, как тот, кто сказал бы: «Все в мире либо велико, либо мало». В этом утверждении нет ни истины, ни лжи, как нет их в утверждении «Все предметы либо близкие, либо далекие». Из-за неопределенности такого рода одни и те же предметы могут быть названы и очень близкими, и очень далекими; более близкие могут быть названы далекими, а более далекие близкими; большие могут быть названы малыми, а меньшие большими. Так, кто-нибудь мог бы сказать: «Это очень маленькая горка» и «Это очень большой бриллиант». Гонец называет путешествие из Рима в Неаполь очень коротким, в то время как знатная дама сетует на то, что от ее дома до церкви слишком далеко.
Дабы избежать подобной двусмыслицы, если не ошибаюсь, Сарси необходимо проводить свое разбиение по крайней мере на три части, утверждая: «Одни видимые предметы находятся далеко, другие близко, а третьи на среднем расстоянии». Тогда между далеким и близким была бы некая граница. Но он [Сарси] не мог бы остановиться и на этом ему пришлось бы непременно ввести {88} точное определение границы, например сказав: «Я называю средним расстояние в одну лигу, далеким расстояние более одной лиги и близким расстояние менее одной лиги». Я не могу понять, почему он этого не сделал; должно быть, понадеялся, что его доводы станут более сильными, если он подкрепит их хитроумным жонглированием понятий, допускающих различные толкования, перед простаком, нежели обоснует их основательно перед более сведущим человеком. Что и говорить, весьма удобно иметь хлеб, намазанный маслом с обеих сторон, и иметь возможность утверждать: «Так как неподвижные звезды находятся далеко, они увеличиваются очень слабо, Лука же увеличивается очень сильно, так как находится близко», а затем в случае необходимости заявить: «Предметы в комнате, будучи близкими, сильно увеличиваются, а Луна, находящаяся далеко, увеличивается слабо». Вопрос же этот весьма сомнителен.
Во-вторых, отец Грасси в действительности приводит лишь единственную причину, по которой предметы, наблюдаемые в телескоп, кажутся увеличенными то сильнее, то слабее: меньшее или большее расстояние до этих предметов. Удлинения или укорочения инструмента он не касается ни единым словом. Сарси утверждает, что причина указана абсолютно верно, однако, когда он пытается доказать это, большого или малого расстояния до предмета ему оказывается недостаточно и он вынужден вводить еще меньшую или большую длину телескопа. Свой силлогизм он формулирует так: «Близость предмета есть причина удлинения телескопа. Удлинение же есть причина большего увеличения. Следовательно, близость предмета есть причина большего увеличения». Здесь Сарси вместо того, чтобы помочь своему учителю, усугубляет, как мне кажется, положение, ибо из сказанного им явствует, что утверждение его учителя допускает двоякое толкование не случайно, а по существу. Ошибаются те, кто вздумал бы причислять жадность к правилам гигиены, рассуждая при этом так: «Жадность — причина умеренного образа жизни. Умеренность — причина здоровья. Следовательно, жадность способствует сохранению здоровья». Жадность выступает здесь как случайная или весьма отдаленная причина здоровья, ибо не о здоровье печется превыше всего скряга как скряга, видящий смысл жизни в бережливости, доведенной до крайности.
Сказанное мной верно до такой степени, что позволяет мне столь же убедительно доказать, будто жадность есть {89} причина болезней, рассуждая так: «От скупости скряга часто ходит на празднества к родным и знакомым. Частые празднества — причины многих болезней. Следовательно, жадность есть причина болезни». Из такого рода аргументов в конечном счете видно, что жадность как жадность не имеет никакого отношения к здоровью. Близость предметов также не имеет никакого отношения к их большему увеличению; телескоп при рассмотрении близких предметов удлиняют для того, чтобы избежать слияние предметов из-за их окраски, устранимое при удлинении [телескопа]. Но, так как удлинение сопровождается большим увеличением, помимо основного назначения, состоявшего в том, чтобы сделать предмет более четким, а вовсе не в том, чтобы увеличить его, близость [предмета] в этом случае не более чем случайное обстоятельство или, самое большее, весьма далекая случайная причина большего увеличения.
В-третьих, если верно, что причиной может быть названо лишь то, из чего проистекает следствие и при устранении чего следствие исчезает, то только удлинение телескопа может быть с должным основанием названо причиной большего увеличения. Пусть предмет находится на любом расстоянии; малейшее удлинение [телескопа] неизменно вызовет заметное увеличение. С другой стороны, если длина инструмента постоянна, предмет можно придвинуть сколь угодно близко, уменьшив расстояние до него с тысячи до пятидесяти шагов, не увеличив при этом его изображение для невооруженного глаза, т. е. сделав его в ближнем положении лишь на йоту больше, чем в дальнем. Правда, приблизив предмет на очень малые расстояния, такие, как четыре шага или два, или один шаг, или полшага, мы увидим изображение предмета все более туманным и расплывчатым, поэтому для того, чтобы увидеть предмет ясно и отчетливо, телескоп приходится удлинять все более и более; удлинение сопровождается все большим увеличением, но, поскольку увеличение зависит только от удлинения, а не от приближения, оно определяется удлинением, и только удлинением. А поскольку, если расстояние больше мили, инструмент вообще не приходится перестраивать, дабы увидеть предметы ясно и четко, то их увеличение также остается неизменным и все происходит в одной и той же пропорции. Если поверхность шара, наблюдаемая в телескоп с расстояния в полмили, увеличивается в тысячу раз, то и лунный диск увеличится в тысячу раз, и ничуть не меньше; то же {90} произойдет с диском Юпитера и, наконец, с диском любой неподвижной звезды.
Ничего такого, о чем толкует Сарси, вдаваясь в бесчисленные подробности и пытаясь рассматривать их со всей строгостью геометрии, нет и в помине. Разве, изрубив все на мелкие кусочки и доведя их до размеров атомов с тем, чтобы извлечь для себя всяческие преимущества, не очутился он в положении человека, тщательно выспрашивавшего, через какие городские ворота следует ему выйти, чтобы побыстрее добраться до Индии? В конце Сарси вынужден будет признаться (что он отчасти и делает в заключительных строках того отрывка, который Ваша милость только что прочитала), что даже если к рассмотрению телескопа подходить со всей строгостью, то при наблюдении неподвижных звезд длина его должна была бы быть всего на толщину волоса короче, чем при наблюдении Луны. Но что же при всей этой строгости можно извлечь такого, что подкрепляло бы позицию Сарси? Абсолютно ничего; весь урожай, который он пожинает, сводится к тому, что если, например, Луна увеличивается в тысячу раз, то неподвижные звезды увеличиваются в девятьсот девяносто девять раз. Для того же, чтобы отстоять его позицию и позицию его учителя, неподвижные звезды не должны даже удваиваться в размерах, ибо удвоение не есть нечто неощутимое, тогда как он и его учитель утверждают, будто неподвижные звезды увеличиваются неощутимо слабо.
Я знаю, что Сарси хорошо понимал все это, еще когда читал синьора Марио, но он хотел бы спасти от верной гибели своего учителя, если только это ему удастся, с помощью квинтэссенции силлогизмов, прошедших тончайшую очистку; мы имеем право говорить так, потому что Сарси вскоре назовет «слишком мелкими» некоторые из замечаний синьора Марио, в действительности же они вполне крупные по сравнению с замечаниями синьора Сарси.
Дабы завершить мои возражения, я должен сказать кое-что о примере, взятом Сарси из области естественно наблюдаемых предметов. Он утверждает, что по мере удаления от глаза такие предметы видны под постоянно убывающим углом, но по достижении определенного расстояния, когда угол становится очень малым, дальнейшее сколько-нибудь значительное убывание прекращается, даже если предмет продолжает удаляться; однако, утверждает он [Сарси], можно доказать, что в действительности {91} угол становится меньше. Если этот предмет надлежит понимать в таком смысле, в каком понимаю его я (а для того чтобы соответствовать понятию, которое он должен пояснять, этот пример должен иметь именно такой смысл), то я придерживаюсь мнения, сильно отличающегося от мнения Сарси. Ему, как мне кажется, нужно, чтобы угол зрения продолжал убывать с увеличением расстояния до предмета, но все медленнее; тогда по достижении некоторого большого расстояния дальнейшее удаление предмета может сопровождаться очень слабым уменьшением угла.
Я же придерживаюсь противоположной точки зрения и утверждаю, что по мере удаления предмета убывание угла происходит все быстрее.
Дабы объяснить это более просто, замечу прежде всего, что кажущаяся величина видимых предметов может быть правильно определена по величине тех углов, под которыми они видны, когда мы имеем дело с дугами окружности, в центре которой находится глаз. Во всех же остальных случаях это неверно, ибо тогда кажущаяся величина должна определяться не углами, а хордами дуг, стягиваемых такими углами, а последние убывают обратно пропорционально расстояниям. Диаметр круга, наблюдаемого с расстояния в сто локтей, будет казаться мне половиной того, каким он кажется с расстояния в пятьдесят локтей, а с расстояния в тысячу локтей — вдвое больше того, каким он кажется с расстояния в две тысячи локтей, и так при любых расстояниях, и никогда не бывает, чтобы с какого-то огромного расстояния он показался исчезающе малым и не уменьшился бы еще вдвое при удвоении расстояния. Если же мы захотим определить видимые величины углов так, как это делает Сарси, то факты окажутся еще более не в его пользу, ибо эти углы убывают не пропорционально увеличению расстояния, а медленнее, а это противоречит утверждению Сарси, что при сравнении углов те якобы при больших расстояниях убывают быстрее, чем при меньших.
Если угол, под которым некий предмет виден с расстояния пятьдесят локтей, относится к углу, под которым тот же предмет виден с расстояния сто локтей, как 100 к 60, то угол с расстояния тысяча локтей относится к углу с расстояния две тысячи локтей, как, например, 100 к 58, угол с расстояния четыре тысячи локтей к углу с расстояния восемь тысяч локтей, как 100 к 55, а при расстоянии двадцать тысяч углы будут относиться, как 100 {92} к 52. Таким образом, убывание угла будет происходить все быстрее и быстрее, но отнюдь не сравнимо с тем, в какой пропорции возрастают расстояния.
Сарси утверждает, будто угол зрения, став очень малым при некотором большом расстоянии, перестает убывать при очень больших расстояниях в той же пропорции, как при меньших расстояниях. Если я не ошибаюсь, это утверждение в корне неверно, и в действительности убывание происходит во всевозрастающей пропорции.
XV
Читайте, Ваша милость, дальше:
На это он возразит, что тогда используемый нами инструмент не будет одним и тем же, и, следовательно, если мы говорим об одном и том же телескопе, наша позиция ложна; ибо, хотя линзы одни и те же и даже труба одна и та же, тем не менее если телескоп то сильнее растянут, то сильнее сжат, его вряд ли можно рассматривать как один и тот же инструмент. Долой эти мелочные придирки! Если кто-то разговаривает с другом тихим голосом, т. е. так, чтобы его мог слышать только тот, кто стоит рядом, а затем, увидев другого друга, окликнет его очень громким голосом, то разве не скажешь, что этот человек использовал свою гортань и свой рот и в первом и во втором случае, причем в первом случае его голосовые органы были сжаты, а во втором растянуты? А когда мы наблюдаем тромбонистов, двигающих правой рукой искривленную и изогнутую медную кулису то вперед, то назад, удлиняя ее при низких нотах и укорачивая при высоких, разве при этом мы считаем, что они играют то на одной трубе, то на другой?
Сарси, как Вы видите, представляет меня здесь, с одной стороны, полностью изобличенным под давлением его силлогизмов, а с другой стороны, хватающимся за весьма шаткую опору, когда я утверждаю, что если неподвижные звезды действительно не претерпевают увеличения, как близкие предметы, то во всяком случае [при наблюдении тех и других] используется не один и тот же инструмент, ибо для очень близких предметов телескоп необходимо удлинять; и он [Сарси] добавляет (так, что в словах его явственно слышится: «Убирайся прочь!»), будто я придираюсь к пустякам. Но не мне, синьор Сарси, надобно прибегать к оговоркам «во всяком случае» и мелочным придиркам. Это тебе они были надобны раньше, понадобятся {93} и впредь. Это тебе понадобилось утверждать, что во всяком случае с точки зрения самых тонких понятий геометрии неподвижные звезды требуют большего сокращения телескопа, чем Луна; отсюда, как я уже заметил, ты сделал вывод о том, что если бы Луна увеличилась в тысячу раз, то неподвижные звезды увеличились бы в девятьсот девяносто девять раз, в то время как для подтверждения твоей точки зрения требуется, чтобы они не возрастали и вдвое. Тебе, синьор Сарси, только и остается, что уповать на оговорку «во всяком случае»; ее можно уподобить змее, которая, будучи обезврежена и схвачена, может пошевелить только кончиком хвоста, который она продолжает изгибать то в одну, то в другую сторону, дабы убедить прохожих в том, что еще жива и не утратила силы.
Утверждение, что удлиненный телескоп — инструмент, отличный от того, каким он был прежде, весьма существенно для того, о чем мы говорим, и абсолютно истинно. Сарси вряд ли думал бы иначе, если бы не отождествил суть того, о чем мы говорим, с формой, или фигурой, нашего аргумента, свалив всю вину на нас, в чем нетрудно убедиться, даже если оставить его собственный пример. Я задам Сарси один вопрос: как известно, не все органные трубы звучат в унисон, почему же одни трубы издают более низкие тона, а другие более высокие? Может быть, так происходит оттого, что трубы изготовлены из различных материалов? Заведомо нет. Все трубы отлиты из свинца, но звучат они по-разному потому, что имеют различные размеры; что же касается материала, то он не имеет никакого отношения к формированию звука. Одни трубы деревянные, другие оловянные, третьи свинцовые, четвертые серебряные, пятые бумажные, но все они звучат в унисон, если их длины и размеры одинаковы.
Верно и другое: из одного и того же количества материала, т. е. из одних и тех же нескольких фунтов свинца, можно изготовить трубу и подлиннее и покороче, и издавать она будет различные ноты. Что касается звучания, то различны те инструменты, которые имеют различные размеры, а не те, которые изготовлены из различных материалов. Если расплавить какую-нибудь [органную] трубу и из того же металла отлить другую, более длинную трубу, которая соответственно будет издавать более низкий тон, станет ли Сарси отрицать, что эта труба отлична от первой? Думаю, что не станет. А если бы кто-нибудь нашел способ изготовлять вторую, более длинную трубу, не {94} переплавляя для этого первую трубу, то разве не было бы это то же самое? Разумеется, было бы. Но для того чтобы такое было возможно, трубу необходимо изготовить из двух труб, вставленных одна в другую. Такую трубу можно по своему усмотрению удлинять и укорачивать, превращая тем самым в различные трубы, которые будут издавать различные ноты. Именно так и устроен тромбон.
Все струны арфы изготовлены из одного и того же материала, но издают различные звуки потому, что длина их различна. Одна струна на лютне делает то, что делают многие струны на арфе, поскольку при игре на этом инструменте звук извлекается то из одной части струны, то из другой, а это то же самое, как если бы струна то удлинялась, то укорачивалась, как бы превращаясь, если говорить о звучании, в различные струны. То же можно сказать и о дыхательном горле, которое, изменяясь по длине и ширине, приспосабливается под различные голоса и превращается, как можно утверждать, не погрешая против истины, в различные трубы. А поскольку большее или меньшее увеличение зависит не от материала, из которого изготовлен телескоп, а от его формы, причем так, что в более длинный телескоп предметы кажутся более крупными, точно так же одна труба представляет собой различные инструменты, когда материал, из которого она изготовлена, остается тем же, а расстояние между линзами изменяется.
XVI
Послушаем теперь еще один силлогизм, который строит Сарси:
Да будет ведомо Галилею, что говорю я отнюдь не из желания придраться к нему; пусть удлиненный и укороченный телескоп считается различными инструментами} я все равно приду к прежнему заключению с самыми незначительными отклонениями. Любые предметы, которые приходится наблюдать в различные инструменты, приобретают от этих инструментов различные увеличения. Ближние и дальние предметы наблюдаются в различные инструменты. Следовательно, они получают от этих инструментов различные увеличения. Таковы новые посылки, большая и малая, из которых с необходимостью следует заключение. Но коль скоро это доказано, я могу с достаточным основанием считать доказанным и другое: {95} в наших утверждениях нет ничего чуждого истине и Галилею, когда мы говорим, что этим инструментом [телескопом] далекое увеличивается слабее, нежели близкое, так как по своей природе телескоп при рассмотрении первого должен быть укорочен, а при рассмотрении второго удлинен; тем не менее можно с полным основанием утверждать, что и в том и в другом случае он представляет собой один и тот же инструмент, используемый различным образом.
Я целиком согласен с этим аргументом, но не усматриваю в нем ничего такого, что подрывало бы позицию синьора Марио или подкрепляло позицию Сарси. В том, что близкие предметы при наблюдении в длинный телескоп увеличиваются сильнее, чем дальние предметы при наблюдении в короткий телескоп, нет ничего благоприятного для Сарси. Таково заключение его силлогизма, хотя оно сильно отличается от первоначальных планов Сарси, намеревавшегося доказать два главных пункта. Один из них состоял в том, что предметы, находящиеся от нас так же далеко, как Луна, а не в стенах комнаты, сильно увеличиваются, в. то время как неподвижные звезды, если их наблюдать в тот же инструмент, увеличиваются не только слабо, но неощутимо. Второй пункт состоял в том, что различие между увеличением тех и других предметов проистекает от различия в расстояниях до них и пропорционально этому расстоянию. Эти утверждения ему [Сарси] не доказать до скончания века, ибо они ложны. Что же касается его силлогизма (в той мере, в какой он относится к предмету нашего рассмотрения), то его бессодержательность станет ясной из того, что, воспроизведя шаг за шагом все рассуждения Сарси, я в заключение докажу прямо противоположное. Действительно, предметы, которые необходимо рассматривать в один и тот же инструмент, получают от него одно и то же увеличение; все предметы, находящиеся [от наблюдателя] на расстоянии от четверти мили до тысяч миллионов миль, необходимо рассматривать в один и тот же инструмент; следовательно, все они получают одно и то же увеличение. Однако Сарси отнюдь не должен считать, будто написал [в приведенном отрывке] нечто чуждое истине и мне; смею лишь заверить его, что он пришел к выводу, противоположному моему мнению.
В конце приведенного выше отрывка он говорит, что телескоп, то длинный, то короткий, может быть назван одним и тем же инструментом, применяемым различным {96} образом. Если я не ошибаюсь, в этих словах есть некоторая неточность; на мой взгляд, в действительности дело обстоит совершенно иначе и инструмент изменяется, тогда как его применение остается неизменным. Мы говорим, что один и тот же инструмент находит различные применения, если он используется по-разному, не претерпевая при этом никаких изменений; так, якорь остается одним и тем же, когда кормчий использует его для того, чтобы обеспечить безопасность судна, а Орландо — поймать кита82, но используется он по-разному. Мы имеем дело с обратным случаем, ибо телескоп всегда применяется одним и тем же способом, а именно для рассматривания видимых предметов, в то время как сам инструмент варьируется, т. е. изменяется в одном существенном отношении, а именно в расстоянии между его линзами. Тем самым мелочная придирка Сарси становится вполне очевидной.
XVII
Но продолжим:
На это он [Галилей] скажет, что все наши замечания правильны, если интересующий нас предмет рассматривать на языке геометрии, чего в нашем случае не происходит; а поскольку телескоп обычно применяется с неизменяемой длиной (по крайней мере при наблюдении Луны и звезд), большее или меньшее расстояние и здесь будет считаться не имеющим прямого отношения к созданию большего или меньшего увеличения предмета. Следовательно, если звезды кажутся увеличенными меньше, чем Луна, то причину этого явления надлежит искать в чем-то ином, нежели в удаленности предмета. Доказано, что если телескоп не изменяется, то звезды он увеличивает слабее, чем Луну, и, возможно, указанный аргумент имеет меньший вес. Но этому инструменту [телескопу] приписывается, что он, помимо прочего, лишает светящиеся предметы того распространенного во все стороны сияния, которое окружает их наподобие венца, вследствие чего звезды приобретают в телескоп такое же увеличение, как Луна, хотя они должны были бы увеличиваться слабее. Наблюдаемое в телескоп явно отличается от того, что ранее видел невооруженный глаз. Действительно, невооруженный глаз видит звезды вместе с рассеянным вокруг них сиянием, тогда как в телескоп наблюдается только тело звезды. Следовательно, если учесть все, что относится к оптике, то с полным основанием {97} можно утверждать, что звезды получают при наблюдении в этот инструмент более слабое увеличение (по крайней мере так кажется), чем Луна; а иногда, если можно верить своим глазам, они бывают одинаково увеличенными без всякой на то причины и, если угодно Богу, одинаково уменьшенными, сам Галилей не может отрицать этого. Следовательно, не нужно удивляться, что мы искали здесь не причину явления, а само явление.
Прежде всего, Ваша милость, надлежит заметить, что предсказания, сделанные мной в XIV, начинают сбываться. Сарси воинственно заявляет, будто ничто не может быть ближе к истине, чем утверждение, что наблюдаемые в телескоп предметы увеличиваются тем сильнее, чем они ближе, и тем слабее, чем они дальше, из чего следует, что неподвижные звезды не увеличиваются сильно, поскольку находятся очень далеко, а Луна увеличивается, поскольку находится близко. В этом мы усматриваем полный отбой и открытое признание.
Во-первых, различие в расстояниях до предметов не является более причиной различия в увеличениях, ибо необходимо учесть удлинение или укорочение телескопа, о чем они [Сарси и Грасси] не упоминали и даже не намекали (и, по-видимому, даже не подозревали), пока на это Марио не обратил их внимание. Во-вторых, в интересующем нас случае удлинение и укорочение также несущественны, поскольку никаких изменений в инструменте не производится. Тем самым отпадает указанное возражение и основанный на нем аргумент полностью утрачивает силу. В-третьих, я вижу, что он [Сарси] ссылается на причины весьма далекие от тех, которые он приводил в самом начале как истинные и единственные; он утверждает, будто незначительное увеличение неподвижных звезд не связано более ни с их удаленностью, ни с укороченностью инструмента и является не чем иным, как оптической иллюзией. Он говорит, что невооруженный глаз видит звезды, окруженные сильным, не существующим в действительности сиянием, и именно поэтому звезды кажутся нам столь крупными, тогда как в телескоп видно голое тело звезды, а оно, хотя и увеличивается, как и все остальные предметы, не кажется очень большим по сравнению с той же звездой, наблюдаемой невооруженным глазом (по отношению к которой увеличение кажется очень малым). Отсюда он [Сарси] заключает, что но крайней мере кажущиеся размеры неподвижных звезд обнаруживают очень малое увеличение, и я не должен {98} удивляться тому, что говорит он сам и его учитель, ибо им надобно было доискаться не до причины, а до самого явления. Прости меня, синьор Сарси; пытаясь развеять мое удивление, ты не только не преуспел в своем намерении, но и основательно усилил мое недоумение своими новыми доводами.
Во-первых, я ничуть не удивляюсь, что тебе понадобились все эти рассуждения в менторском духе, которыми ты пытаешься как бы поучать меня, хотя все, о чем ты говоришь, тебе стало известно слово в слово от синьора Марио. Кроме того, ты добавляешь, что я не отрицаю того, о чем идет речь, как мне кажется, с намерением создать у читателя впечатление, будто решение проблемы было у меня в руках, но я не смог понять этого и воспользоваться им. Во-вторых, я удивляюсь, почему ты утверждаешь, будто твой учитель не пытается найти причину неощутимо малого увеличения неподвижных звезд, а интересуется только самим эффектом, хотя он неоднократно повторял, что усматривает причину указанного эффекта в огромном расстоянии. В-третьих, меня во сто крат больше удивляет, как это ты [Сарси] не понимаешь, что если все сказанное верно, то ты самым непозволительным образом представляешь дело так, будто твой учитель напрочь лишен того самого здравого смысла, который позволяет любому, даже если он полный идиот, правильно рассуждать и приходить к своим собственным заключениям.
Дабы истина того, что я скажу, была более ощутимой, отвлечемся от рассмотрения причины и сосредоточим внимание на следствии, к которому она приводит, ибо твой учитель ищет не причину, а порождаемое ею явление. Вот ход рассуждений: «Неподвижные звезды увеличиваются неощутимо слабо; кометы увеличиваются неощутимо слабо; следовательно...» Следовательно, что, синьор Сарси? Какое заключение ты можешь вывести из этих посылок? Если ты хочешь извлечь как можно больше пользы из дурно выполненной работы, то тебе лучше всего было бы ответить: «Никакое», ибо если ты вздумаешь делать вид, будто можешь вывести какое-то заключение, то я утверждаю, что смогу вывести тысячи других, имеющих ничуть не меньшее отношение к приведенным выше посылкам. Если ты думаешь, будто на мой вопрос можно ответить: «Следовательно, комета очень далека от нас, ибо неподвижные звезды также очень далеки», то я с не меньшим основанием мог бы возразить либо: «Следовательно, {99} комета не подвержена разрушению, ибо неподвижные звезды не подвержены разрушению», либо: «Следовательно, кометы мерцают, ибо неподвижные звезды мерцают»83, либо с не меньшим основанием утверждать: «Следовательно, комета светит своим светом, ибо неподвижные звезды светят своим светом». Но если бы я вывел подобные заключения, то ты посмеялся бы надо мной как над логиком, лишенным логики, и был бы совершенно прав.
Ты любезно указал бы мне на то, что из приведенных выше посылок я не могу вывести ничего относительно кометы, кроме таких вещей, которые имеют самое непосредственное отношение к неощутимо слабому увеличению неподвижных звезд. Так как это увеличение не зависит от подверженности разрушению, мерцания или способности светить своим светом и никак не связано с ними, ни одно из перечисленных мной заключений не может быть выведено относительно кометы. Тому, кто захочет вывести из приведенных выше посылок, что комета очень далека от нас, придется сначала убедительно доказать, что неощутимо слабое увеличение неподвижных звезд причинно зависит от большого расстояния, отделяющего их от нас, ибо в противном случае обратное утверждение было бы неверно, т. е. заключение, что предметы, претерпевающие неощутимо малое увеличение, должны находиться очень далеко. Суди же сам, какие логические ошибки ты незаслуженно навьючил на своего учителя; я говорю «незаслуженно», потому что ошибки эти твои, а не его.
XVIII
Дочитайте же, Ваша милость, первое взвешивание до конца:
Хотелось бы обратить внимание Галилея на следующее: с нашей стороны вовсе не глупо, опираясь на «Звездный вестник», прийти к выводу о том, что комету надлежало бы поместить за Луной. Ведь он сам говорит, что некоторые небесные светила сияют своим светом, и относит к их числу Солнце и звезды, именуемые неподвижными; но другие светила, не будучи наделенными от природы внутренним блеском, черпают свой свет у Солнца, и шесть остальных планет принято считать светилами именно такого рода. Он [Галилей] замечает также, что звезды чрезвычайно рады мишурному блеску лучистого венца и привыкли питать его, как своего рода наружное {100} украшение; планеты же, в особенности Луна, Юпитер и Сатурн, почти не облечены в такого рода сияние, но Марс, Венера и Меркурий, хотя они и не обладают собственным блеском, поглощают столько света из непосредственной окрестности Солнца, что они, как некое подобие звезд, мерцают и испускают лучи во все стороны.
Но, коль скоро комета, по свидетельству Галилея, испускает свет, не присущий ей от природы, а также почерпнутый от Солнца, мы вместе с другими считаем в высшей степени вероятным предположение о том, что комета представляет собой временную планету и в этом отношении ее надлежит рассматривать так же, как Луну и другие блуждающие светила. Их отличительное свойство состоит в том, что, чем дальше они от Солнца, тем ярче они светят и, следовательно, тем большим сиянием они одеты; именно поэтому при наблюдении в телескоп они кажутся увеличенными слабее, между тем как тот dice инструмент увеличивает комету так же, как Меркурий. Нам не удалось определить с высокой вероятностью, окружена ли комета гораздо большим сиянием, чем Меркурий, и, следовательно, расположена ли она ближе к Солнцу.
Из сказанного здесь он [Галилей] поймет, что мы говорили правильно: так как комета кажется увеличенной очень слабо, мы не можем не утверждать, что она дальше, чем Луна. И действительно, по наблюденному параллаксу и траектории кометы относительно неподвижных звезд мы можем достаточно ясно судить о ее местоположении. Кроме того, поскольку при наблюдении ее в телескоп увеличение оказывается почти таким же, как при наблюдении Меркурия, у нас нет оснований склоняться к противоположному мнению, равно как нет никаких соображений, которые придавали бы особую значимость или вес нашей точке зрения. Ибо, хотя мы знаем, что подобные следствия могут проистекать от многих причин, из того, что данное светящееся тело [комета] во всех своих явлениях сохраняет аналогию с остальными небесными телами, мы все же заключили, что телескоп оказал нам существенную помощь, подтвердив наше мнение, и без того подкрепляемое весомостью других аргументов.
К аргументу, о котором идет речь, остается добавить только слова: «Мне известно, что другие придают этому аргументу малое значение» и т. д. Смысл добавления этих слов упоминался выше ясно и без обиняков: они направлены против тех, кто, не веря в инструмент и попросту {101} игнорируя оптику, провозглашает [телескоп] фальшивкой, не заслуживающей доверия. Отсюда, если я не ошибаюсь, следует, что Галилей понимает, сколь незаслуженно он выступил против нашего мнения о телескопе, которое, как он сам сознает, отнюдь не противоречит истине и согласуется с его же собственными заключениями; он мог бы понять это и раньше, если бы рассмотрел суть дела более спокойно. Разве могли мы подумать, что все, казалось бы, полностью принадлежащее Галилею вызовет у него неудовольствие? Но довольно о нашем мнении. Приступаем к рассмотрению заключений самого Галилея.
Начать с того, что мы имеем здесь аргумент, так сказать, нашитый, как заплата, поверх старого аргумента. Он состоит из различных фрагментов утверждений, предназначенных доказать, что комета находится между Луной и Солнцем. Синьор Марио и я готовы во всем согласиться с ним [Сарси] без всякого предубеждения, так как мы никогда ничего не утверждали относительно местоположения кометы, равно как и не отрицали, что она может находиться за Луной; мы говорили только, что доказательства, представленные другими авторами, покуда не свободны от возражений. Сарси ничего не сделал для того, чтобы устранить эти возражения и попытаться с помощью новых доказательств убедить нас в истинности заключений, даже если бы эти доказательства были строги и безупречны, ибо рассуждая неправильно, допуская паралогизмы и логические ошибки, можно прийти к правильным заключениям. Но, поскольку я хочу тайное сделать явным и прийти к правильным заключениям, мне придется привести новые соображения относительно затронутого выше аргумента, и для более ясного понимания я постараюсь предварительно изложить его как можно более кратко.
Он [Сарси] утверждает, будто, опираясь на мой «Звездный вестник», заключил, что неподвижные звезды, сверкая своим светом, окружены сиянием с большим блеском, которое не существует в действительности, а только кажется. Планеты, не светящие своим светом, не окружены таким сиянием, в частности Луна, Юпитер и Сатурн наблюдаемы почти полностью лишенными сияния. Венера, Меркурий и Марс, хотя и не светят сроим светом, окружены сиянием из-за их близости к Солнцу, лучи которого касаются их, освещая более ярко. Далее он [Сарси] утверждает, будто я считаю, что комета получает свой свет от Солнца, тогда как он вместе с другими {102} уважаемыми авторами рассматривает комету как временную планету, а это позволяет рассуждать о ней как о других планетах, из которых более близкие к Солнцу окружены большим сиянием и, следовательно, при наблюдении в телескоп претерпевают меньшее увеличение. А так как комета увеличивается чуть сильнее, чем Меркурий, и гораздо слабее, чем Луна, разумно заключить, что она ненамного дальше от Солнца, чем Меркурий, и гораздо ближе к нему, чем Луна. Таков его [Сарси] аргумент, и подходит ему этот аргумент настолько точно и отвечает его нуждам настолько полно, как если бы заключение было сформулировано до посылок, а последние были бы подогнаны к заключению, а не заключение выведено из них. Дело обстоит так, как если бы посылки не были выведены из щедрого разнообразия Природы, а их искуснейшим образом подогнали к заключению. Посмотрим, сколь обоснованны эти посылки.
Во-первых, абсолютно ложно утверждение, будто я в моем «Звездном вестнике» писал о том, что Юпитер и Сатурн окружены слабым сиянием или вообще не испускают такового, в то время как Марс, Венера и Меркурий имеют роскошные венцы из лучей; только Луну я выделил по этому признаку из всех прочих светил, как неподвижных, так и блуждающих.
Во-вторых, я отнюдь не уверен в том, что для превращения кометы во временную планету и наделения ее в качестве таковой свойствами всех остальных планет достаточно, как это делают Сарси и его учитель и другие авторы, начать рассматривать и называть комету планетой. Если их мнения и голоса обладают способностью вызывать из небытия в бытие то, что они рассматривают и называют, то я попрошу их оказать мне услугу и считать и называть золотом кучу старого хлама, который накопился у меня дома. Но если оставить в стороне названия, то позволительно спросить: что побудило их считать комету квазипланетой? Может быть, то, что она светит, как планета? Но разве не светятся столь же ярко облака, дым, дерево, камень, горы, когда на них падают солнечные лучи? Разве не видел Сарси в моем «Звездном вестнике» доказательства того, что земной шар светится ярче, чем Луна? Почему же я должен утверждать, что комета светится так же, как планета? Я отнюдь не исключаю другой возможности: свет кометы может быть настолько слаб, а ее субстанция — настолько тонкой и разреженной, что если бы кто-нибудь оказался достаточно {103} близко от кометы, то мог бы совсем потерять ее из виду, как это бывает с огнями, выбивающимися по ночам из-под земли и видимыми издалека, но исчезающими бесследно, стоит лишь подойти к ним поближе. Точно так же мы видим резко очерченными облака издали, а вблизи они превращаются в промозглый туман, граница которого становится столь расплывчатой, что всякий входящий в него не сможет указать, где проходит граница, и отличить облака от окружающего воздуха.
А взять потоки солнечных лучей, изливающихся в разрывы между облаков. Они так напоминают кометы, и наблюдать их можно только издалека. Может быть, комету следует относить к планетам по причине движения? Но есть ли нечто такое, что, будучи отделено от всего земного, частей, подчиняющихся земным условиям, не участвовало бы в суточном движении вместе с остальной Вселенной? Если же имеется в виду движение в поперечном направлении, то оно не имеет ничего общего с движением планет, ибо происходит не в том же направлении, не равномерно и, скорее всего, даже не является круговым. Впрочем, даже помимо всего этого, разве кто-нибудь полагает, что субстанция и материал кометы сходны с субстанцией и материалом планет? О последних можно сказать, что они тверды, в чем нас вполне ощутимо убеждает, в частности, Луна, а в общем случае — резко очерченная и неизменная форма всех планет. Субстанция же кометы рассасывается за несколько дней, и форма ее ограничена контуром некруглым, но размытым и неопределенным, а это свидетельствует о том, что материал ее более разрежен и тонок, чем туман или дым. Одним словом, планета в большей мере напоминает игрушечную планету, нежели нечто реальное.
В-третьих, не знаю, сколь полно он [Сарси] может сравнивать сияние кометы и ее увеличение с сиянием и увеличением Меркурия, которого он заведомо не видел и не мог видеть все время, пока эту планету можно было наблюдать; возможность наблюдать себя Меркурий предоставляет чрезвычайно редко, и в такие периоды он всегда находится вблизи от Солнца. Все это позволяет, как мне кажется, почти с полной уверенностью считать, что в действительности Сарси не проводил никакого сравнения, ибо оно сопряжено с немалыми трудностями и успешный исход отнюдь не предопределен заранее. Подтверждение того, что он не проводил сравнения, я усматриваю в его путаных ссылках на наблюдения Меркурия {104} и Луны, с которыми якобы он сравнивал наблюдения кометы. Дабы доказать, что комета должна находиться дальше от Солнца, чем Меркурий, Сарси следовало бы сказать, что комета окружена меньшим сиянием, чем Меркурий, и при наблюдении в телескоп получает большее же увеличение; он же [Сарси] утверждает противоположное: по его словам, комета окружена сиянием ненамного больше, чем Меркурий, и получает почти такое же увеличение, а это сводится к утверждению, что комета имеет большее сияние и меньшее увеличение, чем Меркурий. Сравнивая затем комету с Луной, он пишет то же самое, хотя утверждает, будто пишет противоположное, а именно что [при наблюдении в телескоп] комета увеличивается меньше, чем Луна, и окружена большим сиянием. Но чуть дальше, подводя итоги, он выводит из тех же посылок противоположное заключение, ибо утверждает, что комета ближе к Солнцу, чем Луна, и дальше от Солнца, чем Меркурий.
Наконец, я не могу понять, как такой логик, каким аттестует себя Сарси, мог упустить в своей классификации светящихся тел, окруженных более сильным или более слабым сиянием и претерпевающих при наблюдении в телескоп соответственно меньшее или большее увеличение, наши земные огни, ибо горящие свечи и пылающие факелы, наблюдаемые с большого расстояния, равно как и освещенные солнцем камешки, кусочки дерева и другие мелкие предметы, даже листья растений или капли влаги, если смотреть на них с определенных точек, окружены гораздо более сильным сиянием, чем самые яркие звезды, и при наблюдении в телескоп обнаруживают такое же увеличение, как звезды. Следовательно, не велика помощь от этого источника тем, кто сулит с помощью телескопа вознести комету на небо и изъять ее из земной сферы. А пока пусть Сарси не думает, что ему удастся выгородить своего учителя, и поймет простую истину: пытаться настаивать на одной ошибке означает совершать сотню других и, что еще хуже, обрекать себя в конечном счете на поражение. Кроме того, я прошу его перестать повторять, как он это делает в конце приведенного выше отрывка, будто его теории принадлежат мне; я никогда не писал, не говорил и не думал ничего подобного. Но довольно о первом взвешивании. Перейдем ко второму.
| {105} |
XIX
ВТОРОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
В КОТОРОМ ИЗЛАГАЕТСЯ МНЕНИЕ ГАЛИЛЕЯ
О СУБСТАНЦИИ И ДВИЖЕНИИ КОМЕТ
Являются ли кометы по своей природе кажущимся изображением
Вопрос I
Хотя до сих пор никто не говорил, что комету надлежит целиком причислять к бестелесным видениям, само по себе это обстоятельство приводит к тому, что мы не сочли бы возможным априори отвести от кометы упрек в химеричности, но, коль скоро Галилею удалось найти другое, лучшее и более глубокомысленное объяснение кометы, желательно отложить наши соображения, дабы тщательно ознакомиться с этим его новым открытием.
Он [Галилей] сосредоточил внимание на двух вещах: субстанции кометы и ее движении. Относительно субстанции он утверждал, что свет [кометы] образуется не внутри ее, а возникает от преломления света, испускаемого каким-нибудь другим телом, вследствие чего такие тела [как кометы] было бы правильнее называть тенями светящихся тел, а не светящимися телами; к такого рода телам относятся радуги, гало, ложные солнца и многие другие аналогичные явления. Относительно движения он утверждает, что движения комет всегда прямолинейны и перпендикулярны поверхности Земли. Он считает, что, коль скоро эти факты выяснены, для него не составит особого труда опровергнуть мнения других. Кратко и немногословно, ибо ему достаточно истины, приукрашенной или голой, мы попытаемся оценить, сколь весомы подобные мнения; и хотя два замечания [Галилея] трудно рассматривать порознь, ибо они настолько переплелись, что в какой-то мере стали взаимозависимы и одно помогает другому, мы все же позаботимся о том, чтобы у читателя на сей счет не оставалось и тени сомнения.
Вопреки первому замечанию Галилея я утверждаю, что комета отнюдь не бестелесный световой мираж, вводящий в заблуждение глаза наблюдателей, и убежден, что мнение Галилея не разделяет никто из тех, кто хотя бы раз наблюдал комету невооруженным глазом или в телескоп. Ибо достаточно того, что по своему виду и природе своего света она [комета] открывает себя и каждый {106} путем сравнения с истинным светом легко может судить, истинен ее сеет или ложен. И действительно, Тихо, анализируя наблюдения Таддеуша Хагека, приводит выдержку из письма последнего: «Тело кометы в те дни сравнялось по величине с планетами Юпитер и Венера, испускало яркий свет и было наделено необычайным блеском, очень чистым и красивым, а ее субстанция казалась слишком нетронутой в своей чистоте, чтобы ее сравнивать с земными материями, и допускала скорее аналогию с небесными телами». Позднее Тихо добавил к этим строкам следующее: «Таддеуш правильно понимал наблюдаемое явление и поэтому мог со всей определенностью прийти к заключению, что в комете нет ничего земного».
Раньше Сарси всячески приспосабливал посылки к заключению, которое требовалось доказать; теперь он всячески приспосабливает посылки, дабы выступить против них как против мыслей, якобы принадлежащих синьору Марио и мне, хотя в действительности посылки Сарси сильно отличаются от того, о чем говорится в «Рассуждении» синьора Марио, или по крайней мере построены иначе. Так, мы никогда не утверждали со всей определенностью, что комета не более чем изображение и всего лишь видимость; подобное утверждение было высказано нами как вопрос и предложено вниманию философов вместе с обоснованиями и гипотезами, которые мы сочли уместными, дабы убедить их в том, что такое возможно.
Вот подлинные слова синьора Марио, сказанные по этому поводу: «Я не могу сказать с уверенностью, что комета образуется именно таким способом, но утверждаю, что, подобно тому как оп вызывает сомнения, вызывают сомнения и методы, используемые другими авторами; и если они утверждают, будто безупречно обосновали свое мнение, то должны доказать это, а также неосновательность и ошибочность позиций других [авторов]». Искажая таким образом [нашу точку зрения], Сарси представляет дело так, будто мы решительно утверждали, что движение кометы непременно должно быть прямолинейным и происходить в направлении, перпендикулярном земной поверхности. Ничего подобного мы не утверждали, а лишь рассмотрели такую возможность, указав, что она позволила бы объяснить изменения, наблюдаемые в положении кометы, более просто и в лучшем согласии с явлениями. Эта идея была достаточно осторожно высказана синьором Марио, который в заключение заявил: «Итак, нам не остается ничего другого, как довольствоваться {107} тем малым, относительно которого мы можем строить предположения среди теней». Тем не менее Сарси пытается представить дело так, будто я стою на своих позициях более твердо, в надежде, что это позволит ему более действенно опровергнуть наши мнения, не оставил от них камня на камне. Если ему удастся осуществить свои намерения, то я буду ему признателен, ибо в будущем, когда мне вздумается пофилософствовать на эту тему, рассматривать надобно будет одним мнением меньше. Но, поскольку мне кажется, что жизнь в предположениях синьора Марио еще теплится, я хочу высказать несколько замечаний о силе возражений Сарси.
Весьма храбро нападая на мое первое заключение, он утверждает, будто всякому, кому хотя бы раз приходилось наблюдать комету, не требуется иных аргументов, дабы доказать природу ее света; ибо при сравнении с другими истинными огнями она светится слишком ясно, чтобы быть реальным телом, а не призраком. Как заметит Ваша милость, Сарси настолько уверен в остроте зрения, что решительно отметает самую мысль об обмане зрения и возможности соседства призрачного объекта и объекта реального. Должен признаться, что я не наделен столь ярко выраженной способностью отличать подлинное от ложного. Мне вспоминается обезьяна, которая ничуть не сомневается в том, что видит в зеркале свою приятельницу. Изображение кажется ей столь живым и реальным, что свою ошибку она обнаруживает не раньше чем заглянув два-три раза за зеркало в надежде схватить товарку. Осмеливаясь предположить, что Сарси видит в своем зеркале не реальных людей во плоти, а лишь их изображения, похожие на те, которые видят в своих зеркалах остальные из нас, я хотел бы знать, в чем состоят те визуальные отличия, по которым он с такой легкостью распознает реальное и призрачное.
Со своей стороны я бессчетное число раз наблюдал в комнате с закрытыми ставнями на противоположной стене отражение солнечного света, проходящего сквозь крохотное отверстие, и могу сказать, что это пятнышко по яркости не уступает Венере или Сириусу. Когда мы гуляем в поле, сколько тысяч соломинок и камешков, слегка отполированных или влажных, сверкают на солнце, как самые яркие звезды? Сарси достаточно сплюнуть на землю, и он, несомненно, увидит самую натуральную звезду в той точке, в которой отражаются солнечные лучи. Кроме того, любое тело, находящееся на большом {108} расстоянии и освещаемое солнцем, будет выглядеть как звезда, в особенности если поместить его высоко, чтобы можно было наблюдать по ночам, как другие звезды. А кто мог бы отличить Луну, видимую днем, от облака, освещенного солнцем, если бы не различие в видимой форме и размерах? Разумеется, никто. Наконец, если бы призрачные видения определяли сущность вещи, то Сарси должен был бы признать, что солнца, луны и звезды, видимые в спокойной воде или в зеркале,— самые настоящие солнца, реальные луны и подлинные звезды. Но было бы еще лучше, если бы Сарси изменил свое мнение обо всем этом и не думал, будто ему удастся укрепить свою позицию, ссылаясь на авторитет Тихо, Таддеуша Хагека и других, разве что в обществе таких мужей его собственная ошибка становится более простительной.
XX
Но продолжим чтение, Ваша милость.
Но в то время, когда воссияла наша комета, Галилей, как я слышал, лежал, прикованный болезнью к постели, и состояние его здоровья не позволило ему, по-видимому, ни разу наблюдать своими глазами это светящееся тело, поэтому при обсуждении с ним всего связанного с кометой мы вынуждены прибегать к другим аргументам. Ныне он утверждает, что туманные испарения, поднявшиеся с какой-то части земной поверхности, были унесены за Луну и даже за Солнце и, выйдя из конуса тени, отбрасываемой Землей, оказались под лучами Солнца, которое освещает комету и которому комета подчиняется; и что такого рода движение, или восхождение, паров происходит не как блуждание или неопределенным образом, а строго по прямой без малейшего уклонения в сторону. Так говорит Галилей, но мы намереваемся проверить весомость его утверждений с помощью наших весов.
Он [Галилей] утверждает, будто туманная и напоминающая пар материя сначала поднималась с поверхности Земли, хотя в те дни очень сильный северный ветер преобладал во всем небе и он разогнал бы и рассеял всякие пары; поистине удивительно, что столь малые и легкие тела могли быть благополучно унесены столь высоко среди бурных порывов северных ветров и неизменно удерживаться на начальном направлении, между тем как самые тяжелые грузы, оказавшиеся в ту пору под открытым небом, не могли противостоять напору ветра. С трудом {109} верится, что при столь яростном противоборстве тяжести и силы ветра легчайшие пары могли бы подниматься, во всяком случае вертикально вверх, среди неустойчивых перемещений воздуха. Кроме того, известно и подтверждается самим Галилеем, что от сгущений и разрежений туманообразных тел такого рода не свободны даже самые недосягаемые выси планет, и, следовательно, движения, посредством которых эти тела переносятся, не могут быть бесцельными и неопределенными.
Ни синьор Марио, ни я никогда не писали, будто туманные испарения поднимаются с некоторых частей земной поверхности до Луны и даже до Солнца и что, выйдя из конуса земной тени, они пропитываются солнечными лучами и порождают комету, хотя Сарси и приписывает мне подобное утверждение. Но синьор Марио пишет нечто иное: он считает возможным, что иногда земные испарения и тому подобные материи, гораздо более тонкие, чем обычные, могут подниматься ввысь, достигать даже Луны и служить материалом для формирования кометы и что порой происходит необычная сублимация сумеречной материи, как о том свидетельствует северное сияние. Но оп ни словом не обмолвливается о том, что эта материя тождественна веществу комет, которое непременно должно быть более разреженным и тонким, чем сумеречная мгла и материя северного сияния, ибо комета сияет гораздо менее ярко, нежели северное сияние. Например, если бы комета появилась на востоке в белизне утренней зари, когда Солнце успело подняться на шесть или восемь градусов над горизонтом, то ее попросту нельзя было бы различить, ибо она уступала бы по яркости окружающему ее фону. Точно так же прямолинейное движение вверх может быть приписано той же материи лишь с большей или меньшей вероятностью, но отнюдь не достоверно. Я говорю это не из опасения возражений со стороны Сарси, а только из стремления показать, что мы ни в чем не отошли от обыкновения провозглашать достоверно установленным только то, в чем у нас нет ни малейших сомнений, как учит нас наша философия и математика. А теперь, после того как доказано, что мы не высказывали тех утверждений, которые приписывает нам Сарси, выслушаем и разберем его возражения.
Первое его возражение основано на том, что пары не могут подниматься по прямой в небо, когда сильный северный ветер рвет воздух и все находящееся внутри его. Такой ветер он [Сарси] ощущал в течение многих дней {110} после появления кометы. Возражение, что и говорить, действительно очень остроумное, но в значительной мере утрачивает свою силу, поскольку мы располагаем надежными сведениями о том, что в те дни в Персии и в Китае воздух был недвижим, и я вполне могу считать, что материя кометы сублимировалась в одной из этих стран, покуда Сарси не докажет, что она поднялась не оттуда, а из Рима, где он ощущал порывы северного ветра. А даже если испарения поднялись из Италии, откуда известно, что они не возогнались еще до ветреных дней? Ведь пока они поднимутся до орбиты кометы, пройдет много дней, ибо, по утверждению учителя Сарси, комета находится от нас примерно в 470 000 милях. Такое путешествие требует времени, и немалого. По наблюдениям с Земли, скорость подъема испарений сильно уступает скорости птичьего полета, и на такое путешествие уйдет не один год. Но предположим даже, что испарения вынуждены подниматься при сильном ветре. Тот, кто с полным доверием относится ко всякого рода басням и поэтическим вымыслам, должен признать, что волнение ветра поднимается в высоту не более чем на две-три мили, ибо есть горы, вершины которых вздымаются выше того, где гуляет ветер. Следовательно, самое большее, к чему можно было бы прийти в заключениях, это утверждение, что в пределах указанного пространства испарения поднимаются не вертикально, а колеблются, отклоняясь от своего курса то в одну, то в другую сторону, а вне его исчезает то воздействие, которое вынуждает их отклоняться от прямолинейней) пути.
XXI
Продолжим, Ваша милость.
(1-й аргумент.) Но пусть даже мы согласимся с тем, что эти испарения, начав двигаться, способны выдерживать направление и стремиться, насколько возможно, к месту назначения, достигают прямых солнечных лучей и посылают нам отраженные лучи. Почему же в таком случае они, получая всего Феба84, показывают всем нам лишь самую малую толику его? Ведь по свидетельству самого Галилея, в летние дни, когда испарения, не слишком отличающиеся от тех, о которых идет речь, уносятся на север, быть может, выше обычного и, оказавшись против Солнца, купаются в ярчайшем свете, они все без исключения кажутся серебристо-белыми, напоминая северное сияние даже в ночной тьме. Они не столь ревниво {111} относятся к заимствованной ими яркости, чтобы, прижав полученный от Солнца свет к своей груди, не дать ни единому лучику ускользнуть к нам сквозь крохотную щель. Не только в летнее время, но и в январе я наблюдал через четыре часа после захода Солнца (что замечательно само по себе) ослепительно белое облачко, стоявшее почти в зените и столь разреженное, что сквозь него были видны даже самые маленькие звезды; восприняв от Солнца дары света, оно свободно изливало их во все стороны через широкую расщелину. Наконец, все облака (если они сохраняют подобие с материей комет), когда они столь плотны и непрозрачны, что не пропускают свободно солнечные лучи, по крайней мере со стороны, обращенной к Солнцу, с взаимной щедростью отражают его лучи нам, а когда они разрежены и тонки, свет легко проникает повсюду сквозь них и они нигде не кажутся темными, а как бы пронизаны очень ярким светом. Но если свет кометы исходит не из какой-нибудь другой материи, а из тех самых туманных испарений, не сжатых как бы в один шар, а занимающих, по словам самого Галилея, весьма обширный участок неба и всюду сверкающих от солнечного света, то какова конечная причина, по которой тем, кто наблюдает комету, всегда кажется, что свет исходит из короткого и узкого отрезка ее орбиты, в то время как остальная часть тех же испарений, освещенная тем же солнечным светом, никогда не видна?
Отнюдь не легко ответить на этот вопрос, приводя в качестве примера радугу, при образовании которой происходит то же самое, т. е. радуга попадает в глаз только от одной части облака, хотя то же разнообразие цветов создается светом во всем пространстве, освещаемом Солнцем. Все это, равно как и другие вещи того же рода, требует материи, покрытой росой и пропитанной влагой,— материи, превратившейся в воду; тогда она отражает свет от той своей части, где углы отражения и преломления возникают только при условии, если эта материя уже превратилась в воду и уподобилась таким гладким, отполированным и прозрачным телам, как зеркала, воды и хрустальные шары.
Но если поднявшиеся ввысь испарения более разреженны и сухи, то они не имеют такой гладкой поверхности, как зеркала, и не сказываются сколько-нибудь заметно на преломлении лучей. А поскольку гладкость тела необходима для отражения от него лучей, а плотность в сочетании с прозрачностью — для преломления, указанные {112} испарения не принято принимать во внимание в метеорологических явлениях, если эти испарения не содержат достаточно много воды, как учили не только Аристотель, но и все создатели оптики и в чем нетрудно убедиться с помощью рассуждений.
Мы должны заключить поэтому, что испарения такого рода в силу самой своей природы малопригодны для того, чтобы возноситься выше Луны и даже Солнца, ибо, как признает сам Галилей, испарения, улетающие так далеко, должны быть весьма тонкими и легкими. Следовательно, сверкающее изображение света, способное отразиться к нам, возникает не от туманных и разреженных легких испарений, а от водяных паров, очень тяжелых и потому не поднимающихся высоко.
Длительный опыт научил меня, что в тех случаях, когда требуется напрячь разум, люди имеют обыкновение поступать так: чем они менее сведущи в предмете и чем слабее разбираются в нем, тем решительнее о нем судят; с другой стороны, располагая кое-какими сведениями и кое-что понимая, они с большой осторожностью выносят свои суждения о чем-нибудь новом.
Давным-давно жил в полном уединении человек, наделенный от природы необычайной любознательностью и весьма проницательным умом. На досуге он занимался разведением птиц, услаждавших его своим пением, и с восторгом разглядывал великолепное устройство, позволяющее щебетуньям по желанию превращать самый воздух, которым они дышат, в неисчерпаемо разнообразные сладкозвучные песни. Однажды вечером он вдруг услышал невдалеке от своего жилища нежные звуки, и, будучи в полной уверенности, что издавать их могла только какая-нибудь птичка, он решил поймать ее. Выйдя на дорогу, он увидел пастушонка, который дул в деревянную дудочку и, перебирая пальцами, извлекал из нее звуки, весьма напоминавшие пение птиц, хотя делал он это совершенно другим способом. Озадаченный и движимый природной любознательностью, он дал пастушку молодого бычка в обмен на дудочку и возвратился в свое уединенное жилище. Поразмыслив, человек этот понял, что если бы ему случайно не встретился пастушок, то он никогда не узнал бы о существовании двух способов извлечения музыкальных звуков и сладостных мелодий, и решил отправиться в дальнее путешествие в надежде на какое-нибудь новое приключение. {113}
На следующий же день ему случилось проходить около небольшой хижины. Услыхав доносившиеся из нее звуки, он заглянул внутрь, чтобы выяснить, кто издает их — черный дрозд или дудочка. Но в хижине он увидел мальчика, державшего в правой руке смычок и водившего им по струнам, натянутым на вогнутый кусок дерева. Не дуя, а лишь перебирая пальцами левой руки, в которой он держал инструмент, мальчик извлекал разнообразные звуки, в том числе и приятные для слуха. Вам, наделенным способностью читать мысли этого человека и разделяющим его любознательность, трудно представить себе, сколь велико было охватившее его изумление! Но, коль скоро ему удалось неожиданно обнаружить два новых способа извлечения звуков и мелодий, он решил, что в природе могут существовать и другие способы. Его изумление возросло еще больше, когда он, войдя в некий храм и заглянув за врата, дабы выяснить источник звука, понял, что скрип при открывании врат издавали петли и запоры. В другой раз, движимый любознательностью, он зашел на постоялый двор, ожидая встретить там кого-нибудь наигрывающего на скрипке, а вместо этого увидел человека, который водил кончиком пальца по краю бокала, извлекая весьма мелодичные звуки. Позднее наш путешественник заметил, что осы, мошкара и мухи не выдыхают воздух, издавая при этом отдельные звуки, а производят непрерывно звучащие тона, часто взмахивая своими крылышками.
По мере того как росло его изумление, таяла его уверенность в том, что ему известны все способы звукоизвлечения: ведь предшествующий опыт оказался недостаточным для того, чтобы понять или хотя бы поверить, что сверчки, которые не летают, способны издавать не лишенное приятности звучное стрекотание не своим дыханием, а трением одного крылышка о другое. Когда же человек почти пришел к убеждению, будто других способов извлечения звука, кроме известных ему, не существует (помимо уже названных способов, он своими глазами увидел множество органов и живых существ, всевозможные трубы, флейты, струнные инструменты и даже заметил, что небольшой железный язычок, если зажать его между зубов, странным образом использует защечные полости как резонаторную коробку, а дыхание — как носитель звука), когда, говорю я, он пришел к убеждению, будто ему все известно, он обнаружил, что более чем когда-либо погряз в невежестве, и не находил слов от изумления, поймав {114} рукой цикаду, ибо, как ни старался он зажать ей рот или остановить ее крылышки, цикада продолжала издавать неумолчный треск, хотя наш путешественник не мог заметить, чтобы она двигала чешуйками или какими-нибудь другими частями своего тела. Наконец, подняв панцирь, покрывавший грудь цикады, и увидев под ним какие-то тонкие твердые нити, он решил, будто звук возникает при встряхивании этих нитей, и вознамерился порвать их, чтобы заставить цикаду смолкнуть. Но все его попытки были безуспешны до тех пор, пока он, введя иглу слишком глубоко, не пронзил создание и не лишил его жизни вместе с голосом, так что даже после гибели цикады не мог с уверенностью сказать, исходил ли звук от этих нитей.
Тогда человек окончательно разуверился в своих познаниях и, если его спрашивали, каким образом производятся звуки, скромно отвечал, что, хотя некоторые способы извлечения звука ему известны, он совершенно убежден в том, что существуют многие другие, которые он не знает и даже не может себе представить.
Я мог бы на многих других примерах пояснить, сколь щедра природа на производство эффектов такими средствами, до которых мы никогда бы не додумались, если бы наши органы чувств и наш опыт не научили нас, хотя и их иногда оказывается недостаточно для того, чтобы исцелить нашу неспособность. Поэтому не следует судить меня строго, если я не смогу точно определить, каким именно способом образуются кометы, тем более что я никогда не похвалялся, будто непременно смогу сделать подобное, ибо отлично сознаю, что комета может образоваться способом, намного превосходящим силу нашего воображения. Если трудно понять, как именно издает звуки цикада, хотя она поет прямо у нас в руках, то тем более простительно не знать, как образуется комета, находящаяся от нас на таком огромном расстоянии. Уместно поэтому остановиться на первоначальном намерении синьора Марио и моем, состоявшем в том, чтобы изложить те вопросы, которые, как нам кажется, ставят под сомнение бытовавшие раньше мнения, и предложить кое-какие новые соображения. Прежде всего надлежит выяснить и рассмотреть, нет ли чего-нибудь такого, что могло бы пролить какой-нибудь свет и проложить дорогу к открытию истины, ибо я продолжаю рассматривать аргументы, выдвинутые Сарси против нас, по которым наши представления кажутся ему неприемлемыми. {115}
Он утверждает и пытается доказать нам, будто даже в том случае, если бы не было спора о парах или иных материях, годных для образования кометы, возникли бы трудности с объяснением того, как эти субстанции поднимаются с поверхности Земли и возносятся в горные выси, где они получают прямые солнечные лучи и отражают их к нам. Каким образом, будучи освещенными целиком, они отражают к нам свет только какой-нибудь одной своей частью. Почему отражение происходит не так, как в тех испарениях, в которых наблюдается северное сияние, ибо те светятся целиком и видны целиком? Он [Сарси] добавляет, что наблюдал как-то раз в полночь чудесное зрелище — крохотное облачко вблизи зенита, которое было полностью освещено и излучало сияние буквально каждой своей частью. Все плотные и непрозрачные облака, добавляет он, посылают нам солнечный свет только от тех своих частей, которые видимы, в то время как легкие облачка пронизаны светом и выглядят одинаково яркими без каких бы то ни было темных участков. Если комета образуется, как утверждает синьор Марио, во влажных испарениях, имеющих большую протяженность и не собранных в сферическую фигуру, и если солнечные лучи освещают эти испарения целиком, то почему мы получаем отражение только от небольшого шара, а не от освещенной столь же ярко остальной части?
Хотя ответы на это возражение подробно изложены в «Рассуждении» синьора Марио, я все же хотел бы привести их здесь в надлежащем порядке с добавлением некоторых новых соображений по мере того, как шаг за шагом будут возникать контраргументы.
Прежде всего признание того, что любая субстанция, сублимированная кометой, отражает солнечный свет в глаза наблюдателя только какой-то одной своей частью, хотя она освещена целиком, не должно вызывать у Сарси каких-либо трудностей. Против каждого возражения мы готовы привести тысячу доводов, подтверждающих нашу точку зрения; более того, мы с легкостью обнаруживаем, что большинство доводов, выдвигаемых Сарси в качестве возражения, в действительности подкрепляют нашу точку зрения. Нет сомнения в том, что любое зеркало, если его выставить на Солнце, будет освещено целиком. То же самое можно сказать и о любом болоте, озере, любой реке и море — словом, о любой гладкой поверхности любой материи. Тем не менее с точки зрения наблюдателя {116} отражение солнечных лучей происходит от вполне определенного места на этой поверхности, и это место изменяется, если глаз наблюдателя перемещается. Внешняя поверхность тонких облаков, рассеянная по обширному пространству, одинаково освещена Солнцем, тем не менее гало и ложные солнца появляются для каждого глаза только в определенном месте, которое также меняется при любом перемещении глаза.
Сарси утверждает: «Та тонкая сублимированная материя, которая иногда порождает северное сияние, представляется [наблюдателю] полностью освещенной и в действительности является таковой». Но позволительно спросить у Сарси, каким образом он удостоверился в этом? Он может ответить мне, что не видит ни одной части, которая не была бы освещена, в то время как менее освещенная часть поверхности зеркал, вод и мраморных плит вокруг той небольшой площадки, которая осуществляет живое отражение солнечного света, видна вполне отчетливо. Это действительно так, но я хотел бы обратить его внимание на одно обстоятельство: если бы материя по цвету была неотличима от всего, что ее окружает, или была прозрачна, то он не смог бы различить ничего, кроме отдельного яркого отраженного луча, подобно тому как иногда поверхность моря неуловимо сливается с воздухом и различить можно только отраженное изображение Солнца. Аналогичным образом, помещая на некотором расстоянии тонкий кусок стекла, мы можем различить только то место, от которого отражается свет, а остальная часть стекла остается невидимой из-за ее прозрачности.
Ошибка Сарси здесь сродни утверждению, что ни один преступник не может быть до конца уверенным в своей безнаказанности (в том, что содеянное им так никогда и не будет раскрыто): и в том и в другом случае из виду совершенно упускается несовместимость нераскрытого и известного. Не подлежит сомнению, что у всякого, кто вздумал бы вести два реестра, занося в один нераскрытые оскорбительные выпады, а в другой распознанные выпады, в первый реестр не было бы внесено ничего, ни единой записи. Исходя из этого, я утверждаю, что, не впадая в противоречие, материю северных сияний можно считать распределенной по обширнейшему пространству и равномерно освещенной Солнцем, но, так как мне открыта и видна только та часть ее, откуда мне в глаз попадают преломленные лучи, а остальное остается {117} невидимым, мне кажется, будто я вижу не часть, а целое.
Разве не освещена все время равномерно солнечными лучами полусфера окутывающих Землю туманных испарений? Несомненно, освещена; тем не менее та часть испарений, которая лежит непосредственно между нами и Солнцем, выглядит гораздо ярче, чем более далекие от нас части. Этот эффект, как и другие, не более чем видимость и иллюзия наших глаз, ибо, где бы мы ни находились, в центре светящегося круга, яркость которого постепенно убывает по мере увеличения расстояния от центра в ту или иную сторону, мы всегда видим солнечное тело. Но для людей, живущих севернее нас, та часть, которая мне представляется наиболее яркой, будет более темной, а та, которая видится мне наиболее темной, будет казаться наиболее яркой; можно сказать, что вокруг Солнца существует огромное, никогда не исчезающее гало, как бы начерченное на выпуклой поверхности, которая ограничивает сферу с испарениями. Это гало меняет свое положение в соответствии с движениями наблюдателя так же, как гало, образующиеся иногда в топких облаках.
Что же касается того облачка, которое, по словам Сарси, он наблюдал столь ярким в кромешной ночной тьме, то я хотел бы спросить его [Сарси], каким образом он удостоверился в том, что в действительности оно было гораздо больше, чем ему казалось (ведь, по его же словам, оно было настолько прозрачным, что сквозь него были видны даже самые слабые из неподвижных звезд). По той же самой причине не мог бы он удостовериться и в том, что это облачко не простирается невидимо за пределы наблюдаемой освещенной части, будучи совершенно прозрачным; следовательно, остается в силе сомнение относительно того, не было ли и это облачко одним из тех видений, которые изменяют свой вид при перемещении глаза.
Не существует также причин, по которым оно не могло бы казаться светящимся и все же быть не более чем видимостью, как случилось бы, не будь оно больше протяженности изображения Солнца. Так, если изображение Солнца в зеркале имеет в ширину один палец и мы отрежем остальную часть зеркала, то весь оставшийся небольшой кусочек зеркала будет казаться нам ярким. Если бы зеркало было меньше изображения, то оно не только казалось бы нам всюду ярким, но и изображение {118} не перемещалось бы при каждом движении глаза, как это происходит при большом зеркале; зеркало не могло бы вместить целиком все изображение Солнца, и поэтому при перемещении зеркала отражение происходило бы то от одной, то от другой части солнечного диска и изображение казалось бы неподвижным до тех пор, пока глаз не достиг бы определенного места, куда не попадает изображение Солнца, и, следовательно, не потерял бы Солнце из виду. Таким образом, необычайно важно учитывать размеры и качество поверхности, от которой происходит отражение, ибо, чем менее гладка эта поверхность, тем больше кажется изображение одного и того же предмета, и иногда глазу приходится проделывать долгий путь прежде чем изображение полностью исчезнет с зеркала, и изображение кажется неподвижным, хотя в действительности оно движется.
Дабы суть моего замечания, имеющего первостепенное значение и, возможно, способного навести кого-нибудь (не говоря уже о Сарси) на новую мысль, [стала ясна], вообразите, Ваша милость, что Вы находитесь на берегу моря в такое время, когда вода совершенно спокойна, а Солнце склоняется к западу. Вы увидите очень яркое отражение Солнца на поверхности моря вблизи вертикальной линии, проходящей через солнечный диск. Изображение это не будет занимать большую площадь; если вода, как я уже сказал, очень спокойна, то Вы увидите чистое изображение солнечного диска, ограниченное, как в зеркале. Но стоит подуть легкому ветерку и покрыть рябью поверхность воды, как Ваша милость тотчас же увидит, что изображение Солнца начнет распадаться на множество частей, распространится и захватит гораздо бóльшую площадь. Если бы Вы стояли близко, то смогли бы отличить один осколок изображения от другого, но с большего расстояния отделить один осколок от другого не представляется возможным из-за узости промежутков между ними или из-за того, что из-за ослепительного блеска сверкающих осколков они как бы перемешиваются и ведут себя как несколько близких огней, наблюдаемых с большого расстояния.
Но вот рябь перерастает в более высокие волны и промежутки между множеством зеркал, от которых изображение Солнца отражается в глаз, в зависимости от различных наклонов волн начнут становиться все шире и шире. Если, отойдя на еще большее расстояние, Вы взберетесь на холм или на какую-нибудь другую возвышенность, {119} дабы лучше видеть воды, то увидите одно освещенное поле, причем оно покажется Вам сплошным. С очень высокой горы примерно в шестидесяти милях от Ливорнского залива в ясный ветреный день примерно за час до захода я наблюдал очень яркую полосу, распространяющуюся вправо и влево от Солнца и имеющую в длину десять, а быть может и сотни, миль. Это было отражение солнечного света того самого рода, о котором только что упоминалось.
Пусть Сарси мысленно удалит большую часть поверхности моря по обе стороны [от Солнца] так, чтобы оставшаяся часть имела в ширину две-три мили и, будучи расположенной посредине, была обращена прямо к Солнцу. Ясно, что такая площадка была бы полностью освещена и оставалась бы неподвижной при любом перемещении наблюдателя в ту или иную сторону, пока он не переместится, быть может, на несколько миль, ибо тогда он начнет терять из виду левую сторону изображения, если он двигался вправо, и яркое изображение начнет сужаться до тех пор, пока станет очень тонким и не исчезнет полностью. Не так двигалось бы изображение вместе с движением наблюдателя: мы продолжали бы видеть все изображение целиком, хотя оно все перемещалось бы так, что его центр всегда соответствовал бы направлению на Солнце (для различных людей, наблюдающих одновременно изображение [Солнца], это направление соответствует различным точкам горизонта).
Здесь я считаю уместным сообщить Вашей милости то, в чем, как мне кажется, состоит решение морской проблемы. Опытные моряки иногда задолго предсказывают, откуда поднимется ветер. По их утверждениям, верный признак, по которому они это узнают,— более яркое, чем обычно, свечение воздуха в том направлении [откуда поднимется ветер]. Судите сами, Ваша милость, не может ли такое свечение возникать из-за ветра, возмущающего волны, которые уже существуют там. От таких волн, как от множества зеркал, распределенных по обширной площади, по-видимому, и возникает отражение Солнца гораздо более яркое, чем в том случае, когда море спокойно. Таким образом, часть насыщенного парами воздуха может стать ярче от этого нового света и рассеяния отраженного. Поднявшись высоко, этот воздух посылает часть отраженного света в глаза моряков, в то время как они, находясь низко и далеко, не могут воспринимать первичное отражение от той части моря, которая {120} взволнована ветром в двадцати или тридцати милях [от того места, где находится судно]. Именно так они воспринимают и предсказывают ветер задолго до того, как он поднимется.
Неукоснительно следуя нашей первоначальной идее, я должен сказать, что солнечные лучи не запечатлевают одинакового по размерам изображения Солнца на всех материалах или, лучше сказать, на всех поверхностях. На одних поверхностях, а именно на поверхностях плоских и гладких, как зеркало, мы видим солнечный круг, ограниченный и равный по величине истинному Солнцу; на гладких выпуклых поверхностях он кажется нам меньше, чем в действительности, а на вогнутых поверхностях — то меньше, то больше, то таким же, как в действительности, в зависимости от различных расстояний между зеркалом, предметом и глазом.
Если поверхность не ровная, а волнистая и изобилует возвышениями и впадинами (будучи как бы составлена из превеликого множества маленьких зеркал, расположенных под различными наклонами и видимых в тысячах различных ракурсов), то то же изображение Солнца, разделенное на тысячу осколков, воспринимается нашим глазом как тысячи частей, разбросанных по обширному пространству. Мы увидим как бы собрание множества крохотных ярких пятен. Часть их с большого расстояния будет казаться одним сплошным светящимся полем, более интенсивным и ярким в центре, чем по краям. У краев свет становится слабым и сходит на нет в дымке, когда из-за наклонности взгляда к поверхности лучи зрения не встречают более волн, отражающих их к Солнцу. Это большое изображение обладает способностью двигаться при перемещении глаза и в том случае, если отражение продолжает происходить за пределами изображения. Если же материал занимает небольшое пространство (меньшее, чем все изображение), то он продолжает оставаться ярким до тех пор, покуда глаз не достигнет того предела, за которым из-за косого падения лучей на материал отражения направлены не на Солнце, когда свет исчезает и теряется.
Я хочу сказать Сарси, что, когда он видит висящее в небе облако с четко выраженной границей и все освещенное (таким оно остается, даже если глаза перемещаются на некоторое расстояние), у него [Сарси] все равно нет способа удостовериться в том, что это свечение более реально, чем гало, ложные солнца, радуги и {121} солнечные блики в море. Я хочу также сказать Сарси, что плотность и кажущаяся устойчивость облака могут быть обусловлены малыми размерами или из-за своей малости облако может не вмещать всю протяженность изображения Солнца, которое, не будь недостатка в материале, протянулось бы на расстояние, во много раз превышающее размеры облака. Если бы облако было видно целиком в то время, когда за ним простирались бы другие поля облаков, то, смею уверить, перемещение глаза вынуждало бы сдвигаться все облако целиком.
Решающим аргументом в подтверждение подобной точки зрения для нас служит часто видимое на восходе или заходе множество небольших облаков, висящих у самого горизонта; те из них, которые находятся прямо над Солнцем, сверкают наиболее ярко и кажутся отлитыми из чистого золота. Из облаков, расположенных по сторонам, те, что поближе к Солнцу, освещены средне и по яркости превосходят более далекие облака, причем по мере удаления их яркость плавно убывает, а облака, находящиеся на наибольшем удалении, освещены слабо или совсем не освещены — такими видим их мы; для тех же, кто находится в таком месте, что облака оказываются между глазом и точкой захода Солнца, эти облака были бы самыми яркими. Пусть же Сарси поймет, что если бы облака не были рассеяны, а составляли бы единое сплошное поле, то каждому наблюдателю казалось бы, что та часть поля, которая для него находится в центре, освещена наиболее ярко, а та, что находится по сторонам, все менее ярко в зависимости от расстояния до центра; то, что мне кажется вершиной блеска, другим представляется его концом.
Кто-нибудь мог бы возразить, сказав, что так как небольшая часть облаков сохраняет неподвижность и свет в них не движется при каждом перемещении наблюдателя, то этого достаточно, чтобы параллакс был вполне заметным и по нему можно было определять высоту; а поскольку то же самое возможно и для кометы, правы те, кто намеревается использовать параллакс, чтобы определить ее высоту. На это я отвечу, что такое замечание было бы правильным, если предварительно доказать, что комета составляет лишь часть всего изображения Солнца, а не все изображение. В этом случае не только весь материал, из которого образована комета, был бы освещен, но изображение Солнца простиралось бы за его пределы, л его хватило бы, чтобы освещать гораздо большую {122} площадь, если бы находящаяся там материя была способна отражать свет. Но, коль скоро это не доказано, весьма разумно поступает тот, кто придерживается противоположной точки зрения, а именно считает, что комета представляет собой все изображение, а не какой-то его фрагмент или усеченное изображение; об этом свидетельствует правильная форма облака, наделенная столь прекрасной симметрией.
Из сказанного нетрудно извлечь простой и подходящий к случаю ответ на возражение Сарси, когда он спрашивает, как можно (в соответствии с утверждением синьора Марио) считать, будто комета представляет собой материю, распределенную по обширному пространству в вышине, без того, чтобы эта материя была полностью освещена и к нам посылал отражение лишь узкий круг ее. Да позволено мне будет задать все тот же вопрос ему [Сарси] и его учителю [отцу Грасеи], который не считает комету огнем, а (если я не ошибаюсь) склонен по крайней мере хвост кометы считать преломлением солнечных лучей. Я хочу спросить у него, считает ли он, что материя, в которой происходит преломление, обрезана в точности по размерам хвоста или же простирается то тут, то там за его пределы? Если же он ответит, как я полагаю, что материя эта простирается и за пределы хвоста, то позволительно спросить, почему она не видна, коль скоро ее касается Солнце? Ссылка на то, что преломление происходит в субстанции эфира, которая, будучи наиболее прозрачной, не обладает преломляющей способностью, в данном случае неуместна; еще в меньшей мере преломление происходит в другой материи, ибо если бы материя преломляла солнечные лучи, то она могла бы и отражать их. Кроме того, я не понимаю, по какому праву он [Сарси] называет голову кометы «маленьким кругом», если его учитель с помощью глубокомысленных вычислений обнаружил, что она занимает 87 127 квадратных миль. Насколько я могу судить, ни одно облако не достигало таких размеров.
Подобно человеку из приведенной мной притчи, который считал, что звук извлекается только одним способом, Сарси утверждает, будто комета не может быть порождена отражением в туманных испарениях и будто пример е радугой не устраняет трудностей, хотя радуга в действительности есть не что иное, как иллюзия зрения. Ибо образование радуги и тому подобных явлений требует влажной материи, которая уже распалась на капельки {123} воды и действует, как гладкие и полированные тела, отражая свет от тех своих частей, где имеются именно те углы отражения и преломления, какие необходимы для создания такого эффекта, который наблюдается в зеркалах, воде и хрустальных шарах, в то время как в тонких и сухих предметах, не обладающих гладкими поверхностями, наподобие зеркальных, рефракция происходит довольно слабо. Итак, для возникновения эффекта необходима материя, насыщенная водой и, следовательно, тяжелая, неспособная подняться над Луной и Солнцем (куда, но моему мнению, не может подняться ничто, кроме вещей, имеющих природу легчайших испарений), а поэтому комета не может образовываться в этих туманных испарениях.
В ответ на эти рассуждения достаточно заметить, что синьор Марио никогда не ограничивался какой-либо точно названной материей, в которой формируется комета, и ни слова не говорил о том, влажная ли эта материя, туманная, сухая или гладкая, и, я уверен, не счел бы зазорным признаться в том, что не знает этого. Но, наблюдая, как в испарениях, в тонких, не насыщенных водой облаках и в облаках, распадающихся на мельчайшие капельки, в стоячих водах, в зеркалах и в других материях возникают многообразные иллюзии различных образов, обретающих форму посредством отражений и преломлений, он не отверг как невозможную мысль о существовании в природе какой-то иной материи, призванной давать нам еще одно изображение, отличное от всего остального, и предположил, что это изображение и есть комета. Я бы сказал, что такой ответ вполне соответствует возражению, если бы какая-то часть возражения была верна. Но, поскольку, как я уже говорил, мной движет желание проложить дорогу поиску истины, я в меру своих сил хотел бы сделать несколько замечаний по поводу отдельных пунктов приведенных выше рассуждений.
Во-первых, иллюзия радуги действительно происходит в испарениях, распавшихся на крохотные капельки воды, но я отнюдь не считаю, что подобные иллюзии не могут происходить без таких испарений. Треугольная хрустальная призма, поднесенная к глазу, показывает нам все предметы как бы окрашенными во все цвета радуги, и радуги часто наблюдаются в «сухих» облаках, не проливающих дождь на землю. А разве не те же многоцветные иллюзии мы видим на перьях птиц, когда Солнце освещает их определенным образом? Но и это еще не все; {124} пусть Сарси скажет мне что-нибудь новое (если он вообще способен сказать что-нибудь повое). Пусть он возьмет любой материал, будь то камень, дерево или металл, и, держа его на солнце, пристально вглядится в него. Он увидит все цвета в виде крохотных пятнышек, а если при этом он воспользуется телескопом, настроенным для разглядывания весьма далеких предметов, то поймет, что я имею в виду, гораздо более отчетливо, и для этого ему не понадобится разлагать тела на росу или насыщенные влагой испарения. Кроме того, те маленькие облачка, которые выглядят столь яркими в сумерках и отражают Солнце столь живо, что почти ослепляют нас, принадлежат к тончайшим и наиболее сухим облакам, существующим в атмосфере, в то время как влажные облака кажутся тем темнее, чем большим количеством воды они обременены. Гало и ложные солнца наблюдаются без дождя и влаги в самых тонких и сухих облаках или туманах, какие только существуют в воздухе.
Во-вторых, гладкие и хорошо отполированные поверхности, такие, как поверхности зеркал, действительно сильно отражают солнечный свет столь сильно, что мы едва можем смотреть на них без ущерба для зрения, но верно и то, что отражение происходит и от поверхностей не столь гладких, хотя оно тем слабее, чем хуже полировка. Вы, Ваша милость, можете своими глазами видеть, следует ли отнести комету по ее блеску к таким светилам, которые слепят глаза, или к таким, блеск которых настолько слаб, что едва различим. Судите же сами, требуется ли для производства такого блеска поверхность, напоминающая зеркало, или же гораздо менее гладкая поверхность. Я хотел бы предложить Сарси метод, позволяющий воспроизводить отражение, сходное с отражением кометы»
Возьмите, Ваша милость, очень чистый графин и, держа недалеко от него зажженную свечу, Вы увидите в его поверхности крохотное изображение пламени, очень яркое и почти точечное. Затем наберите на кончик пальца немного любого чуть маслянистого вещества, которое прилипает к стеклу, и нанесите его как можно более тонким слоем в том месте, где Вы видите изображение, отчего поверхность слегка потускнеет. Изображение тотчас же потускнеет. Поверните затем поверхность так, чтобы изображение вышло за пределы маслянистого пятна и только касалось его границы, и проведите пальцем поперек маслянистого пятна. В тот же миг Вы увидите прямой луч, {125} образовавшийся в имитации хвоста кометы, и этот луч: пересечет поперек и под прямым углом след, оставленный Вашим пальцем; если Вы проведете пальцем поперек пятна еще раз, то тот же луч пойдет в другом направлении. Так происходит потому, что кожа на подушечке пальца не гладкая, а испещрена некоторыми извилистыми линиями, позволяющими нам на ощупь различать самые малые расстояния в осязаемых вещах, и при движении пальца по маслянистой поверхности эти линии оставляют тончайшие следы, от краев которых и происходит отражение света. А так как их много и расположены они регулярно, эти следы образуют световую полосу, в голове которой, повернув стекло, можно поместить изображение пламени в незамасленной части поверхности.
Голова будет казаться ярче, чем хвост, а хвост будет иметь несколько меньший блеск.
Тот же эффект можно наблюдать и в том случае, если стекло не замаслено, а запотело от дыхания. Если Вам случится предложить это небольшое развлечение Сарси и он вздумает протестовать, вдаваясь в различные детали и подробности, то прошу Вашу милость сообщить ему, что я отнюдь не хочу сказать этим, будто в небе имеется огромный графин, на поверхность которого кто-то пальцем наносит жирное пятно, и будто именно так образуется комета; я привожу этот пример (как мог бы привести другие, возможно, что существуют и такие, которых нет у нас даже в помыслах) лишь для того, чтобы продемонстрировать, сколь неисчерпаемо разнообразна природа, когда она порождает эффекты.
В-третьих, я не считаю верным утверждение ни о том, будто отражения и преломления возможны только в метеорологических материях и формах, которым свойственно содержать много воды (ибо только у них поверхности гладкие и полированные), ни о том, будто таковы необходимые условия, порождающие подобные эффекты. Относительно необходимости полировки я хочу заметить, что и без нее неискаженные и четкие отражения изображений все равно происходили бы. Я говорю так потому, что изображение может оказаться изломанным и размытым, если вся поверхность сколь угодно груба и неровна; ибо изображение цветной ткани, столь четко видимое в зеркале перед ней, становится размытым и искаженным, будучи отброшено на стену, на которой можно различить только некий оттенок цвета ткани. {126}
Но если Ваша милость возьмет камень или деревянную линейку недостаточно гладкие для того, чтобы отбрасывать непосредственно изображения, и поднесет под косым углом к глазу, как бы желая проверить, плоская ли она и прямая, то Вы отчетливо увидите на пей изображения предметов, поднесенных достаточно близко к другому концу линейки, причем столь отчетливо, что, будь это рукопись, Вы могли бы с легкостью прочитать ее. А если Вы приблизите глаз вплотную к концу какой-нибудь очень длинной прямой стены, то первое, что Вы увидите, это марево испарений, струящихся в небо, в особенности когда стена освещена Солнцем,— тогда все предметы видны сквозь испарения как бы дрожащими. Если Вы попросите кого-нибудь медленно подойти к другому концу [стены], то увидите, что, когда этот человек вплотную приблизится к ней, его изображение выступит навстречу ему из поднимающихся испарений, которые отнюдь не влажны и не тяжелы, а, наоборот, чрезвычайно сухи и легки. Но и это еще не все. Разве Сарси не доводилось слышать все эти разговоры, исходившие главным образом от Тихо, о преломлениях, происходящих в испарениях и парах, окружающих Землю, даже когда воздух совершенно спокоен, сух и далек от всякого дождя и любой влаги? Ему [Сарси] нет надобности ссылаться передо мной, как он делает, на авторитет Аристотеля и всех учителей перспективы, ибо этим он лишь провозглашает меня более дотошным и тщательным наблюдателем, чем все они, т. е. совершает нечто такое, что, насколько я могу судить, диаметрально противоположно его намерениям. Вот и все, что я хотел бы возразить в ответ на первый аргумент Сарси. Переходим к его второму аргументу.
XXII
(2-й аргумент.) Возможно, кто-нибудь отважится тем не менее утверждать, будто не существует причины, по которой водяные и плотные пары не могут уноситься вверх какой-то силой, и будто преломление и отражение кометы происходит от этих паров. Никакой другой выход не представляется Галилею возможным, хотя на основании длительного опыта было обнаружено, что, чем более разрежены тела, тем более они прозрачны и тем слабее они светятся, по крайней мере если смотреть на них извне; чем сильнее светятся тела, тем они плотнее и менее прозрачны. А поскольку комета сверкает столь {127} ярко, что превосходит своим блеском даже звезды первой величины и сами планеты, ее материя должна быть очень плотной и в какой-то своей части непрозрачной, ибо мы в то же время видим сияние очень тонкое, скорее отливающее белым, нежели сверкающее и переливающееся лучами. Но если эти туманные испарения столь плотны, что возвращают нам довольно много и довольно яркого света, и если они, как того желает Галилей, занимают значительную часть неба, то каким образом звезды, мерцающие сквозь эти пары, не претерпевают обычной рефракции и не кажутся меньше или больше, чем обычно? Так как к тому времени нами были измерены весьма точно расстояния между звездами во все стороны от кометы, мы обнаружили, что эти расстояния ничем не отличаются от измеренных Тихо. Однако опыт научил нас, а Вителлий85 и Альгазен86 отмечали в своих трудах, что величины звезд и расстояния между ними изменяются, если их наблюдать сквозь такого рода испарения. Отсюда с необходимостью следует вывод: либо эти испарения настолько тонки и разрежены, что свет звезд беспрепятственно проходит сквозь них (хотя эти пары, как уже доказано, малопригодны для того, чтобы порождать свет кометы за счет преломления солнечного света), либо, что гораздо ближе к истине, они не существуют.
Многое следует рассмотреть в этом аргументе такого, что, на мой взгляд, существенно подрывает его.
Во-первых, ни синьор Марио, ни я не заходили так далеко, чтобы утверждать, будто водяные и плотные пары увлекаются вверх, дабы породить комету; следовательно, все возражения, основанные на неосуществимости этой идеи, падают наземь и разбиваются в прах.
Во-вторых, я считаю совершенно неверным утверждение, будто тела кажутся тем менее яркими, чем они разреженнее и прозрачнее, и тем более яркими, чем они непрозрачнее, хотя, по словам Сарси, оно якобы основано на длительном опыте его наблюдений. В этом меня убеждает одно-единственное наблюдение — облако, светившееся так ярко, как если бы оно было горой из чистого мрамора, хотя материя облака была несколько тоньше и более прозрачна, чем субстанция горы. Поэтому я не усматриваю непреложности в утверждении Сарси относительно того, будто материя кометы плотнее и менее прозрачна, чем материя планет, а он утверждает именно это, если я верно истолковал смысл его слов. Более того, {128} я отнюдь не считаю очевидным, что комета своим блеском превосходит звезды первой величины и планеты. Но даже если это так, какой смысл ссылаться на плотность материи, когда мы видим, что сумеречная мгла сияет иной раз ярче звезд и кометы? А золотое облачко, сверкающее во сто крат ярче?
В-третьих, даже если предположить, что комета рождается в толстом слое плотных испарений, ниоткуда не следует, будто из-за преломления в этих испарениях будет наблюдаться значительное расхождение в расстояниях между звездами, как того требует Сарси. Но подобное утверждение не согласуется с измерениями Тихо, который не наблюдал никакого расхождения, хотя производил измерения с большой точностью. Должен признаться, что меня особенно настораживают два обстоятельства.
Во-первых, я не могу никоим образом поверить тому, что говорит Сарси, не выразив при этом недоверие его учителю, ибо один из них утверждает, будто с высокой точностью измерил расстояния между звездами, в то время как другой находит для себя необычайно остроумное оправдание за то, что не произвел наблюдений с надлежащей точностью, ссылаясь на отсутствие столь больших и точных инструментов, как у Тихо. Более того, он даже надеется, что по этой же причине другим также не будет дела до его инструментальных наблюдений.
Во-вторых, я не в силах изыскать способ, который позволил бы мне с подобающей скромностью и сдержанностью поделиться с Вашей милостью одним небезосновательным опасением: я очень боюсь, что синьор Сарси не представляет себе вполне отчетливо, ни что такое преломление, ни где оно происходит, ни как оно порождает свои эффекты. Прошу Вас поэтому, улучив подходящее время, сообщить ему (ибо я знаю, что Вы сделаете это необычайно тактично), что лучи, попадающие от предмета в глаз под прямыми углами к поверхности прозрачного материала, в котором должно происходить преломление, вообще не преломляются; у них нет преломления, а так как звезды вблизи зенита посылают нам свои лучи перпендикулярно сферической поверхности испарений, окутывающих Землю, то эти лучи не испытывают преломления. Но по мере того как они все более склоняются к горизонту и, следовательно, все более косо пересекают указанную поверхность, они преломляются все сильнее и показывают положение звезд со все большей погрешностью. Сообщите ему также, что поскольку {129} граница этого материала проходит не очень высоко, ибо сфера испарении ненамного больше земного шара, на поверхности которого мы находимся, то падение лучей, исходящих из точек вблизи горизонта, происходит почти по касательной. Наклон становится все круче по мере того, как поднимается поверхность испарений, и если бы она проходила на расстоянии многих земных радиусов, то лучи, приходящие к нам из любой точки неба, пересекали бы указанную поверхность под углом, мало отличающимся от прямого, и вели бы себя так, как если бы стремились к центру сферы, т. е. были бы перпендикулярны поверхности.
Поскольку Сарси помещает комету очень высоко над Луной, в испарениях, простирающихся на такую высоту, не должно происходить сколько-нибудь ощутимого преломления, а это, в свою очередь, означает, что не должно быть заметной разницы в расположении неподвижных звезд. Следовательно, Сарси нет нужды истончать испарения, дабы объяснить отсутствие преломления, тем более до такой степени, чтобы полностью исключить его. Другие впадали в ту же ошибку, полагая, будто им удалось доказать, что небесная субстанция неотличима по своим свойствам от окружающей нас земной субстанции и что первая субстанция не может быть распределена по множеству сфер, ибо в противном случае от преломления в столь многочисленных прозрачных субстанциях видимые положения звезд претерпели бы заметные изменения. Этот аргумент праздный, так как, даже если бы все сферы были из различных прозрачных материй, их размеры исключали бы всякое преломление для наших глаз, находящихся в самом центре всех сфер.
XXIII
Перейдем к третьему аргументу.
(3-й аргумент.) Галилей утверждает также, что материя кометы не отличается от материи тех малых тел, которые движутся вокруг Солнца в повторяющемся круговращении и обычно называются солнечными пятнами. Я не согласен с этим, но хотел бы особо добавить, что в то время, когда была видна комета, на Солнце в течение целого месяца не наблюдалось ни одного пятна и впоследствии возмущения такого рода наблюдались на Солнце лишь изредка. Не случайно поэт, описывая появление кометы, прибег к такому образу; Солнце в те дни {130} умыло свой ослепительный лик чище, чем обычно, и остатки пролитой воды, рассеявшись по небу, образовали комету, после чего само Солнце изумилось, что его грязь сверкает ярче звезд. Но к чему я даже теперь привлекаю поэтические безделицы? Дабы вернуться к моим рассуждениям, предположим, что материя кометы и, да позволено мне будет так выразиться, солнечной оспы одна и та же; а поскольку эта материя, прежде чем она породит комету, уносится ввысь всегда с помощью прямолинейного движения по перпендикуляру к поверхности Земли, что вынуждает ее потом изменить направление движения и гонит вокруг Солнца по орбите, заставляя проходить по лику Солнца с теми пятнами и обращаться по одному и тому же пути вдоль линий, параллельных эклиптике? Ибо если природа легких тел проявлялась бы в их способности уноситься ввысь, то почему одни и те же испарения то увлекаются вверх, то обращаются по орбите, подчиняясь столь определенным законам?
Возможно, кто-нибудь скажет, что вся сила таких испарений неизменно направлена по прямой без малейших извивов, но там, где прямая подходит очень близко к Солнцу, они уступают естественной наклонности и движутся далее, повинуясь царской власти владыки. Я удивлен поэтому, что остальные тела из той же неизменной материи столь жадно обращаются вокруг Солнца, в то время как комета, рожденная в непосредственной близости от Солнца, вопреки своей наклонности отклоняется на* максимальное удаление от Солнца и предпочитает исчезнуть в темном месте посреди замерзшей Большой Медведицы, нежели покрыть тьмой само Солнце, хотя это было бы вполне возможно, если бы она закрыла от нас солнечные лучи своим телом. Но это вопросы скорее физические, чем математические.
Сарси продолжает, как уже отмечалось, строить произвольные заключения и приписывать их синьору Марио и мне, дабы затем опровергнуть их и тем самым выставить нас авторами абсурдных и ложных утверждений. Синьор Марио говорит о северном сиянии, дабы показать, что тончайшие разреженные материи могут подниматься очень высоко над Землей, но Сарси делает вид, будто синьор Марио считает, что комета состоит из той же материи. Не довольствуясь этим, поскольку сам он придерживается того мнения, что отражение света не может происходить ни в каких метеорологических материях, за исключением влажных и насыщенных водой, он [Сарси] {131} приписывает чуть дальше синьору Марио и мне утверждение, будто водяные и тяжелые пары, поднимаясь в небо, образуют комету. Пусть будет, как он того желает: мы действительно утверждали, что материя кометы и солнечных пятен одна и та же, о чем синьор Марио упомянул только для того, чтобы объяснить, почему, по его мнению, некоторые материи могут порождаться, приходить в движение и исчезать среди небесной субстанции, а отнюдь не для того, чтобы утверждать, будто из этих материй образуются кометы. Вы, Ваша светлость, можете сами убедиться, что мой недавний протест не был полностью безосновательным или неуместным, когда я решительно отверг идею о том, будто комета образовалась на гигантском графине, покрытом жирными пятнами.
<Прежде всего для того, чтобы ответить на все упреки и возражения, замечу, что Сарси не следовало бы так часто упрекать нас за отвращение, якобы питаемое нами к поэзии, ибо, как я уже сказал, мы отнюдь не питаем к ней отвращения. Наоборот, от нас не укрылось, что из-за тесного переплетения всех искусств не только философу позволительно иной раз вставлять в свои трактаты поэтические вымыслы, как это делали Платон и другие, но и поэту позволительно уснащать свои поэмы научными размышлениями, как это делал из наших древних поэтов Данте в своей «Божественной комедии», а из новых благородный Стиглиани87 в своем «Новом мире». Возвращаясь к нашему диспуту, замечу>88, что я никогда не утверждал, будто кометы и солнечные пятна состоят из одной и той же материи. Однако я со всей определенностью сознаю, что, если бы не опасение столкнуться с более сильной оппозицией, нежели та, которую оказывает здесь Сарси, я, не колеблясь, высказал бы подобное утверждение и, смею думать, смог бы его отстоять.
Сарси усматривает глубокое противоречие в способности тонкой материи подниматься по прямой к телу Солнца и по прибытии на место вовлекаться во вращение. Но почему он отказывается простить подобное допущение синьору Марио, а также Аристотелю и всей его школе, считавшим, что огонь возносится по прямой до лунной орбиты, где его прямолинейное движение преобразуется в круговое? Как может Сарси отрицать, что кусок дерева, брошенный с высокого берега в быструю реку, будет подхвачен потоком, который понесет его вокруг земного шара, как только коснется воды? Нельзя не признать, однако, что другое возражение [Сарси] ближе к {132} истине; я имею в виду его замечание о том, что, в то время как все остальные материи страстно жаждут объять Солнце, комета улетает прочь, уносясь на север. Это возражение, как я уже сказал, было бы еще более ограничительным, если бы он [Сарси] незадолго до того сам не ослабил его узы, когда, живописуя, как Аполлон умывает свое прекрасное лицо и выплескивает воду, из которой должна родиться комета, сообщил нам, что, по его мнению, материя солнечных пятен покидает Солнце и не возвращается назад.
XXIV
Выслушаем теперь его четвертый аргумент.
(4-й аргумент.) Теперь я перехожу к оптическим причинам, посредством которых удалось гораздо более убедительно доказать, что комета никогда не была бестелесным видением и не бродила, подобно призраку, среди ночных теней, а выставляла себя на всеобщее обозрение в одном месте и всегда имела один и тот же вид. Ибо, каковы бы ни были те объекты, которые вследствие преломления света могут казаться более реальными, чем они являются в действительности, например радуги, короны и тому подобные явления, они всегда образуются по некоторому закону, а поскольку они существуют от света светящегося тела, куда бы ни был направлен этот свет, они следуют за ним в покорном и согласованном движении. Так, радуга IHL с Солнцем на горизонте А [рис. 3] имеет вершину на полуокружности в Н; если Солнце поднимется из А в D [рис. 4], то радуга опустится в противоположном направлении и вершина Н ее дуги склонится к горизонту; чем выше поднимется Солнце, тем ниже опустится вершина Н радуги. Отсюда ясно, что одна и та же радуга всегда движется в том направлении, в каком перемещается Солнце. То же явление наблюдается и у гало, корон и ложных солнц, ибо когда все они окружают светящееся тело, от которого они отстоят на определенное расстояние, то всегда перемещаются в соответствии с направлением его движения. То же самое можно ясно понять и в случае светящегося изображения, которое заходящее Солнце имеет обыкновение запечатлевать на поверхности моря и рек: чем дальше уходит от нас Солнце, тем дальше уносится от нас изображение, до тех пор, пока Солнце не скрывается за горизонтом, после чего изображение исчезает.
| {133} |
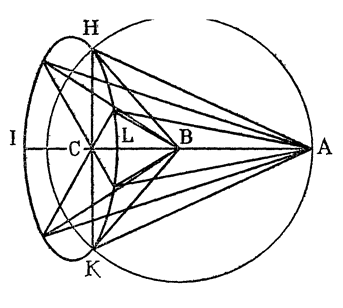 |
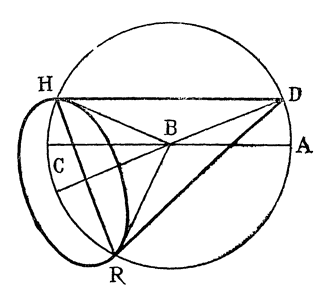 |
Рис. 3 |
Рис. 4 |
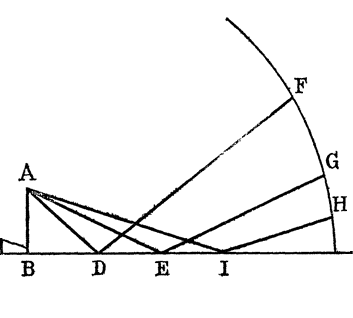 |
Рис. 5 |
Предположим, что поверхность моря, видимая в BI [рис. 5], лишь неотличимо мало отличается от плоской поверхности; глаз находится на берегу в точке А, а Солнце сначала — в точке F; пусть радиусы FD и DA, проведенные в точку D, составляют равные узлы ADB и FDE — углы падения и отражения в точке D; следовательно, солнечный свет виден в D. Предположим теперь, что Солнце склонилось в точку G; так же как и раньше, проведем две линии — G от Солнца и А от глаза, образующие равные углы падения и отражения е прямой BE. Ясно, что эти прямые не имеют общих точек нигде, кроме точки Е; следовательно, солнечный свет виден в точке Е. Когда Солнце спустится еще ниже и перейдет е точку Н, свет по той же причине будет виден в точке L. В противоположной последовательности события развертываются, когда на воду падает свет от восходящего Солнца, ибо в этом случае, по мере того как Солнце все ближе подходит к вершине, свет все более приближается к наблюдателю, достигая сначала, например, точки I, затем точки Е, а за ней точки D. Отсюда, как нетрудно понять, следует, что эти видения всегда перемещаются в том же направлении, в каком {134} движется светящийся объект, который их порождает и увлекает за собой.
Если комета порождена солнечным светом, то она, несомненно, должна следовать за движением Солнца; если же она не следует за Солнцем, то ее нельзя причислять к световым иллюзиям. Я утверждаю, что ничего подобного в случае кометы не наблюдалось, ибо в первый день, когда она стала видна, т. е. двадцать девятого ноября, Солнце находилось под 6°43' в Стрельце и двигалось к Козерогу, а в последующие дни, вплоть до двадцать второго декабря, оно день за днем опускалось в кульминации все ниже. Если проследить за этим движением, то окажется, что Солнце смещалось все более и более к югу от экватора; следовательно, если бы комета была разновидностью преломленного и отраженного света, то она также должна была бы перемещаться к югу; она же, наоборот, двигалась на север. Возможно, этим она возвестила о своей свободе Галилею и продемонстрировала, что имеет е Солнцем не больше общего, чем человек, совершающий прогулку при солнечном свете, но выбирающий, куда ему идти, всецело по своему усмотрению.
Если кто-нибудь вздумает в этой связи предложить иной закон отражения или преломления, отличный от приведенного выше, то мне неизвестно, на основании каких оккультных признаков этот закон надлежит приписывать комете, но по крайней мере одно правило должно соблюдаться неукоснительно: коль скоро закон движения введен, в дальнейшем он должен сохраняться без каких бы то ни было изменений. Если это обстоятельство понятно, закон движения может быть каким угодно. Комета могла бы приводиться в движение не движением Солнца, а противоположным движением комет так, что, когда последние движутся на юг, первая улетает на север; таким образом, когда Солнце возвращается на север, эти кометы по той же причине должны переместиться на юг. Следовательно, с двадцать второго декабря, т. е. со дня зимнего солнцестояния, Солнце снова устремилось на юг и наша комета должна была бы повернуть на юг, откуда начался ее путь; она же все время двигалась только на север. Отсюда нетрудно понять, что траектория кометы не имела никакого отношения к движению Солнца, поскольку независимо от того, двигалось ли Солнце в том или в этом направлении, комета продолжала следовать тем путем, на который вступила с самого начала. {135}
Мы уже успели убедиться в том, сколь значимы последние три аргумента, и я полагаю, что даже Сарси ставит их невысоко, ибо аргументы, заимствованные из физики (как он предпочитает называть аргументы, почерпнутые из оптических явлений), он считает несравненно более доказательными и убедительными, нежели все, что им предшествовало; об этом ясно свидетельствует то обстоятельство, что он [Сарси] остался неудовлетворенным аргументами, заимствованными у природы. Ему следовало бы поразмыслить над доказательностью приводимых им доводов и принять во внимание, что тому, кто желает убедить других в чем-то если не ложном, то по крайней мере весьма сомнительном, весьма полезно воспользоваться правдоподобными аргументами, догадками, примерами, аналогиями и прочими софизмами, укрепить свои позиции безупречными текстами и укрыться за авторитетом других философов, ученых, риториков и историков. Всецело полагаться на строгость геометрических доказательств — слишком опасный эксперимент для того, кто не вполне владеет ими, ибо, подобно тому как в физических явлениях не существует среднего между истиной и ложью, в строгих доказательствах каждый тезис должен быть либо установлен со всей полнотой, исключающей всякие сомнения, либо признан необоснованным, и нет ни малейших шансов выстоять, вводя различного рода ограничения и тонкие различия или прибегая к словесным ухищрениям и тому подобной пиротехнике; доказательство должно быть немногословным: первый натиск — и ты либо кесарь, либо никто. Геометрическая строгость позволит мне более кратко и менее утомительно для Вашей милости распутать все последующие доказательства, которые я назову оптическими или геометрическими, главным образом дабы умиротворить Сарси, ибо я нахожу в них или в его чертежах немало перспективы, или геометрии.
Как Вы, Ваша милость, должно быть, заметили, в своем четвертом аргументе Сарси пытается доказать, что комета не принадлежит к числу бесплотных видений или миражей, порождаемых отражением и преломлением солнечных лучей посредством определенного отношения, существующего между кометой и Солнцем, ибо это отношение к Солнцу отличается от отношений, присущих объектам, относительно которых заведомо известно, что они представляют собой не более чем обман зрения,— радугам, гало, ложным солнцам и бликам на поверхности {136} моря. Все они, по утверждению Сарси, движутся вслед за Солнцем, т. е. всегда перемещаются в том же направлении, что и Солнце.
Что же касается кометы, то она движется иначе. Следовательно, делает вывод Сарси, комета не может быть иллюзией зрения.
В ответ на подобное заключение уместно заметить, что комета отнюдь не должна вести себя, как гало, радуги и все прочие обманчивые явления, ибо она отличается
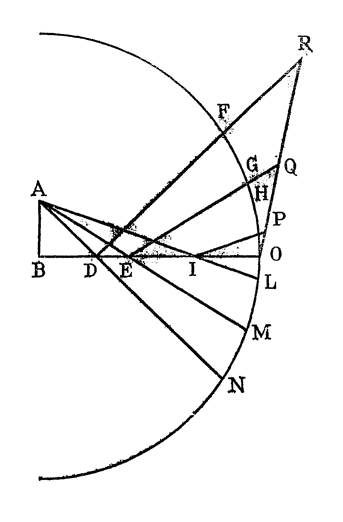 |
Рис. 6 |
Обратимся поэтому, Ваша милость, к третьему чертежу Сарси*, на котором показана аналогия между кометой и отражением Солнца от поверхности моря. Когда Солнце находится в точке Н [рис. 6], глаз видит его изображение в точке А вдоль прямой АI; когда Солнце поднимется в точку G, глаз увидит его изображение вдоль прямой АЕ; а когда Солнце достигнет точки F, глаз увидит его изображение вдоль прямой AD. Поскольку мы наблюдаем, как Солнце движется в небе по дуге HGF, нам остается установить, в каком направлении будет двигаться (с нашей точки зрения) относительно неба изображение Солнца. Для этого необходимо провести дугу FGHLMN и продлить линии AI, АЕ и AD до точек L, М и N. Далее мы рассуждаем так: если бы Солнце находилось в точке Я, его изображение было бы видно вдоль прямой АI, что соответствует точке L на небе; если бы Солнце поднялось в точку G, его изображение стало бы видно вдоль прямой АЕ и как бы появилось на небе в точке М; наконец, если бы Солнце достигло точки F, то его изображение появилось бы в точке N. Следовательно, когда Солнце движется из точки H в точку F, нам кажется, что его изображение движется из точки L в точку N. Но это кажущееся движение происходит против Солнца, а не по Солнцу, как полагаешь ты, синьор Сарси, или, точнее, пытаешься уверить в этом других.
Я говорю так, Ваша милость, ибо не могу поверить, что он [Сарси] способен запутаться в столь очевидных вещах. Кроме того, пытаясь пояснить ход своих рассуждений, он, как мы видели, прибегает к весьма неудачным и необычным оборотам речи, ибо ему надобно подогнать под свои утверждения нечто такое, что плохо поддается подгонке, ибо его рассуждения не содержат в себе решительно ничего». Например, он замечает, что, когда Солнце переведет из точки Н в точку G и из точки G в точку F, его изображение переходит из точки I в точку Е и из точки Е в точку D. Перемещение изображения по пути IED наблюдается в действительности и означает, что изображение приближаемся к глазу, расположенному в точке A, а так как Сарси необходимо, чтобы изображение и Солнце двигались в одну и ту же сторону, он попросту {138} заявляет, будто движение Солнца по дуге HGF есть не что иное, как приближение к точке А, а восхождение к зениту —не что иное, как приближение к центру! Более того, он делает вид, будто не замечает еще одну вопиющую нелепость, которую допускает, утверждая, что изображения воспроизводят движения реальных тел. Если бы это было так, то было бы верно и обратное утверждение, т. е. реальные предметы воспроизводили бы [движение] изображения; судите же, Ваша милость, что воспоследовало бы из этого.
Из конца О диаметра проведем прямую OR, лежащую вне круга и образующую некоторый угол с ВО, и проведем прямые DF, EG и IH до пересечения с OR в точках R, Q и Р. Ясно, что если реальный объект двигался бы по прямой PQR, то его изображение двигалось бы по прямой IED, и так как это означало бы приближение к глазу в точке A, а, по Сарси, изображение воспроизводит движение объекта, то объект, двигаясь из точки Р в точку R, должен был бы приближаться к точке А. В действительности же он удаляется от нее, и мы приходим к противоречию.
Заметьте также, что, когда Сарси рассматривает здесь отношение между реальным объектом и его изображением, он предполагает, что материя, в которой должно сформироваться изображение, остается неподвижной и движется только объект; ибо если бы он [Сарси] считал, что материя также движется, то проистекли бы различные следствия относительно того, как выглядит изображение. Таким образом, из того, что Сарси добавляет относительно невозвращения кометы после возвращения Солнца, нельзя извлечь никаких выводов, не условившись предварительно относительно того, движется или покоится материя, в которой рождается комета.
XXV
Перехожу к пятому аргументу.
(5-й аргумент.) Кроме того, если бы комета была из числа иллюзорных изображений, то ее можно было бы наблюдать только под некоторым вполне определенным углом; именно так обстоит дело в случае радуги, гало, короны и других явлений того же рода. В этом отношении Галилею следовало бы помнить о том, что, по его утверждению, небесное пространство, занимаемое испарениями, весьма обширно; а если это так, то я утверждаю, что комета {139} должна была бы наблюдаться в виде окружности или дуги окружности. Действительно, рассуждать можно следующим образом. То, что наблюдаемо под некоторым вполне определенным углом, видно в том месте, где образуется этот некоторый вполне определенный угол, и, коль скоро такие места заданы в нескольких точках окружности, этот некоторый вполне определенный угол задан; таким образом, комета будет видна в нескольких местах,
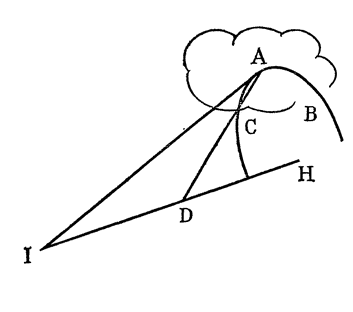 |
Рис. 7 |
Пусть Солнце находится за горизонтом в точке I, [рис. 7], туманные испарения — в окрестности точки А, сама комета появляется, например, в точке А, а глаз расположен в точке D; пусть те же испарения занимают и другие части пространства, примыкающие к окрестности точки А, как совершенно произвольно утверждает Галилей, Предположим, что через центр Солнца I и через центр в точке D проведена прямая; радиусы IA и DA, проведенные из точек I и D в точку А, где находится планета, образуют треугольник IAD; следовательно, угол IAD и есть тот самый некоторый вполне определенный угол, при котором мы вновь обретаем способность видеть комету.
Представим себе, что треугольник IAD вращается вокруг оси IDH; вершина А опишет при этом дугу окружности, на которой прямые лучи Солнца IA и отраженные лучи AD образуют один и тот же угол IAD. Но, когда вершина А описывает окружность, многие точки этой окружности соприкасаются с рассеянными испарениями и во всех этих точках угол [между радиусами IA и DA] будет тем самым некоторым вполне определенным углом, при котором планета становится видимой; следовательно, на всей дуге ВАС окружности, соприкасающейся с испарениями, планета видна по той самой причине, по которой радуги и короны во влажных облаках возникают в форме либо окружностей, либо дуг окружностей. А поскольку {140} ничего подобного в случае кометы не наблюдается, ее не следует относить к числу иллюзорных явлений, ибо она ничем не схожа с ними.
Я не перестаю изумляться и, более того, изумляюсь все сильнее при виде того, сколь часто Сарси не желает видеть то, что лежит у него прямо перед глазами, быть может, в надежде вызвать у других уже не притворную, а самую настоящую слепоту. Теперь он жаждет доказать с помощью своего аргумента, что если бы комета была иллюзией зрения, то мы наблюдали бы ее в виде либо окружности, либо дуги окружности, ибо именно такую форму принимают радуги, гало, короны и различные другие призрачные видения. Не знаю, как он может утверждать нечто подобное после того, как ему сто раз напоминали о солнечных бликах на поверхности моря, а также о лучах, которые прорываются сквозь разрывы в облаках и кажутся прямыми полосами, очень похожими на комету. Может быть, он убедил себя в том, что его утверждение относительно кометы находит убедительное доказательство в приводимых им оптических явлениях, вызывающих у меня большие сомнения. Если я не ошибаюсь, его рассуждения неполны и ему недостает весьма существенной части данных (что нельзя не считать серьезным логическим пробелом), а именно сведений о пространственном расположении относительно глаза той материальной поверхности, от которой должно происходить отражение. Это обстоятельство никогда не привлекало к себе внимание Сарси, чему я не могу найти никакого более мягкого оправдания, нежели предположить, что оно просто ускользнуло от него; ибо если бы он заметил указанное обстоятельство и умышленно умолчал об этом, дабы держать своих читателей в неведении, то вина его была бы несравненно тяжелее.
Между тем все дело сводится именно к рассмотрению того, как расположена отражающая материальная поверхность относительно глаза. Доказательство Сарси совершенно несостоятельно, за исключением того случая, когда поверхность испарений, окружающих на его чертеже [см. рис. 7] точку А, находится прямо против глаза в точке D, так что ось IDH перпендикулярна плоскости, в которой простирается эта поверхность. Действительно, в этом случае при вращении треугольника IDA вокруг оси III вершина А описывает окружность. Но если бы указанная поверхность располагалась под косым углом к лучу зрения, то угол А касался бы ее только в одной точке и при {141} повороте треугольника тот же угол А оказался бы либо за этой поверхностью, либо перед ней. Таким образом, дабы комета была окружностью или дугой окружности, поверхность, на которой она зарождается, должна быть плоской и располагаться под прямым углом к прямой, проходящей через глаз и Солнце. Такая конфигурация возможна только при диаметральном противостоянии или при прямолинейном соединении испарений и Солнца; и действительно, радуги всегда наблюдаются в противостоянии, а гало или короны — в соединении с Солнцем в виде окружностей или дуг окружностей; но кометы, насколько мне известно, никогда не наблюдались ни в противостоянии, ни в соединении с Солнцем. Если бы при обдумывании этого доказательства Сарси представил себе, будто материя, распределенная им вокруг точки А, представляет собой не испарения, а морскую воду, то ему стало бы ясно, что, рассуждая точно таким же способом и повторяя все слово в слово, можно доказать, что блики на поверхности моря должны были бы выстраиваться в окружность. Но, поскольку его собственные органы чувств открыли бы ему иную картину, это помогло бы ему обнаружить ошибку в своем силлогизме.
XXVI
Выслушаем теперь шестой аргумент.
(6-й аргумент.) Я считаю, что сказанное выше подтверждается словами самого Галилея, ибо, по его утверждению, такого рода призраки и бесплотные видения подчиняются тому же закону в отношении параллакса, которому подчиняются порождающие их светящиеся тела; следовательно, если бы какое-то из видений было порождено Луной, то оно имело бы такой же параллакс, как Луна, а видения, порожденные Солнцем, изменяли бы erne положение так же, как Солнце. Кроме того, он [Галилей] оспаривает мнение Аристотеля и ссылается при этом на параллакс, утверждая: «Наконец, совершенно невозможно придерживаться точки зрения, согласно которой комета есть светило, и вместе с тем помещать ее под Луной вопреки малому параллаксу, измеренному с величайшей тщательностью многими превосходными астрономами». Отсюда я заключаю, что вопреки авторитету Галилея призрачные видения, порождаемые Солнцем, имеют такой же параллакс, как Солнце; но комета не имеет такого параллакса, как Солнце; следовательно, {142} комета не принадлежит к числу бесплотных видений, порождаемых Солнцем. Если кто-нибудь усомнится в малой посылке этого рассуждения, то пусть он сравнит наблюдения Тихо кометы 1577 г. с наблюдениями других. Из своих наблюдений Тихо вывел, что доказанное расстояние до кометы от центра Земли составляло на тринадцатый день ноября всего лишь 211 радиусов Земли, Солнце находилось на расстоянии не менее 1150 радиусов от того же центра, а Луна — на расстоянии 60 радиусов. В нашем случае всякому, кто вникает в наблюдения, напечатанные моим учителем в его «Возражении, изложенном одним из [святых] отцов»89, истинность нашего утверждения станет вполне очевидной, ибо он обнаружит, что параллакс кометы почти всегда больше параллакса Солнца. Галилей также не сомневается в этих наблюдениях, ибо он заявил во всеуслышание, что они были исправлены для астрономических вычислений усилиями величайших астрономов.
Совершенно неверно утверждение, будто синьор Марио или я когда-либо писали или говорили, что порождаемые Солнцем бесплотные призраки имеют такой же параллакс, как Солнце, хотя именно его Сарси провозглашает основой своего силлогизма. Наоборот, синьор Марио, перечислив и рассмотрев множество таких примеров, добавляет: «Поскольку у одних из перечисленных мной иллюзорных видений параллакс ничтожно мал, тогда как у других он ведет себя иначе, нежели параллакс реальных объектов...» Нигде в трактате синьора Марио не утверждается, будто параллакс [иллюзорных видений] такой же, как параллакс Солнца или Луны (исключение составляют только гало); что же касается других видений, в том числе радуг, то их параллакс предполагается другим. Таким образом, первое утверждение силлогизма [Сарси] ложно; выясним теперь, сколь истинно и доказательно второе утверждение, предполагающее, что параллакс всех иллюзорных изображений должен быть равен параллаксу Солнца.
Сарси хочет доказать, ссылаясь, как и подобает, на авторитет Тихо и своего учителя, что параллакс, наблюдавшийся у кометы, больше, чем параллакс Солнца; но затем он воздерживается от рассмотрения точных наблюдений параллакса кометы, произведенных Тихо и многими другими именитыми астрономами, и поэтому не позволяет читателю судить о том, сколь сильно расходятся между собой эти наблюдения. Но какими бы ни были эти наблюдения, они либо верны, либо неверны; если они {143} верны и им можно полностью доверять, то мы с необходимостью приходим к выводу о том, что либо комета одновременно находилась под Солнцем и за ним, даже на самом небосводе, либо, поскольку она представляла собой не вполне определенный реальный объект, а некое расплывчатое бесплотное образование, на нее не распространяются законы, справедливые для вполне определенных реальных предметов. Если же наблюдения неверны, то на них нельзя полагаться и, опираясь на них, нельзя было бы прийти к какому-нибудь заключению. Сам Тихо выбрал из многочисленных, не согласующихся между собой наблюдений те, которые лучше всего соответствовали принятому им априорному решению поместить комету между Солнцем и Венерой, как будто именно эти наблюдения были более надежными.
Другие наблюдения, произведенные учителем Сарси, расходятся настолько, что сам учитель счел их неподходящими для определения местоположения кометы и признал, что они были произведены с помощью неточных инструментов и без учета времени, рефракции и других обстоятельств. Тем самым он избавил других от необходимости придавать им большое значение и ограничился одним-единственным наблюдением, которое не требует инструмента и может быть произведено абсолютно точно с помощью невооруженного глаза; этому наблюдению он и отдал предпочтение перед всеми остальными. Речь идет о точном соединении головы кометы с некоторой неподвижной звездой; это соединение наблюдалось одновременно из различных мест, расположенных далеко друг от друга. Прекрасно, синьор Сарси! Ведь если такое событие происходит, то оно полностью противоречит твоим требованиям, так как из него следует, что параллакс [кометы] равен нулю, в то время как ты ссылаешься на авторитет своего учителя, дабы подкрепить свое утверждение, что этот параллакс якобы больше параллакса Солнца. Теперь ты видишь, что те самые авторы, которых ты призывал в подтверждение своей правоты, свидетельствуют против тебя.
Ты говоришь, будто мы сами признали, что наблюдения великих астрономов самые точные. На это я отвечу, что если бы ты обратил внимание на то, где и когда это было сказано нами, то понял бы, что наблюдения можно было бы назвать «точными», даже если бы они расходились между собой гораздо больше, чем расходятся в действительности. Они назывались бы точными, и их было {144} бы достаточно для опровержения взглядов Аристотеля, даже если бы он считал комету реальным объектом, находящимся очень близко от Земли. Разве ты не знаешь, что, как доказал твой учитель, одно лишь расстояние между Римом и Антверпеном могло бы сообщить реальному объекту, находящемуся в самых высоких слоях воздуха, параллакс, превышающий пятьдесят, шестьдесят, сто или даже сто сорок градусов? А коль скоро это так, то разве нельзя назвать точными и имеющими доказательную силу наблюдения, которые отличаются между собой на несколько минут, а каждое произведено с погрешностью меньше градуса?
XXVII
А теперь, Ваша милость, прочитайте последний аргумент.
(7-й аргумент.) Наконец, не следует упускать из виду еще одно обстоятельство, рассмотренное нами и способное убедить человека, жаждущего истины, больше, нежели перебранка. С объектами, не имеющими определенной устойчивой формы и лишь тешащими глаз обманчивой игрой цвета и света, мы сталкиваемся ежедневно; их жизнь весьма недолговечна, и за отпущенное им очень короткое время они успевают принять различные формы; они то гаснут, то загораются вновь, то блекнут, то начинают сиять ослепительным светом, то распадаются на отдельные части, то воссоединяются, но никогда не сохраняют одну и ту же форму долго. Если все эти объекты сравнить с устойчивым движением кометы и тем, как она выглядит, то станет ясно, сколь многим отличается и по своим свойствам, и по своей природе комета от прочих бесплотных видений того рода, о котором идет речь. Но коль скоро доказано, что комета столь резко отличается во всем от иллюзорных явлений, то почему бы не признать, что между их природой и природой кометы не существует никакого сродства и что комета не имеет к ним никакого отношения? Ибо так утверждали древнейшие и величайшие из философов, равно как и ученейшие мужи нашего времени; и вот находится один человек — Галилей, который противостоит им всем, но, если я не ошибаюсь, истина в данном случае не на стороне Галилея.
Сарси придает последнему аргументу столь большое значение, по-видимому, потому, что полагает, будто для доказательства отстаиваемого им утверждения вполне {145} достаточно только этого аргумента; я же считаю бесполезным убеждать меня в том, будто в образовании иллюзорных видений Солнце играет роль побудительного, а облака или испарения — материального начала. Действительно, поскольку побудительное начало действует непрестанно, то, если нет недостатка в материи, радуги, гало, ложные солнца, равно как и все другие иллюзорные видения, должны были бы наблюдаться непрестанно; но тогда не должно иметь значения, сколько — долго или коротко — длится формирование видения и расположение материи [относительно наблюдателя]. Ничто не разубедит нас в том, что за подлунным миром не может быть какой-нибудь материи, существующей дольше, нежели облака, туманы или дожди, падающие мелкими каплями, равно как и другие земные материи; отражение или преломление солнечного света в такой материи мы наблюдали бы дольше, чем радуги, ложные солнца или гало. Но разве, не покидая подлунного мира, мы не встречаемся постоянно с иллюзорными видениями в северных сияниях, когда солнечные лучи отражаются от испарений, заполняющих часть пространства, и в бликах на поверхности моря? Ведь если бы относительное расположение наблюдателя, Солнца, испарений и поверхности моря всегда оставалось неизменным, то северное сияние или сверкающие блики на воде можно было бы наблюдать постоянно.
Кроме того, основываясь на меньшей или большей продолжительности, нельзя сделать решающий вывод о существенном различии. Даже среди комет, не говоря уже о прочем, одни видны на протяжении девяноста дней п более, тогда как другие бесследно исчезают на третий или четвертый день. А поскольку замечено, что долгоживущие кометы гораздо крупнее других, даже если они только появились, кто знает, может быть, бывают такие кометы (и даже много таких комет), которые живут всего лишь несколько дней или даже часов и остаются незамеченными по причине их малости? Сами кометы вселяют в нас уверенность в том, что там, где они возникают, рождается материя более пригодная к самоподдержанию, нежели наши земные облака или туманы, ибо последние возникают из материи (или в материи), которая, не будучи небесной или вечной, обречена исчезнуть за очень короткое время.
Итак, вопрос о том, является ли то, что возникает в этой материи, не чем иным, как чистым и простым отражением света и, следовательно, бесплотным видением, {146} или чем-то вполне определенным и реальным, остается без ответа. А это означает, что аргумент Сарси лишен доказательной силы и останется таковым до тех нор, покуда Сарси не докажет, что материя, из которой состоит комета, не способна отражать или преломлять свет. Если учесть, что комета просуществовала много дней, то сама продолжительность ее существования более чем убедительно свидетельствует об обратном.
Переходим теперь ко второму вопросу второго взвешивания.
XXVIII
Можно ли объяснить вид кометы
прямолинейным движением
по перпендикуляру к поверхности Земли
Вопрос II
(1-й аргумент.) Перехожу теперь к движению, относительно которого Галилей утверждает, будто оно прямолинейное; я же напрочь отрицаю подобное утверждение. К сему меня побуждает прежде всего причина, по признанию Галилея, ему неведомая, которую он не берется объяснять; между тем причина, о которой идет речь, столь очевидна и столь неоспоримо свидетельствует против прямолинейного движения, что, как бы он [Галилей] ни желал отвергнуть ее, ему не удастся сделать это. У Галилея об этом говорится так: если комете приписать только такое [прямолинейное] движение, то становится непонятным, почему она не только все более приближается к вершине, но и устремляется дальше к полюсу; следовательно, либо это важное открытие надлежит считать несостоявшимся, но я не могу поступить так, либо необходимо ввести еще какое-то движение, чего я не смею сделать. Разве не удивительно, что прямого и отнюдь не робкого человека вдруг охватывает такой страх, что он боится изложить свой аргумент? Но я не из тех, кто наделен пророческим даром, и не берусь предсказывать.
Прежде чем продолжить, я не могу не выразить своего возмущения по поводу совершенно незаслуженного обвинения в лицемерии, возведенного на меня Сарси. Подобное обвинение не имеет под собой ни малейших оснований, ибо, должен признаться откровенно (а говорить иначе я решительно не умею), когда речь заходит о {147} проникновении в тайны природы, я становлюсь совершенно беспристрастным и как бы закрываю глаза на все привходящее. Разумеется, мне бы очень хотелось хотя бы в малой степени познать эти тайны, но ничто не может быть более чуждо такому намерению, чем лицемерие или притворство. Синьор Марио в своем трактате нигде не опускается до притворства, да ему нет и нужды в этом, ибо всякий раз, когда он предлагает нечто новое, [синьор Марио] излагает свои мысли в виде гипотезы и с оговорками. Он отнюдь не пытается убедить других в том, будто доказано то, что он и я считаем спорным или, в лучшем случае, лишь правдоподобным, к чему мы пришли и что предлагаем на суд людей более сведущих, чем мы, дабы с их помощью получить подтверждение правильности одних наших заключений и исключить другие, неверные заключения.
Но, насколько честно и искренне пишет синьор Марио, настолько твои писания, синьор Лотарио, преисполнены притворства. Дабы расчистить путь для своих возражений, ты в девяти случаях из десяти делаешь вид, будто не понимаешь, что утверждает синьор Марио; ты произвольно обращаешься с его текстом, придавая словам Марио совсем не тот смысл, который он в них вкладывал, и нередко вымарываешь одно и вставляешь от себя другое. Читатель, с доверием относясь к тому, что ты излагаешь, отвергая, пребывает в полной уверенности, будто мы нагородили множество нелепостей, которые ты с присущей тебе проницательностью обнаружил и опроверг, Мне и раньше доводилось замечать за Сарси такое, предстоит не раз делать это и впредь.
Но вернемся к существу дела. Что заставляет Сарси утверждать, будто мы потерпели неудачу в главном, к чему якобы стремились более всего, тщась доказать, что комета движется по прямой, между тем как в случае прямолинейного движения она восходила бы прямо в зенит, не отклоняясь ни в одну, ни в другую сторону? От кого тебе [Сарси] стало известно, к чему привела бы гипотеза о прямолинейном движении кометы, как не от самого синьора Марио, упомянувшего о названном выше следствии? Ведь он мог, умолчав об этом, предоставить тебе разбираться в неприемлемости гипотезы о прямолинейном движении, и ты со свойственной тебе любезностью, конечно же, сделал бы вид, будто не обнаружил изъянов в его гипотезе. Но это еще не все. Всего лишь двумя строками выше ты утверждал, будто я наивно признался {148} в своей неспособности доказать (или утратил интерес к доказательству) тот самый аргумент, который я же и выдвинул, и добавил, будто я всеми силами стремился ввести читателя в заблуждение, делая вид, будто мне этот аргумент неведом. Как прикажешь тебя понимать, ведь здесь ты сам себе противоречишь. Человек выдвигает и в простоте душевной печатает некое утверждение, а ты обвиняешь его в том, будто он страстно желает скрыть это утверждение и делает вид, будто и не подозревает о его существовании! Поистине, синьор Лотарио, ты требуешь от читателя большого простодушия и слабого внимания к сути дела.
Посмотрим теперь, нет ли в том самом утверждении, в котором Сарси усматривает обман с нашей стороны, в действительности обмана с его стороны. Такой обман в этом утверждении встречается, и не единожды. Прежде всего Сарси вынуждает меня говорить то, чего я никогда не говорил и не писал, дабы с большей легкостью выставить меня невежественным геометром, который не в силах понять следствий, не требующих для своего доказательства никаких более высоких познаний, кроме нескольких избитых теорем из первой книги Евклида. Когда мы говорим, что если бы комета двигалась прямолинейно, то нам казалось бы, будто она движется к зениту, он приписывает нам утверждение, будто комета непременно достигнет зенита. Сарси должен признаться в этой связи, что он либо не понимает смысла выражения «двигаться к какому-то месту», либо умышленно лжет и вводит в заблуждение, дабы приписать нам ложное утверждение. Не думаю, чтобы первое было возможно, ибо в противном случае Сарси считал бы, что выражения «отплыть к полюсу» или «запустить камнем в небо» якобы означают «достичь полюса» и «забросить камень на небо». А коли так, он [Сарси] просто делает вид, будто не понимает истинного утверждения, которое мы написали, и приписывает нам ложное, дабы иметь удобный случай высказать нам свои непрошеные замечания.
Он [Сарси] неточно цитирует слова синьора Марио еще в одном отношении, ибо там, где тот говорит, что необходимо либо отвергнуть приписываемое комете прямолинейное движение, либо, сохраняя его, указать какую-то другую причину ее видимого уклонения, Сарси произвольно заменяет слова «какую-то другую причину» на «какое-то другое движение», дабы вопреки моему намерению вывести заключение о движении Земли и преподнести {149} нам очередной фейерверк и новую глупость. Утверждая, что он не из тех, кто наделен способностью читать в умах людей, он тем не менее довольно часто стремится постичь внутренний смысл других людей.
XXIX
Продолжим, Ваша милость.
Итак, я спрашиваю, надлежит ли то другое движение, посредством которого он [Галилей] мог бы так хорошо все объяснить и которое не отваживается привести, приписывать комете — испарениям или чему-то другому, чье движение придает видимость движения комете. Я не верю в первое, ибо это нарушило бы движение по прямой [перпендикулярно земной поверхности]; действительно, если бы испарения с суши, лежащей, например, на экваторе, уносились бы ввысь в движении по перпендикуляру, а другое движение сносило бы их на север, то второе движение непременно нарушило бы первое. Но если комета все же перемещается на север, по крайней мере если судить по ее видимому движению, то необходимо сказать, что комета следует движению какого-то другого тела. Когда Галилей говорит, что движение, которым надлежит дополнить прямолинейное, есть единственная причина видимого отклонения кометы, он тем самым со всей определенностью выражает свое согласие с тем, что это движение должно быть помещено где-то еще, помимо кометы испарений. Если это так, то, поскольку ему хотелось бы, чтобы движение кометы в северном направлении было только кажущимся, я решительно не усматриваю, какое тело совершало бы такое движение. Ибо, поскольку Галилей не придерживается небесных орбит Птолемея и в системе Галилея ничего не осталось от небесной тверди, он [Галилей] не может считать, что комета увлекается движением этих орбит, так как, по его мнению, такого движения просто не существует.
Дойдя до этого места, я явственно слышу, как чей-то голос тихо и робко шепчет мне на ухо о движении Земли. Прочь слово, столь несозвучное истине и режущее набожный слух! Его действительно лучше нашептывать пониженным голосом. Но если бы Земля действительно двигалась, то Галилей не усомнился бы провозгласить это, ибо движение Земли считали ложным основанием другие, но не он. Ибо если Земля неподвижна, то прямолинейное движение не согласуется с наблюдениями кометы; но {150} поскольку, среди католиков принято считать достоверно установленным, что Земля неподвижна, следовательно, столь же достоверно установлено, что прямолинейное движение не согласуется с наблюдениями кометы и поэтому непригодно для наших целей. Не думаю, чтобы что-нибудь подобное когда-нибудь приходило на ум Галилею, которого я всегда знал как человека благочестивого и религиозного.
Здесь, как Вы видите, он [Сарси] испытывает некоторые трудности, пытаясь показать, что не существует другого движения, которое, если его приписать комете или любому другому мировому телу, позволило бы подкрепить прямолинейное движение, о котором упоминал синьор Марио, и вместе с тем объяснить видимое отклонение кометы от зенита. Этот аргумент я считаю излишним и бесцельным, так как ни синьор Марио, ни я никогда не писали, будто причина отклонения от зенита зависит от какого-то другого движения, будь то движение Земли, небес или какого-то другого тела. Сарси привел этот аргумент по какой-то своей прихоти, пусть же Сарси сам и отвечает на него. Ему не следовало бы думать, будто другие обязаны отстаивать то, чего они не писали, не говорили и, возможно, даже не думали; не исключено, что Сарси и сам хорошо понимает это, ибо он заявляет во всеуслышание, что, по его мнению, мне и в голову не могла прийти мысль ввести движение Земли, дабы спасти отклонение [кометы] от зенита, ибо он [Сарси] знает меня как человека благочестивого и религиозного. Но если это так, то для чего приводить подобный аргумент? Для того, чтобы попытаться доказать его несоответствие требованиям благочестия и религии? Но пойдем дальше.
XXX
Прочитайте, Ваша милость, следующие строки.
Но если я не ошибаюсь, то единственное движение кометы, которое могла заставить и принудить Галилея рассмотреть нечто такое, что он не понимает и не рискует предлагать, есть движение, совершая которое комета оказывается за нашей вершиной или зенитом ближе к полюсу. Следовательно, если бы комета не заходила за вершину, то Галилею не понадобилось бы рассматривать другое движение, ибо сам он выражает согласие с этим утверждением, когда говорит следующее: если бы не было другого движения, кроме того, которое прямолинейно и {151} происходит по прямой, перпендикулярной [поверхности Земли], то комета восходила бы прямо только до нашей вершины и не двигалась дальше. Следовательно, ни одна комета никогда не поднималась дальше нашей вершины; тем не менее я утверждаю, что траектория кометы может быть объяснена ее прямолинейным движением не только указанным способом.
Пусть ABC — земной шар, В — то место, откуда поднимаются испарения, и А — глаз наблюдателя [рис. 8];
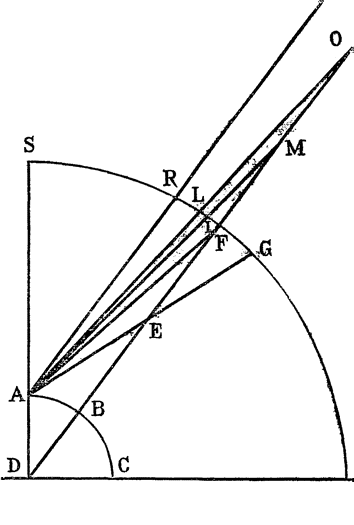 |
Рис. 8 |
Как Вы, Ваша милость, должно быть, заметили, Сарси снова изменяет то, что написано сеньором Марио, делая вид, будто, по утверждению того, движение в направлении, перпендикулярном поверхности Земли, приведет {152} комету в точку зенита; ничего подобного в книге нет, хотя синьор Марио действительно полагает, что такое движение привело бы комету в зенит. По моему мнению, Сарси делает это для того, чтобы создать удобный случай и привести свое геометрическое доказательство, опирающееся на ничуть не более глубокое основание, чем определение параллельных прямых. Из подобного поступка некоторые люди могли бы вывести утверждение не слишком лестное для Сарси, ибо он рассматривает свое утверждение и доказательство этого утверждения либо как необычайно остроумное и недоступное обычным людям, либо как шутку и детскую забаву. Если он считает это детской забавой, то смею его заверить, что ни синьору Марио, ни мне не доводилось скатываться до столь печального состояния вопиющего невежества, чтобы впасть в ошибку из-за незнания простейших геометрических понятий. Если же он считает свое утверждение (и его доказательство) тонким и важным, то я вынужден расценить как печальное его собственное состояние и посоветовать ему снова поступить в ученики к своему учителю. Любой предмет, движущийся перпендикулярно земной поверхности, никогда не достиг бы зенита, не отклонившись от того самого места, где находится наблюдатель, на что Сарси, по-видимому, не обратил внимания, но мы и не утверждали, что предмет попадет в зенит.
XXXI
(3-й аргумент). Кроме того, поскольку Галилей сам признает, что движение кометы сначала кажется быстрее, а затем постепенно замедляется, необходимо выяснить, в какой пропорции происходит такое ослабление движения на прямой. Взглянув на чертеж Галилея [см. рис. 8], мы заметим, что, когда комета находится в точке Е, нам кажется, будто она находится в точке G, а когда комета пролетает соответственно отрезки EF, FM и МО, нам кажется, будто мы наблюдаем ее в точках F, I и L, и движение кометы сильно замедляется, ибо дуга FI едва составляет половину дуги GF, а дуга IL — половину дуги FI и т. д., вследствие чего видимое движение кометы должно ослабевать в той же пропорции.
Следует иметь в виду, однако, что видимое движение кометы замедляется не в указанной пропорции; в первые дни замедление было столь слабым, что заметить его было нелегко, ибо сначала комета перемещалась за день {153} примерно на 3° и даже по прошествии двадцати дней казалось, что ее начальная быстрота не пошла сколько-нибудь заметно на убыль. Вспомним две кометы Тихо — 1577 и 1585 гг. По их движению можно ясно представить себе, сколь далеки они от быстрого замедления. Спроси меня кто-нибудь, сколь велико движение кометы, восходящей по такой прямой, я бы ответил так: если комета
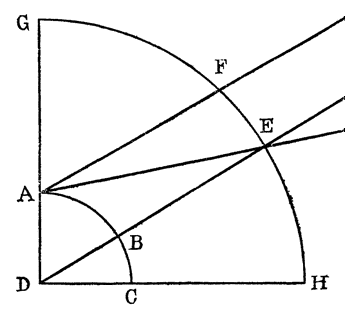 |
Рис. 9 |
Действительно, пусть ABC — земной шар; GFH — дуга, описываемая Луной и отстоящая от центра Земли D, по Птолемею, на 33 радиуса (как установил Тихо, это расстояние вдвое больше, что еще лучше для моих целей); А — место, откуда наблюдается комета, и В — место, откуда поднимаются испарения [рис. 9]. Так как комета была видна в точке Е, я утверждаю, что угол DEA составляет 1°31'; следовательно, если прямая AF проведена параллельно DE, то угол FAE также равен 1°31; как накрест лежащий с углом DAE между одними и теми же параллельными; таким образам, две прямые АЕ и AF высекают на небе дугу в 1°31'. То, что угол DEA на дуге, описываемой Луной, равен 1°31', доказывается следующим образом.
По предположению угол EDA в треугольнике ADE равен 60°, кроме того, сторона AD равна одному радиусу Земли, а сторона DE — 33 радиусам; 34 (сумма сторон AD и DE) относится к 32 (их разности) как 173,205 (тангенс полусуммы двух остальных углов, т. е. 60°) к четвертому числу. Оно, как нетрудно показать, равно 163,016 — тангенсу угла 58°29'; вычитая этот угол из 60°, т. е. из полусуммы двух других углов, мы получаем, что угол DEA, который требовалось найти, равен 1°31' по правилам тригонометрии. {154}
Предыдущее доказательство Сарси вселило в меня надежду, что он по крайней мере держал в руках и, возможно, понял первую книгу «Начал» [Евклида], но то, что он пишет здесь, рождает у меня тяжелые сомнения относительно того, сведущ ли он в математике. С помощью чертежа, построенного им по собственному усмотрению, он пытается установить, сколь быстро убывает скорость, приписываемая комете синьором Марио. Тем самым он прежде всего показывает, что упустил из виду немаловажное обстоятельство: во всех книгах математики в своих доказательствах не используют чертежи в качестве аргументов; в астрономии же в особенности невозможно сохранить на чертежах правильные пропорции между движениями, не говоря уже о расстояниях и размерах небесных орбит, пропорции которых искажаются (безотносительно к той или иной теории) так, что окружность или угол, которые должны быть в тысячу раз больше другой окружности или другого угла, превышают их всего лишь в два или три раза.
Нетрудно видеть и вторую ошибку Сарси; он полагает, будто одно и то же движение должно иметь одни и те же неравенства, откуда бы оно ни наблюдалось и на каких бы расстояниях и высотах ни находилось движущееся тело. Однако истина состоит в том, что если в движении по прямой, перпендикулярной поверхности Земли, мы отмерим четыре равных отрезка, то видимое движение на протяжении четырех отрезков вблизи Земли будет изменяться с гораздо большими неравенствами, чем на протяжении тех же четырех отрезков, расположенных дальше, и в пределе, на очень большом удалении от Земли, те самые неравенства, которые на меньшей высоте были весьма значительными, станут неощутимо малыми. Аналогичным образом видимое движение замедляется по-разному для наблюдателя, находящегося вблизи начала прямой, по которой происходит движение, и вдали от него.
Обнаружив по своему чертежу [см. рис. 8], что дуги GF, FI и IL (соответствующие видимым движениям) убывают быстро, гораздо быстрее, чем следует из наблюдений за кометой, Сарси приходит к убеждению, что первое движение не может быть никоим образом приспособлено ко второму, и не замечает, что скорость видимого движения может убывать со все меньшими неравенствами по мере того, как возрастает высота, на которую поднимается тело. Он отлично знает, что истинные пропорции {155} не выдержаны на его чертеже, хотя то, что они нарушены, не имеет значения. Он убеждает нас в этом, приведя чертеж [см. рис. 9], с помощью которого доказывает, что угол DEA составляет всего лишь полтора градуса, хотя на чертеже этот угол превышает все пятнадцать градусов, а радиус DE орбиты Луны немногим больше трех радиусов Земли DB, хотя, по утверждению Сарси, DE в тридцать три раза больше, чем DB. Уже одно это должно было показать ему, сколь простодушно поступает тот, кто пытается постичь ход рассуждений геометра, измеряя его чертеж циркулем.
Так вот, синьор Лотарио, я утверждаю, что в том же прямолинейном равномерном движении может быть и сильное замедление, и среднее, и малое, крохотное, и едва ощутимое, и если ты хочешь доказать, что ни одно из них не соответствует движению кометы, то тебе придется придумать что-нибудь более хитроумное, нежели судить о размерах непосредственно по чертежу. Смею тебя заверить, Сарси, что такого рода писаниями тебе не снискать восторженных рукоплесканий ни у кого, кроме тех (я не имею здесь в виду ни синьора Марио, ни себя), кто не считает зазорным венчать победой болтуна, говорящего больше всех и оставляющего за собой последнее слово.
Послушаем теперь, Ваша милость, что преподносит нам Сарси под конец. Замечание о малости видимого движения понадобилось ему, как я полагаю, для того, чтобы доказать несвойственность комете столь часто упоминавшегося прямолинейного движения. Я говорю «полагаю», поскольку не уверен в этом до конца, ибо автор после всех доказательств и вычислений не приходит к какому-нибудь определенному заключению. В своем доказательстве он исходит из предположений, что комета при своем первом появлении находилась на расстоянии более тридцати двух земных радиусов от Земли и что наблюдатель располагался в точке, отстоящей на шестьдесят градусов от точки на поверхности Земли, лежащей у основания перпендикуляра, по которому происходит движение кометы. Приняв эти два предположения, он [Сарси] определяет величину видимого движения, которая соответствует на небе углу, едва превышающему полтора градуса, и на этом останавливается, никак не используя свое утверждение и не извлекая из него никаких следствий. Так как сам Сарси не позаботился сделать это, я извлеку из полученного им результата два следствия; первое состоит в том, что Сарси придумал себе некоего читателя-простачка, {156} а второе — в том, что можно извлечь из его результата на самом деле, но отнюдь не по воле случая и не по простоте душевной.
Вот первое: «Суди же сам, о читатель, в чьих ушах еще звучат написанные выше слова (о том, что видимое движение нашей кометы прочертило на небе путь примерно в два десятка градусов), и считай достоверно доказанным, что прямолинейное движение, о котором толкует синьор Марио, ничуть не помогает ему, ибо позволяет комете описать дугу всего лишь в полтора градуса, и то с трудом». Ясно, что такое заключение рассчитано на простодушных, но всякий, кто владеет цветком натуральной логики, выведет из посылок Сарси заключение, которое из них следует, построив такой силлогизм: «В предположении, что комета в момент своего первого появления находилась на высоте тридцати двух радиусов от Земли и что наблюдатель находился в шестидесяти градусах от линии ее движения, величина видимого движения кометы не могла бы превышать полутора градусов; в действительности же эта величина превышала два десятка градусов; следовательно (и тут я привожу правильное заключение), в момент своего первого появления наша комета не находилась на высоте тридцати двух радиусов от Земли, а наблюдатель не отстоял на шестьдесят градусов от линии движения кометы».
Пусть Сарси честно воспримет это заключение, не оставляющее камня на камне от тех допущений, на которых он строит свои рассуждения. Его силлогизм имеет еще один серьезный изъян, ибо неприменим против синьора Марио. Дело в том, что синьор Марио открыто написал о недостаточности простого прямолинейного движения для воспроизведения видимого отклонения кометы и о необходимости ввести для этого некую другую причину; эта оговорка, опущенная Сарси, делает полностью несостоятельным его заключение.
В рассуждении Сарси, которое приведено выше, я хочу отметить еще одну логическую ошибку, причем нешуточную. Исходя из значительного изменения в местоположении кометы, Сарси жаждет доказать, что упоминаемое синьором Марио прямолинейное движение непригодно для воспроизведения столь большого перемещения, ибо даваемое им изменение мало. Истина состоит в том, что от прямолинейного движения могли бы воспоследовать и малые, и средние, и весьма большие изменения в зависимости от того, находится ли движущееся {157} тело высоко или низко и где — далеко или близко — расположен наблюдатель относительно линии, по которой происходит движение.
Сарси, не спрашивая своего оппонента о том, на какой высоте находится движущееся тело и на каком расстоянии от линии движения должен располагаться наблюдатель, помещает и движущееся тело, и наблюдателя в таких местах, которые наилучшим образом отвечают его требованиям и в гораздо меньшей степени соответствуют требованиям его противника, утверждая: «Предположим, что комета в самом начале находилась на высоте тридцати двух радиусов и что наблюдатель отстоял от основания прямой на шестьдесят градусов». Но, мой дорогой синьор Лотарио, как быть с твоим силлогизмом, если противник заявил, что комета никогда не находилась за столько миль от Земли и что наблюдатель располагался: гораздо ближе, чем ты требуешь в своем силлогизме? Что будет следовать из него? Ничего! Ведь для того чтобы им можно было пользоваться, мы, а не ты должны были бы приписать нужные расстояния и угловые удаления комете и наблюдателю, и тогда бы ты устремился на нас с нашим же оружием. Если же ты все еще жаждешь пронзить нас своим оружием, то тебе следовало бы сначала доказать, что комета и наблюдатель находятся на указанных тобой удалениях (на которых они никогда не находились)., а не выбирать расстояния по своему усмотрению в наименее подходящем для. твоего оппонента случае.
Это обстоятельство заставляет меня склоняться к мысли, в которую я все еще отказываюсь поверить,— что ты мог быть учеником того лица, от имени которого выступаешь. Ибо, если я не ошибаюсь, твой учитель совершает ту же ошибку, когда пытается доказать ложность мнения Аристотеля: и других, считавших комету объектом земного происхождения, пребывающим в подлунной сфере. В качестве веского возражения против мнения этих ученых мужей он ссылается на огромный объем, который должна была бы иметь комета, и на неправдоподобность гипотезы о том, будто Земля дарует комете пропитание. Дабы доказать, сколь велика была бы комета, он, не заручившись согласием своих оппонентов, помещает ее в самый верхний слой подлунной сферы, т. е. прямо на дугу орбиты Луны. Исходя из видимых размеров кометы, он принимается вычислять ее объем и обнаруживает, что тот несколько меньше пятисот {158} миллионов кубических миль, а одна кубическая миля, да будет известно читателю, занимает чудовищный объем, способный вместить более миллиона кораблей, что, по-видимому, больше, чем их насчитывается во всем мире. Столь большое создание было бы поистине подло и бесчестно, и роду человеческому слишком дорого обошлось бы подаяние милостыни, дабы этот монстр мог снискать себе пропитание.
Но Аристотель и его единомышленники ответствовали бы на это возражение примерно так: «Святой отец, мы считаем, что комета по самой своей природе принадлежит подлунному миру и может находиться от Земли на расстоянии пятидесяти или шестидесяти миль, а то и меньше, но отнюдь не в ста двадцати семи тысячах семистах четырех милях, как утверждаешь ты, опираясь лишь на свой собственный авторитет. Но ни одно тело, даже находящееся за тысячи миль от нас, не может быть столь большим, как ты полагаешь, равно как и столь ненасытным, чтобы его голод нельзя было утолить на тучных пастбищах». В этой связи нам не остается ничего другого, как молча пожать плечами. Если Сарси намерен убедить своих оппонентов, то ему следовало бы противопоставить им их наиболее излюбленные утверждения вместо того, чтобы приводить те, от которых его противники всячески отказываются, и тем самым позволять им каждый раз ускользать, оставляя тех, кто с ними не согласен, в изумлении и растерянности, которая, должно быть, охватила и Руджеро, обнаружившего исчезновение Анжелики90.
XXXII
Вот что говорится дальше; прочтите четвертый аргумент, Ваша милость.
(4-й аргумент.) Хотя Земля и недвижима и человек благочестивый может с полной уверенностью утверждать это, все же если бы кто-нибудь спросил меня, можно ли объяснить движение кометы по прямой движением Земли, то я бы ответил так: если под движением Земли понимать только то, которое предложил Коперник, то даже оно не спасло бы явление прямолинейного движения кометы. Ибо, согласно Копернику, хотя Солнце с точки зрения наблюдателя отклоняется от экватора то к северу, то к югу вследствие годового движения [Земли] (тем не менее Коперник считает Солнце неподвижным), любое из такого рода движений требует для своего завершения {159} полных шести месяцев. За тот малый промежуток времени в сорок дней, в течение которого была видна комета, Солнце успевает переместиться весьма незначительно — всего на 3°, и видимое отклонение кометы не было бы существенно больше и вследствие движения Земли; поэтому если все это движение присовокупить к движению, возникающему от прямолинейного, то и тогда оно не сравнялось бы по величине с наблюдаемым движением кометы.
В приведенном выше аргументе он [Сарси] хочет доказать, что прямолинейное движение кометы и ее отклонение от зенита не удается объяснить и подтвердить даже с помощью того движения, которым Коперник наделил Землю. Действительно, если из движения Земли следуют видимые отклонения Солнца то к югу, то к северу, то за те сорок дней, в течение которых наблюдалась комета, отклонение Солнца достигало не более трех градусов, поэтому и комета не могла отклониться на значительно большую величину. Даже прибавив это отклонение к тем полутора градусам, которые набежали бы от собственного прямолинейного движения кометы, мы далеко не достигли бы того весьма заметного движения, которое наблюдалось у нее.
Поскольку мы не утверждали, будто причиной видимого отклонения было движение какого-то иного тела, и менее всего были склонны видеть эту причину в движении земного шара (по признанию самого Сарси, ему известно, что мы считаем подобное утверждение ложным), становится ясно, что он [Сарси] упомянул это утверждение просто потому, что ему так вздумалось, дабы увеличить объем своей книги. Все это избавляет нас от необходимости отвечать на его измышления. Однако я считаю своим долгом заметить, что весьма сомневаюсь, располагал ли Сарси хотя бы для себя самого сколько-нибудь правильными представлениями о движениях, приписываемых Земле, и о тех многочисленных и разнообразных кажущихся движениях, которые воспоследовали бы от этого для других мировых тел. Сдается мне, что, по его мнению, любое отклонение, могущее наблюдаться у солнечного тела, расположенного в центре эклиптики, должно равным образом или несколько иначе наблюдаться у любого другого видимого объекта, где бы тот ни находился во Вселенной, внутри или вне эклиптики, внутри или вне Orbis magnus91, на севере или на юге, вблизи от Земли или далеко от нее. Все это далеко не {160} верно, равно как не существует противоречения в видимом изменении, которое равно трем градусам у Солнца и могло бы доходить до десяти, двадцати или тридцати градусов у других объектов вследствие различия в их положениях. В заключение я мог бы добавить, что движение, приписываемое Земле (которое я, будучи человеком благочестивым и католиком, считаю совершенно неверным и бесцельным), позволяет объяснить множество различнейших явлений, наблюдаемых среди небесных тел. Учитывая это, я отнюдь не уверен, что столь ложное явление не находится в обманчивом соответствии с явлениями кометы, и, дабы убедить меня в противном, Сарси следовало бы привести не столь общие соображения, как те, которые он приводил до сих пор.
XXXIII
А теперь, Ваша милость, прочтите пятый аргумент.
(5-й аргумент.) Так обстояло бы дело, если бы движения всех наблюдавшихся ранее комет до единой были бы определенны и равномерны; но если принять во внимание, что движения других комет сильно отличались от сказанного, то станет гораздо яснее, что прямолинейное движение, о котором идет речь, недопустимо приписывать кометам. Обратимся поэтому к идеям Понтано92 в том виде, в каком они изложены у Кардана93: «Комета с небольшой головой и очень коротким хвостом, которую мы наблюдали, вскоре выросла до значительных размеров и начала отходить от того места, где она появилась, на север, то ускоряя, то замедляя свое движение; в то время, когда Марс и Сатурн совершали понятное движение, комета двигалась, перевернувшись, хвостом вперед, покуда не достигла полюса; затем Сатурн и Марс начали снова прямое движение, а комета устремилась на запад с такой быстротой, что за одни сутки преодолела 30° и, навестив Овна и Тельца, исчезла из виду».
Обратимся также к свидетельству Региомонтана94, также приведенному у Кардана: «В январские иды95 1475 г. перед нами под Весами с звездами Девы предстала комета, голова которой медленно двигалась, пока не оказалась поблизости от Спики, после чего прошла по членам Волопаса к его левой стороне, а оттуда в урочный день описала дугу большого круга в 40°, добравшись до точки, где, находясь в середине Рака, она была на расстоянии не более 67° от орбиты знаков [зодиака]; затем {161} прошла через два зодиакальных полюса и точку равнодействия до середины ступни Цефея и дальше через грудь Кассиопеи над животом Андромеды; затем, пройдя всю длину северных Рыб, где движение ее замедлилось, она приблизилась к зодиаку и т. д.» Итак, в начале и в конце движение этой кометы было очень медленным, а в середине — очень быстрым, что явно не согласуется с движением по прямой, ибо это движение быстрее в начале, а затем постепенно замедляется; что же касается кометы Понтануса, то она еще более явно не согласуется с прямолинейным движением, ибо в начале двигалась медленно, а в конце очень быстро.
Послушайте, как он описывает это в своей «Книге о метеорах»: «Я помню, как однажды появилась косматая комета, скользившая от Икара96 редким хвостом вперед, и в своем медленном прохождении изогнулась под скованными вечным холодом глубинами северного неба; затем комета уже головой вперед повернула на запад и с распущенными поводьями следовала в этом направлении до тех пор, пока не ощутила яростных рогов агенорова Тельца97». У этих двух комет поддержание прямолинейного движения, о котором идет речь, несравненно труднее, ибо в силу своего движения кометы за короткий промежуток времени успели обежать целиком очень большой полукруг, и объяснению такого движения ссылка на любое движение Земли способствует очень мало.
В мои намерения не входит составление каталога комет и их различных движений, но если кто-нибудь разыщет тех, кто размышлял над этими явлениями, то обнаружит множество фактов и обстоятельств, отнюдь не свидетельствующих в пользу прямолинейного движения, поэтому мы вправе считать, что относительно субстанции и движения кометы сказано достаточно, и более чем достаточно.
Сарси полагаем будто ему удастся подкрепить свое утверждение различными иными изменениями, происходившими у других комет и описанными другими авторами. Выше мне уже доводилось говорить о том, что мы отнюдь не обязаны отвечать на измышления Сарси. Сказанное в полной мере относится и к этому случаю. Обобщения Сарси слишком широки, и он не снисходит к более подробному рассмотрению конкретных положений упоминаемых им комет, высоко те наблюдаются или низко, к югу или к северу от экватора, появились ли они во время солнцестояний или равноденствий. Все эти условия, {162} которые он опускает, совершенно необходимы для того, чтобы судить о предмете нашего спора, в чем он легко мог бы убедиться, если бы вздумал более основательно заняться теорией, о которой идет речь.
XXXIV
Перехожу теперь к последнему вопросу второго взвешивания;
Может ли кривизна возникнуть из-за рефракции?
Вопрос III
Остается теперь грива, или борода, или, если угодно, хвост кометы, вызвавший своей кривизной немалый интерес среди астрономов; Галилей, как явствует из его слов, считает, что ему удалось с блеском объяснить хвост кометы. Но я считаю своим долгом возразить ему, ибо в том способе объяснения комет, который он приписывает себе, нет ничего нового, а в приводимых им аргументах также нет ничего, что не было бы известно гораздо раньше Кеплеру и не изложено весьма ясно в его сочинениях. Кеплер пытался выяснить, почему хвосты комет иногда кажутся нам искривленными. Он утверждал, что это происходит не из-за параллакса или рефракции, привел множество фактов в подтверждение своей точки зрения и в заключение заметил, что подобное явление надлежит оставить среди тайн природы. Я хотел бы сослаться на эти аргументы, коль скоро Галилей утверждает, будто не знает никого, кроме Тихо, кто бы писал о хвостах комет. Кеплер и Галилей расходятся в одном: Галилей придает особое значение аргументам, которые Кеплер не считал столь весомыми и поэтому счел за благо оставить спор о кометах неразрешенным.
Сарси весьма откровенно стремится разоблачить меня и лишить всякого убранства славой. Не довольствуясь провозглашением ложной и бездоказательной причины, приведенной синьором Марио со ссылкой на меня, по которой хвост кометы иногда кажется нам изогнутой дугой, он [Сарси] роняет походя замечание о том, будто и в этом нет ничего нового, поскольку все, о чем я говорю, было давно напечатано и отвергнуто как ложное Иоганном Кеплером. Подобное замечание должно заронить в ум читателя (если тот ограничится сказанным у Сарси) {163} представление обо мне не только как о воре, беззастенчиво похищающем мысли других людей, но и как о мелком воришке, не гнушающемся красть заведомо то, что заведомо негодно, и от чего другие давно отказались за ненадобностью. Но кто знает, возможно, в глазах Сарси жалкий вид этого мелкого жулика не усилит мою вину по сравнению с тем, какой она была бы, если бы я проявил большую настойчивость в розыске книг какого-нибудь благородного автора, не столь известного у нас, и, обнаружив их, попытался бы скрыть имя подлинного автора и приписать себе целиком весь его труд. Возможно, подобное предприятие показалось бы Сарси столь же великим и героическим, сколь низким и трусливым кажется ему другое занятие. Не испытывая ни малейшей склонности к присвоению чужих результатов, я охотно признаюсь в своей трусости. Но, хотя мне недостает отваги и телесной мощи, я, синьор Лотарио, человек прямой и не желаю, чтобы на моем лице оставался незаслуженно нанесенный тобой шрам; я хочу написать открыто и поведать всем то, о чем ты умолчал, а поскольку мне трудно предугадать, какие страсти может вызвать мое повествование, я предоставляю тебе рассказать об этом в дальнейшем в своей апологии.
Тихо действительно пытался установить причину видимой кривизны [хвоста кометы], сводя ее к некоторым утверждениям, якобы доказанным Вителлием, но, как показал синьор Марио, утверждений, на которые ссылался Тихо, не существует в сочинениях Вителлия, которые и не предназначались для объяснения этой кривизны. К сказанному синьор Марио присовокупил замечание, указав на то, что и ему и мне представлялось истинной причиной [кривизны] и к тому же могло быть доказано. Сарси пытается изо всех сил выпрыгнуть и в своей попытке опровергнуть наше утверждение и доказать, будто оно в действительности принадлежало Кеплеру, попадает в ту же ловушку, в которую до него угодил Тихо, и обнаруживает к тому же полное непонимание того, что написали Кеплер и синьор Марио. Во всяком случае, ой [Сарси] делает вид, будто не понял, о чем писали и тот и другой, и утверждает, будто в их сочинениях речь шла об одном и том же, между тем как в действительности они говорили о разном.
Кеплер усматривает причину кривизны в том, что хвост кометы действительно искривлен, а не только кажется искривленным; синьор Марио предполагает, что {164} хвост в действительности прямой, и ищет причину в кажущемся изгибе. Кеплер объясняет изгиб тем, что лучи (речь идет о солнечных лучах) по-разному преломляются в одной и той же небесной субстанции, в которой образуется хвост. Он утверждает, что плотность этой материи (только в той ее части, которая служит для образования хвоста) увеличивается по мере приближения к комете и, так как различные лучи из-за этого преломляются по-разному, возникает общая картина преломления, простирающаяся не по прямой, а по дуге. Синьор Марио вводит преломление не солнечных лучей, а изображения самой кометы, и не в небесной субстанции, принадлежащей голове кометы, а в сфере испарений, окутывающих Землю. Таким образом, у каждого из двух названных мной авторов все различно: и причина, и субстанция, и место, и способ образования хвоста, общим является только одно слово — «преломление».
Приведу доподлинные слова Кеплера: «Non refractio potest esse causa inflexitionis huius; ni nescio quod monstri confingamus, materiara aetheream certis gradibus propinquitatis ad hoc sydus magis magisque crassam, nee nisi ex una sola parte in quam caudam vergit»*.
Возможно ли, синьор Лотарио, что ты дал увлечь себя желанию очернить мое имя в науке, каким бы оно ни было, и перестал считаться не только с моей репутацией, но и с репутацией многих своих друзей? С помощью ошибок и измышлений ты пытаешься уверить их в правильности и искренности своих утверждений и столь недостойными средствами пытаешься снискать их рукоплескания. Но что, если впоследствии им попадется на глаза это мое сочинение и они, узнав из него, как часто и с помощью каких недостойных трюков ты обращался с ними как с наивными простаками, сочтут подобное обращение за низость с твоей стороны, уважение и благосклонность, которые они питали к тебе, сменятся в их сердцах иными чувствами. Аргумент, выдвинутый и отвергнутый Кеплером, представляет собой нечто совсем иное, а поскольку я всегда знал Кеплера как человека, чья честность и откровенность ничуть не уступают его уму и учености, я уверен, что и он сам признал бы полное отличие нашего утверждения от утверждения, отвергнутого им, и сказал бы, что {165} первое заслуживает одобрения в такой же мере, в какой второе должно быть отвергнуто, ибо наше утверждение истинно и вполне доказуемо, хотя Сарси и пытался изо всех сил опровергнуть его.
XXXV
Посмотрим, сколь сильны приводимые им [Сарси] контрдоводы.
(1-й аргумент.) Выясним, может ли кривизна хвоста, как утверждает Галилей, быть обусловлена преломлением. Должно быть, он считает, что в той материи, где образуется комета, предписанные им же законы не действуют; т. е. хвост искривлен только тогда, когда, склоняясь к горизонту, он располагается почти напротив параллели и пересекает множество вертикалей, а когда смотрит на вершину, то направлен выше. Хвост же [кометы] сохранял свою первоначальную кривизну в течение всего лишь трех или четырех дней, причем сохранял независимо от того, был ли он вблизи горизонта или вдали от него. Затем хвост отклонился от прямой, которую можно было бы провести через голову кометы и Солнца, но никакой кривизны не было заметно, хотя по направлению хвост часто склонялся к горизонту. Но если бы все обстояло так, как утверждает Галилей, то хвост в самом начале должен был бы казаться прямее, чем когда он поднимается выше. Очень часто он вздымался от горизонта так, что почти целиком располагался вдоль одной вертикали; по мере подъема он все более наклонялся к горизонту и пересекал множество вертикалей, в чем каждый может убедиться, взглянув на глобус, например на какой-нибудь небесный глобус, на котором отмечено положение кометы и ее хвоста на двадцатое декабря. В тот день хвост пересекал две последние звезды Большой Медведицы, а голова кометы отстояла на 25°54' от Арктура и на 24°25' от Короны. Следовательно, если бы комета находилась на глобусе, а очертания ее хвоста были бы нанесены на закругленную поверхность глобуса, то казалось бы, что хвост поднимается от самого горизонта по вертикали, а будучи унесенным выше, располагается почти параллельно горизонту, но и даже в последнем положении не обнаруживает никакой кривизны.
Нападки Сарси здесь слишком несостоятельны, дабы опровергнуть убедительное доказательство, почерпнутое из оптики. Он [Сарси] хотел бы, чтобы другие пренебрегли {166} оптическим доказательством в пользу его утверждений, которые он с легкостью изменяет и приспосабливает к своим целям (да простит мне Сарси подобное подозрение, но уж очень часто он давал нам повод усомниться в истинности своих утверждений). Можно ли с доверием относиться к тому, что человек говорит о событиях далекого прошлого, которые давно уже недоступны наблюдению, если, говоря о непрестанно происходящем ныне, доступном всеобщему обозрению и ставшем достоянием печати, тот же самый человек в девяти случаях из десяти не может удержаться от того, чтобы не исказить виденное, придав ему противоположный смысл?
Я еще раз возвращаюсь к своему замечанию о том, что доказательство, напечатанное синьором Марио, чисто геометрическое, полное и логически безупречное. Сарси следовало бы сначала тщательно разобраться в нем, а затем, если оно покажется ему необоснованным, указать либо ложность посылок, либо ошибку в одном из этапов доказательства: он же либо не сделал ничего такого, либо сделал очень мало.
Из нашего доказательства следует, что если мы наблюдаем объект, вытянутый по прямой и расположенный вне сферы испарений поблизости от горизонта и наклонно по отношению к нему, то глаз, расположенный вдали от центра сферы испарений, обязательно увидит тот же предмет искривленным; но если тот же объект вытянут по вертикали к горизонту или поднят высоко над горизонтом, то глаз увидит его совершенно прямым иди неощутимо слабо искривленным. В течение нескольких первых дней после появления последней кометы хвост располагался низко над горизонтом под сильным наклоном к нему и казался искривленным; затем, поднявшись высоко, он стал прямым и оставался таким, ибо высота над горизонтом была значительной. Комета 1577 г., которую я наблюдал непрерывно98, стояла низко над горизонтом под большим наклоном к нему, и поэтому ее хвост всегда казался сильно искривленным. Хвосты других комет, которые я наблюдал очень высоко в небе, неизменно были совершенно прямыми, и это обстоятельство, если его правильно учесть, подтверждает заключение, к которому мы приходим в конце нашего доказательства. Но послушаем, что Сарси противопоставляет нашему доказательству, и посмотрим, сколь весомы его возражения.
| {167} |
XXXVI
(2-й аргумент.) Мне не понятно также, на каком основании Галилей с такой уверенностью берется утверждать, будто область испарений простирается вокруг Земли наподобие сферической оболочки, ибо, всячески стремясь подкрепить свою точку зрения относительно прямолинейного движения, он тем не менее постоянно учит, что такого рода испарения в одних местах поднимаются выше, чем в других. Он неоднократно утверждал, что кометы образуются не иначе как из этих испарений, пока те проходят через конус тени, отбрасываемой Землей. Но если в одном месте испарения поднимаются на три мили над поверхностью Земли, а в другом месте простираются в высоту на тысячу лиг, то как же область испарений может сохранять форму сферического слоя? Те, кто до сих пор склонны отстаивать элементы сферы, учат, что если средняя часть воздуха, особенно насыщенная испарениями, сохраняет определенную форму, то эта форма скорее сфероидальная или овальная, нежели круглая, так как испарения в меньшей мере испытывают на себе разгоняющее действие солнечных лучей в тех частях, которые расположены под полюсами и, следовательно, поднялись выше, чем в тех областях, которые лежат у круга равноденствий и в тропической зоне, где их легко разгоняет тепло близкого Солнца. Следовательно, если область испарений не сферическая и граница ее не удалена всюду на одно и то же расстояние от Земли и не сохраняет всюду одинаковую толщину и плотность, то кривизна хвоста не может быть обусловлена несуществующей сферичностью области испарений.
Эти замечания, высказанные нами по поводу взглядов Галилея, имеют непосредственное отношение к комете. Ибо он, изложив весьма многословно и расплывчато свою точку зрения за время весьма продолжительного спора, противится нашим дальнейшим замечаниям и не дает нам изложить наши возражения против его позиции. Но как я могу предугадать и опровергнуть то, о чем он умалчивает? Впрочем, пойдем дальше.
Как видит Ваша милость, Сарси начинает возражать против доказательства якобы на том основании, что оно основано на ложном основании (утверждении о сферичности поверхности, ограничивающей область испарений), и думает, будто опровергает наше доказательство несколькими способами. Сначала он повторяет то, что {168} неоднократно утверждали мы сами: что испарения в одних местах поднимаются гораздо выше, чем в других. Но именно это (причем в той же самой форме) написано в книге синьора Марио; испарения действительно поднимаются иногда выше обычного, но происходит это редко и длится не долго, поэтому Сарси вполне может утверждать, что область испарений имеет несферическую форму. К этому он присовокупляет еще одну ложь — сообщает, будто мы утверждали, что комета имеет форму тех самых испарений, которые поднялись над конусом тени Земли, дабы породить северное сияние. Ни о чем подобном в книге синьора Марио не говорится ни слова. В-третьих, он вопрошает: «Но если в одном месте испарения поднимаются на три мили над поверхностью Земли, а в другом месте простираются в высоту на тысячу лиг, то как же область испарений может сохранять форму сферического слоя?» Разумеется, никак не может, синьор Сарси, и всякий, кто вздумал бы утверждать противное, был бы в моих глазах величайшим глупцом. Но я не знаю никого, кто стал бы утверждать нечто подобное, и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь вздумал сделать это. Может быть, ты назовешь автора такого утверждения? В-четвертых, он утверждает, будто те, кто учит первым началам сферической астрономии, считают, что область испарений имеет овальную, а не круглую форму. На это я отвечу: Сарси не должен удивляться тому, что он знал, а я не знал столь простой истины, ибо я учился астрономии не у деревенских учителей, а у Птолемея, а он, насколько я помню, не утверждал ничего подобного.
Но даже если бы область испарений действительно имела овальную, а не круглую форму, какой вывод ты мог бы извлечь из этого, синьор Лотарио? Только такой, что хвост кометы изогнут по овальной линии, а не по дуге окружности. Я мог бы без малейшего ущерба для нашей точки зрения и нашего способа доказательства причины видимой кривизны уступить тебе в этом, но не в том, что ты пытаешься привести в качестве итога своих рассуждений, заключая их словами: «Следовательно, если область испарений не сферическая и граница ее не удалена всюду на одно и то же расстояние от Земли и не сохраняет всюду одинаковую толщину и плотность (дабы внушить эту мысль простакам, Сарси повторяет ее трижды различными словами), то кривизна хвоста не может быть обусловлена сферичностью, коль скоро та не существует в природе». {169}
Я утверждаю, что такое заключение не согласуется с логикой; самое большее, что можно было бы извлечь из приведенных посылок, это утверждение, согласно которому кривизна хвоста не круговая, а овальная. Вот и весь жалкий, несчастный профит, который бы ты извлек, если бы мог убедиться в том, что область испарений имеет овальную, а не сферическую форму. Думаю, однако, что никаким способом нельзя было бы установить, имеет ли кривизна форму дуги окружности, эллипса, параболы, спирали или какой-нибудь другой кривой, поскольку при дуге самое большее в два-три градуса различия между такими кривизнами исчезающе малы.
Мне остается рассмотреть его заключительные слова, из которых я, подобно оракулу, извлеку различные соображения и скрытые чувства Сарси. Прежде всего понятно, что, как я уже отмечал вначале, он вкладывает свои мысли и чувства в сочинение синьора Марио отнюдь не для того, чтобы беспристрастно критиковать или восхвалять их, а с твердым намерением опровергнуть их. Он [Сарси] вопрошает: «Но как я могу предугадать и опровергнуть то, о чем он умалчивает?» В действительности же все обстоит наоборот: он по большей части опровергал то, чего синьор Марио никогда не говорил и не писал и что он [Сарси] измыслил от начала и до конца. Вместе с тем он утверждает, будто синьор Марио пишет темно и путано и смысл сказанного им не становится понятнее даже после весьма продолжительной дискуссии. На это я отвечу, что у синьора Марио были иные намерения, нежели у учителя Сарси, который, как можно заключить из введения к трактату Сарси, писал для обычных людей, дабы своими ответами вразумить их тому, до чего они ни за что не додумались бы сами. Синьор же Марио писал для тех, кто своей ученостью превзошел нас, и не для того, чтобы поучать их, а единственно с целью поучиться самому. Свои мысли он формулировал в виде вопросов без свойственной магистрам категоричности, предоставляя отвечать тем, кто обладает большей ученостью.
Если наши сочинения кажутся Сарси темными, то, прежде чем подвергать их цензуре, ему бы следовало попросить кого-нибудь объяснить неясные места вместо того, чтобы пытаться с места в карьер опровергать непонятное с риском утратить точку опоры. Не думаю, откровенно говоря, чтобы Сарси не подвергал сомнениям большую часть написанного синьором Марио по причине недостаточного понимания. Истинная причина кроется в {170} другом: он [Сарси] великолепно все понимает и сознает правильность утверждений синьора Марио, но предпочитает делать вид, будто ничего не понял, дабы не одобрять и не высказывать хвалу писаниям оппонента против своей воли.
Перехожу теперь к третьему взвешиванию. Здесь Сарси изо всех сил пытается представить нас людьми малосведущими с помощью четырех утверждений, надерганных то тут, то там из более чем ста утверждений, приведенных в «Рассуждении» синьора Марио. Все остальные утверждения, гораздо более значимые, нежели выбранные им, он обходит молчанием и приспосабливает привлекшие его внимание к своим целям, дополняя или сокращая их, извращая их смысл по сравнению с тем, какой они имели первоначально.
XXXVII
Смотрите, Ваша милость.
ТРЕТЬЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ
ОТДЕЛЬНО
Утверждение первое
Воздух и испарения не могут переноситься
движением неба
Прежде чем приступить в соответствии с моими намерениями к более точному рассмотрению утверждений Галилея, я хотел бы заверить читателя в том, что единственное мое желание — отстоять заключения не более и не менее как самого Аристотеля. Не стану пока выяснять, истинны или ложны замечания этого великого мужа; меня сейчас интересует другое: доказать, что выдвинутые Галилеем причины указаны неверно, что наносимые им удары не попадают в цель и что, попросту сказать, некоторые утверждения, на которых, как на фундаменте, зиждется вся громада его доказательств, имеют лишь видимость истины, но при более внимательном рассмотрении окажутся, я уверен, ложными.
Пытаясь опровергнуть мнение Аристотеля, он [Галилей] утверждает среди прочего, будто воздух не может переноситься движением лунного неба; из чего следует, что воздух не может возбуждаться этим движением, как считал Аристотель. «Поскольку форма небесных тел должна {171} быть наиболее совершенной,— поясняет Галилей,— необходимо сказать, что вогнутость неба есть сферическая гладкая поверхность без малейшей шероховатости; ни воздух, ни огонь не пристают к скользким и гладким телам, вследствие чего воздух не будет увлекаться движением небосвода». Все это Галилей доказывает с помощью аргумента, почерпнутого из опыта, «Если полусферический сосуд, отполированный до гладкости,— говорит Галилей,— привести во вращение относительно его центра, то заключенный в сосуде воздух не будет вовлечен в движение; чтобы убедиться в этом, достаточно поднести зажженную свечу очень близко к внутренней поверхности сосуда; если бы воздух увлекался движением сосуда, то он увлекал бы за собой и пламя свечи». Так говорит Галилей, В сказанном им можно обнаружить кое-что истинное и кое-что ложное; есть и такие утверждения, которые кажутся истинными, но в действительности оказываются ложными.
(1-й аргумент.) Если кто-нибудь вздумает отрицать то замечание, в котором Галилей утверждает, что лунная вогнутость должна быть сферической и гладкой, то каким способом и с помощью какого аргумента он думает доказать обратное? Если небесные тела должны быть гладкими и круглыми, то тем меньше препятствий возникает их движению, ибо, будь их поверхности хотя бы слегка шероховатыми, эта шероховатость, несомненно, задерживала бы их движение. Кроме того, по Аристотелю, наружная поверхность неба должна иметь сферическую форму, ибо если бы у нее были углы, то в своем движении она увлекала бы за собой вакуум. Однако все это не имеет отношения к нашей проблеме. Ибо если бы вогнутая поверхность лунного неба была не круглой и гладкой, а шероховатой и имела какие-нибудь выступы, то это приводило бы к абсурду, так как тела, расположенные у самой поверхности, будь то воздух или огонь, не могли бы выдержать ее движения, а если одно тело замещает другое, то никакого вакуума не образуется. Более того, если такая шероховатость допустима, то она еще лучше обеспечивает связь всех подвижных тел, ибо верхние элементы увлекаются движением неба, а от этого движения, как мы видим ежедневно, многое рождается и многое уничтожается. Но когда Галилей утверждает, что благороднейшие из тел должны быть круглыми, то хочет ли он этим сказать, что и человек, гораздо более благородный, чем небо, должен снаружи быть гладким и круглым? Тем не {172} менее в соответствии с оракулами мудрости мы предпочитаем, чтобы человек был квадратным. Этим я хочу сказать, что каждому телу надлежит придавать ту форму, которая лучше всего соответствует его назначению. Из моих слов кто-нибудь может сделать ошибочный вывод, рассуждая примерно так: коль скоро вогнутость Луны должна иметь какое-то отношение к вещам низменным и связывать их с возвышеннейшими орбитами, эта вогнутость должна быть шероховатой и липкой, а не скользкой и гладкой».
Здесь с самого начала Сарси прибегает к своим обычным трюкам. Прежде всего в трактате синьора Марио нигде не говорится, будто воздух или огонь пристает и прилипает к гладким и скользким телам. Сарси возводит на нас эту напраслину по собственной прихоти, дабы подготовить почву для разговора о некоей стеклянной пластинке, который пойдет дальше. Кроме того, Сарси делает вид, будто не замечает, что когда мы говорим об идеально отполированной и гладкой сферической поверхности полости лунной сферы, то высказываем не свое собственное мнение, а мнение Аристотеля и его последователей, дабы выступить против них ad hominem99. Делая вид, будто он находит в книге синьора Марио то, чего там нет, Сарси вместе с тем притворно не замечает то, что неоднократно написано в ней ясно и определенно: мы отказываемся от множества твердых небесных сфер, в существование которых верили раньше, и предполагаем, что очень тонкая эфирная материя развеяна по обширным областям Вселенной, по которым блуждают твердые мировые тела, наделенные собственными движениями.
Но к чему столько слов? Ведь он [Сарси] видел все это и даже возражал раньше, на странице 150, где отмечал: «...Галилей не придерживается небесных орбит Птолемея, и в системе Галилея не осталось ничего от небесной тверди...» На этот раз, синьор Сарси, тебе не удастся скрыть свою великолепную осведомленность о том, почему мы говорим об идеально круглой и гладкой полости лунной сферы: не потому, что разделяем подобные взгляды, а единственно с целью изложить взгляды Аристотеля, против которых мы выдвигаем аргумент ad hominem. Исходи подобное мнение от нас, ты никогда не простил бы нам непоследовательности, ибо тогда мы сначала отрицали бы существование твердых небесных сфер с четко выраженными границами, а затем согласились бы с ним, совершив ошибку, которая повлекла бы за собой {173} несравненно более важные последствия, нежели все другие ошибки, которые ты нам приписываешь, вместе взятые. Ни к чему тогда все остальные твои рассуждения, с помощью которых ты изо всех сил тщишься доказать, будто лунная полость должна иметь поверхность волнистую и шероховатую, а не гладкую и скользкую, бее эти доводы излишни, и отвечать на них нет надобности, но я хотел бы, чтобы, говоря словами великого поэта100, «и в пылу раздора мы не могли утратить благородства», и потому намерен испытать прочность твоих доказательств.
Ты говоришь, Сарси: «Даже если кто-нибудь и вздумает отрицать, что лунная полость имеет гладкую и скользкую поверхность, то каким способом и с помощью какого аргумента можно было бы доказать обратное?» В качестве рассуждений, якобы предложенных твоим оппонентом, ты приводишь аргумент, сфабрикованный тобой же, опровергнуть который не составляет особого труда. Но предположим, что твой оппонент ответил бы так: «Синьор Лотарио, предположим, что материя небесных сфер тверда и отлична от материи, содержащейся в лунной полости. Тогда я могу с уверенностью сказать тебе, что вогнутая поверхность этой полости должна быть скользкой и гладкой, как зеркало. Ибо, если бы она была волнистой, мы наблюдали бы причудливую игру преломленных видимых изображений, сходную с той, которую иногда случается наблюдать, разглядывая в окно, в котором одни стекла ровные и гладкие, другие сделаны грубо, предметы, находящиеся снаружи. Если движемся мы сами и движутся эти предметы, то, проходя сквозь гладкие стекла, изображения предметов не претерпевают никаких изменений — ни формы, ни положения, но, проходя сквозь неровное стекло, те же изображения искажаются до неузнаваемости. Нечто такое мы наблюдали бы в том случае, если бы вогнутая поверхность лунной сферы была волнистой и можно было наблюдать волшебное зрелище нескончаемых изменений форм, движений и относительного расположения, претерпеваемых каждый миг планетами и неподвижными звездами, когда их изображения доходят до нас, преломляясь то в одной, то в другой части лунной сферы под ними. Но таких искажений никто не наблюдал. Следовательно, поверхность полости совершенно гладкая». Что бы ты возразил на это, синьор Сарси? Тебе пришлось бы основательно поработать, дабы убедить людей в том, что для тебя в этом аргументе нет ничего нового, что ты обходишь его молчанием как {174} излишний, что он якобы принадлежит не мне, а кому-нибудь еще, что он давно отброшен как устаревший и неновый и что ты, помимо всего прочего, мог бы просто отбросить его.
Пусть приведенный выше аргумент принадлежит мне и пусть с его помощью я доказываю, что поверхность лунной сферы гладкая, а не волнистая. Послушаем, что ты скажешь, дабы доказать обратное. Напомню, что мы обсуждаем, увлекаются ли верхние элементы небесным движением (ибо название, предпосланное тобой первому утверждению, оспаривает это; оно гласит: «Воздух и испарения не могут приводиться в движение движением неба»), и что я отрицаю такую возможность, ссылаясь на равномерность преломления. Дабы доказать обратное, ты пишешь: «Если полость волнистая, то связь всех движений сохраняется гораздо лучше, ибо тогда самые верхние элементы увлекаются движением неба». Но, синьор Лотарио, утверждать так — значит совершать ошибку, которую логики называют предвосхищением основания, ибо ты принимаешь за доказанное то, что требуется доказать и что я отрицаю, а именно то, что самые верхние элементы приводятся в движение.
Вот четыре заключения; два из них принадлежат мне, два — тебе. Мои заключения гласят: «Полость гладкая» и «Следовательно, элементы не увлекаются ее движением». Я доказываю, что полость гладкая, ссылкой на преломление света от звезд, и мое заключение абсолютно верно. Два твоих заключения гласят: первое — «Полость шероховатая», второе — «Следовательно, элементы увлекаются». Ты доказываешь, что полость шероховатая, ссылкой на то, что в своем движении она увлекает за собой элементы, и тем самым оставляешь своего оппонента там, где он находился в самом начале; ты не продвинулся ни на шаг, и оппонент будет по-прежнему настаивать, что полость не шероховатая и не увлекает за собой элементы при своем движении. Дабы избежать этого порочного круга, ты должен доказать одно из своих утверждений как-нибудь иначе.
И не говори мне, будто ты достаточно доказываешь нерегулярность поверхности, когда утверждаешь, что объекты низменные в случае шероховатой поверхности прочнее сцепляются с возвышенными, ибо простого касания достаточно для соединения одного с другим, а в дальнейшем ты же сам признаешь, что такое же сцепление и соединение [низменного и возвышенного] существуют и в {175} том случае, когда поверхность гладкая и нешероховатая, поэтому твое доказательство лишено всякого основания. Оно не стало бы более убедительным, если бы ты основывал свое мнимое доказательство увлечения высших элементов ссылкой на рождение и уничтожение, порождаемые таким движением на Земле, или на то, что такое движение увлекало бы за собой верхние слои воздуха и элемент огонь, ибо все аргументы такого рода — пустые фантазии и сущие безделицы. Немало прошло бы времени, прежде чем мы смогли бы согреться, если бы нам надо было ждать выброса огня в сторону Земли, поскольку ты сам чуть дальше утверждаешь, что огонь рвется вверх и тем самым создает тягу и, обременяясь сверх меры, пристает к небесной поверхности более прочно. Нужно ли говорить, что все это не более чем наивные идеи и аргументы, то поддерживающие, то опровергающие одно и то же в соответствии с ребяческим непостоянством того, о чем в них говорится.
XXXVIII
Но послушаем, к каким доводам он [Сарси] прибегает далее для доказательства того же заключения второго аргумента.
(2-й аргумент.) Но к чему мне искать аргументы против Галилея где-то, когда он [Галилей] сам предоставляет их в избытке? Никогда он не изрекал ничего более истинного, чем когда утверждал, что Луна не только шероховата, но, подобно еще одной Земле, имеет свои Альпы, Олимп и Кавказ, свои впадины — долины и обширные равнины; разумеется, на Луне не может не быть лунных гор. Разве Луна не небесное тело, причем самого возвышенного свойства? Разве Луна не более благородна, чем небо, которое переносит ее, как в экипаже, и которое она населяет, как некую обитель? Почему же Луна наделена шероховатой поверхностью и выступами, а не гладкая и круглая? Разве сами звезды, по свидетельству Галилея, не образуются в различных формах с углами и выступами? Что среди тонких субстанций более благородно, чем звезды? К этому можно также добавить, что даже Солнце, как можно было бы думать, судя по его внешнему виду, не обретает столь благородной формы, ибо на нем наблюдаются faculae [яркие пятна], превосходящие по яркости остальную часть солнечного диска, из чего следует, что Солнце либо шероховато, либо купается в свете, который не всюду равномерен. Следовательно, {176} поскольку рассуждение Галилея нельзя признать убедительным, мы вправе принять, что лунная вогнутость шероховата.
Никто, я думаю, не станет отрицать, что испарения и воздух увлекаются движением лунной сферы. Таким образом, Галилей не в сипах легко и просто объяснить шероховатость ее поверхности. В этой связи нельзя не упомянуть о том, что в своем третьем письме к Марку Вельзеру101 Галилей говорит о солнечных пятнах как о туманных испарениях, переносимых движением тела Солнца. Следовательно, либо тело Солнца гладкое и скользкое и потому неспособно переносить испарения указанного рода, либо Солнце имеет шероховатую поверхность, покрытую выступами, и тем самым благороднейшее из небесных тел было бы и не сферическим, и не гладким. Более того, во втором письме к тому же Вельзеру Галилей говорит: «Солнце приводится во вращение вокруг своего центра движением того, что его окружает», но окружающее его тело должно быть гораздо более тонким, чем воздух. Но если массивное тело Солнца приводится во вращение движением окружающего его весьма разреженного и тонкого тела, то я не усматриваю, почему сама небесная твердь не может увлекать своим движением заключенное внутри нее тело, сколь бы тонким оно ни было, например подлунную сферу.
Прежде чем переходить к существу дела, хочу еще раз ответить Сарси: не я хочу придать небу благороднейшую из форм на том лишь основании, что оно благороднейшее из тел, а Аристотель, против которого синьор Марио выдвигает аргумент ad hominem. Что же касается меня, никогда не вчитывавшегося в генеалогию форм и их патенты на благородство, то я не знаю, какая из них более и какая менее благородна, более или менее совершенна. Я считаю, что все формы, каждая на свой лад, древние и благородные, или, иначе говоря, убежден, что среди форм нет благородных и совершенных, равно как нет подлых и несовершенных, хотя при возведении стен квадратная форма представляется более совершенной, нежели круглая, а в тех случаях, когда возникает необходимость катить или передвигать тележки, я склонен считать круглую форму более совершенной, нежели треугольную.
Но вернемся к Сарси. Он утверждает, будто для доказательства шероховатости вогнутой поверхности неба мною было выдвинуто излишне много аргументов, поскольку мне следовало иметь в виду, что Луна и другие планеты {177} (также принадлежащие к небесным телам и гораздо более благородные и совершенные, чем само небо) имеют гористую, шероховатую, неровную поверхность, а если это так, то почему бы неровности не быть присущей и форме неба? В качестве ответа на этот вопрос Сарси мог бы привести все, что он сказал бы человеку, который пытался бы доказать, будто море должно быть костистым и покрытым чешуей, ибо в нем обитают киты, тунцы и другие рыбы.
На его вопрос о том, почему Луна не гладкая и не скользкая, я отвечу, что Луна и все другие планеты внутри темны и сверкают, только когда их освещает Солнце. Следовательно, их поверхность должна быть шероховатой, ибо если бы она была гладкой и скользкой, как зеркало, то отраженный от них свет не достигал бы нас и они остались бы невидимыми. Следовательно, они не оказывали бы действия на Землю и не взаимодействовали бы между собой, или, короче, каждое из них было как бы несуществующим и для других их как бы не было во Вселенной.
С другой стороны, почти такой же беспорядок возник бы и в том случае, если бы небеса состояли из твердой субстанции и были ограничены не идеально гладкой и скользкой поверхностью, ибо, как я уже говорил, ввиду непрестанно возмущаемых преломлений на волнистой поверхности движения планет, их формы и лучи, доходящие к нам от них (а следовательно, и наблюдаемые нами их изображения), были бы весьма запутанными и нерегулярными. Сказанного, синьор Сарси, достаточно для ответа на твой вопрос. В уплату за это прошу тебя вычеркнуть в твоем сочинении то место, где говорится, будто я неоднократно писал о том, что звезды по форме весьма разнообразны и угловаты. Ты хорошо знаешь, что это неверно и я никогда не писал ничего подобного; ты мог прочитать у меня нечто иное: звезды светят таким живым и ярким светом, что их крохотные тела невозможно разглядеть в отдельности и они окружены сверкающими лучами.
По поводу сказанного Сарси о Солнце и туманных испарениях, которые рождаются и исчезают в нем и в окружающем пространстве, я должен заметить, что никогда не утверждал, будто испарения приводятся во вращение движением Солнца или, наоборот, увлекают Солнце своим вращением, ибо этого я не знаю. Возможно, что ни тело Солнца, ни окружающие его испарения не приводятся {178} во вращение другим телом, а наделены вращением по своей природе, в чем я убежден, ибо наблюдал, что солнечные пятна совершают оборот за четыре недели. Но даже если бы наши знания были полны, я не вижу, чем они могли быть полезны в данном случае; ведь мы рассуждаем ad hominem и, ex suppositione102 на основе заведомо ложных предположений о предметах, заведомо отличных от Солнца и его окружения, и спрашивается, увлекает ли лунная полость, если она гладкая и твердая (что заведомо не соответствует действительности), вращаясь (еще одно ложное предположение), за собой элемент огонь (который, возможно, даже не существует} .
К сказанному надлежит добавить еще одно измышление, против которого Сарси, по его словам, не имеет возражений и даже называет тождеством: по его мнению, утверждать, что жидкое тело, заключенное в полости сферического твердого тела, может быть увлечено последним, если твердое тело приведено во вращение, означает утверждать столь же легко и естественно, что и твердое тело, заключенное в жидкую субстанцию, было бы вовлечено в движение, если бы жидкость вращалась. Утверждать такое — все равно, что думать, будто подобно тому, как судно переносится и увлекается течением реки, так и вода в стоячем пруду должна увлекаться вслед за движением лодки, что совершенно неверно. Прежде всего сошлемся на опыт: мы знаем, что течение реки приводит в движение судно или даже тысячу судов, заполняющих всю реку, в то время как судно, с какой бы скоростью оно ни плыло, не увлекает за собой воду. Причину этого не следует считать непонятной: ни одна сила не может быть приложена к поверхности судна, не будучи приложена ко всему судну, части которого, как твердые тела, прочно сцеплены и не могут быть разъединены или расцеплены так, чтобы одни части передавали импет103 внешнему окружению, а другие не передавали.
Иначе обстоит дело с водой или любой другой жидкостью, частицы которой едва сцеплены или соединены и поэтому легко разделяются. Очень тонкая пленка воды, соприкасающаяся с корпусом судна, вынуждена поэтому следовать его движению, в то время как более далекие частицы отделяются от более близких к судну, а те, в свою очередь, от тех, с которыми соприкасаются, и поэтому на очень малом расстоянии от поверхности судна частицы совершенно свободны от его силы и напора. Кроме того, переданный импет и способность двигаться в {179} телах твердых и тяжелых сохраняются сильнее и дольше, чем в телах легких и текучих. Так, тяжелый груз, подвешенный на веревке, сохраняет в течение многих часов импет и движение, переданные ему одним толчком; вместе с тем можно сколь угодно сильно привести в движение воздух в комнате, но, как только импет, вызвавший движение, перестает действовать, воздух полностью успокаивается и переданное ему движение бесследно исчезает.
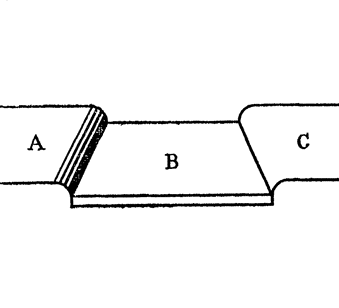 |
Рис. 10 |
Если окружающее и движущееся тело — жидкость и оно действует с силой на находящееся в нем твердое, массивное и тяжелое тело, то такое тело передает свое движение объекту, который в силу своей природы особенно пригоден для получения и сохранения движения в течение долгого времени. Это означает, что второй импет, идущий вслед за первым, налагается на движение, уже переданное твердому телу; третий импет налагается на движение, переданное телу первым и вторым импетом; четвертый импет добавляется к действию, произведенному первым, вторым и третьим импетом; так шаг за шагом движение движимого тела не только сохраняется, но и получает приращение. Но если движимое тело — жидкость, легкая и тонкая и, следовательно, не сохраняющая, а тотчас же утрачивающая передаваемое ей движение, то пытаться сообщить ей скорость — занятие столь же бесплодное, как пытаться наполнить бочку Данаид104, которая мгновенно опорожняется, стоит лишь ее наполнить водой. Смотри же, синьор Лотарио, сколь велика разница между двумя случаями, которые ты считал тождественными.
XXXIX
Перейдем теперь к третьему аргументу.
(3-й аргумент.) Но даже если мы согласимся наконец с Галилеем в том, что внутренняя поверхность лунной орбиты круглая и гладкая, то я все равно отрицаю, что воздух не прилипает к гладким телам. Стеклянная пластинка А [рис. 10], хотя она и очень гладкая, если ее положить {180} на воду, будет плавать ничуть не хуже, чем пластинка из какого-нибудь другого шероховатого материала, и прилипший к ней воздух своей силой не даст воде ВС подняться выше стекла, чтобы вода не хлынула на пластинку и не затопила ее. Почему же, спрашивается, воздух, сдавливаемый вепсом вытесненной стеклянной пластинкой воды, не отделяется от пластинки, а, наоборот, прочно прилипает к ней и не уступает своего места, пока его не вытеснит большая сила?
Еще один пример: если бы кто-нибудь положил на тщательно отполированный камень другое столь же тяжелое и гладкое тело и начал двигать нижнюю плиту то туда, то сюда, то при этом верхнее тело он мог бы сдвинуть в ту сторону, куда ему заблагорассудится; но если приподнять верхний груз, поставленный на плиту, то плита останется лежать на месте и не прилипнет к верхнему телу. Следовательно, вся причина, вынуждающая верхнее тело двигаться при движении нижней плиты, происходит от силы сжатия, с которой тяжелое тело давит на нижнюю плиту. Как и в случае, когда одно из двух тел давит на другое и вынуждено двигаться, если то движется, я утверждаю, что вогнутость Луны определенным образом испытывает давление со стороны окружающего воздуха и испарений, если те разрежены, как это всегда бывает. Ибо если воздух и испарения становятся разреженными, презирая тесноту своей прежней обители, то они расширяются в большем объеме и оказывают весьма сильное давление на все части окружающих тел, где бы те ни препятствовали их расширению, и, следовательно, с силой давят на небо. Это неудивительно, ибо именно таким давлением и обусловлено некоторое сцепление, которое как бы соединяет и связывает два тела так, что те в дальнейшем совершают одно и то же движение.
Сарси продолжает свои измышления, настаивая на том, будто я утверждал, что воздух не прилипает к гладким и скользким телам, хотя ничего подобного нельзя было бы найти ни у синьора Марио, ни у меня. Кроме того, я не вполне понимаю, что именно имеет в виду Сарси, говоря о «прилипании». Если такое соединение, которое полностью препятствует разделению и разведению поверхностей в стороны так, чтобы они более не соприкасались, то я утверждаю, что такое «прилипание» существует и оно очень сильно. Например, отделить поверхность воды от пластины из меди или другого материала можно, лишь затратив значительные усилия, и в этом {181} случае несущественно, будет ли поверхность пластины полированной или нет; вполне достаточно, чтобы контакт [между пластиной и поверхностью воды] был тесным. Именно эта сила удерживает тела вместе столь плотно, что, возможно, между частицами твердых и жестких тел вряд ли найдется какой-нибудь другой цемент, который удерживал бы их вместе. Но такое «прилипание» бесполезно для Сарси. Если же он имеет в виду такое соединение двух тел (твердого тела и жидкости), при котором они не могут двигаться одно по другому, даже скользя, а именно такое соединение отвечало бы требованиям Сарси, то я утверждаю, что такого «прилипания» не существует не только между твердым телом и жидкостью, но даже между двумя твердыми телами. Например, у двух мраморных плит, совершенно ровных и гладких, «прилипание» в первом смысле таково, что, пытаясь поднять верхнюю плиту, мы неизменно будем поднимать и нижнюю, в то время как «прилипание» во втором смысле настолько слабо, что если две соприкасающиеся поверхности не абсолютно горизонтальны, а слегка наклонены хотя бы на толщину волоса, то нижняя плита тотчас же выскользнет в ту сторону, куда наклонены плиты.
Таким образом, движение одной поверхности по другой не будет встречать сопротивление, но для того, чтобы разъять и разделить плиты, необходимо преодолеть значительное сопротивление. Например, при соприкосновении воды с лодкой сопротивление разъятию и разделению поверхностей велико, хотя при движении одной поверхности по другой, когда они трутся друг о друга, сопротивление минимально. Как я уже говорил, быстро движущееся судно не увлекает за собой ничего, кроме пленки воды, непосредственно соприкасающейся с ним; возможно, что трение сдирает такую пленку с судна и оно облекается в нее вновь и вновь. Полагаю, Сарси поверит мне, что если пустить судно в море, подкрашенное вином или чернилами, то не пробороздит оно волны и полмили, как не останется и малейшего следа от той жидкости, которая первоначально окружала его. Весьма вероятно, что то же самое происходит и с водой, соприкасающейся с судном, т. е. эта вода непрестанно обновляется. Не подлежит сомнению, что жир, которым смазано судно, хотя он и прочно держится на поверхности корпуса, за короткое время оказывается стертым водой, по которой скользит движущееся судно; если бы вода, с которой соприкасается {182} судно, не обновлялась, то ничего такого не происходило бы.
Что же касается стеклянной пластинки, которая остается на плаву между двух небольших валиков воды, то должен сказать, что эти валики не поддерживаются сами собой, ибо залить пластинку воде мешает воздух, прилипший к пластинке; но тогда то же самое произойдет, если положить на воду такую же пластинку, слегка смочив ее, ибо трудно поверить, чтобы к мокрой поверхности воздух прилипал хуже, чем к сухой. Тем не менее если пластинка смочена, то никакие валики не образуются и вода быстро заливает ее. Следовательно, поддержание валиков имеет какую-то иную причину, нежели прилипание воздуха к поверхности пластинки. И действительно, мы очень часто наблюдаем крупные капли воды, выпуклые по форме и гораздо более высокие, нежели крохотные валики, окружающие плавающую пластинку, например на капустных листьях.
В заключительной части своего аргумента Сарси утверждает, будто сжатия или давления достаточно для того, чтобы одно тело не отставало от другого без всякого «прилипания». Свое утверждение он иллюстрирует на примере двух хорошо отполированных каменных плит, водруженных одна на другую. Верхняя плита, давящая вниз, вторит движению нижней, в каком бы направлении ту ни тянуть. Не стану спорить с Сарси по поводу этого опыта, но не вижу, какое отношение он имеет к нашей задаче. Во-первых, мы имеем дело с тонким и жидким телом, частицы которого не связаны между собой (в противном случае движение одной части вызывало бы движение целого, как в твердом теле). Во-вторых, Сарси слишком беспечен в своем доказательстве того, что огонь, воздух и испарения, заключенные в лунной полости, толкают и увлекают за собой поверхность этой полости. Причину такого давления он усматривает в непрерывном разрежении этих субстанций, которые, расширяясь и, следовательно, стремясь занять все большее пространство, с силой давят на оболочку, внутри которой они заключены, и тем самым как бы прилипают к ней, следуя ее движению.
Рассуждая так, Сарси поступает весьма неосторожно, ибо он со всей определенностью утверждает, что заключенные внутри полости [лунной сферы] субстанции непрестанно разрежаются и расширяются; его оппонент с не меньшим основанием (я говорю «с не меньшим», хотя {183} Сарси не привел ни единого довода, который бы подкреплял его точку зрения) мог бы утверждать, что эти субстанции непрерывно сгущаются и сжимаются. Но даже если предположить, что они непрестанно разрежаются и из-за этого разрежения прилипают к полости и увлекаются ею, то можно считать, что сотни и тысячи лет назад, задолго до того, как разрежение достигло чего-нибудь похожего на те пределы, которое оно должно было бы иметь ныне по теории Сарси, увлечения испарений поверхностью полости не существовало бы, ибо никаких причин для этого не было бы. Поистине ничто не мешает мне сказать Сарси, что его якобы непрестанно происходящее разрежение еще не достигло той степени, при которой оно начинает давить и жать на полость Луны, и что пройдет еще два-три года, прежде чем оно ее достигнет; тогда самые верхние элементы подлунной сферы придут в движение, с чем я охотно соглашусь, а пока он [Сарси] должен согласиться со мной и признать, что ныне эти элементы недвижимы.
Мне не хотелось бы, чтобы Сарси расхохотался, если мой ответ (равно как и другие ответы в том же духе) вдруг покажется ему смешным, ибо не кто иной, как он сам, дал мне повод для подобного ответа, когда у него с языка, да и с пера, сорвалось, будто некоторые материальные субстанции непрестанно разрежаются и расширяются. Дабы помочь ему, я хочу указать на одно обстоятельство, свидетельствующее в его пользу, заметив, что вечное разрежение, оказывающее давление на стенки лунной полости, излишне, так как он [Сарси] мог бы доказать, что воздух увлекается чашей, на которую он не жмет и не давит и которая расположена в области, занятой воздухом.
XL
(4-й аргумент.) Выясним, насколько отвечает истине тот опыт, который столь настойчиво поддерживает Галилей. Он утверждает, что если сосуд вращается вокруг оси, проходящей через центр, то окружающий воздух не следует с легкостью за сосудом, а отстает от него и никакая часть воздуха не приводится во вращение. От некоторых из тех, кто был с Галилеем на дружеской ноге, мне приходилось слышать, что он имел обыкновение высказывать подобное утверждение о воде, налитой в плоский сосуд, т. е. говорил, что вода не приводится во вращение, даже {184} если сосуд, в который она налита, вращается. Наблюдение Галилея состояло в том, что если в воду, налитую в сосуд, поместить поблизости от края какое-нибудь легкое тело, например соломинку или тростинку, плавающую в воде, а затем повернуть сосуд, то соломинка останется на месте. Я знаю также, что этот опыт, равно как и другие, снискал Галилею громкую славу человека, наделенного необычайным даром просто объяснять самые сложные
Рис. 11
вопросы с помощью незамысловатых опытов. Но вернемся к предмету нашего спора. Отнюдь не желая умалить столь распространенное лестное мнение о Галилее, я обнаружил, что опыт, о котором уже упоминалось, от начала и до конца ложен (да простит меня Галилей за горькую истину).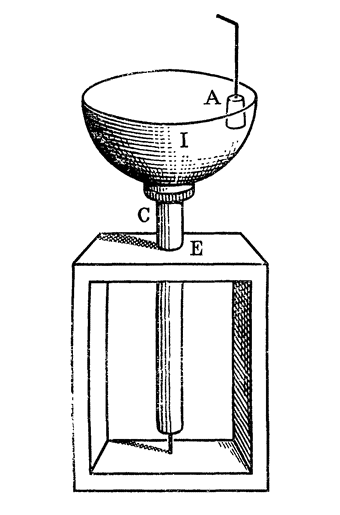
Я нисколько не сомневаюсь, что если бы он повернул в то или иное время раз-другой плоский сосуд, то никакого сколько-нибудь ощутимого движения воды при этом заметно не было бы; но если бы он [Галилей] простер свою мысль дальше, то понял бы, движется ли вода у дна сосуда или противится движению. Ибо стоило ему [Галилею] опустить в воду рядом с внутренним краем сосуда тростинку или соломинку, как та принялась бы быстро описывать круги, а после того, как сосуд остановился бы, еще долго продолжала бы двигаться вместе с плавающими в ней телами, но описывала бы круги от полученного импульса все медленнее и медленнее.
Дабы никто не заподозрил, будто этот опыт произведен нами без должного тщания и кое-как, мы взяли полусферический медный сосуд, искусно выточенный на токарном станке, и насадили сосуд на ось СЕ так, чтобы ее продолжение совпадало с осью сосуда, проходящей через его центр [рис. 11]. Затем мы соорудили прочную и устойчивую подставку, дабы она не дрожала при {185} вращении сосуда, и пропустили ось сквозь отверстие Е под прямым углом к нижней части подставки и закрепили в ней. При таком устройстве, повернув вручную ось, мы заставляли совершить то же движение и сосуд, Но движение сосуда передавалось не только воде, но и воздуху, для которого Галилей привел свой пример. Об этом свидетельствует пламя свечи, поднесенной вплотную к внутренней поверхности сосуда: легкий язык пламени отклонился в ту же сторону, в какую двигался сосуд. Еще более отчетливо в этом можно убедиться, подвесив на тонкой шелковой нити бумажку А, один из краев которой вплотную подходит к внутренней поверхности сосуда. Если наш небольшой сосуд движется в одну сторону, то и бумажка поворачивается в ту же сторону; если сосуд раскрутить в обратную сторону, то и бумажка вместе с прилегающим к ней воздухом отклонится в другую сторону.
У меня есть немало свидетелей, готовых подтвердить, что я говорю не только с уверенностью, но и не погрешен против истины. Это прежде всего многие отцы из Римской коллегии (многие другие охотно признают мою правоту под влиянием авторитета моего учителя), но не только они. Не могу умолчать об одном из них, чье имя отлично известно мне не высокородством того, кто его носит, а необычайной ученостью этого мужа. Кто, как не он, может проверить содеянное мной и подтвердить справедливость моих утверждений. Я имею в виду Вирджинио Чезарини105, который был поражен, узнав, что признаваемое многими за достоверное может на проверку оказаться ложным, и воочию увидел якобы невозможное.
То, о чем я говорю, почерпнуто из опыта, но если бы этого опыта не было, то убедиться в справедливости моих утверждений можно было бы и путем умозаключений. Действительно, так как воздуху и воде присуща влажность, которой свойственно прилипать к телам скользким и гладким, воздух и вода не могут не приставать к поверхности сосудов; если принять соединение тел при прилипании, то необходимо принять и движение влажных субстанций. Ибо та их часть, которая первой соприкоснется с сосудом, т. е. прилипнет к поверхности сосуда, будет двигаться в том же направлении, в каком движется сосуд; когда эта часть придет в движение, она увлечет за собой другую, прилипшую к ней часть [воздуха или воды], та — третью, потом четвертую и т. д. {186} Поскольку такое движение происходит по спирали, неудивительно, что движение воды незаметно при первом или втором обороте сосуда, ибо первые витки спирали проходят очень близко от поверхности сосуда, и поэтому движение еще не успевает передаться остальным внутренним частям, так как те испытывают некоторое разрежение и поэтому не сразу следуют за вынуждающим движением.
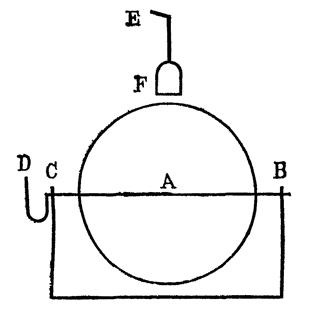 |
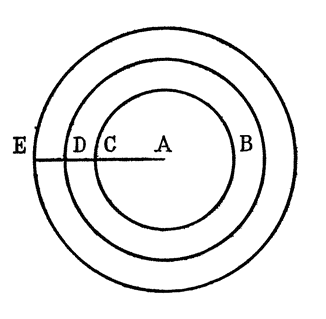 |
Рис. 12 |
Рис. 13 |
Не следует удивляться и тому, что в наших опытах движение воздуха едва заметно, а движение воды столь велико. Ибо воздух сжимается и разрежается легче, чем вода, поэтому при движении сосуда прилипший к нему воздух очень легко разрежается, но не увлекает за собой с такой же легкостью воздух, расположенный рядом, так как соседний воздух с большей силой ограничивает остальные части неподвижного воздуха и, слегка сжимаясь или разрежаясь, в течение непродолжительного времени способен сопротивляться увлекающей его силе движущегося воздуха. Если требуется испытать более основательно, увлекает ли при своем вращении сферическое тело (например, шар А, опирающийся на стержни В и С [рис. 12]) окружающий его воздух, то тело надлежит приводить во вращение ручкой D, подвесив на очень тонкой нити Е клочок бумаги так, чтобы он почти касался шара. При вращении шара в одну сторону бумажка F отклоняется в ту же сторону воздухом, приведенным в движение [шаром], в особенности если шар очень велик и вращается очень быстро. {187}
Однако из слабого движения воздуха, обнаруживаемого на опыте то в сосуде, то на шаре, было бы неверно заключать, что то же движение будет весьма слабым и в полости Луны. Одна из причин, по которой сфера А и сосуд I не порождают при своем вращении сильного движения воздуха, состоит в следующем: так как и сосуд и шар целиком погружены в воздух, они своим вращением должны приводить в движение омывающий их воздух, а того, что движется, всегда меньше, чем то, что движимо. Например, если при вращении шара А [рис. 13] его поверхность ВС должна приводить в движение воздух, прилипший к ней и условно изображенный кругом D, то, так как последний больше круга ВС, большее должно приводиться в движение меньшим, и то же самое происходит, когда круг D должен приводить в движение круг Е. Но, когда мы переходим к вогнутости Луны, все обстоит иначе, так как в этом случае
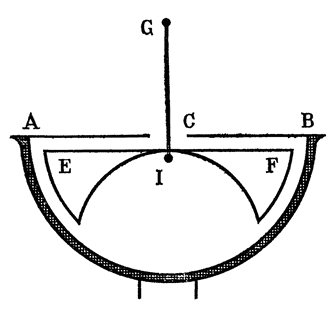 |
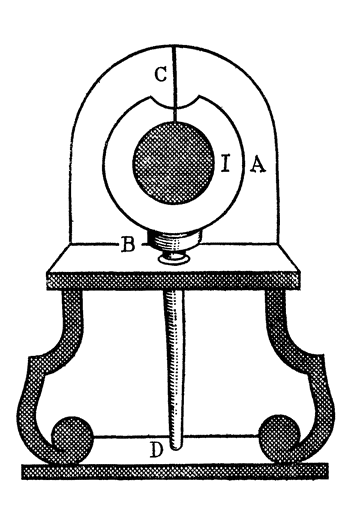 |
Рис. 14 |
Рис. 15 |
то, что движется, больше того, что движимо; ибо тогда круг Е — вогнутость Луны, которая должна приводить в движение круг D, а круг D должен приводить в движение круг ВС; движение движителя всегда сильнее, а значит, и приводить в движение в этом случае легче.
Хотя у меня самого не было ни малейших сомнений, все же кто-нибудь мог подумать, что я отделяю воздух, окружающий сосуд, от воздуха, заключенного внутри {188} сосуда, заведомо надеясь, что тот самый воздух, который сначала отставал от воды, затем станет описывать круги с такой же скоростью, как вода. Дабы происходящее в сосуде не было скрыто от меня, я изготовил прозрачную пластину из камня мусковита, обычно именуемого слюдой, размером с отверстие сосуда, подогнал ее к сосуду, проделал в центре отверстие диаметром в три пальца (оно могло бы быть и меньше). Затем я взял медную проволоку EF, значительно более короткую, чем ширина сосуда [рис. 14], расплющил ее и, проделав в середине I дырочку, пропустил проволоку GI сквозь дырочку I. Подвесив проволоку EF, как весы, к точке G, я прикрепил к ее концам Е и F два бумажных крылышка. Подвесив к каждому концу съемные грузики, я отрегулировал равновесие медной проволочки так, чтобы опора I располагалась ниже центра сосуда, а крылышки по крайней мере на четверть дюйма не доходили до поверхности сосуда. Когда сосуд начал вращаться, я заметил, что после второго оборота крылышки, да и весы, также закрутились, сначала медленнее, затем быстрее, но все же не с такой скоростью, как вода. Тогда я накрыл сосуд заранее приготовленной прозрачной пластиной АВ, которую я изготовил так, чтобы воздух, содержащийся в сосуде, был отделен от наружного воздуха всюду, кроме единственного отверстия С. Весы EF при движении сосуда стали крутиться быстрее и в течение короткого времени даже обгоняли движение сосуда, из чего мы можем заключить, что всякий раз, когда движитель больше движимого, движение облегчается, ибо, когда сосуд накрыт крышкой АВ, воздух приводится во вращение и движением внутренней поверхности сосуда, и движением крышки, что больше, чем прилегающий к ним движимый воздух, ибо внутренняя поверхность сосуда и крышки есть объемлющее, а воздух внутри сосуда есть объемлемое.
Наконец, аналогичный опыт с результатом, совпадающим, насколько это возможно, с предыдущим, я проделал со стеклянной сферой А, проделав в ее верхней части С отверстие, через которое поместил внутрь сферы пластину I [рис. 15]. Если такую стеклянную сферу насадить на ось BD и привести ось во вращение, то не только сама сфера А, но и подвешенная пластина I, хотя она и далеко отстоит от внутренней поверхности сферы, начинает очень быстро вращаться. Так я решил, не жалея труда, со всем отпущенным мне прилежанием {189} доказать свое утверждение многими тщательно поставленными опытами. Те же лица, кого я упоминал ранее, видели эти окончательные опыты, однако я не считаю необходимым, дабы они засвидетельствовали это вновь, Тем не менее я считаю своим долгом отметить, что все мои опыты проводились в жаркое время года, когда воздух теплее и суше и, следовательно, ближе к природе огня, который, по мнению Галилея, менее других элементов склонен к прилипанию. Из всего сказанного по крайней мере можно заключить, что при вращении сосуда приходит в движение и воздух и вода и что воздух прилипает к гладким телам и может быть увлечен их движением, хотя Галилей неизменно отрицает и то и другое.
Сарси вдается здесь в чрезмерно подробное описание своих опытов, дабы подкрепить свое утверждение и опровергнуть наше; поскольку свои опыты он проводил в присутствии Вашей милости, я предоставляю их на Ваше рассмотрение как нечто такое, относительно чего я предпочитаю полагаться на Ваше суждение, нежели выносить свое. Поэтому, если Вашей милости угодно, перечитайте еще раз до конца приведенный выше отрывок, а я буду время от времени вставлять замечания относительно различных несущественных деталей.
Прежде всего замечу, что утверждение, которое Сарси пытается приписать мне в самом начале своих опытов, совершенно ложно; по его словам, я якобы говорил, что вода, содержащаяся в сосуде, при вращении сосуда остается такой же неподвижной, как воздух. Я не удивляюсь, что Сарси написал это, ибо такое вполне допустимо для человека, который постоянно извращает смысл написанного и напечатанного другими, дабы выдать за чужие утверждения то, о чем он только говорит, будто слышал. Сдается мне, однако, что тот, кто печатает и доводит до всеобщего сведения услышанное от соседа, поступает не совсем так, как приличествует благовоспитанному человеку; тем более это относится к случаю, когда либо от недопонимания, либо по собственному выбору печатаемое сообщение значительно отличается от того, что было сказано в действительности, как это было в данном случае. Печатать мои сочинения и делать их доступными всему миру — мое дело, синьор Сарси, а не твое и не чье-нибудь еще. Даже если в ходе диспута человек обмолвился и сказал, как это иногда случается, какую-нибудь глупость, почему ты считаешь своим {190} долгом поспешать с напечатанием сказанного, тем самым лишая человека возможности спокойно обдумать сказанное и исправить допущенную ошибку, изменив свое мнение,— словом, самому распоряжаться своим умом и своим пером?
О чем Сарси мог слышать (но чего, судя по всему, не понял до конца), так это об одном опыте, который я показывал нескольким просвещенным мужам в Риме, может быть, даже в покоях Вашей милости, для того, чтобы отчасти объяснить, отчасти опровергнуть третье движение, приписанное Коперником Земле. Для многих людей это третье движение, состоящее в том, что земной шар, по Копернику, должен вращаться вокруг своего центра в сторону, противоположную всем прочим небесным движениям,— вещь наиболее невероятная и сильно подрывающая всю коперниканскую систему. Ибо все небесные движения, будь то движения эпициклов или эксцентриков, включая суточное и годовое движения Земли, по Копернику, происходят по Orbis magnus с запада на восток и только третье движение Земля совершает с востока на запад, против двух других своих движений и против всех движений планет. Дабы устранить эту трудность, я показал, что такое движение не только не является невозможным, но согласуется с природой и почти необходимо, ибо любое тело, если его поместить в разреженную и жидкую среду, которая будет служить ему опорой, при увлечении потоком в круговращение по большому кругу самопроизвольно начинает вращаться вокруг себя в направлении, противоположном направлению несущего его движения.
Этот эффект можно наблюдать, если взять в руки сосуд, наполненный водой, поместить в него плавающий шарик и поворачиваться на цыпочках, держа сосуд в вытянутых руках; шарик сразу же начнет вращаться в противоположную сторону и закончит вращаться в тот самый момент, когда мы сами остановимся. Таким образом, никакого чуда здесь нет, и было бы, наоборот, удивительно, как могло быть иначе с Землей, если бы, будучи телом, подвешенным в тонкой и жидкой среде и переносимым в течение одного года по окружности большого круга, она не приобретала вполне естественно годовое вращение вокруг себя в противоположную сторону. Я говорил об этом, дабы опровергнуть бытующее мнение о якобы невозможности системы Коперника, я позднее присовокупил, что тот, кто поразмыслил бы {191} глубже, понял бы, в чем заблуждение Коперника: он ошибочно приписал Земле третье движение, которое является ад движением, а неподвижностью и состоянием покоя. Ибо не приходится сомневаться, что тому, кто держит сосуд, кажется, будто шарик, помещенный внутри сосуда, движется относительно него самого, сосуда и вращается. Но тот же самый шарик, если его сравнивать со стенами комнаты и внешними предметами, вообще не вращается и не изменяет своего наклона; если точка на его поверхности была первоначально направлена на какую-нибудь внешнюю отметку на стене или где-нибудь дальше, то она всегда будет указывать в том же направлении. Вот что я утверждал и что, как видит Ваша милость, весьма отлично от утверждения, на которое ссылается Сарси.
Должно быть, этот опыт и, возможно, некоторые другие опыты послужили кому-то из тех, кто часто присутствует на наших дискуссиях, поводом для лестного отзыва обо мне, о котором упоминает Сарси в приведенном выше отрывке, а именно что я использовал иногда ниспосланный мне от природы талант для объяснения с помощью немногих простых и очевидных фактов некоторых других фактов, более сложных и менее очевидных; эту похвалу в мой адрес Сарси, как Вы изволили убедиться, не отрицает полностью и частично признает справедливой. Сдается мне, однако, что признание это исходит не столько от его искренних чувств, сколько от обычной учтивости, ибо синьора Сарси, насколько я могу судить, нелегко убедить в моем таланте: ошибочно приняв трактат синьора Марио за мой, он утверждал в конце предыдущего взвешивания, что тот якобы написан в весьма неясных терминах, смысл которых невозможно постичь.
Я уже говорил, Ваша милость, что предоставляю Вам судить об опытах Сарси, ибо Вы видели их, а мой ответ на них ограничится тем, что уже написано синьором Марио в его «Письме»106. Но сначала я хотел бы обратить Ваше внимание на один аргумент, который Сарси приводит в связи со своими опытами, хотя предпочел бы не затрагивать его, дабы не нанести ущерб репутации и самого Сарси, и его учителя, если только он действительно учился у того человека, за ученика которого себя выдает.
Увы, Сарси, что за чепуху ты там городишь? Если только печатник не допустил при наборе ужасную {192} ошибку, то вот твои слова: «...всякий раз, когда движитель больше движимого, движение облегчается, ибо, когда сосуд накрыт крышкой АВ, воздух приводится во вращение и движением внутренней поверхности сосуда, и движением крышки, что больше, чем прилегающий к ним движимый воздух, ибо внутренняя поверхность сосуда и крышки есть объемлющее, а воздух внутри сосуда есть объемлемое». Скажи мне, пожалуйста, синьор Сарси, с чем ты сравниваешь внутреннюю поверхность сосуда и крышки: с поверхностью содержащегося в сосуде воздуха или с самим воздухом, т. е. с его объемом? Если с поверхностью, то неверно, будто первая поверхность [внутренняя поверхность сосуда и крышки] больше поверхности заключенного в сосуде воздуха; они в точности равны, как тебе следовало бы знать, по аксиоме Евклида: «Quae mutuo congruunt, sunt aequalia»*. Однако, намереваясь сравнивать объемлющую поверхность с объемом воздуха (а именно это ты собираешься делать, если судить по твоим словам), ты совершаешь две чудовищные ошибки.
Первая из них состоит в сравнении двух величин различного рода и потому несравнимых, как гласит одно из определений Евклида: «Ratio est duarum magnitudinum eiusdem generis»**. Разве ты не знаешь, что тот, кто говорит: «Эта поверхность больше того объема», ошибается ничуть не меньше того, кто вздумал бы сказать: «Неделя больше той башни» и «Золото тяжелее ноты „до”»? Другая ошибка состоит в том, что, даже если бы поверхность можно было сравнивать с объемом, результат был бы противоположен тому, о котором говоришь ты: поверхность не только не была бы больше объема, наоборот, объем был бы более чем в сотни миллионов раз больше поверхности. Не дай увлечь себя, синьор Сарси, такими нелепостями или общими утверждениями, что объемлющее больше объемлемого, даже если обе величины сравнимы. В противном случае тебе придется поверить, что наружный слой пряжи в клубке больше всей остальной пряжи, смотанной в клубок, ибо вся остальная пряжа есть объемлемое, тогда как наружный ее слой есть объемлющее; а так как они одного и того же рода, наружный слой, как имеющий бóльшие размеры, должен весить больше остального клубка. {193}
Я весьма подозреваю, что ты [Сарси] внес некую неясность в утверждение истинное, если его понимать в прямом смысле: объемлющее действительно больше объемлемого, если под объемлющим понимать и наружную оболочку, и то, что в ней содержится. Так, квадрат, описанный вокруг круга, больше этого круга, если под квадратом понимать всю фигуру; но если взять то, что останется от квадрата, если вырезать из него круг, то остаток вовсе не будет больше круга, хотя он объем лет круг и включает его в себя. Но, увы, время летит, а я трачу его на подобную чепуху.
Что касается опытов Сарси, то они все вызывают возражение. Пусть Ваша милость велит изготовить сосуд, который может вращаться на своей оси, и, дабы удостовериться в том, приводится ли во вращение воздух внутри сосуда, когда тот вращается, пусть Ваша милость возьмет две зажженные свечи; прикрепите одну свечу внутри сосуда на расстоянии одного или двух пальцев от его верхнего края, а другую держите в руке внутри сосуда примерно на таком же расстоянии от его верхнего края. Приведите сосуд в быстрое вращение; если спустя некоторое время воздух начнет вращаться вместе с сосудом, то, поскольку сосуд движет содержащийся в нем воздух и прикрепленную изнутри свечу с одной и той же скоростью., небольшое пламя первой свечи не будет отклоняться совсем, а останется ровным, как если бы все пребывало в покое. Нечто подобное происходит, когда человек бежит с зажженным фонарем: пламя внутри фонаря не задувается ветром и не отклоняется, так как окружающий пламя воздух движется с той же скоростью. Тот же эффект еще более отчетливо можно наблюдать на судне, быстро идущем под парусами, ибо свечи в подпалубных помещениях горят ровно и пребывают в таком же состоянии, как если бы судно покоилось. Та же свеча, которую Ваша милость держит в руке, обнаружит признак циркуляции воздуха: дуя на свечу, этот воздух отклонит пламя.
Если же исход опыта противоположен, т. е. если воздух не приходит в движение вслед за сосудом, то пламя неподвижной свечи, [которую Ваша милость держит в руке], останется неподвижным и спокойным, в то время как пламя другой свечи, приводимой в быстрое вращение сосудом, отклонится под давлением покоящегося воздуха. Сколько бы раз мне ни приходилось наблюдать этот опыт, он неизменно приводил к одному и тому же {194} результату: пламя неподвижной свечи всегда было ровным, в то время как пламя свечи, прикрепленной к сосуду, отклонялось и нередко гасло. Не сомневаюсь, что и Ваша милость увидит то же самое, как и любой другой, кто вздумает проверить мой опыт. Таким образом, о действии воздуха Вы, Ваша милость, можете судить сами.
Самое большое, к чему можно прийти на основании опытов Сарси, это то, что очень тонкий слой воздуха, толщиной не более четверти пальца, прилегающий к стенкам сосуда, вовлекается во вращение. Этого достаточно, чтобы породить все те эффекты, о которых он [Сарси] пишет, причем обусловлены они были бы не шероховатостью поверхности и не тем, что мелких впадин и выступов в одной части поверхности больше, чем в другой. Наконец, если полость Луны должна увлекать за собой содержащиеся в ней испарения толщиной в один палец, то как Сарси надеется справиться с этим? Пусть он не думает, что если один сосуд увлекает за собой полпальца воздуха, то сосуд больших размеров должен увлекать более толстый слой воздуха; я склонен думать, что больший сосуд переносит меньше. Я отнюдь не считаю также, что большая скорость, с которой лунная полость совершает свой оборот за двадцать четыре часа, непременно должна приводить к более сильному эффекту. Более того, я рискну утверждать, что, по моему мнению, лунная полость увлекала бы скорее меньше, нежели больше, воздуха, чем сосуд, совершающий один оборот за двадцать четыре часа.
Тем не менее примем предположение и согласимся с Сарси, что лунная поверхность увлекает за собой столько испарений, сколько говорилось выше. Ну и что? Что проистекло бы из этого утверждения, идущего вразрез с основным утверждением синьора Марио? Воспламеняется ли материя кометы от такого движения или не воспламеняется, как движимая, так и недвижимая? Я склоняюсь к последнему, ибо если целое остается неподвижным, то оно не высечет огонь, ибо для огня Аристотель требует движения; если же целое движется, то не будет трения одного о другое, без чего не вызвать тепла, не говоря уже об огне.
Вы видите теперь, Ваша милость, какое обилие слов потребовалось и Сарси и мне, дабы решить, увлекает ли за собой твердая полость лунной сферы (которая не существует в природе) в круговращении (хотя она никогда не вращалась) элемент огонь (относительно которого {195} неизвестно, существует ли он) и тем самым испарения, воспламеняющие и поджигающие материю комет (относительно которой неизвестно, где она расположена, и заведомо известно, что она не горюча). Сарси напоминает мне высказывание мудрейшего из поэтов:
|
Достойные слепца удары наугад Орландовым мечом нанесены, Мечом, что нет и вряд ли будет107. |
Настала пора переходить ко второму утверждению, но, прежде чем мы это сделаем (поскольку Сарси в самом конце повторяет то, что я постоянно отрицал,— будто вода увлекается движением сосуда и будто воздух и другие разреженные тела прилипают к гладким телам), необходимо ответить ему еще раз, что он искажает истину, ибо ни синьор Марио, ни я никогда не писали и не говорили ничего подобного. Сарси, не найдя ничего, за что бы он мог ухватиться, продолжает изобретать все новые и новые придирки.
XLI
Пусть Ваша милость перейдет ко второму утверждению:
Второе утверждение
Не движение есть причина тепла, а трение,
вследствие которого расходуются части тела.
Воздух не может быть ни израсходован,
ни воспламенен
Аристотель учит, что движение есть причина тепла108; все объясняют это утверждение так, что тепло не следует приписывать движению как присущий ему внутренний эффект, ибо тепло проявляется локально; но, так как тела при локальном движении изнашиваются, а тепло, по крайней мере косвенно, порождается трением, движение принято называть причиной тепла; в этом Галилей не опровергает Аристотеля, так как до сих пор он [Галилей] не указал никаких расхождений с замечаниями Аристотеля. Но когда он говорит, что никакое трение не может производить тепло и что, кроме того, необходимо, дабы какие-нибудь части тел снашивались и утрачивались при трении, то это утверждение целиком принадлежит ему, и ничто здесь не заимствовано {196} у других. Но почему износ частей необходим для производства тепла? Может ли быть так, что для восприятия тепла тела должны становиться разреженными и что во всех случаях преломления тела кажутся переломленными и все частицы улетают крохотными кусочками? Но тела могут становиться разреженными и без разделения на части, и, следовательно, без износа. Или разбиение на мелкие части необходимо для того, чтобы сначала нагревались эти части, как наиболее пригодные для восприятия тепла, а затем отдавали тепло остальному телу? Вовсе нет, ибо частицы меньших размеров могут быть более пригодными к восприятию тепла, как это происходит с железными стружками, которые, если по ним часто ударять, сгорают от трения; но если железные стружки отлетают или отваливаются, то они утрачивают способность передавать тепло остальному телу, которому уже не принадлежат.
С самого начала нашего диспута Сарси стремится заставить синьора Марио и Аристотеля согласиться [друг с другом] и жаждет показать, что они оба провозгласили одно и то же заключение, когда один из них назвал движение причиной тепла, а другой усматривал причину тепла не в движении, а в частом трении двух твердых тел друг о друга. Поскольку утверждение синьора Марио истинно и не нуждается в комментариях, Сарси пытается истолковать слова Аристотеля, утверждая, что, действительно, не движение как движение есть причина тепла, а трение, но трение не может быть достигнуто без движения, поэтому, по крайней мере косвенно, движение может быть названо причиной тепла. Но если Аристотель имел в виду именно это, то почему он но сказал, что трение есть причина тепла? Если кто-нибудь высказал ясно и определенно то, что имел в виду, выбрав для этого простое и весьма подходящее слово, то я не усматриваю, почему ему непременно следовало бы воспользоваться совсем неподходящим словом, требующим всякого рода оговорок и превращаемого в конечном счете в нечто совсем иное. Но даже если допустить, что Аристотель имел в виду то, о чем говорит Сарси, то и тогда утверждение Аристотеля отличается от утверждения синьора Марио, ибо, по Аристотелю, трения любых двух тел, даже столь тонких и разреженных, как воздух, достаточно для производства тепла, в то время как синьор Марио говорит непременно о трении двух твердых тел и считает попытки измельчить и утончить {197} воздух столь же бесполезной тратой времени, как пресловутое толчение воды в ступе.
Я считаю, что исходное утверждение могло бы быть верным, если его понимать в самом простом смысле; возможно, оно восходит к какой-нибудь доброй античной школе, но Аристотель, не поняв должным образом замысел древних, сформулировавших это утверждение, впоследствии вывел из него ложную концепцию. Возможно, что это не единственное утверждение, верное само по себе, но неправильно понимаемое в перипатетической философии. Я коснусь этого вопроса несколько дальше.
Будем следовать Сарси, который (вопреки утверждению синьора Марио) считает, что тепло возбуждается без всякого расхода тел, трущихся друг о друга и нагревающихся, и намеревается доказать это сначала с помощью умозаключений, а затем опытов. Что касается умозаключений, то все его примеры я могу изложить весьма кратко, ибо он [Сарси] вопрошает синьора Марио, затем отвечает за него и сам же опровергает ответы.
Следовательно, если я скажу, что синьор Марио не несет за все это никакой ответственности, то Сарси не останется ничего другого, как промолчать.
Взять хотя бы первый ответ. Не думаю, чтобы синьор Марио утверждал, будто для нагрева тела должны предварительно стать разреженными и будто разрежение уменьшает их, а более тонкие части отлетают, как пишет Сарси; из такого ответа явственно видно, что Сарси мыслит совершенно иначе, нежели синьор Марио. При изучении такого действия [нагрева] необходимо рассматривать тело, производящее тепло, и тело, получающее тепло. Сарси полагает, будто синьору Марио надобно, дабы в теле, получающем тепло, происходило возбуждение и поглощение [износ] частей, тогда как я считаю, что синьору Марио надобно, дабы тело, производящее тепло, было тем телом, которое уменьшается. Одним словом, не получение, а передача тепла вызывает уменьшение передающего тела. Я бы очень хотел поэтому, чтобы мне объяснили более подробно, каким образом можно достигать большего разрежения тел, не разделяя их частей, и как происходит то разрежение и та конденсация, о которых Сарси рассуждает столь уверенно, хотя я считаю это одним из наиболее темных и трудных вопросов всей физики. {198}
Совершенно очевидно также, что синьор Марио не дал бы и второго ответа — не стал бы утверждать, будто поглощение частей необходимо для того, чтобы болев мелкие части сначала нагрелись, а затем передали своё тепло остальному телу. Если бы это было так, то уменьшению подверглось бы тело, которое подлежит нагреву, тогда как синьор Марио наделяет этим свойством тело, производящее тепло. Необходимо отметить, однако, что довольно часто тепло поглощает то же самое тело, которое его производит; например, при ковке гвоздя те его части, которые испытывают чудовищное сжатие, производят тепло, которое нагревает тот же самый гвоздь. Этим я хотел бы сказать, что износ частей зависит от производства тепла, а не от получения его, как будет объяснено мною далее. А пока послушаем об опытах, с помощью которых Сарси, как он полагает, удалось обнаружить возможность производства тепла за счет трения без расхода чего бы то ни было.
XLII
Но буде кто-нибудь жаждет почерпнуть примеры из опыта, то что, если какое-нибудь тело нагревается от движения, без утраты частей? Взяв маленький кусочек меди, тщательно очищенный от всякого окисления и налета, чтобы к его поверхности ничто не приставало, я с величайшими предосторожностями взвешу его на высокоточных банкирских весах с помощью мельчайших разновесов (я могу воспользоваться разновесами в 1/512 унции), затем сильными ударами молота я расплющу медь, и за два-три удара она нагреется настолько, что ее нельзя будет коснуться рукой. Но, сколько бы раз ни разогревался таким способом кусочек меди, используя те же весы с теми же разновесами, дабы выяснить, не уменьшается ли кусочек меди и не теряет ли он в весе, я всякий раз обнаруживал, что вес остается неизменным; следовательно, медь нагревается за счет трения без утраты своих частей. Галилей отрицает это. Как я слышал, нечто похожее происходит при переплетении книг, когда переплетчик сильно и долго бьет молотком по сложенным листам бумаги, ибо после такой обработки их вес остается прежним, хотя от ударов они нагреваются так сильно, что едва не возгораются. Если кто-нибудь станет утверждать, будто при этом теряются настолько малые частицы, что их не уловить и с помощью даже {199} точных весов, то я спрошу, откуда известно, что такие частицы вообще были утрачены? Вряд ли этот вопрос мог быть изучен более обстоятельно и со всем тщанием. К тому же если утрата частиц столь мала, что становится неощутимой, то почему она приводит к выделению столь большого количества тепла? Если железо обтачивать напильником, то оно нагревается, но меньше, и уж во всяком случае не больше, чем если по нему сильно ударить молотом, хотя при обработке напильником частиц теряется значительно больше, чем при ковке.
Я вполне могу поверить, что Сарси даже с помощью точнейших весов не обнаружил никакой убыли веса у маленького кусочка меди после многократных ударов молота и нагревания. Не думаю, однако, что убыли не было; она могла быть столь малой, что ее нельзя было обнаружить с помощью любых весов, какими бы точными они ни были. Я хочу спросить Сарси, во-первых, была бы обнаружена сколько-нибудь заметная разница в весе, если бы серебряную пуговицу взвесить, затем позолотить и снова взвесить. На этот вопрос Сарси должен был бы ответить отрицательно, ибо, как известно, листок сусального золота настолько тонок, что способен парить даже в спокойном воздухе, опускаясь чрезвычайно медленно, и таким листком золота можно позолотить любой металл. Такая пуговица прослужила бы два-три месяца, прежде чем позолота стерлась бы, а так как позолота в конце концов полностью стирается, ясно, что она убывает с каждым днем и с каждым часом. Возьмите комочек из амбры, мускуса или какого-нибудь другого пахучего вещества и поносите его с собой недели две; за это время он наполнит своим запахом тысячу комнат и тысячу улиц, каждое место, где Вы только побываете. Все это происходит не без потери пахучего вещества, ибо если бы такой потери вообще не было, то, несомненно, не было бы и запаха; тем не менее, сколько бы Вы ни взвешивали комочек, никакой сколько-нибудь заметной убыли в весе обнаружить не удалось бы.
Таким образом, перед Сарси открывается новое поприще: неощутимая убыль в весе при расходовании материи на протяжении месяцев, т. е. гораздо дольше тех нескольких минут, в течение которых он бил молотом по своему кусочку меди, и при использовании весов, употребляемых в пробирном искусстве, которые по точности намного превосходят грубые весы философа. Заметьте также, что разреженная материя, производящая тепло, {200} может оказаться гораздо более тонкой, чем пахучая субстанция, ибо следует помнить, что пахучее вещество можно заключить в стекло или металл, через которые оно не улетучивается, тогда как тепловая субстанция проходит сквозь любое тело.
Против этого Сарси выдвигает возражение, вопрошая: «Если опыт с весами недостаточен для того, чтобы показать нам, как мало вещества расходуется, то откуда все это известно?» Возражение остроумное, но не настолько, чтобы с помощью обычной логики мы не могли найти ответ. Вот он шаг за шагом. Среди тел, трущихся друг о друга, синьор Сарси, существуют такие, которые заведомо совершенно не расходуются, в то время как другие тела расходуются весьма значительно, а третьи хотя и расходуются, но в неощутимо малых количествах. Как показывают наши ощущения, те тела, которые совсем не расходуются при трении друг о друга, как, например, два гладких зеркала, не нагреваются. Не подлежит сомнению, что тела, которые сильно расходуются, как, например, железо, обрабатываемое напильником, нагреваются. Следовательно, мы вправе считать, что тела, в отношении которых у нас возникают сомнения, расходуются ли они при трении друг о друга, надлежит считать расходующимися, если мы почувствуем, что они нагреваются, и только о телах, которые не нагреваются при трении, можно сказать, что они не расходуются.
Прежде чем переходить дальше, я в поучение Сарси хотел бы добавить нечто, о чем мы уже говорили. Тот, кто утверждает: «Это тело, как показывают весы, не стало легче, следовательно, никакая часть его не была израсходована», совершает грубую логическую ошибку, ибо вполне возможно, что некоторая часть тела израсходована, отчего тело нимало не потеряло, а, наоборот, прибавило в весе. Так будет происходить всегда в тех случаях, когда расходуемая материя имеет меньший удельный вес, нежели среда, в которой производится взвешивание. Например, сучковатый кусок дерева, вырезанный у корня, опустится на дно, если его поместить в воду. Пусть под водой он весит, например, четыре унции. Если от него отпилить некую часть (не сучки, а более легкую часть с удельным весом меньше, чем у воды, т. е. ту часть, которая придавала некоторую плавучесть всему куску дерева), то может случиться, что остаток будет весить больше, чем исходная масса в той же среде. Точно так же при обработке напильником или трении {201} друг о друга двух кусков железа, двух камней или двух палочек от них могут отделиться частицы материи, которые легче воздуха; если отделятся только такие частицы, то тело станет тяжелее, чем прежде.
Я говорю обо всем этом с определенной вероятностью, а не для того только, чтобы ретироваться, предоставив противнику опровергать сказанное. Ибо пусть Ваша милость произведет тщательные наблюдения, разбивая стекло, камни или какие-нибудь другие материи. Всякий раз Вы увидите легко различимый дымок, поднимающийся высоко в воздух, а это с необходимостью свидетельствует, что дымок легче воздуха. Впервые я заметил такой дымок у стекла, когда ключом или каким-то другим куском железа отбивал углы и придавал ему округлую форму. Помимо множества мелких осколков различных размеров, которые отлетали и падали на землю, все время был виден легкий дымок, поднимавшийся в воздух. То же самое и аналогичным образом происходило, когда мне случалось разбивать камни. Дымок этот не только виден глазом, но и дает нам вполне убедительный аргумент и служит признаком того, что, помимо упомянутых дымков, могут подниматься и другие, более тонкие сернистые и смолистые части, невидимые, но распознаваемые по запаху.
Пусть же Сарси сам судит, сколь поверхностны и далеко не глубоки, если судить не только по наружности, его философствования. Пусть он не думает, будто ему удастся увильнуть от ответа оговорками и уточнениями, всякими per accidens [случайно], per se [как таковой] и mediate [посредством], делением на первичное, вторичное и прочим пустословием. Смею заверить его, что, отстаивая одну ошибку, он совершает сотню более серьезных и допускает в свой лагерь еще большие нелепости, большие, нежели те, которые мне осталось рассмотреть в приведенном выше отрывке, где в заключение он сначала удивляется, что расход материи, неощутимый для весов, способен производить тепло, а затем присовокупляет, что при обтачивании напильником расходуется много железа, гораздо больше, чем при ковке, однако тепла при обтачивании производится отнюдь не больше, чем при ковке. Такого рода рассуждение бесплодно, ибо оно означало бы, будто по весу можно измерять количество материи либо невесомой, либо настолько легкой, что она способна подниматься в воздух. Но, коль скоро то, что при сильном трении превращается в горячую материю, {202} составляет лишь малую часть твердого тела, не следует удивляться, что весьма малая часть его может стать разреженной и распространиться по очень большому пространству. Пусть Сарси вспомнит, в сколь большом объеме горячей и пылающей материи бесследно исчезает горящая палочка; видимое пламя составляет лишь меньшую часть этого объема, ибо то, что невидимо зрению, но вполне ощутимо на ощупь, гораздо больше.
Что же касается другого замечания Сарси, то оно имело бы некоторое правдоподобие, если бы синьор Марио где-нибудь обмолвился, что все железо, израсходованное на опилки, превратилось в калорическую материю, ибо тогда казалось бы разумным, что железо, расходуемое при обтачивании напильником, должно нагреваться сильнее, чем когда по железу бьют молотом. Но не железные опилки производят нагревание, а другая, несравнимо более тонкая субстанция.
XLIII
Но двинемся дальше.
Соответственно я считаю, что многое зависит от большего или меньшего нагревания изнашиваемых тел и их качеств, т. е. от того, склонны ли они в большей степени к теплу или холоду, и что это зависит от многого другого, установить которое не столь легко. Но если потереть друг о друга две деревянные палочки из очень легкой и редкой древесины или воспользоваться трением о какой-либо другой кусок дерева, то они вскоре возгорятся; если взять палочки из очень твердого и плотного дерева, то возгорания не произойдет, сколько бы их ни тереть с силой друг о друга вплоть до полного истирания. Сенека говорит: «Огонь от трения чаще возникает в теплом воздухе»; отсюда, по его утверждению, следует, что летом молнии наблюдаются чаще, так как летом много тепла. Железные опилки, попав в огонь, вспыхивают, но мраморная пыль не загорается. Если в воздухе много горячих испарений, то вполне может возникнуть и какое-нибудь трение, и я не усматриваю, почему испарения не могут разогреваться и даже возгораться, ибо на этот раз, поскольку они разрежены и сухи и к ним подмешано много тепла, испарения особенно восприимчивы к огню.
Сарси, по-видимому, намеревается изложить более разумную теорию и предложить более удачное объяснение трудностей, с которыми он столкнулся, но я не вижу, {203} чтобы он ввел особо много нового или предложил что-либо наносящее ущерб синьору Марио. Сарси утверждает, будто свойство тел, трущихся друг о друга, быть холодными или горячими тесно соответствует их большему или меньшему нагреву и что это, в свою очередь, зависит от многих других вещей, далеко не столь очевидных. Все это хорошо мне известно, но не позволяет нам продвинуться ни на шаг. Второе замечание слишком загадочно, первое — слишком очевидно и давно известно, поскольку Сарси не сообщает мне об эффекте ничего, кроме того, что тела с большей калоричностью, [предрасположенные к нагреванию], нагреваются сильнее, а тела с большей холодностью нагреваются слабее. Я согласен и с тем, о чем Сарси говорит дальше, что огонь возгорается легче, если тереть друг о друга более легкие и менее плотные палочки, чем твердые и плотные, даже если последние тереть друг о друга очень сильно и долго; но я решительно не усматриваю во всем этом ничего против синьора Марио, который не высказывал противоположного утверждения. Мне давно известно, что пенька загорается на медленном огне быстрее, чем кусок железа в пылающей печи.
Далее он [Сарси] добавляет, заручившись свидетельством Сенеки, что молнии чаще наблюдаются летом, когда воздух содержит большее количество сухих испарений. Допуская это, я хотел бы спросить, загораются ли такие испарения вместе с воздухом и происходит ли возгорание от трения, вызванного каким-то движением. Мне не оставалось бы ничего другого, как принять сказанное Сарси за истину, если бы он убедил меня в том, что у природы нет других способов возжигания огня, кроме двух названных им, а именно путем соприкосновения горючей материи с пылающим огнем (так происходит возгорание, когда мы подносим факел к зажженной свече) и путем трения друг о друга двух не горящих тел. Но поскольку другие способы существуют, например отражение солнечных лучей от вогнутого зеркала или преломление тех же лучей в хрустальном шаре или шаре, наполненном водой, или когда солома и другие тонкие тела иногда загораются на улице из-за чрезмерного тепла, хотя ничто не возмущает их покой и не ворошит, в полное безветрие (если бы ветер ворошил и обдувал их, то они вряд ли загорелись бы), поскольку, говорю я, все эти способы возжечь огонь существуют, то почему бы мне не считать, что существуют и другие, весьма отличные {204} от названных и что испарения в воздухе и между облаков загораются именно этими иными способами? Почему я должен приписывать возгорание сильному движению, если вижу, что огонь не возникает без трения твердых тел друг о друга, а в облаках ничего такого не существует, и, кроме того, никакого волнения в воздухе или облаках в ту пору, когда молнии и зарницы наблюдаются особенно часто, не бывает?
Думаю, что истины здесь ничуть не больше, чем в утверждениях тех философов, которые приписывают оглушительные раскаты грома разрыву или столкновению облаков, хотя при блеске ослепительных вспышек молний, порождающих гром, в облаках не обнаружено ни малейшего движения или изменения формы, хотя разрывы должны были бы сопровождаться сильным волнением. Я уже не говорю о том, что, когда те же философы пытаются объяснить звук, им для производства звука надобно столкновение твердых тел, и они говорят, что при столкновении шерсти или пеньки никакого звука не образуется, а когда им нужно, заявляют, будто столкновение туманных испарений и облаков сопровождается оглушительным грохотом. Что и говорить, гибка и удобна философия, столь услужливо и с такой готовностью приспосабливающаяся к нашим нуждам и желаниям!
XLIV
Рассмотрим теперь опыт со стрелой, выпущенной из лука, и свинцовым ядром, которое метнула катапульта. И стрела и ядро возгораются и оплавляются на воздухе по свидетельству Аристотеля, многих великих поэтов, философов и историков.
Хотя Галилей смеется и подшучивает над примером Аристотеля с железным наконечником стрелы, который раскаляется в полете, у него [Галилея] нет для этого ни малейших оснований, ибо о таком наблюдении говорил не только Аристотель, но и почти несметное число людей с громкими именами приводили примеры того же рода, несомненно, на основе того, что они наблюдали сами или о чем им сообщали наблюдатели. Если Галилею угодно, я могу назвать некоторых из множества тех, кто утверждает это столь же правдиво, сколь и точно. Начну с поэтов, довольствуясь теми, чей авторитет велик и кто в своих творениях пишет о весьма серьезных материях, ибо они весьма сведущи в натуральной философии. {205} Овидий109, искусный не только в поэзии, но и в математике и философии, свидетельствует, что не только стрелы, но и свинцовые ядра, запускаемые из балеарских пращ, оплавлялись в полете. В его «Метаморфозах» есть такие строки:
|
Ошеломлен красотою Юпитеров сын, повисает В небе он, весь раскален, как ядро, что пращой балеарской Брошено, кверху летит, своим раскаляется летом И обретает лишь там в нем дотоле не бывшее пламя110. |
Аналогичные утверждения высказывал и Лукан111, известный своим талантом и ученостью:
|
Пылая летят головни, камни и ядра, Раскаляясь о воздух в полете и плавясь112. |
А Лукреций113, философ ничуть не меньший, чем поэт? Разве не о том же свидетельствует он неоднократно?
|
Разгорячается он (ветер) от движенья, как все остальное, Двигаясь, видишь, горит, распалившись: свинцовые даже Ядра, коль долго летят, растопляются в быстром вращенье114 |
И в другом месте:
|
Тем же примерно путем и свинцовые ядра нередко Могут горячими стать на бегу, когда, много холодных Выпустив тел из себя, они в воздухе жар набирают115. |
Ему вторит Статий116:
|
...ядро, что сгорает В неба пустынных просторах117. |
А Вергилий118, величайший из поэтов? Разве не подтверждает он это дважды? Описывая игры троянцев, он так говорит об Акесте:
|
Между прозрачных летя облаков, загорелась тростинка, Пламенем след за собой прочертив, растаяла легким Дымом в воздухе...119 |
А в другом месте, говоря о Мезенции, пишет так:
|
Сам, отставив копье и пращой свистящею трижды Круг над собой описав, свинцовый слиток в героя Метко Мезенции послал: полетел свинец, расплавляясь,— И с размозженным виском на песке противник простерся120. |
Вода доказывает, что даже очень твердое тело может быть источено другим, более мягким телом посредством трения, ибо вода долбит даже самые твердые камни капелью, мерно падающей день за днем, и острым гребнем неистовой волны; углы городских стен и домов также {206} мало-помалу разрушаются силой ветров. Следовательно, когда воздух сгущен и несется с огромной силой, он изнашивает даже очень твердые тела и, в свою очередь, изнашивается ими. Свист ветра, который отчетливо слышен, когда ветер разводит волну, свидетельствует об уплотнении воздуха. Возможно, именно это имел в виду Статий, когда говорил о следе, оставляемом в воздухе вращающейся пращой:
|
Пращи балеарской гибкий ремень движением быстрым Искусной руки он вращает, След оставляя над головой в виде круга121. |
То же доказывает и гроза с градом: чем с большей высоты падают градины, тем они мельче и круглее; капли дождя, падая с небольшой высоты, достигают значительных размеров, а при падении с большей высоты становятся мелкими, ибо разбиваются и истираются о воздух.
Совершенно неверно, будто синьор Марио и я потешаемся и строим насмешки над опытами, о которых говорит Аристотель; в книге синьора Марио нет ни малейшего намека на насмешку. Синьор Марио просто пишет о том, что мы не верим, будто холодная стрела, выпущенная из лука, может сама собой загореться; мы склонны думать, что произойдет обратное: если горящую стрелу выпустить из лука, то она остынет быстрее, чем неподвижная стрела. В этих словах нет никакой насмешки, мы просто высказываем свое мнение. Поскольку опыт со стрелой нас не убедил, Сарси добавляет далее, что так думали и писали не только Аристотель, но и многие другие великие люди. На это я отвечу: если для того, чтобы опровергнуть утверждение Аристотеля, мы должны представить дело так, будто другие люди думали и писали иначе, то ни синьор Марио, ни я, равно как и никто на свете, не сможем опровергнуть Аристотеля, ибо те, кто думал и писал так же, как он, не могут думать и писать иначе. Ново для меня здесь лишь то, что нашелся человек, который свидетельства людей ставит превыше опыта.
Ссылка на свидетелей, синьор Сарси, в данном случае ничего не дает, ибо мы никогда не отрицали, что многие писали и думали так же, как Аристотель. Мы считаем ложным самый эффект, и, дабы сделать его ложным или истинным, твой авторитет ничуть не менее весом, чем авторитет сотни людей. Ты опираешься на авторитет многих поэтов и выступаешь против произведенных нами {207} опытов. На это я отвечу, что если бы названные тобой поэты присутствовали при наших опытах, то они изменили бы свое мнение и, не лукавя, могли бы сказать, что написанное надлежит понимать как гиперболу, или признаться, что ранее заблуждались.
Хотя мы не можем собрать твоих поэтов (как я уже говорил, при виде наших опытов они не преминули бы изменить свое мнение), однако у нас есть стрелки из лука и те, кто искусен в обращении с катапультой; ты можешь воочию убедиться, станут ли они от приводимых тобой высказываний различных авторитетов настолько сильными, что выпускаемые ими стрелы и свинец будут загораться и плавиться в воздухе. Тем самым ты сможешь оценить, сколь велика сила человеческого авторитета над фактами природы, глухой и безучастной к нашим суетным желаниям. Ты говоришь мне, что нет более Акеста или Мезенция или подобного им и доблестного рыцаря, искусного в ратном деле. Я бы согласился с тобой, если бы ты выпускал стрелы не из простого деревянного лука, а из очень тугого стального арбалета и катапульта взводилась с помощью рычагов и воротов, которые не могли бы повернуть и тридцать Мезенциев; выпусти десять или сто стрел, и если стальной наконечник хотя бы одной из них загорится, или древко ее затлеет, или хотя бы слегка обуглится оперение, то я проиграл сражение и в придачу лишился твоего уважения, которым очень дорожу.
А теперь, Сарси, я не хочу держать тебя в напряжении; не думай, будто я из каприза не приемлю авторитет и свидетельство многих великолепных поэтов или не верю, что иногда стрелы загораются, а металл плавится. Я утверждаю лишь, что причина этих чудес весьма отлична от той, которую пытаются отстаивать философы, когда сводят ее к трению о воздух, испарениям и другим химерам. Все это глупость! Ты хочешь знать истинную причину? Внемли же несравненному поэту, повествующему о встрече Руджеро и Мандрикардо и о том, как сгорели их копья:
|
Древки, вздымаясь, доставали до неба, Турпин, своим правдолюбием известный, Пишет, что пламя вдруг охватило два или три из тех копии, Остриями своими достигнувших сферы огня122. |
Ты думаешь, великий Ариосто не усомнился в истинности подобного утверждения, которое он приводит со ссылкой на свидетельство Турпина123? Всякий знает, сколь правдив Турпин и как ему можно верить. {208}
Но оставим поэтов в подобающем им месте и обратимся к тем, кто сводит причину явления к трению о воздух. Я считаю, что те, кто так думает, заблуждаются, и рассмотрю те доводы, которые ты, Сарси, приводишь, пытаясь доказать, что очень твердые тела могут изнашиваться от трения о другие, более мягкие тела. Ты говоришь, что это очевидно для воды и ветра, ибо ветер уносит и разрушает углы башен из самого твердого камня, а вода, непрерывно возгоняясь и капая, долбит мрамор и самые твердые скалы. Я целиком согласен с тобой, ибо все это — истина. Более того, я нисколько не сомневаюсь, что стрелы и не только свинцовые ядра, но и каменные и даже железные ядра, вылетев из жерла пушки, истираются от столкновения с воздухом при той бешеной скорости, с которой они летят, сильнее, чем скалы или стены под действием воды и ветра. Дабы коррозия или шелушение скал и башен стали заметными, они должны выдерживать натиск воды и ветра в течение двух или трех столетий; для разрушения стрел или пушечных ядер вполне достаточно, чтобы они оставались на воздухе всего лишь два или три месяца. Но я решительно не усматриваю, каким образом два или три удара пульса могут оказать на них сколько-нибудь заметное действие.
Кроме того, пытаясь применить к нашей задаче твою поистине остроумную теорию, я неизменно наталкиваюсь на другие трудности. Первая из них состоит в том, что мы хотим обсудить ожижение и плавление за счет тепла, а не износ за счет соударений. Вторая трудность состоит в том, что при обосновании своей теории ты требуешь, чтобы превращалось в порошок и истончалось не твердое, а мягкое и податливое тело, т. е. воздух, которое должно при этом загораться. Поставленные опыты показывают, что трение воспринимают скалы, а не вода или воздух, и я абсолютно убежден, что вода и воздух, как бы они ни секли скалы, не становятся от этого тоньше, чем были. Исходя из этого, я заключаю, что доводы, которые ты приводишь, ссылаясь на град и дождевые капли, слабо подкрепляют твои позиции.
Я согласен с тобой, что градины и дождевые капли, падая с высоты, становятся меньше. Я соглашаюсь с тобой в этом не потому, что считаю, будто утверждение, противоположное твоему, не может быть также истинным, а лишь по той причине, что не усматриваю, какое отношение и то и другое утверждения имеют к предмету {209} нашего обсуждения. То, что праща с ее шумом и свистом якобы свидетельствует о сгущении возмущаемого воздуха, я всецело оставляю на твое усмотрение. Обрати лишь внимание на то, что этот аргумент находится в противоречии с твоей позицией и грозит обернуться бедствием для твоей теории, ибо до сих пор у тебя всегда была возможность сказать, что сильное возмущение и волнение порождают трение, разрежение и в конечном итоге приводят к возгоранию воздуха, теперь же тебе для объяснения свиста пращи или придания смысла весьма темным словам Статия понадобилось сгущение воздуха. Таким образом, то же самое волнение, которое приводит к разрежению воздуха, дабы способствовать плавлению и горению, теперь сгущает его на благо пращ и Статия. Но послушаем теперь свидетельства историков.
XLV
Дабы свидетельства поэтов, пусть даже самого знаменитого из них, не показались кому-нибудь сомнительными, хотя, как мы знаем, их речи всегда по крайней мере согласуются со здравым смыслом, разделяемым всеми, я перехожу к свидетельствам других людей, весьма авторитетных и правдивых. Сеида124 в своей книге в разделе «PerisiuouuteV» [«Круговращение»] говорит следующее: «Вавилоняне, имевшие обыкновение вращать куриные яйца, заложив их в пращи, не были незнакомы с грубой диетой охотников и таким способом, требуемым суровостью походной жизни в их армии, варили сырые яйца». Так говорит Сеида. Но если кто-нибудь вздумает искать причины таких явлений, то ему следует послушать философа Сенеку, так как того среди прочих одобрил и Галилей, когда обсуждал эти явления с точки зрения философии.
Сначала он говорит в согласии с Посидонием125: «В самом воздухе при разрежении становится сухо и горячо», а затем высказывает свое собственное мнение: «Движение воздуха не постоянно, но часто, при более сильном волнении он самовозгорается и стремится улететь». С большей отчетливостью те же мысли изложены в другом месте, где речь заходит о причинах, порождающих молнию. «Случается,— пишет Сенека,— что, когда воздух в облаках разрежен, он воспламеняется и не имеет силы, дабы расширяться дальше». А теперь слушай, Галилей, и вникай: «Думаю, никто не удивится {210} тому, что либо движение приводит к разрежению воздуха, либо истончание приводит к его возгоранию; так свинцовое ядро, выпущенное из пращи, плавится и под действием трения о воздух выпадает каплями на землю, как от огня». Не знаю, можно ли высказать мысль более ясно и понятно.
Таким образом, независимо от того, верите ли вы лучшим поэтам и философам и испытываете ли сомнения по данному поводу, со всей очевидностью вы видите, что воздух может истончаться при движении и нагреваться до такой степени, что даже свинец плавится от его тепла. Кто поверит, что люди, составляющие цвет учености, которые говорят здесь о вещах, с которыми приходится повседневно сталкиваться в военных делах, стали бы вдруг столь нагло и беззастенчиво лгать. Я не из тех, кто бросит камень в этих ученых мужей.
Я не перестаю удивляться тому, что Сарси не оставляет своего намерения доказать мне с помощью свидетелей то, в чем я в любое время могу убедиться с помощью опыта. Опрос свидетелей хорош в сомнительных случаях, когда речь идет о минувшем и не оставившем по себе зримых следов, а отнюдь не о том, что подкреплено вещественными доказательствами и продолжает происходить поныне. Судья вынужден прибегать к опросу свидетелей, дабы установить, был ли Джованни поранен прошлой ночью Пьетро, но не для того, чтобы выяснить, был ли Джованни поранен, ибо в последнем судья может удостовериться собственными глазами, произведя visum reperto126. Должен сказать, что даже в заключениях, из которых знание можно почерпнуть путем одних лишь рассуждений, свидетельство многих людей ничуть не более убедительно, чем свидетельство весьма ограниченного круга людей, ибо тех, кто хорошо мыслит и разбирается в сложных вопросах, гораздо меньше тех, кто мыслит плохо.
Если бы мышление можно было уподобить переноске тяжестей, где несколько лошадей перевозят больше мешков с зерном, чем одна, то мне пришлось бы согласиться с тем, что несколько мыслителей могут достичь большего, чем один; но мышление надлежит сравнивать с бегом, а не с переноской тяжести, и один арабский скакун намного опередит сотню вьючных лошадей. Именно поэтому, когда Сарси перечисляет нескончаемую вереницу авторов, я отнюдь не считаю, что он укрепляет свои позиции. Он лишь облагораживает и возвышает точку {211} зрения, отстаиваемую синьором Марио и мной, ибо показывает, что мы мыслим лучше многих из тех, кто пользуется весьма высокой репутацией.
Если Сарси, ссылаясь на свидетельство Свиды, жаждет убедить меня, что вавилоняне варили яйца, быстро вращая их в пращах, то я готов согласиться с ним, но должен сказать, что причина этого эффекта далеко не та, которую он указывает. Дабы открыть истину, я буду рассуждать так: «Если нам не удается достичь эффекта, ранее достигнутого другими, то в наших действиях недостает чего-то такого, что способствует достижению эффекта, и если нам недостает чего-то одного, то это одно и есть причина эффекта. Мы не можем пожаловаться на нехватку яиц, пращей или крепких парней, которые приводили их во вращение; тем не менее яйца не варятся, а остывают быстрее, если были вложены в пращу горячими. А поскольку нам недостает лишь одного — что мы не вавилонцы, то свойство быть вавилонцем есть причина, по которой яйца становятся круто сваренными». Именно это я и намеревался установить. Может быть, Сарси при езде на почтовых не заметил прохлады, вызываемой постоянной сменой обвевавшего его лицо воздуха? А если он заметил прохладу, то позволительно ли отдавать предпочтение тому, что, по свидетельству других, происходило две тысячи лет назад в Вавилоне, закрывая глаза на то, что происходит сейчас и чему он сам является свидетелем? Я прошу Вашу милость показать ему при удобном случае, как вино в разгар лета можно заморозить быстрым взбалтыванием, без которого оно вообще не заморозится. Предоставляю Вам судить о причинах этого эффекта, приводимых Сенекой и другими, коль скоро сам эффект ложен.
Я охотно принимаю приглашение Сарси выслушать со вниманием заключение Сенеки и его собственное заключение, когда он вопрошает, может ли что-нибудь быть высказано более ясно или более тонко; со своей стороны я подтверждаю, что ни одно ложное утверждение не может быть высказано более тонко или исчерпывающе. Однако мне не хотелось бы, чтобы он считал меня выходящим за рамки благовоспитанности (как он пытается делать), коль скоро я вынужден считать ложным то, что я считаю, дабы, отрицая это, не обвинить во лжи цвет литературы и, что еще более опасно, доблестных воинов. Все они были убеждены (так я думаю), что изрекают истину, поэтому в ложности их утверждений нет ничего {212} позорящего их честь. Но когда Сарси заявляет, что не желает быть тем, кто наносит оскорбление ученым мужам, противореча их утверждениям и отказываясь поверить в истинность этих утверждений, то я должен сказать со всей определенностью, что не желаю быть среди тех невежд и неблагодарных по отношению к природе и Богу, кто, будучи наделен сознанием и разумом, жаждал бы поступиться столь великими дарами ради ошибок одного человека или верить слепо и тупо в то, во что я не хочу верить, и тем подчинить свободу моего разума кому-то, кто может ошибаться ничуть не меньше, чем я.
XLVI
Не стану скрывать те доводы, которые Галилей может привести против всего сказанного. Возможно, он сошлется на то, что никогда не было пращников или стрелков из арбалета, чья мощь была бы сравнима с силой пушки или бомбарды; что если свинцовые ядра, выстреленные из бомбард, не плавятся даже при горении пороха (а они могли бы плавиться, если бы вообще плавились, от одного этого), то мы можем, не погрешая против истины, высказать предположение, что приведенные выше комментарии относительно примеров с плавящимся свинцом и горящими стрелами написаны поэтами. Но даже если бы Галилей возражал против этих примеров, подтвердить свои возражения на опыте ему было бы не так-то легко, ибо мне доподлинно известно, что свинцовые ядра, выстреленные из более крупных бомбард, иногда плавятся в воздухе. Так, Гомеро Тортора127, один из современных и серьезных авторов по истории Франции, утверждает, что иногда огромная сила пушечных ядер, которые изготавливаются из железных шаров малых размеров, покрываемых толстым слоем свинца, оказывалась недостаточной для разрушения стен. «Ибо,— поясняет Тортора,— когда такими ядрами стреляли в стены, свинец плавился в воздухе, и только внутренний небольшой шар из железа, подобно ядру очищенного от скорлупы ореха, ударял в стену». Кроме того, мне приходилось слышать от очевидцев, людей в высшей степени правдивых, что когда круглому свинцовому ядру, выстреленному из пушки, случалось застрять во внешних укреплениях вражеской крепости, то при извлечении оно оказывалось не круглым, а продолговатым и имело форму желудя. То же подтверждается повседневно различными {213} примерами. Так, мушкетным свинцовым пулям, выстреленным по ошибке, часто случается застревать во вражеских мундирах. По извлечении они не имеют той формы, которая была у них перед выстрелом, а сплющены, покрыты вмятинами и даже разбиты вдребезги, (из чего видно, что из-за нагревания, которому они подверглись, пули стали более разреженными и ударялись о препятствие с ослабленной силой)128.
Сарси продолжает в том же стиле, в каком он начал, пытаясь на основании чьих-то рассказов установить то, что реально существует и может каждый день наблюдаться на опыте. Подобно тому как он подыскал знаменитейших людей, дабы они своим авторитетом придали больший вес древним арбалетчикам и пращникам, он нашел современного историка, заслуживающего доверие в ничуть не меньшей степени (и своим авторитетом не уступающего ни одному древнему), дабы придать больший вес плавлению современных пушечных ядер и мушкетных пуль. Но неверное утверждение относительно физического эффекта, высказанное историком, отнюдь не подрывает доверие к нему и не наносит ущерба его достоинству, ибо историк видит только самый эффект, тогда как поиск причины относится к сфере интересов естествоиспытателя. Поэтому я вместе с синьором Гомеро Торторой верю, что пушечное ядро, покрытое свинцом, малопригодно для проламывания неприятельских стен, но я имею достаточно мужества, чтобы отрицать ту причину, которую он приводит, заимствуя ее из общей философии. Я надеюсь, что тот же историк, подобно тому как он прежде верил всему написанному многими другими великими людьми, чей авторитет достаточен, дабы он с доверием относился ко всему сказанному ими, преклонит теперь слух к моим рассуждениям независимо от того, изменит ли он свое мнение или только постигнет идею экспериментальной проверки того, как обстоит дело в действительности.
Я верю синьору Торторе, что железный шар, покрытый свинцом, на батарее города Корбель не наносил особого урона неприятелю и что железное ядро оказалось испорченным свинцом. Я не верю другой части [утверждения синьора Торторы], относящейся к физике,— о том, что свинец плавится и вследствие этого железный шар утрачивает в полете свою свинцовую оболочку. Думаю, что, получив могучий импульс от пушки, выстрелившей ядром в стену, свинец с той стороны, которая оказалась {214} сжатой между крепостной стеной и внутренним железным шаром, был смят и разорван на куски и что практически то же произошло и с противоположной стороны ядра, сплющенной о железо, и свинец, разорванный в клочья и деформированный, разлетелся во все стороны. Найти же эти куски свинца, покрытые грязью и неотличимые по виду от прочих обломков, среди руин нелегко, а возможно, их и не искали с той тщательностью, которую любознательность требует от каждого, кто хотел бы узнать, разрушилась ли свинцовая оболочка без остатка или просто разорвалась на части.
Свинец служит как защитная оболочка, или подушка, для железного шара, смягчая его удар [о стену]; было бы черной неблагодарностью, если бы за это свинец был разорван на части и подвергся столь тяжким разрушениям, что даже его останки нельзя было бы найти на поле брани. Насколько мне известно, синьор Гомеро находится в Риме. Если ему когда-нибудь доведется встретиться с Вашей милостью, то прошу Вас прочитать ему то немногое, что я здесь написал (равно как и то, что я еще намереваюсь написать об этом предмете), ибо я высоко ценю возможность быть современником персоны, столь высоко ценимой нашим веком.
Я утверждаю следующее. Если мы примем во внимание, сколько времени проходит, пока ядро, вылетев из жерла пушки, покрывает расстояние, отделяющее его от стены, и что должно произойти за столь короткий промежуток времени, дабы заставить свинец расплавиться, то было бы в высшей степени замечательно, если бы кто-нибудь вздумал настаивать после этого, будто такой эффект, несмотря ни на что, существует. Время [полета пушечного ядра] короче, чем один удар пульса, и за столь короткое время должно произойти трение о воздух, которое воспламенит его и наконец расплавит свинец. Но даже если мы мысленно поместим то же самое свинцовое ядро внутрь раскаленной печи, то и тогда оно не успеет разрушиться даже за двадцать ударов пульса. Сарси остается убедить людей в том, что воздух, загоревшийся от трения, содержит больше тепла, чем раскаленная печь. Кроме того, опыт учит нас, что шарик из воска, если им выстрелить из мушкета, пробивает доску. Это свидетельствует о том, что шарик не успевает разрушиться в воздухе. Следовательно, Сарси не остается ничего другого, как изыскать причины, по которым воздух плавит свинец, но оставляет в целости воск. {215}
Но и это еще не все. Если свинец действительно плавится, то удар о латы должен быть очень слабым; поэтому мне представляется весьма удивительным, что мушкетеры не додумались делать железные пули, разрушить которые было бы не столь просто. Вместо этого они продолжают стрелять свинцовыми пулями, которым могут противостоять несколько железных пластин, а в пластинах, выдержавших удар свинцовой пули, обнаруживается весьма глубокая вмятина, а иногда и сама пуля, расплющенная, но не расплавленная. В тушках птиц, подстреленных мелкой дробью, случается находить свинцовые дробинки, не потерявшие своей первоначальной формы; Сарси придется изыскать причину, почему куски свинца весом в пятнадцать—двадцать фунтов плавятся, а дробинки, вес которых составляет тридцать тысячных фунта, остаются целыми. Поскольку деформированные пули находят, что ни день, среди солдатского обмундирования, я считаю, что одни пули попали в кирасу и остались в складках платья, а другие под косым углом попали в шлем и, удлинившись, упали оттуда в платье, не причинив никакого вреда владельцу, и в перестрелке из тысячи попаданий ни одна пуля не плавится.
Действительно, если бы плавление происходило, то свинец, как хорошо известно Сарси, падая очень быстро с высоты, распылялся бы на еще более мелкие капли, чем вода, и полностью терялся бы так, что его совсем нельзя было бы обнаружить. Я уже не говорю о том, что стрела и ядро, окруженные горящим воздухом, оставляли бы в полете сверкающий след, наподобие ракеты, особенно ночью; так Вергилий пишет о пламенном следе, который оставляла стрела Акеста. Этот эффект не наблюдался нигде, кроме поэзии, хотя такие ночные события, как зарницы и падучие звезды, легко наблюдаемы из-за своего яркого свечения.
XLVII
Но мы не видим, чтобы такие явления происходили ежедневно. Цитируемые нами авторы отнюдь не утверждают, будто всякий раз, когда балеарский пращник раскручивал в своей праще свинцовое ядро, оно плавилось от движения; они лишь отмечают, что такое однажды случилось и было столь необыкновенным, что выглядело почти как чудо. Мы говорили также, что в воздухе должно быть много испарений, а сам воздух должен сильно {216} разредиться, дабы огонь возгорелся, ибо то, что суше, возгорается легче. Нередко нам приходится наблюдать, как летом на кладбище при появлении какого-нибудь человека или просто при дуновении нежнейшего зефира воздух, наполненный сухими и горячими испарениями, загорается пламенем. О каком трении очень твердых тел здесь может идти речь? И тем не менее легчайший воздух возгорается от движения и трения. Именно это имеет в виду Аристотель, когда говорит: «То, что мы только что назвали огнем, следует представить себе как бы легко воспламеняющимся [веществом], которое простирается по окраине сферы, окружающей Землю, так что при малейшем толчке оно вспыхивает, словно дым, ибо пламя — это кипение сухой пневмы. И вот, когда вращение каким-либо образом приводит в движение такой состав, в том месте, где [условия] наиболее благоприятны, он вспыхивает»129. Тем самым Аристотель со всей определенностью указывает, что подобные явления происходят только при перечисленных нами условиях. Следовательно, если состояние воздуха таково, что он обильно нагревается испарениями такого рода, то я утверждаю, что свинцовые ядра, выпущенные с огромной силой из пращи, своим движением вызвали бы возгорание воздуха и, в свою очередь, были бы обожжены горящим воздухом.
Следовательно, у Галилея нет оснований искать спасение в опытах, так как мы открыто заявляем, что, по нашему мнению, то, о чем идет речь, может произойти лишь случайно и достичь этой случайности, сколь сильно бы вы ее ни желали, может оказаться весьма трудно. Но дабы мы могли утверждать, что ядро, выстреленное из пушки, возгорается не от трения о воздух, а от очень сильного огня, который им [ядром] движет (хотя мне трудно поверить в то, что так много свинца оказывается расплавленным огнем, едва касающимся его в течение весьма короткого времени), то приведенных примеров пока достаточно, дабы Галилей не мог укрыться от свидетельств поэтов и философов.
Ох уж это плавление свинца, о котором Сарси несколькими строками выше говорит, будто оно подтверждается повседневными примерами, а теперь пишет, будто оно происходит весьма редко, ибо столь необычно, что его надлежит считать чудом. Столь неожиданное отступление еще более укрепляет в нас уверенность, что он [Сарси] сам осознает, сколь необходимы ему всякого рода оправдания и увертки, и продолжает подтверждать {217} свою непоследовательность, требуя то одного, то другого Так, он утверждает, будто достаточно легчайшего дуновения ветерка и даже простого появления живого человека на кладбище, дабы воздух воспламенился. В другой раз (как он говорил выше и повторяет в конце приведенного здесь отрывка) ему требуются сильное движение, обильные испарения, тончайшее разрежение материи и, возможно, что-нибудь еще в том же роде. Под последним требованием я готов расписаться с большей готовностью, чем под всеми остальными, ибо совершенно уверен, что не только все эти возгорания, но и любой другой эффект, сколь бы чудесным и труднопонимаемым он ни был, при соблюдении таких условий заведомо мог бы существовать. Кстати, я хотел бы знать, с чего это вдруг Сарси, поведав о пламени, вспыхивающем на кладбище при одном лишь появлении живого человека или легком дуновении ветерка, вопрошает меня, о каком трении твердых тел идет речь в данном случае. Я утверждал, что трение, порождающее огонь, достигается только с помощью твердых тел. С помощью поистине непостижимой логики Сарси делает из моего утверждения вывод, будто я считаю, что всякий раз, когда существует огонь, причиной его может быть только трение твердых тел друг о друга. На это я отвечу Сарси, что огонь можно добыть многими способами, в том числе и сильным трением одного твердого тела о другое; а поскольку такое трение не может быть достигнуто в телах тонких и жидких, например в кометах, зарницах, падучих звездах и, добавлю теперь, кладбищенских огнях, то свет в них происходит не от трения воздуха, ветра и испарений, ибо каждое из названных мной явлений происходит при величайшем спокойствии воздуха и полном отсутствии ветра.
Возможно, Вы спросите меня, в чем же тогда причина всех этих огней? Дабы не вступать в новые битвы, я отвечу, что не знаю; но я заведомо знаю, что ни вода, ни воздух не имеют к ним ни малейшего отношения, будучи материями, на которых ничто не может зиждиться и к тому же негорючими. Стоит зажечь одну соломину или один стебель льна, как огонь не погаснет, пока вся солома и весь лен, будь их хоть сто миллионов возов, не сгорят дотла. Стоит загореться маленькой палочке, как сгорит весь дом, а если не принять защитных мер, то весь город и все дерево в мире, которое входит в соприкосновение с палочкой, которая загорелась самой первой. Что бы стало с воздухом, столь тонким, все части {218} которого соприкасаются, если хотя бы одна частица его загорелась? Разве не загорелся бы весь воздух?
В конечном счете Сарси вынужден утверждать вместе с Аристотелем, что если воздух когда-нибудь окажется с избытком наполнен теплыми испарениями при соблюдении всех перечисленных им условий, то свинцовые шары расплавятся, причем не только пушечные ядра, но и мушкетные пули и шары, выпускаемые из пращей. Именно такое состояние воздуха должно было наблюдаться в ту пору, когда вавилоняне варили яйца; таким оно было по счастливой случайности для осаждающих, когда они стерли с лица земли город Корбель; таким образом, все складывается как нельзя более благоприятно для тех, в кого стреляют. Но, поскольку найти такие условия удается лишь случайно и встречаются они нечасто, Сарси утверждает, что нет надобности обращаться к опыту, ибо подобные чудеса творятся не по нашей воле, а по воле случая, который выпадает крайне редко.
По-твоему, синьор Сарси, даже если бы опыты выполнялись тысячи и тысячи раз во все времена года и в каком угодно месте, ни разу не воспроизводя то, о чем упоминали все эти поэты, философы и историки, то и тогда это ровным счетом ничего бы не означало и мы должны были бы к их словам относиться с большим доверием, чем к своим глазам. Но что бы ты сказал, синьор Сарси, если бы я подыскал для тебя состояние воздуха, удовлетворяющее всем твоим требованиям, и тем не менее яйца не сваривались бы вкрутую, а свинцовые ядра не разрушались бы? Но увы! Я бы предложил тебе слишком много, ибо у тебя всегда нашлась бы спасительная лазейка — ссылка на то, что некое необходимейшее условие отсутствует.
Ты необычайно предусмотрителен в выборе безопасной позиции, когда говоришь, что для эффекта, о котором идет речь, необходимы сильное движение, огромное количество испарений, сильно разреженная материя и «все остальное, что способствует этому эффекту», и это «все остальное» внушает мне страх и дает тебе ниспосланный небом якорь, спасительную гавань, надежное укрытие в стенах святилища. Я имею в виду, что мы должны прервать нашу дискуссию и спокойно сидеть, пока не появится новая комета, а тогда ты и Аристотель поведаете мне, что воздух, оказавшийся в состоянии особенно благоприятном для загорания кометы, способствует плавлению свинца и варке яиц, ибо, {219} сдается мне, ты требуешь одних и тех же условий и для появления кометы, и для этих эффектов. Тогда мне пришлось бы приняться за дело с пращами, яйцами, луками, мушкетами и пушками, дабы выяснить для нас, как обстоит дело в действительности. Но, даже если не ожидать кометы, время среди лета, когда воздух вспыхивает от молний, должно быть вполне подходящим, так как все эти огненные вспышки объясняются одной причиной. Но, поскольку ты не наблюдаешь при этом, что свинец плавится, а яйца становятся вареными, я спрашиваю тебя, не откажешься ли ты уступить на этот раз, сославшись на отсутствие «всего остального, что способствует этому эффекту». Если ты поведаешь, что это за «все остальное», то я постараюсь предоставить тебе его; в противном случае мне не останется ничего другого, как отказаться от моей идеи.
Тем не менее я считаю, что такой поворот событий был бы против тебя, если не целиком и полностью, то по крайней мере в следующем объеме. Когда мы ищем естественную причину какого-нибудь эффекта, ты ограничиваешься попыткой ублажить меня событием столь редким, что ты же сам в конечном счете причисляешь его к чудесам. Но ни при вращении пращи, ни при стрельбе из лука, мушкетов или пушек мы никогда но наблюдаем тех эффектов, о которых ты упоминаешь столь часто; если же событие все же происходит, то случается оно столь редко, что нам приходится считать его чудом и верить рассказам других людей вместо того, чтобы пытаться убедиться в его достоверности собственными глазами. А поскольку дело обстоит именно так, ты должен признать, что кометы загораются не от трения о воздух, и согласиться считать такое событие чудом, если люди, в свою очередь, согласятся с тобой, что раз в тысячу лет комета может загораться от трения о воздух при благоприятном стечении всех обстоятельств, о которых ты говорил.
Сарси упоминает еще об одном возражении, которое сам же и разрешает: по его словам, некоторые могут сказать, что мушкетные пули и пушечные ядра разрушаются не от трения о воздух, а от огня при сильном выстреле. На это я хочу прежде всего ответить, что не принадлежу к числу тех, кто выдвигает такое возражение, так как утверждаю, что ядра и пули не разрушаются ни одним, ни другим способом. Что же касается ответа на возражения, то я никак не могу понять, почему Сарси {220} упустил из виду самый простой ответ: когда свинцовые шары выпускают из пращи, а стрелы — из лука, то первые не плавятся, а вторые не загораются, из чего видно, что само возражение лишено всякого основания. Такой ответ представляется мне более прямым, нежели данный Сарси, сославшимся на то, что время, в течение которого ядро окутано пламенем, слишком коротко для того, чтобы столь большой кусок свинца успел расплавиться. Само по себе это замечание Сарси верно, но столь же верно и то, что полет пушечного ядра, за время которого оно должно расплавиться от трения о воздух, длится еще меньше.
Не знаю, что ответить на последнее заключение, которое он [Сарси] выводит отсюда, поскольку я просто не понимаю, что он имеет в виду, когда говорит, будто приведенных им примеров «пока достаточно, дабы Галилей не мог укрыться от свидетельств поэтов и философов». Эти свидетельства написаны в тысяче книг, и я никогда не пытался «укрыться» от них и, более того, всякого, кто попытался бы уклониться от них, счел бы лишившимся рассудка. Я ясно и определенно заявил, что считаю все эти свидетельства ложными. Такими они представляются мне и поныне.
XLXVIII
Но он продолжает возражать мне: допуская, что испарения иногда могут возгораться от движения, он якобы не понимает, почему они не расходуются сразу же после того, как их охватит пламя, ведь именно такое полное исчерпание материи мы наблюдаем ежедневно в случае молний, падучих звезд и других явлений того же рода. Причина подобных явлений станет, по-моему, понятна, если по поводу всех этих огней, открытых искусством и прилежанием людей, мыслить, что они схожи с теми, которые возгораются по своей природе в самых возвышенных областях. Ибо интересующие нас огни имеют двойную природу: одни — сухие, разреженные и не соединенные связующей субстанцией; вспыхивая, они горят ослепительно ярко, подвержены внезапному, но преходящему и кратковременному росту, не оставляя после себя почти ничего; другие, сжатые и образованные из более плотной материи, напоминают смолистую жидкость, горят долго и светят в ночной тьме немеркнущим пламенем. Почему же того же самого не может быть в более высоких областях? Ведь легкая материя либо столь {221} разрежена и суха, что полностью лишена связующей влаги и, вспыхнув внезапным и ярким пламенем, сразу же тухнет; либо она вязка и клейка и, вспыхнув случайно, не спешит тотчас же умереть, а благодаря своим сокам живет дольше и за свою более продолжительную жизнь изливает с высоты во все стороны свое сияние на недоверчивых смертных. Поэтому представляется достаточно ясным, как может случиться, что огни, загорающиеся в самых высоких областях воздуха, иногда не гаснут тотчас же, а светят очень долго; мне представляется также, что и воздух может возгораться, в особенности если выполняются условия, в немалой степени приумножающие тепло, производимое трением, т. е. сильное движение, обильные испарения и все остальное, что способствует тому же.
Прочтите, Ваша милость, до конца этот отрывок, по поводу которого мне остается сказать немного, ибо многое я уже сказал. Я хочу обратить лишь внимание на способ, которым Сарси пытается доказать, будто горение кометы может длиться многие месяцы, тогда как другие огни в воздухе (такие, как молния, падучие звезды и тому подобное) моментально гаснут. Дабы добиться желаемого, он измышляет два рода горючих материй: одни — легкие, разреженные, сухие и напрочь лишенные влаги; другие — вязкие, клейкие и связанные с влагой. Первые, как полагает Сарси, сгорают моментально, вторые, к которым он относит м кометы, горят долго.
В этом я усматриваю явное противоречие, ибо молния, которая состоит из разреженной и легкой материи, должна возникать в самых высоких областях, тогда как кометы, возгорающиеся в более клейкой и плотной, а следовательно, и более тяжелой материи, должны возникать в более низких областях. В действительности же происходит обратное, ибо молния вспыхивает на высоте не более трех миль над землей, в чем мы легко убеждаемся по небольшим промежуткам времени, отделяющим вспышку молнии от грома, когда гром доносится до нас сверху. О том, что кометы располагаются несравнимо выше, мы знаем из их суточного движения с востока на запад, аналогичного движению звезды, даже если бы не было никаких других наблюдений. Но довольно об этом.
Мне остается выполнить обещание, данное Вашей милости, поделиться с Вами некоторыми идеями относительно утверждения «Движение есть причина тепла» и показать, в каком смысле, по моему мнению, оно может {222} быть истинным. Но сначала мне придется изложить некоторые соображения относительно того, что мы называем «теплом», ибо я подозреваю, что люди обычно имеют об этом представление весьма далекое от истины, полагая, будто тепло — реальный атрибут, свойство и качество, носителем которого служит согревающая нас материя.
Мысля себе какую-нибудь материю или телесную субстанцию, я тотчас же ощущаю настоятельную необходимость мыслить ее ограниченной и имеющей определенную форму. Материя должна находиться в данном месте в то или иное время. Она может двигаться или пребывать в состоянии покоя, соприкасаться или не соприкасаться с другими телами, которых может быть одно, несколько или много. Отделить материю от этих условны мне не удается, как я ни напрягаю свое воображение. Должна ли она быть белой или красной, горькой или сладкой, шумной или тихой, издавать приятный или отвратительный запах? Мой разум без отвращения приемлет любую из этих возможностей. Не будь у нас органов чувств, наш разум или воображение сами по себе вряд ли пришли бы к таким качествам. По этой причине я думаю, что вкусы, запахи, цвета и другие качества не более чем имена, принадлежащие тому объекту, который является их носителем, и обитают они только в нашем чувствилище [corpo sensitivo]. Если бы вдруг не стало живых существ, то все эти качества исчезли бы и обратились в ничто. Но, поскольку мы наделили их именами, которые отличаются от имен других, реальных атрибутов, нам хотелось бы, чтобы они и в самом деле отличались от них.
Думаю, что я смогу лучше пояснить свою мысль на нескольких примерах. Я протягиваю свою руку сначала к мраморной статуе, а затем к живому человеку. Что касается действия, проистекающего от моей руки, то оно одно и то же относительно обоих объектов, если нас прежде всего интересует рука; оно состоит из элементарных явлений движения и осязания, для обозначения которых мы не вводим никаких других имен. Но живое тело, воспринимающее эти операции, испытывает различные ощущения в зависимости от того, какой части тела мы касаемся. Если мы касаемся, например, ступней ног, колена или подмышки, то живое тело, помимо общего ощущения прикосновения, испытывает особое ощущение, которому мы присвоили специальное имя, назвав его щекоткой; оно всецело принадлежит нам, но отнюдь не руке. {223} Мне кажется, что серьезно заблуждаются те, кто вздумал бы утверждать, будто сама рука, помимо свойств «движение» и «прикосновение», наделена еще одним, отличным от них свойством, а именно «щекотанием», словно «щекотание» есть некий атрибут, носителем которого является рука. Бумажка или перо, если ими легко провести по любой части нашего тела, производят, по существу, те же действия, какие оказывают движение и прикосновение; прикосновение к глазу, носу или верхней губе вызывает у нас почти невыносимое щекотание, тогда как при прикосновении к другим местам это ощущение гораздо слабее. Это щекотание принадлежит только нам и никак не перу, но стоит убрать живое и чувствительное тело, как не останется ничего, кроме имени. Я полагаю, что многие качества, которые мы привыкли приписывать природным телам, такие, как вкус, запах, цвет и другие, существуют только в таком и отнюдь не более реальном смысле.
Если передвинуть твердое и, так сказать, весьма материальное тело и прикоснуться им к любой части моей персоны, то у меня появится ощущение, которое мы называем осязанием; хотя им наделено все тело, оно сосредоточено в основном в ладонях рук и кончиках пальцев, которыми мы ощущаем самые тонкие различия в шероховатости, гладкости и твердости; другие части нашего тела не позволяют столь отчетливо распознавать такие различия.
Одни из ощущений, [доставляемых осязанием], более приятны для нас, другие менее приятны: предметы на ощупь бывают гладкими и шероховатыми, острыми и тупыми, твердыми и податливыми в зависимости от различий в форме осязаемых тел. Осязание более материально, чем другие ощущения, и возникает из-за твердости материи; по-видимому, оно связано с элементом «земля». А поскольку тела непрестанно распадаются на мелкие частицы, из которых одни тяжелее воздуха и опускаются вниз, а другие легче воздуха и поднимаются вверх, происхождение двух других наших чувств связано, по-видимому, с тем, что эти частицы ударяются о две части нашего тела, гораздо более чувствительные, чем кожа, и потому ощущающие вторжение столь тонкой, разреженной и податливой материи.
Крохотные частицы, опускающиеся вниз, попадают на верхнюю поверхность языка, внедряются в него и смешиваются с его влагой; их субстанции порождают вкус, {224} сладкий или кислый в зависимости от формы этих частиц, от того, много их или мало и как они движутся — быстро или медленно. Другие частицы, поднимающиеся вверх, попадают нам в ноздри и сталкиваются с небольшими выступами, которые и являются инструментом обоняния; их соприкосновение с этими выступами и проникновение внутрь последних также воспринимаются нами как приятное или неприятное ощущение в зависимости от того, какова форма частиц, движутся ли они быстро или медленно, мало их или много. Язык и носовые отверстия своим расположением как бы специально предназначены для этого; язык простирается снизу, дабы воспринять вторжение опускающихся частиц, а ноздри специально приспособлены для улавливания частиц, поднимающихся вверх. Возможно, возникновение ощущения вкуса можно уподобить жидкости, опускающейся сквозь воздух, а ощущение запаха — огню, поднимающемуся вверх.
Элемент «воздух» остается доступным для звуков; они долетают до нас со всех сторон — снизу, сверху, отовсюду, ибо мы находимся в воздухе и движения, происходящие в его же собственной области, одинаково вытесняют воздух во все стороны. Расположение уха особенно благоприятно к восприятию звука, откуда бы он ни исходил в пространстве. Звуки рождаются и слышимы нами (без какого бы то ни было особого свойства «звучности» или «сверхзвучности»), когда возникает быстрое дрожание воздуха, по которому распространяются мелкие волны, колеблющие хрящи барабанной полости внутри нашего уха. Внешние средства, способные так возмущать воздух, весьма многочисленны, но действие их сводится большей частью к дрожанию какого-нибудь тела, которое колеблет воздух и возмущает его; волны распространяются весьма быстро, и если они колеблются часто, то возникает высокий звук, а если редко — низкий звук.
Не думаю, чтобы для возбуждения у нас ощущений вкуса, запаха и звука от внешних тел требуется что-нибудь еще, кроме размеров, форм, числа и медленных или быстрых движений; я полагаю, что если бы уши, языки и носы вдруг исчезли, то форма, число и движение остались бы, но не запахи, вкусы пли звуки. Я глубоко уверен, что без живого существа последние представляют собой не более чем имена, подобно тому как щекотание и зуд не более чем имена, если нет подмышек и кожи вокруг носа. Относительно мнения, согласно которому рассмотренные нами четыре чувства якобы связаны с {225} четырьмя элементами, я считаю, что зрение — чувство, превосходящее все остальные, оно связано со светом, но превосходит остальные чувства в пропорции, существующей между конечным и бесконечным, имеющим протяженность и мгновенным, количеством и неделимым, между тьмой и светом. По поводу этого чувства и всего к нему относящегося я предпочитаю делать вид, что знаю лишь самую малость, а поскольку довольно долгого времени оказалось недостаточно, дабы я мог объяснить и эту малость или хотя бы намекнуть на ее объяснение в своих сочинениях, то я обойду ее молчанием.
Но вернемся к нашей исходной цели. Мы уже видели, что многие ощущения, которые принято связывать о качествами, имеющими своими носителями внешние тела, реально существуют только в нас, а вне нас представляют собой не более чем имена. Я склонен думать, что и тепло принадлежит к числу таких свойств. Те материи, которые производят в нас тепло и вызывают у нас ощущение теплоты (мы называем их общим именем «огонь»), в действительности представляют собой множество мельчайших частиц, обладающих определенными формами и движущихся с определенными скоростями. Встречаясь с нашим телом, они, будучи идеально тонкими, проникают в него, и их прикосновение, когда они проходят сквозь нашу субстанцию, вызывает у нас ощущение, которое называется теплом. Оно приятно или неприятно в зависимости от числа частиц, большей или меньшей скорости, с которой они прокалывают наши тела и проникают в них; такое проникновение приятно, если способствует столь необходимому и неощутимому потоотделению, и неприятно, если приводит к слишком большому делению и распаду субстанции. Таким образом, действие огня посредством его частиц состоит в том, что в своем движении огонь по причине своей великой тонкости пронизывает все тела, разлагая их быстрее или медленнее в пропорции к числу и скорости корпускул огня и плотности или разреженности тех тел, многие из которых обладают тем свойством, что при их разложении большая часть их переходит в новые крохотные частицы огня и разложение продолжается до тех пор, пока не останется материя, не способная к дальнейшему разложению.
Однако я отнюдь не считаю, что, помимо формы, числа, движения, проникновения и прикосновения, у огня существует еще какое-нибудь свойство, которое и есть «тепло»; по моему мнению, это свойство связано с нами, {226} причем так тонко, что стоит удалить живое и чувствительное тело, как «тепло» останется пустым звуком. А так как это ощущение вызывают у нас при прохождении сквозь нашу субстанцию и соприкосновении с ней мельчайшие корпускулы, то ясно, что если бы они пребывали в покое, то их воздействие сводилось бы к нулю. Так, известно, что количество огня, оставшегося в порах и узких канальцах куска негашеной извести, не согревает нас, даже если мы держим его в руках, ибо этот огонь покоится недвижимо. Но стоит бросить тот же кусок негашеной извести в воду, где огонь обладает большей предрасположенностью к движению, чем в воздухе (из-за большей тяжести среды, а также потому, что огонь открывает поры воды, но не может открыть поры воздуха), как мельчайшие корпускулы, высвобождаются; когда мы прикасаемся к куску извести, они проникают в нашу руку и мы ощущаем тепло.
Таким образом, поскольку одних лишь корпускул огня недостаточно для возбуждения тепла, ибо необходимо еще, чтобы они были в движении, утверждение «Движение есть причина тепла» представляется мне весьма разумным. Речь идет о том самом движении, которое обжигает стрелы и другие палки и плавит свинец и другие металлы, когда мельчайшие частицы огня проникают в тела, влекомые либо своим движением, либо, когда собственной силы недостаточно, мощным дыханием мехов. Одни из тех распадаются на летучие частицы огня, другие рассыпаются в мельчайший порошок, третьи плавятся и становятся жидкими, как вода. Однако я считаю глупым придерживаться того же утверждения с общей точки зрения: камень, кусок железа или палка должны нагреваться, если они движутся.
Трение двух твердых тел друг о друга либо путем разложения их частей на тончайшие летучие частицы, либо путем открывания выхода для мельчайших частиц огня, находившихся внутри, приводит эти частицы в движение, и, когда они встречают на своем пути наши тела, проникают в них и проходят их насквозь, наш чувствительный дух получает то приятное или неприятное ощущение, которое называем теплом, горением или жжением. Возможно, что истончание и разрежение прекращаются или ограничиваются, когда доходят до самых малых частиц, движение которых чисто временное, а действие — чисто калорическое, но когда достигается предельное и высшее разложение на действительно неделимые атомы, {227} то рождается свет, обладающий мгновенным движением или, точнее, мгновенным расширением и распространением и способный поэтому заполнять огромные пространства, не знаю, в силу ли своей тонкости, разреженности, нематериальности или какого-то другого свойства, отличного от всех названных и не имеющего специального названия.
Я не хочу, Ваша милость, по собственной неосмотрительности быть унесенным в безбрежный океан, откуда никогда не смогу вернуться в свой порт, и отнюдь не желаю во имя устранения одной трудности нагромождать сотни новых, как, боюсь, случилось во время моего плавания у самого берега. Поэтому я воздержусь от дальнейших рассуждений до более удобного случая.
XLIX
Третье утверждение
Сияние вокруг светящихся тел есть ощущение глаза,
а не освещенный воздух,
ибо воздух не может быть освещен
Когда Галилей рассматривает сияние, окружающее светящиеся тела и неотличимое для находящегося на большом расстоянии наблюдателя от самого светящегося тела, то он утверждает, во-первых, что сияние возникает на поверхности глаза от преломления лучей в находящейся там влаге и не существует в действительности вокруг звезды или пламени; во-вторых, он добавляет, что воздух не может быть освещен; в-третьих, если светящиеся тела наблюдать в телескоп, то лучистый ореол исчезает. Дабы исследовать истинность этих утверждений, мы начнем с рассмотрения второго из утверждений Галилея, т. е. попытаемся установить, может ли быть освещен воздух, ибо от него зависит все остальное.
При рассмотрении этого вопроса следует предположить, исходя из оптики и физики, во-первых, что свет без границы не виден, но может быть ограничен только каким-нибудь непрозрачным телом, ибо прозрачность не ограничивает свет, а предоставляет ему свободный проход; во-вторых, что чистый и подлинный воздух особенно прозрачен и потому менее пригоден в качестве границы света; нечистый же воздух с примесью множества испарений может ограничивать свет и посылать его назад в {228} глаз [наблюдателя]. С первой частью второго утверждения охотно соглашаются все, и сам Галилей; что же касается второй части, то справедливость ее доказана многими опытами.
Заря на восходе и сумерки на закате достаточно ясно указывают на то, что нечистый воздух может быть освещен, а гало, радуги, ложные солнца и другие явления того же рода, происходящие от более плотного воздуха, свидетельствуют о том же. Галилей в своем «Звездном вестнике», по-видимому, признает это, ибо помещает своего рода оболочку испарений вокруг Луны, схожую с той, которая окружает Землю, и утверждает, что лунная оболочка освещена Солнцем; то же он [Галилей] утверждает и относительно орбиты Юпитера. Кроме того, если кто-нибудь наблюдает Луну перед ее восходом, когда она еще не видна из-за крыш домов, то сначала он видит значительное воздушное пространство, освещенное лунным светом, своего рода лунную зарю; яркость этого свечения все возрастает по мере того, как приближается момент появления Луны. Смешно утверждать, будто заря, сумерки и другие свечения того же рода возникают вследствие преломления во влаге, покрывающей поверхность глаза. Но когда я взираю на Луну и Солнце, поднявшиеся выше и превратившиеся в узкий круг, то глаз мой не более сух, чем когда я вижу их позже превратившихся в более широкий шар у горизонта. Из всего этого достаточно ясно, что нечистый воздух с примесями может быть освещен. Это же доказывают и чистые рассуждения. Ибо свет может быть ограничен только тем, что не совсем прозрачно; но от испарений воздух сгущается и становится непрозрачным, и свет может отражаться по крайней мере от той его части, которая непрозрачна.
После таких объяснений я обращаюсь к предложенному вопросу. Когда многие именитые авторы утверждают, что часть воздуха в виде сферической оболочки также освещается светящимися телами, то необходимо иметь в виду, что речь идет не о чистом воздухе без примеси испарений, а о воздухе, утратившем прозрачность от более плотных испарений, становящемся препятствием, не позволяющим свету звезд распространяться дальше. Ибо когда известнейшие авторы утверждают, что Солнце и Луна кажутся у горизонта больше, чем когда они поднимаются выше, то при этом говорят, что происходит такое явление из-за вторжения воздуха с испарениями; тем самым доказано, что речь идет не о чистом воздухе, а о {229} воздухе, подвергшемся порче и поэтому менее прозрачном.
Таким образом, мнение, согласно которому воздух может быть освещен звездами, следует скорее принять, нежели отвергнуть, как того требует Галилей, ибо если понять, что речь идет о нечистом воздухе, то истинность мнения может быть доказана многими опытами. Если воздух может быть освещен, то часть лучистой диадемы, которая венчает звезды, также может оказаться результатом освещения. Я не отрицаю то, что было сказано в самом начале: лучистое гало с присущими ему длинными лучами, перемещающееся при любом движении глаза, есть не что иное, как ощущение глаза; именно поэтому лучей то много, то мало, они то короче, то длиннее в зависимости от движения глаза. Однако Галилей вряд ли
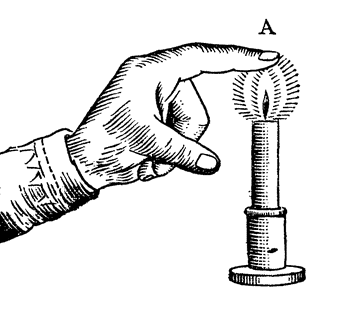 |
Рис. 16 |
Не противоречит этому и опыт, предложенный Галилеем. «Если поместить руку между светом и глазом,— говорит он,— и двигаться так, как будто Вы хотите скрыть свет из
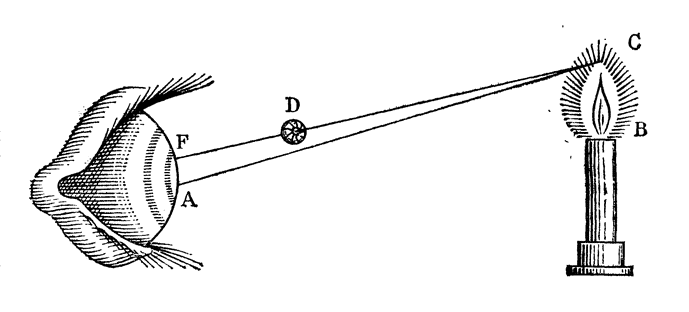 |
Рис. 17 |
| {230} |
виду, то сияние, окружающее светило, не померкнет, пока Вы не заслоните истинный свет, и лучи будут тем не менее собираться между рукой и глазом; но стоит лишь заслонить часть истинного света, как Вы обнаружите, что противоположная часть тех же лучей исчезнет; так если Вы заслоните верхнюю часть света, то нижняя часть лучей станет невидимой». Вот что говорит Галилей, и его утверждения верны, если рассматривать сами лучи. Эти лучи, говорю я, хорошо отличимы и легко отделимы от истинного света по почти непрестанному движению и изменению их яркости; но когда я пытаюсь заслонить свет, который считаю истинным, то, если заслоняю его не полностью, по крайней мере затемняю в той части, где находится моя рука; я говорю, что затемняю свет, поскольку светящиеся объекты невозможно заслонить рукой настолько, чтобы их не было видно. Ибо если, как я сказал, внимательно следить за тем, что происходит, когда мы пытаемся рукой заслонить истинное пламя свечи, находящейся на некотором расстоянии от нас, то, даже закрыв рукой верхнюю часть горящей пирамиды, мы можем все же увидеть ее между рукой и глазом, а поместив палец А между [свечой и глазом (рис. 16)], мы увидим как бы раздвоенное пламя. Так я поясняю, каким образом, введение пальца не является помехой для пламени.
Поскольку зрачок глаза не является неделимым, а может быть разделен на много частей, одна часть зрачка может оказаться закрытой, тогда как остальные останутся незакрытыми; хотя изображение противостоящего источника света не попадает в зрачок, когда часть его закрыта, но если остальная часть зрачка остается открытой, то изображение может попасть на них, и тогда свет по-прежнему будет виден.
Например, пусть ВС — источник света, FA — глаз, D — непрозрачное тело, помещенное между светом и глазом и не позволяющее изображению точки С попасть в точку F; пусть существует другой луч, беспрепятственно идущий из С в часть зрачка А [рис. 17]. Но тогда луч СА позволяет видеть вершину пламени С, хотя она будет видна не столь ярко, как в том случае, когда она заполняла своим изображением весь зрачок; кроме того, та же вершина пламени С не исчезает из виду, пока тело D не закроет весь зрачок и изображение вершины С не будет попадать в него ни по какому лучу. Если бы тело D было гораздо меньше зрачка глаза (например, было бы {231} толстой нитью) и несколько удалено от зрачка, в то время как свет находился бы на большом расстоянии, то, как бы ни располагалась нить между глазом и светом, она не препятствовала бы ни одной части света и ни одна часть нити не была бы видна, коль скоро нить располагалась бы между глазом и светом, нить как бы полностью поглощается светом. Происходит это по той же причине, ибо так как нить меньше зрачка, то, будучи расположена не очень далеко от него, она не закрывает всех частей пламени и по крайней мере некоторые лучи доходят до зрачка; они-то и позволяют видеть пламя.
Наконец, имеется немало такого, что было бы нелегко объяснить, имея в виду его [Галилея] третье замечание, в котором он утверждает, будто у звезд при наблюдении в телескоп исчезает окружающее их сияние. Ибо если бы у звезд при наблюдении в телескоп исчезало окружающее их сияние, то они не были бы видны в телескоп, между тем как они видны. Среди неподвижных звезд нет ни одной столь малой, чтобы она исчезала при наблюдении в телескоп, даже если это телескоп Галилея. Галилей и сам признает это, когда говорит, что сияние не исчезает полностью у Сириуса и у некоторых других звезд, ибо лучи переливаются, когда мы наблюдаем эти звезды в телескоп. Но почему я говорю только о звездах? Даже планеты столь упорно удерживают свое сияние, что полностью лишить их сияния не удается никогда; так, Марс, Венеру и Меркурий, если только не отсекать свет с помощью цветных стекол, надеваемых на телескоп, никогда не удается наблюдать без лучистого ореола. А если истинная причина этих лучей кроется в поверхности глаза, т. е. во влаге, непрестанно находящейся в зрачке, если свет звезды, преломившись сквозь линзу телескопа, падает на ту же влагу и снова преломляется, но уже по-другому, то я не усматриваю, почему бы не появиться тому же эффекту. Если допустить, а допустить, как показано выше, необходимо, что воздух также освещен, то звезды могут казаться больше, чем они есть на самом деле.
Галилей не может отрицать, во всяком случае на этом основании, что окружающее светила сияние видно и в телескоп, и, следовательно, оно также должно претерпевать увеличение. Ведь он признает, что все объекты, находящиеся вне телескопа, при наблюдении в телескоп претерпевают увеличение; следовательно, сияние, находящееся вне телескопа, должно быть наблюдаемо в телескоп {232} и претерпевать увеличение. Если тем не менее такое увеличение неощутимо мало у звезд, то причину этого надлежит искать в ином, а не в том, что сияние, окружающее звезды, возникает между телескопом и глазом, т. е. на влажной поверхности глаза. Ибо если мы говорим не о тех блуждающих и различных лучах, а об устойчивом и немерцающем сияющем ореоле, то он может возникать от освещенного воздуха, как подтверждают примеры Солнца и Луны, кажущихся вблизи горизонта более крупными дисками, чем в зените; но если мы говорим о самих лучах, то, поскольку они наблюдаются у звезд и в телескоп, весьма малое увеличение звезд не следует относить за счет исчезновения лучей, ибо эти лучи не исчезают.
Перейдем, Ваша милость, к третьему утверждению. Прочитайте и перечитайте его внимательно; я говорю «внимательно», дабы Вы могли более отчетливо осознать затем, сколь искусно Сарси продолжает в свойственном ему стиле изменять, вычеркивать, добавлять аргументы [своего оппонента] и даже совершать отступления и примешивать различные соображения, не относящиеся к делу, дабы замутить разум своих читателей и оставить у них среди прочих смутно понимаемых вещей впечатление, будто синьор Марио не обосновал свою теорию столь прочно, что не оставил другим никакой возможности опровергнуть ее.
Многие придерживаются того мнения, что небольшое яркое пламя кажется на расстоянии гораздо больше, ибо зажигает и тем самым делает столь же ярким окружающий воздух; издали же подожженный воздух и реальное пламя кажутся единым источником света. Синьор Марио, опровергая это мнение, утверждает, что воздух не возгорается и не освещается и что сияние, из-за которого возникает кажущееся увеличение, сосредоточено не вокруг пламени, а на поверхности наших глаз. Сарси пытается опровергнуть эту правильную теорию и вместо того, чтобы поблагодарить синьора Марио за то, что тот научил его тому, чего он [Сарси] не знал, тщится доказать, что воздух вопреки утверждению синьора Марио освещен. При этом он, как мне кажется, допускает несколько ошибок.
Во-первых, когда синьор Марио, возражая против утверждений философов, говорит, что воздух не возгорается и не может быть освещен, Сарси опускает всякое упоминание о возгорании и рассматривает только, освещен {233} воздух или не освещен. Синьор Марио мог бы с полным основанием заметить Сарси, что в то время, как оп [синьор Марио] говорит об одном, Сарси пытается опровергнуть другое, т. е. синьор Марио говорит о воздухе, окружающем пламя, и об освещении, которое могло бы возникнуть от объятого пламенем воздуха, тогда как Сарси об освещении воздуха, наполненного испарениями, когда никакого огня нет и воздух расположен на большом расстоянии от освещающего объекта. Кроме того, Сарси с самого начала говорит о том, что прозрачные тела но могут быть освещены, и на первое место среди прозрачных тел он ставит воздух; далее он добавляет, что воздух может быть освещен, если к нему примешаны обильные испарения, способные отражать свет.
Пусть будет по-твоему, синьор Сарси, пусть будут освещены испарения, а не воздух. Ты напоминаешь мне человека, утверждающего, будто он чувствует дурноту и головокружение от злаков, тогда как в действительности к злакам были подмешаны плевелы и внезапная болезнь его проистекает не от злаков, а от плевел. Ты пытаешься учить нас, что воздух с испарениями освещает сумерки, хотя тысячи людей говорили об этом до тебя и синьор Марио написал то же самое в десятке мест. Но это еще не все. Ты сам в приведенном выше отрывке утверждаешь, будто я распространил это явление на Луну и Юпитер. Но тогда все твои доказательства и опыты относительно гало, ложных солнц и Луны, скрытых за некоей стеной, совершенно излишни, ибо мы никогда не сомневались в том, что испарения, рассеянные в воздухе, облака или туманы могут быть освещены (и тем более не отрицали этого). Но что ты собираешься дальше делать с этим освещением, синьор Сарси? Утверждать, как ты делаешь, будто вследствие него светящиеся своим светом объекты кажутся больше? Но при этом ты должен сознавать, что тогда Солнце и Луна казались бы размером с весь рассвет или целиком со все гало, ибо такие размеры имеет насыщенный испарениями воздух, принимающий участие в их свечении.
Ты прочитал где-то (я говорю так, ибо ты цитируешь философов и авторитетов в оптике, дабы подтвердить и удостоверить эти утверждения), что область испарения ярко светится и что Солнце и Луна кажутся больше, когда стоят у самого горизонта, чем высоко в небе, именно из-за этой области испарений, из чего ты заключил, что кажущееся увеличение наших светил зависит от {234} освещения испарений. Оба утверждения истинны: воздух, насыщенный испарениями, освещен, а Солнце и Луна действительно кажутся больше у самого горизонта именно из-за области испарений. Однако неверно, будто существует какая-то связь между этими двумя утверждениями, т. е. что увеличение зависит от освещения области испарений. Ты глубоко заблуждаешься; возьми назад это ошибочное мнение, ибо объекты, о которых ты говоришь, кажутся больше, чем обычно, не из-за света в испарениях, а из-за того, что их наружная поверхность имеет форму сферы и, когда они находятся у самого горизонта, эта поверхность удалена от наших глаз на большее расстояние. Не только светящиеся, но и любые тела ведут себя так, если их поместить вне области испарений.
Помести между своим глазом и любым предметом выпуклую хрустальную линзу на различных расстояниях. Ты увидишь, что вблизи глаза линза едва увеличивает размеры наблюдаемого предмета, а если ее отодвигать все дальше и дальше, увеличение будет возрастать. Поскольку область испарений ограничена извне сферической поверхностью, не слишком высоко поднятой над выпуклостью Земли, все отрезки прямых, проведенные от наших глаз к этой поверхности, имеют неравную длину; отрезок проведенный в зенит, самый короткий из всех, а длина остальных отрезков постепенно увеличивается по мере того, как они склоняются от зенита к горизонту. Замечу, между прочим, что нетрудно вывести истинную причину, по которой Солнце и Луна вблизи горизонта кажутся овальными, если учесть огромное расстояние, отделяющее наши глаза от центра Земли, совпадающего с центром сферы испарений. Целые книги написаны по поводу этого явления, о чем, я думаю, ты знаешь, хотя для того, чтобы раскрыть тайну, не требуется глубокой теории: достаточно понять, почему круг, если глядеть на него прямо, кажется кругом, а если глядеть под углом, сжимается в овал.
Но вернемся к предмету нашего разговора. Я не понимаю, какую цель преследует Сарси, когда говорит, будто смешно утверждать, что рассвет, сумерки и другие свечения того же рода рождаются во влаге, распределенной по поверхности наших глаз, и не менее смешно утверждать, что, когда мы смотрим в зенит, наши глаза суше, чем когда мы смотрим на горизонт, и что по этой причине Луна и Солнце должны в зените казаться нам меньше, чем у горизонта. Не найдя никого, кто когда-нибудь {235} утверждал нечто подобное, я не могу понять, для чего Сарси понадобилось вставлять такую глупость. Но, поскольку Сарси считает нас слишком простодушными, посмотрим, не относится ли такое обвинение к нему в большей мере, чем к нам.
Речь идет о том дополнительном сиянии, которое окружает звезды и другие светила, заставляя их казаться гораздо больше, чем они были бы, если бы их маленькие тела можно было наблюдать без таких лучей. Лучи эти по яркости уступают истинному и первичному пламени, и среди них маленькое тело остается неразличимым, так что и оно, и окружающее его сияние кажутся нам единым большим и ярким объектом. Сарси хочет связать это сияние и увеличение со светом, производимым преломлением в воздухе, насыщенном испарениями, и полагает, что по этой причине Солнце и Луна у горизонта кажутся больше, чем в вышине. Но хуже всего, что Сарси делает вид, будто многие другие философы думают так же, а это неверно; они никогда не совершали столь грубой ошибки. Сарси следовало бы сразу понять, что это грубая ошибка, приняв во внимание большое различие между светом Солнца и Луны и рассеянным сиянием, окружающим каждое из светил, внутри которого и Солнце и Луна легко различимы по несравненно большей яркости и более четким контурам. Для сияния, окружающего звезды, это неверно, ибо внутри сияния малое тело звезды остается неразличимым, поскольку одето в лучи, сравнимые по яркости с яркостью самой звезды.
Я слышу, как Сарси возражает мне, указывая на то, что большое Солнце и большая Луна в действительности представляют собой не просто голое тело, а совокупность, состоящую из небольшого центрального тела и равного по блеску сияния, венчающего центральное тело и заключающего его в середине; именно ее мы и наблюдаем в виде большого и равномерно яркого диска. Но если это так, синьор Сарси, то почему Луна не кажется нам такой же большой посреди неба? Разве там нет насыщенного испарениями воздуха, годного для того, чтобы быть освещенным? Не знаю, что ты ответишь, не могу даже догадаться, ибо нападать на истину можно только с логическими ошибками и вымыслами, а так как и тех и других, как тебе отлично известно, бессчетное множество, я не могу предугадать, на каких именно ты остановишь свой выбор. Но, дабы покончить с этим вопросом и помочь, если только такое возможно, тебе и другим избавиться от {236} ошибки, достаточно обратить внимание на то, что огромная Луна, которую ты видишь у горизонта, имеет четкий контур, лишенный каких бы то ни было лучей, и ничуть не увеличена окружающим ее дополнительным сиянием. Чтобы убедиться в этом, достаточно заметить, что темные пятна распределены по всей поверхности Луны до самого края и остаются такими же и на тех же местах, когда Луна находится посреди неба. Если бы все обстояло так, как ты полагаешь, то нам бы казалось, что у Луны, едва взошедшей над горизонтом, пятна собираются к центру, оставляя окружающий Луну венец ярким и без пятен. Следовательно, Солнце и Луна кажутся у горизонта больше, чем в вышине, не из-за дополнительного яркого сияния, а от того, что их изображения увеличиваются при преломлении на далекой поверхности области испарений.
Смотри же, синьор Сарси, сколь легко одолеть ложь и отстоять истину. Факты, подтверждающие ложность многих утверждений, приведенных в твоей книге, не позволяют мне думать, что ты оставался в неведении относительно их. Мне представляется, что в глубине души ты признавал справедливость правильных утверждений, но поддался искушению попробовать, нельзя ли вынудить оппонента отступить и сдаться под давлением аргументов, ложность которых тебе прекрасно известна. Рассудив так, ты смело ввел эти аргументы, уподобляясь тому игроку, который, завидев на столе карты, означающие для него неминуемый проигрыш, пытается увеличить ставку, дабы создать у своего партнера впечатление, будто у него на руках гораздо более сильная взятка, чем тому кажется, в надежде, что тот испугается и сдастся.
Поскольку ты, как я вижу, основательно запутался во всех этих первичных источниках света и лучах, преломляющихся или отражающихся в испарениях или в глазу, уместно, чтобы ты на время стал учеником, а я в качестве профессора, изрядно поднаторевшего в преподавании попытался несколько распутать тебя. Так знай же, что Солнце, Луна и звезды (все они представляют собой сверкающие тела, расположенные вне области испарений) испускают сияние, постоянно освещающее половину области испарений. Западная оконечность этой освещенной полусферы посылает нам утренний рассвет, а противоположная оконечность — вечерние сумерки; но ни то, ни другое освещение не увеличивает, не расширяет и не изменяет каким-либо иным образом видимые размеры Солнца, Луны или звезд, которые всегда находятся в {237} центре, или полюсе, той полусферы испарений, которую они освещают. Те части, которые расположены между нашими глазами и Солнцем или Луной, кажутся нам более яркими, чем те, которые постепенно удаляются [от линии глаз наблюдателя — светило], и яркость их также постепенно убывает. Именно такой свет предупреждает нас о появлении Луны, когда та еще прячется за какой-нибудь крышей или стеной.
Нечто подобное происходит и вблизи маленького пламени в сфере испарений, но в этом случае свечение столь слабо и незаметно, что если мы ночью укроем огонек за какой-нибудь стеной и начнем двигаться, дабы увидеть его, то едва различим некое слабое свечение, но не увидим света, пока не откроется огонек. Но существует и другое освещение — то, которое обусловлено преломлением на влажной поверхности глаза. Оно-то и является причиной того, что реальные объекты кажутся нам окруженными светящимся кругом, сильно уступающим по яркости первичному свету. Нам кажется, что это сияние простирается на большее расстояние, но не пропорционально большему или меньшему количеству влаги, а в зависимости от состояния самого глаза. Я наблюдал это на себе, когда в результате приключившегося* со мной несчастного случая начал видеть светящееся гало диаметром более двух футов вокруг пламени свечи, причем это гало скрывало от меня все объекты, которые находились за ним. Когда же болезнь моя пошла на убыль, стали уменьшаться размеры и плотность этого гало, хотя значительная часть его сохранилась и потом, когда я смотрел на свечу здоровым глазом. Гало не исчезает, если поместить руку или любое другое непрозрачное тело между свечой и глазом, но остается всегда между глазом и рукой, пока не погаснет свет свечи. Однако гало не увеличивает изображение маленького пламени и значительно уступает ему по яркости.
Существует еще и третье сияние, почти столь же яркое, как и сам исходный свет; оно порождается отражением первичных лучей во влаге на краях век и простирается по выпуклости зрачка. В том, что оно образуется именно так, нетрудно убедиться, поворачивая голову, ибо в зависимости от того, наклоним ли мы или поднимем голову, или будем держать ее прямо, глядя на светящийся объект, мы увидим его окруженным сиянием только сверху, только снизу или с двух сторон одновременно. Но мы никогда не увидим, чтобы лучи исходили от объекта влево или вправо, ибо отражения вблизи уголков глаза {238} не могут попасть в зрачок, поскольку из-за изгиба глазного века, повторяющего изгиб сферы, уголки глаз лежат ниже горизонтальной прямой, проходящей через зрачок. Если, нажав пальцем на веко, расширить глаз и раздвинуть веки от зрачка, то исчезнут лучи, расходящиеся вверх или вниз, так как в зрачок перестанут попадать отражения от краев век.
Это, и только это, представляет собой то сияние, из-за которого небольшие источники света кажутся нам большими и лучистыми и внутри которого маленькое истинное пламя оказывается как бы проглоченным и неразличимым. Это свечение совсем иное и не имеет никакого отношения, совсем никакого, синьор Сарси, к увеличению, ибо по яркости настолько уступает первичному свету, что нужно быть совсем слепым, дабы не увидеть границ, контуров и отличий между одним и другим. Кроме того, как я уже говорил, если бы диски Солнца и Луны увеличивались от этого сияния, то на восходе Солнце и Луна должны были бы казаться огромными кругами. Если ты скажешь, что не отрицаешь самого факта, т. е. того, что лучистый венец, о котором мы говорим, есть ощущение глаза, но не согласен с тем, будто я доказал тем самым, что часть этого сияния не зависит от освещения окружающего воздуха, то я буду вынужден попросить тебя воздержаться от столь жалостного выпрашивания хотя бы самого скупого подаяния. А что ты собираешься делать с тем весьма слабым светом, к которому примешиваются необычайно яркие лучи, отраженные от глазного века? Добавляя его, ты получаешь примерно столько, сколько дает факел в полдень при ярком солнечном свете?
Что касается света, рассеиваемого насыщенным испарениями воздухом, то я счастлив уступить тебе не только то малое, о чем ты просишь, но и все, что охвачено рассветом, сумерками и всей полусферой испарений. Я отнюдь не прошу, чтобы святящееся тело лишалось всего этого при наблюдении в телескоп или другим способом; для твоего полного удовлетворения я даже хочу, чтобы светящееся тело при наблюдении в телескоп увеличивалось, как и все другие объекты; поэтому оно не только будет размером с рассвет, но и займет в тысячу раз большее пространство, если столь огромные расстояния можно обозреть в телескоп. Но ничто из сказанного ничем не поможет ни тебе, ни твоему учителю, ибо, дабы подтвердить твой основной вывод (о том, будто неподвижные {239} звезды не увеличиваются при наблюдении в телескоп из-за того, что находятся очень далеко от нас), тебе необходимо, чтобы звезда и сияние представляли собой одно и то же или по крайней мере сияние располагалось вокруг звезды. Ни то ни другое не соответствует действительности, ибо сияние находится в глазу, а звезды при наблюдении в телескоп увеличиваются так же, как и любой другой объект, рассматриваемый в тот же телескоп, о чем правильно пишет и что доказывает синьор Марио.
Все же другие твои отступления об освещенном воздухе, насыщенном испарениями, о солнцах и лунах, стоящих высоко и низко над горизонтом,— все это не более чем, так сказать, паллиативы, попытки удрать из школы и отвлечь читателя от главного. Среди этих различных отступлений два совершенно правильных: то, в котором ты с помощью длинных рассуждений пытаешься доказать, что вытянутый палец не мешает видеть свечу, и другое, в котором говорится о тонкой нити и других препятствиях, размеры которых меньше размеров зрачка, хотя я не могу не заметить, что оба отступления не имеют никакого отношения к делу.
Я вижу, что в душе ты и сам сознаешь это, ибо, когда настает время применять сказанное к предмету нашего спора п извлекать какие-то выводы, ты круто останавливаешься и, оставляя сказанное висеть в воздухе, переходишь к другому утверждению, пытаясь доказать с помощью рассуждений то, чему противоречат сотни очевидных фактов. Впрочем, заглянув в телескоп, ты мог бы и сам увидеть, что Сатурн сильно закруглен и весьма отличается по форме от других звезд, диски Юпитера и Марса, в особенности когда те приближаются к Земле, идеально круглые и имеют очень четкие контуры, Венера время от времени «показывает рога», но и она имеет весьма четкие очертания; шарики неподвижных звезд, особенно более крупных, легко различимы, и, наконец, пламя тысячи свечей, расположенных на большом расстоянии, очерчено столь же четко, как если бы свечи были рядом. С другой стороны, невооруженным глазом, без телескопа, невозможно отличить ни одну из этих форм, все оказываются скрытыми чуждыми лучами, придающими им одну и ту же форму, напоминающую венец. Тем не менее, убедив себя своими собственными аргументами, ты настаиваешь, что телескоп не показывает их в обкорнанном виде. Хотя я не обязан отыскивать все ошибки в твоих рассуждениях, коль Скоро опыты {240} противоречат им, но для твоей же пользы кратко укажу их.
Дабы смысл моего замечания был как можно яснее, я спрошу тебя, синьор Сарси, как это получается, что Венера, столь плотно окруженная «лишними», чуждыми ей лучами, за которыми совершенно скрывается ее истинная форма, с сотворения мира тысячи раз принимала форму полумесяца, когда ее еще не наблюдало ни одно живое существо, и всегда появлялась в одном и том же виде, покуда я впервые не заметил в телескоп некоторые изменения? Такого не случалось с Луной, ибо изменения ее формы видны невооруженным глазом и не претерпевают сколько-нибудь ощутимого вмешательства со стороны дополнительного сияния. Разве это не говорит о том, что различие обусловлено большой удаленностью Венеры и близостью Луны, ибо должен тебе сказать, что происходящее с Венерой происходит и с пламенем свечи, форма которого на расстоянии в сто локтей полностью искажается и теряется среди лучей ничуть в не меньшей степени, чем Венера.
Если ты хочешь ответить правильно, то должен сказать, что происходит это из-за малости тела Венеры по сравнению с видимыми размерами Луны, и длины лучей, порождаемых нашими глазами, ты должен изобразить, как, скажем, четыре диаметра Венеры, что не превышает одной десятой диаметра Луны. Вообрази крохотный месяц Венеры, увенчанный париком, простирающимся и торчащим во все стороны на расстояние, равное четырем ее диаметрам, и в то же время подумай об огромном лунном серпе с париком, размеры которого не больше одной десятой лунного диаметра. Нетрудно понять, что форма Венеры полностью теряется под столь пышной куафюрой, в то время как форма Луны изменяется очень мало. Происходит в точности то, что случилось бы, вздумай ты облачить муравья в шкуру барана; крохотные члены муравья полностью потерялись бы в длинной шерсти, и мы увидели бы лишь груду шерсти; баран же достаточно велик для того, чтобы его члены были отчетливо различимы под тем же одеянием.
Добавлю, что когда светящийся объект обзаводится сверкающей куафюрой, причина которой коренится у нас в глазу, то размеры ее определяются не столько размерами объекта, сколько строением самого глаза. В этом нетрудно убедиться, если надавить на веко так, что покажется, будто от светящегося объекта исходят очень длинные лучи: лучи, исходящие от Луны, будут ничуть не {241} длиннее лучей, исходящих от Венеры, факела или фонаря. Вообрази парик какого-нибудь конечного размера и в центре его крошечное светящееся тело. Форма тела будет полностью скрыта, ибо оно увенчано копной предлинных волос. Но если ты мысленно представишь себе теле все больших и больших размеров, то его реальною изображение постепенно займет столь большую часть нагнет глаза, что парик будет едва простираться за пределы тела или не будет виден совсем. Например, изображение Луны может занимать в глазу больше пространства, чем обычное сияние.
Пусть так. Предположим, что реальный диск Юпитера занимает в твоем зрении небольшой круг, диаметр которого составляет одну двадцатую ширины лучистого парика; на столь большом пространстве крохотный реальный диск останется неразличимым. Но вот я навожу на него телескоп, и тот увеличивает изображение Юпитера да двадцати диаметров, но не увеличивает сияние, ибо оно не проходит сквозь линзы; соответственно я перестану наблюдать Юпитер в виде маленькой звездочки, а увижу круглую луну, вполне большую и с четкими очертаниями. Если звезда гораздо меньше Юпитера, но светит ярко (как, например, Сириус, диаметр которого не достигает и одной десятой диаметра Юпитера, хотя окружающее его сияние несколько меньше), то телескоп, увеличивая звезду, но не парик, позволит нам разглядеть крохотный диск, который ранее был неразличим среди яркого ореола, превосходящего его по своим размерам более чем в четыреста раз, и форма его вполне различима. Если свои рассуждения ты построишь на таких основаниях, то сможешь избавиться от всех трудностей.
Отвечу я и на твои возражения по поводу нашего с синьором Марио утверждения, что телескоп срывает со звезд их великолепный венец. Высказывая это утверждение, мы, разумеется, не рассчитывали на то, что оно привлечет внимание столь пунктуальной персоны, как ты, который, не имея к чему бы еще придраться, начинает читать длиннющие нотации людям, имевшим неосторожность употребить термин «бесконечный» вместо «очень большой». Говоря о том, что телескоп лишает звезды сияния, мы имели в виду то его действие, в результате которого звезды обретают границы и формы, представая пред нами как бы обнаженными и без покровов, скрывающих их фигуры от невооруженного глаза.
Разве не верно, синьор Сарси, что Сатурн, Юпитер,
| {242} |
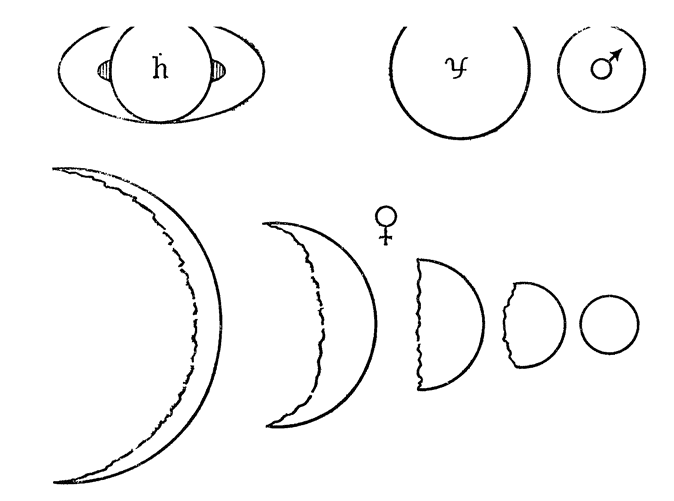 |
Рис. 18 |
Венера и Марс не обнаруживают перед невооруженным глазом никаких изменений в форме и что размеры этих планет не подвержены особенно сильным изменениям во времени? В телескоп Сатурн выглядит так, как показано на прилагаемом рисунке [рис. 18, вверху слева], Юпитер и Марс — так, [как показано вверху посредине и справа], а Венера принимает все эти формы [внизу], и, что замечательно, размеры ее изменяются примерно так, как показано, т. е. в виде месяца она кажется примерно в сорок раз больше, чем в виде круглого диска. Марс в перигее кажется в шестьдесят раз больше, чем в апогее, хотя на невооруженный глаз он лишь в четыре-пять раз больше. Ты не можешь отрицать всего этого, ибо все, о чем я говорю, наблюдаемо и не преходяще; не можешь ты надеяться и на то, что с помощью силлогизмов тебе удастся убедить людей в том, будто все происходит иначе. Говоря о том, что телескоп «лишает звезды сияния» (сами слова сейчас не имеют особого значения), мы имели в виду только то, что он устраняет сияние, возмущающее невооруженный глаз и затрудняющее точное восприятие. Это действие телескопа наиболее важно и влечет {243} за собой замечательные и весомые последствия, но если наши слова кажутся тебе неподходящими, то ты, будучи все еще учеником, можешь изменить их по своему усмотрению, подобно тому как ранее ты изменил наше «увеличение» на свой «переход из небытия к бытию».
Ты считаешь разумным предположить, что так же, как изображение светящегося предмета проходит сквозь среду, свободную от производимого нашим глазом сияния, оно будет проходить сквозь линзы телескопа. На это я отвечу, предоставив решение всецело на твое усмотрение, и скажу, что с объектами, наблюдаемыми в телескоп, происходит все то же, что и с объектами, наблюдаемыми без телескопа. Например, диск Юпитера из-за своего малого размера совершенно теряется среди лучей при наблюдении невооруженным глазом, чего нельзя сказать о диске Луны, ибо он занимает в нашем зрачке гораздо больше места, чем его лучистый круг, кажущийся гладким, а не волосатым. Точно так же телескоп приближает диск Юпитера к моему глазу, увеличивая его в шестьсот или тысячу раз по сравнению с его простым изображением, и столь большая величина диска как бы пожирает его куафюру из лучей, и диск выглядит наподобие полной Луны.
Но едва заметный диск Сириуса, хотя и увеличивается в тысячу раз при наблюдении в телескоп, не может сравняться со своими размерами, включающими лучистый венец, дабы выглядеть совсем гладким. Все же лучи у наружного края несколько слабее и реже, диск вполне различим, и сплошность маленького шарика звезды отчетливо видна на фоне разрывности лучей. Чем больше телескоп увеличивает диск Сириуса, тем более четким становится его контур и тем меньше скрывают его лучи. Вот как обстоят дела, синьор Сарси, и, описывая эту картину, мы остановили свой выбор на выражении «телескоп лишает Юпитер венца»; если эти слова почему-либо тебе не нравятся, ты имеешь полное право изменить их по своему усмотрению, а я могу пообещать тебе, что в будущем непременно воспользуюсь твоими поправками. Но не трать понапрасну силы, пытаясь изменить факт, ибо в этом тебе никогда не преуспеть.
Поскольку в самом конце ты повторно настаиваешь на необходимости признать, что окружающий воздух освещен и что звезды поэтому кажутся больше, я вынужден ответить тебе еще раз, что окружающие пары действительно освещены, но светящееся тело кажется больше не {244} поэтому. Свет от паров неизмеримо слабее первичного света; светящееся тело, если оно велико, остается голым, а если мало, то контуры его по-прежнему резко ограничены, включая и сияние, возникающее в глазу и резко отличающееся от очень слабого свечения воздуха, насыщенного парами. Я повторяю также тебе, поскольку ты предоставлял мне для этого множество выводов, что тебе следует полностью отказаться от ложной идеи, будто Солнце и Луна вблизи горизонта кажутся больше из-за слоя освещенного воздуха, которым окружены их диски, ибо, как я уже доказал выше, все это очень наивно.
Дабы не упустить ничего, что могло бы удержать тебя от ошибки и помочь тебе разобраться в существе дела, я отвечу на твои заключительные слова. Ты говоришь, будто сияющие лучи вокруг звезды должны проходить через телескоп, вследствие чего нельзя отбрасывать то малое увеличение, которое они вызывают, просто сославшись на то, что они утрачены, ибо они не утрачены. На это я отвечу, что увеличение очень велико, как и у всех других объектов, и твоя ошибка (как уже неоднократно повторялось) состоит в том, что ты сравниваешь звезду вместе с окружающим ее сиянием, наблюдаемую невооруженным глазом, с телом звезды, наблюдаемым в телескоп и отделенным от лучистого венца. Иногда звезда в лучистом обрамлении кажется больше, иногда такой же в зависимости от размеров тела звезды и силы телескопа; но, даже если звезда меньше сияния, диск, как я уже говорил, виден внутри границ куафюры.
Очень простое доказательство того, что [при наблюдении в телескоп небесных тел] увеличение столь же велико, как и при наблюдении любых других объектов, состоит в следующем: нужно навести телескоп на Юпитер до восхода и следить за ним до появления Солнца и потом. При наблюдении в телескоп всегда будет виден диск Юпитера одних и тех же размеров, а при наблюдении невооруженным глазом диск по мере приближения восхода будет непрестанно сжиматься. Перед восходом Юпитер (который в темноте превосходит по блеску все звезды первой величины) светит слабее, чем звезда пятой или шестой величины, о восходом стягивается почти в неделимую точку и наконец исчезает из виду. Но даже после того, как он исчезает для невооруженного глаза, его можно наблюдать в телескоп весь день (Юпитер кажется большим и круглым); я владею инструментом, который показывает Юпитер, когда тот стоит невысоко над {245} Землей, размером с Луну, наблюдаемую невооруженным глазом. Следовательно, увеличение в данном случае не малое или вообще никакое, а большое, как при наблюдении всех других объектов.
Раз я не могу поймать тебя, синьор Сарси, на бегу, то мне придется взять тебя измором. Хочешь, я предложу тебе еще одно доказательство того, что объекты, находящиеся на любых расстояниях, увеличиваются в одном и том же отношении? Выслушай тогда следующее. Поместим несколько видимых объектов на различных расстояниях так, чтобы они выстроились по одной прямой и самый ближний закрывал собой остальные. Не изменяя положения глаза, взгляни на эти объекты в телескоп. Увидишь ли ты, что они по-прежнему выстроены по прямой? Или ближайший объект уже не будет скрывать от тебя остальные и ты сможешь их увидеть? Думаю, что ты ответишь так: «Я увижу, что все объекты выстроены по прямой, ибо они действительно расположены по прямой».
А теперь представь себе несколько прямых стержней, расположенных параллельно друг другу на различных расстояниях от глаза; эти стержни должны быть неравной длины, самый дальний должен быть самым длинным, а более близкие стержни должны постепенно укорачиваться так, чтобы концы их лежали на двух прямых, одной слева и одной справа от тебя. Возьми теперь телескоп и взгляни в него на эти стержни. По твоему предыдущему признанию, концы стержней справа и слева от тебя будут по-прежнему располагаться на прямых, хотя угол между прямыми раскроется шире. Но как такое может быть, синьор Сарси? Среди геометров принято, чтобы все отрезки увеличивались в одном и том же отношении; более близкий отрезок не должен увеличиваться больше, чем дальний, поэтому сдайся и молчи.
L
Четвертое утверждение
Ничто светящееся не прозрачно,
пламя не позволяет видеть те предметы,
которые находятся позади него
Посмотрим, сколь корректно Галилей кует свое оружие против Аристотеля из учения перипатетиков и опытов. «Кроме того,— утверждает он,— мы из опыта и {246} утверждения перипатетиков, согласно которому ни одно светящееся тело не прозрачно, вывели, что комета — не пламя. Опыт учит, что пламя даже самой тоненькой свечки мешает рассмотреть те предметы, которые за ним находятся. Следовательно, если кто-нибудь говорит, что комета — пламя, то он тем самым как бы утверждает, что звезды, находящиеся за кометой, полностью ею сокрыты; мы же видим сквозь хвост кометы, как звезды мерцают». Я не могу должным образом выразить свое изумление, как человек, носящий столь знаменитое имя и известный как большой любитель опытов, в этих вопросах столь громогласно заявляет то, что может быть легко и полностью опровергнуто с помощью очевидных опытов.
Утверждение перипатетиков, если понимать его правильно, нельзя не признать истинным; ибо каждое тело должно как бы схватить свет и удержать его от дальнейшего полета, дабы оно могло быть освещено или, точнее, могло казаться освещенным; кроме того, будучи прозрачным, т. е. проницаемым для света, тело не может стать препятствием для него; следовательно, мы можем утверждать, что любое тело должно быть освещено тем ярче, чем оно более непрозрачно и непроницаемо для света. Тем не менее не найдется никого, кто стал бы отрицать, что существуют тела отчасти прозрачные, отчасти непрозрачные, которые задерживают одну часть света (из-за нее они кажутся светящимися) и свободно пропускают другую; к такого рода телам относятся более разреженные облака, вода, стекло и многие другие, задерживающие свет на поверхности и передающие его другой своей части. Таким образом, у Галилея нет основания думать, будто его опыты внесли нечто существенное в это утверждение.
Его опыты заведомо должны считаться ложными, поэтому я утверждаю, что пламя свечи не является препятствием на пути от глаза к предмету, расположенному за пламенем, и пламя прозрачно.
(1-й аргумент.) Во-первых, Священное писание согласуется с этим утверждением, когда повествует о Седрахе, Мисахе и Авденаго, брошенных по приказу царя Навуходоносора в раскаленную печь. О том, что при этом произошло, царь поведал так: «Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию130». Дабы никто не подумал, будто прозрачность пламени надлежит {247} считать чудом, та же прозрачность подтверждается еще и тем, что фитиль в середине пламени свечи остается виден либо почерневшим, либо раскаленным. Кроме того, когда горит огромная куча дров, мы без труда замечаем полусгоревшие поленья и пылающие угли среди пламени, хотя часто между глазом и тем же поленом стеной стоит бушующее пламя. Следовательно, пламя прозрачно.
(2-й аргумент.) Во-вторых, все непрозрачное, будучи помещено между глазом и объектом, скрывает объект из виду независимо от того, находится ли оно далеко или близко от объекта; например, кусок дерева, находится ли он вблизи объекта или далеко от него, если его поместить между объектом и глазом, не позволит видеть объект. В случае пламени этого не происходит, ибо, какие бы предметы ни поместить за ним, если они расположены недалеко от огня, пламя освещает их очень сильно и их всегда можно видеть, всякий может легко убедиться в этом, поместив какой-нибудь текст на расстоянии примерно одного дюйма позади пламени, ибо текст, скрытый пламенем, легко читается; таким образом, пламя светоносно и прозрачно, что Галилей отрицает, принимая противоположное за аксиому вопреки Аристотелю.
Но если кто-нибудь спросит, почему ненаблюдаемы объекты, находящиеся на большом расстоянии позади пламени, то я отвечу, что всякий объект источает силу, которая мешает другим объектам, менее приспособленным к выделению той же силы, быть видимыми. Силу источают все объекты, но более яркие источают обильнее, чем другие, сходные с ними объекты. Объекты, находящиеся далеко позади пламени, освещены гораздо слабее, чем само пламя, поэтому пламя сосредоточивает в себе всю силу и управляет ею, мешая другим объектам быть видимыми. Следовательно, чем ближе объекты к пламени, тем ярче они освещены и тем лучше пригодны для того, чтобы источать силу, и поэтому они наблюдаемы. И действительно, если бы их освещал более яркий свет, то они могли бы почти соперничать с пламенем. Пламя может сверкать более тусклым светом; объект, помещенный позади пламени, может освещаться либо им, либо другим, более мощным источником света; но пламя, оказавшееся между глазом и объектом, никогда не мешает объекту быть видимым, даже если он расположен очень далеко от пламени.
(3-й аргумент.) Сказанное можно подтвердить некоторыми опытами. Предположим, что горит хорошо {248} перегнанное вино, обычно именуемое крепкой водкой [aqua vita]; его пламя, не будучи очень ярким, оставляет свободный путь для глаза к изображениям предметов; сквозь такое пламя можно с легкостью читать даже самый мелкий шрифт. То же можно сказать и о пламени, поднимающемся от горящей серы, которое, хотя оно окрашено и плотно, едва ли служит препятствием на пути к тем же изображениям предметов.
(4-й аргумент.) Во-вторых, пламя может гореть очень ярким, ослепительным светом, но стоит лишь поместить позади него свет другой свечи, как вы заметите, что более далекое пламя просвечивает сквозь более близкое пламя. А поскольку звезды — светящиеся тела и сверкают гораздо ярче любого пламени, неудивительно, что пламя кометы, оказавшейся между звездами и нами, не может скрыть звезды из виду. Следовательно, выдвинутый Галилеем аргумент не нанес ущерба мнению Аристотеля.
(5-й аргумент.) В-третьих, не только тела, сияющие своим собственным светом, не могут быть скрыты пламенем, отделяющим их от глаза, но даже непрозрачные тела, если они освещены другим светом. Например, если вы смотрите на что-нибудь освещенное Солнцем, то никакое пламя не скроет рассматриваемый вами предмет.
Итак, вне всякого сомнения ясно, что пламена прозрачны, и это обстоятельство также опровергает идею, будто комета не может быть пламенем.
Ваша милость, настало время завершить столь затянувшуюся дискуссию, поэтому позвольте нам перейти к четвертому, и последнему, утверждению. В нем, как Вы видите, Сарси утверждает, будто не может сдержать своего изумления при виде того, как я, пользующийся репутацией дотошного наблюдателя и человека, до Тонкости разбирающегося в опыте, высказываю утверждения, которые весьма легко опровергаются простыми и ясными опытами. Затем он приводит множество опытов, выставляя себя осмотрительным и честным экспериментатором, а меня — опрометчивым и лживым. Начну с того, что кратко поясню, почему синьор Марио и я решили принять точку зрения, согласно которой комета, будь она пламенем, скрывала бы от нас звезды. Затем я рассмотрю примеры и аргументы Сарси, а под конец предоставляю Вашей милости судить, кто из нас менее осмотрителен и честен и в своих опытах, и в своих рассуждениях. {249}
Прозрачность тел, с нашей точки зрения, есть не что иное, как их способность делать видимыми другие тела, находящиеся за ними; мы убеждены, таким образом, что, чем менее видимо прозрачное тело, тем лучше видно сквозь него. Например, самый прозрачный воздух совсем невидим, прозрачная вода и хорошо отполированное стекло едва видны, если поместить их между нами и наблюдаемым объектом, и нам казалось, что отсюда немедленно следует и обратный вывод: чем лучше видно тело, тем оно менее прозрачно.
Но так как пламена — тела далеко не последние среди тел, видимых по своей природе, мы считали, что они должны быть немного прозрачными, и утвердились в своем мнении, когда к приведенному выше рассуждению присоединился авторитет Аристотеля и перипатетиков. Относительно их авторитета я должен заметить, что Сарси пытается придать утверждению Аристотеля и перипатетиков иной смысл, нежели самый простой и очевидный; по его словам, он абсолютно уверен в истинности их утверждения, но в том смысле, что тела могут не быть прозрачными, если они светятся, а не в том, будто светящиеся тела непрозрачны. Разумеется, Сарси вкладывает такой смысл в утверждение потому, что при такой интерпретации утверждение представляется ему истинным; что же касается самих слов, то они лучше передают смысл последнего, а не первого варианта утверждения. И сам Сарси чуть далее не только подтверждает, но и доказывает на опытах, что светящиеся тела скрывают из виду другие тела, расположенные за ними, когда пишет, что те также мешают видеть тела, помещенные позади них, и т. д.
Но вернемся к нашему исходному аргументу. Помимо авторитета перипатетиков, нас убедило в правильности нашей точки зрения заимствованное из опыта наблюдение, согласно которому сквозь нагретое стекло находящиеся за ним предметы почти не видны, тогда как сквозь холодное стекло они отчетливо видны. Пламя свечи обнаруживает тот же эффект, особенно в своей верхней части, более горячей, чем нижняя часть вокруг фитиля, где испарения не столь полно сгорают в реальном пламени. Кроме того, мы заметили, что толщина тела была весьма существенна, даже если тело по своей природе было не очень непрозрачным. Например, ствол дерева можно различить сквозь облако толщиной в двадцать или тридцать локтей, тогда как сквозь облако толщиной {250} в двести или триста локтей не видно даже Солнца. Имея это в виду, мы сочли разумным принять точку зрения, согласно которой пламя никогда не бывает столь прозрачным, что не скрывало бы из виду самые слабые звезды, даже если бы его толщина достигала сотен и сотен локтей. Отсюда мы заключаем, что если бы хвост кометы был пламенем, то толщина его (возможно, не достигающая семидесяти миль, как утверждают Сарси и его учитель, но составляющая по крайней мере многие локти) должна была бы скрывать от нас звезды; а так как звезды видны сквозь хвост кометы, это обстоятельство представляется нам решающим аргументом против утверждения, будто хвост кометы — это огонь.
Сарси, нимало не заботясь о главном пункте этого весьма разумного аргумента, а намертво вцепившись в единственное утверждение синьора Марио, что пламя свечи непрозрачно, убедил себя, будто одержал победу, раз ему удалось доказать, что пламя свечи в какой-то мере прозрачно. Сарси утверждает, что если он поместит какой-нибудь текст на столь малом расстоянии от пламени, чтобы оно почти касалось написанного, и с превеликими муками попытается разобрать буквы, то ему удастся это сделать (если, добавлю я, он обладает весьма острым зрением, ибо я, не будучи близоруким, вряд ли смогу разглядеть столь близкие объекты, даже если воспользуюсь очками).
Помимо предыдущего, Сарси приводит много других опытов. Из почтения и благоговения я хотел бы начать с рассмотрения того из них, который зиждется на авторитете, превыше которого нет; именно этот опыт Сарси приводит первым, заимствуя его из Священного писания. Синьор Марио и я хотели бы обратить внимание на те слова Священного писания, которые непосредственно предшествуют выбранным Сарси; как мне кажется, они означают, что, прежде чем царь увидел ангела и трех отроков, разгуливающих по печи, пламя было погашено. Таков, как мне кажется, смысл следующих слов Священного писания: «Angelus autem Domini descendit cum Azaria et sociis eius, et excussit flammam ignis de fornace, et fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem»*. {251}
Замечу, что Священное писание говорит о flammam ignis [огненном пламени], по-видимому проводя различие между «пламенем» и «огнем», а когда чуть далее говорится о царе Навуходоносоре, увидевшем в печи четырех людей, то речь идет уже об огне, а не о пламени: «Ессе ego video quatuor viros solutos et ambulantes in medio ignis»*. Но так как я могу ошибиться в угадывании истинного смысла материй, которые намного выше моего разумения, я оставляю окончательное решение на усмотрение докторов богословия и просто перехожу к рассуждениям о вещах менее возвышенных, заявляя при этом, что я всегда готов принять решение властей, даже если какое-нибудь доказательство или опыт свидетельствовали бы против него.
Возвращаясь к опытам Сарси по разглядыванию различных объектов сквозь пламя, я хочу сказать, что могу свободно признать его правоту во всем этом. Но мое признание ничем не поможет Сарси; для доказательства того утверждения, которое он отстаивает, недостаточно поместить пламя толщиной в один палец между объектами, отстоящими от пламени на один палец, или разглагольствовать об объектах, находящихся в самом пламени, а также в его нижней, наименее яркой части. Если Сарси не хочет остаться позади, то ему необходимо доказать, что пламя толщиной в сотни локтей и на очень большом расстоянии и от наблюдателя, и от наблюдаемых объектов не скрывает их из виду, т. е., по существу, утверждать, будто пламя является несравненно меньшим препятствием для зрения, чем облако. Но природа облака такова, что если между предметом и наблюдателем окажется облако толщиной в несколько локтей, не говоря уже о пальце, то оно не представит никакой помехи для зрения, между тем как при толщине в сто или двести локтей сквозь него не будет видно даже Солнца, не говоря уже о звездах.
И наконец, я не могу устоять перед соблазном вернуться на миг к изумлению Сарси по поводу моего безнадежного неумения ставить опыты. Ты упрекаешь меня, Сарси, в том, что я плохой экспериментатор, тем не менее ты сам заблуждаешься настолько глубоко, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Ты должен доказать, что вопреки нашему утверждению пламя, {252} расположенное между глазом и наблюдаемым объектом, недостаточно для того, чтобы скрыть из виду звезды. Дабы убедить нас в этом, ты говоришь, что если мы попытаемся разглядеть людей, головни, угли, тексты и свечи, отделенные от нас пламенем, то увидим их вполне отчетливо. А не приходило ли тебе в голову сказать нам, что мы могли бы попытаться взглянуть на звезды? Почему ты нам не сказал с самого начала: «Поместите пламя между глазом и какой-нибудь звездой, и звезда будет видима столь же отчетливо, как и прежде, не больше и не меньше»; ведь звезд на небе предостаточно. Разве это означает быть искусным и предусмотрительным экспериментатором?
Позволь мне спросить тебя: подобен ли огонь кометы нашим огням, или он иной природы? Если иной природы, то опыты, производимые с земными огнями, не имеют решающей силы; если же кометный огонь схож с нашим, то ты бы мог сразу заставить нас взглянуть на звезды сквозь наши пламена, оставив в стороне все эти лишние разговоры о головнях, свечном нагаре и тому подобных вещах, и вместо того, чтобы толковать о буквах, различимых сквозь пламя, заявить, что так можно разглядеть звезды. Всякий, кто захотел бы иметь с тобой дело на рынке с честными и чувствительными весами, синьор Сарси, сказал бы, что ты должен разжечь на огромном удалении от нас пламя размером с комету и дать нам разглядеть сквозь него звезды, поскольку в вопросах такого рода размеры пламени и его удаление от глаза весьма важны. Но для того чтобы предоставить тебе все преимущества и сделать приятное, я готов довольствоваться гораздо меньшим и приготовлю тебе более удобные средства.
Прежде всего, поскольку близость к глазу существенна при наблюдении объектов, я вместо того, чтобы помещать огонь на таком же расстоянии от нас, на каком находится комета, ограничусь расстоянием всего в сто локтей. Так как толщина и плотность среды также очень важны, я вместо толщины кометы, составляющей, как ты знаешь, многие сотни локтей, довольствуюсь всего лишь десятью локтями. Кроме того, поскольку наблюдаемый объект, как ты утверждаешь, виден лучше, если он ярок, я готов согласиться, чтобы этим объектом была выбрана одна из звезд, видимых сквозь хвост нашей кометы, ибо такие звезды, как ты утверждаешь, ярче любого пламени. Если после всех этих приготовлений, {253} столь благоприятных для отстаиваемого тобой утверждения, тебе все же удастся сделать так, чтобы звезды были видны сквозь прозрачность сооруженного нами костра, то я признаю свое поражение и причислю тебя к самым дотошным и тонким экспериментаторам мира.
Если же тебе не удастся достичь желаемого, то я не потребую от тебя ничего, кроме молчания, которое положило бы конец нашему спору (надеюсь, что мои условия для тебя приемлемы). Ибо если тебе когда-нибудь случится прочитать этот мой трактат (он находится у одного синьора, которого я просил в письме показывать мое сочинение всем, кто захочет), то ты увидишь, что надлежит делать человеку, который берется изучить чьи-то замечания; ничто не должно ускользнуть от его внимания; он не должен вести себя (как это делаешь ты), подобно слепому цыпленку, который тыкается клювом в землю то там, то здесь в надежде найти пшеничное зерно и склевать его.
В конце приведенного выше отрывка ты не мог отрицать того, что понял и сам, и согласился с тем, что от пламени, помещенного между наблюдателем и наблюдаемым объектом, возникает некоторое препятствие даже для твоего глаза, ибо если бы никаких темных пятен не было, то ты бы сказал прямо (без всяких оговорок и предостережений относительно объектов, расположенных то дальше от пламени, то ближе к нему, относительно того, почему гореть должна сера или крепкая водка, а не солома или воск): «Пусть пламя и объект будут такими, какие они есть, никаких препятствий для меня при этом не возникает. Я вижу все так же ясно, как если бы смотрел сквозь чистый воздух». Кроме того, чуть дальше, говоря об объектах не самосветящихся, подобно пламени, а освещаемых извне, ты заявляешь, что они также скрывают объекты из виду; слово «также» означает, что ухудшение видимости ты относишь отчасти за счет пламени. Но это еще не все.
Если бы пламя не служило помехой для зрения, то кому пришло бы в голову назвать его непрозрачным? Таким образом, даже для тебя пламя несколько затмевает находящийся за ним объект (я говорю «для тебя», поскольку для всех остальных из нас оно представляет серьезную помеху зрению), и твои опыты производились со столь малым пламенем, что ухудшение видимости от облака одинаковых с ним размеров было бы совсем неощутимо. Следовательно, твое пламя служит большим {254} препятствием, нежели равное ему по размерам облако; но облако толщиной с комету полностью закрыло и сделало бы невидимым Солнце; следовательно, если бы комета была пламенем, то его хватило бы, чтобы закрыть от нас Солнце; а так как хвост кометы не закрывает звезды, не говоря уже о Солнце, то комета — не пламя.
Поистине редки источники, способные поддержать ложь, что же касается источников, способствующих установлению истины, то их предостаточно. Я хотел бы обратить внимание Вашей милости на одну особенность, которая, как мне кажется, подтверждает ложность мнения Аристотеля. Поскольку природа направляет все известные нам пламена вверх, в то время как их источники и начала остаются внизу, хвост кометы, если бы она была пламенем, а ее голова — той материей, в которой это пламя берет свое начало, был бы направлен прямо в небо. Отсюда вытекают два следствия. Либо хвост всегда наблюдался бы в виде венца вокруг головы кометы; так обстояло бы дело, когда комета находилась бы либо очень высоко, либо очень близко к Земле; при рождении кометы сначала показался бы кончик ее хвоста, а последней мы увидели бы голову; затем по мере восхождения к зениту хвост либо совсем исчез бы, либо плотно окутал голову. Либо, наконец, при движении на запад хвост непременно обратился бы в противоположную сторону так, что голова кометы склонилась бы к западу прежде, чем все остальное. Ибо если бы комета двигалась хвостом вперед, как при рождении, то пламя вопреки природной тенденции и в противоречии с тем, как оно вело себя, когда находилось западнее, устремилось бы вниз. Ничего подобного ни у комет, ни у их движений не наблюдается; следовательно, кометы — не пламена.
LI
(6-й аргумент.) Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что Галилей находится под властью того самого аргумента, который он выдвигает против Аристотеля. Ибо Галилей утверждает: «Пламя непрозрачно; хвост кометы прозрачен; следовательно, хвост кометы — не пламя». Против этого я возражу: светящиеся тела непрозрачны; хвост кометы прозрачен; следовательно, хвост кометы не светится. Звезды, прекрасно наблюдаемые сквозь хвост, свидетельствуют о том, что хвост прозрачен. Кроме того, Галилей, утверждая, что хвост {255} состоит из освещенных испарений, тем самым утверждал, что хвост кометы светится, ибо освещенные испарения — светящееся тело. Пусть он не сказал, что имеет в виду светящиеся тела, испускающие собственный особый свет, а не тела, получающие свет откуда-то. Такие тела также мешают видеть предметы, помещенные позади них; ибо если какой-нибудь стеклянный сосуд или кувшин наполнить вином, водой или чем-нибудь еще и выставить на свет, то вино будет видно сквозь его стенки только в таких местах, которые либо не отражают свет, либо не освещены; там же, где свет отражается в глаз, наблюдатель не видит ничего, кроме яркого сверкающего блика. То же происходит и в воде, освещенной Солнцем. Ничто из того, что находится за той частью водной поверхности, которая отражает солнечный свет в глаз, не видно, в то время как в других местах легко различимы камешки и водоросли на дне. Таким образом, как мы видим, освещенные тела также скрывают из виду то, что находится за ними, и эти тела также могут быть названы светящимися. Если, следуя Галилею, допустить, что светящиеся тела непрозрачны, то мы не должны были бы видеть звезды сквозь хвост кометы, либо светящийся, либо освещенный; но мы видим звезды; следовательно, хвост кометы освещен и прозрачен.
Я весьма счастлив предоставившейся возможности изложить все эти соображения так, чтобы они были доступны каждому, ибо эти соображения не зависят от тех тонкостей и поворотов, в которых далеко не всякий разбирается одинаково хорошо; здесь же каждому, у кого есть глаза, достанет и таланта.
Здесь, как Вы видите, Сарси пытается повернуть против меня мой же собственный аргумент, но попробуем кратко разобраться, насколько он преуспел в этом. Прежде всего необходимо отметить, что, пытаясь осуществить свое намерение, он впадает в некоторые противоречия; еще более замечательно, что делает он это без всякой к тому необходимости. Сначала, поскольку это согласуется с его утверждением, он всячески стремится доказать, что пламена прозрачны и сквозь них можно наблюдать звезды. Но, дабы победить меня моим же оружием, он предполагает, что светящиеся тела непрозрачны, и принимается доказывать это с помощью нескольких опытов. Нетрудно понять, в чем состоят его намерения: он хочет, чтобы светящиеся тела были прозрачными, а не непрозрачными, как того требует его же теория. {256} В столь неудобное положение он ставит себя без всякой к тому необходимости, ибо вместо того, чтобы пытаться доказать то, что он сам же недавно отрицал, ему было бы достаточно заявить, не впадая и в тень противоречия и не предпринимая ни малейших попыток к доказательству, что мы всегда считали светящиеся тела непрозрачными. Не было никаких оснований и для опасений, что я стану проводить различия между телами, светящимися своим светом, и телами, освещаемыми чем-нибудь еще, ибо я всегда считал такого рода уловки пригодными только для тех, кто не умеет ясно выражать свои мысли. Если бы синьор Марио и проводил такое различие, то он оговорил бы это с самого начала, не дожидаясь, пока его противник обратит внимание на изъян в его рассуждениях.
Итак, я утверждаю, что в полном соответствии с истиной любое свечение, как внутреннее, так и внешнее, нарушало бы прозрачность светящегося тела. Но наши слова, синьор Сарси, не следует понимать в том смысле, будто тело становится непрозрачным, как стенка, стоит лишь упасть на него самому слабому свету. В зависимости от большей или меньшей яркости тело в большей или меньшей степени утрачивает свою прозрачность, подобно тому как с наступлением рассвета, при первом просветлении области испарений, исчезают менее яркие звезды. Потом, когда разгорается заря, гаснут и более крупные звезды, наконец при полном освещении Луна становится едва видимой. Кроме того, когда через разрывы в облаках к земле устремляются потоки солнечных лучей, ты с трудом обнаружишь сколько-нибудь заметное различие в освещенности некоторых участков горы, к которой стоишь лицом, ибо участки, оказавшиеся за яркими лучами, выглядят более темными, чем те, которые лежат в стороне и не освещены этими косыми лучами. Примерно то же происходит, когда солнечный луч проникает через небольшое окно в темную комнату, как иногда происходит, когда в церкви разбито какое-нибудь небольшое стекло: все объекты, находящиеся за лучом, видны менее отчетливо, по крайней мере, если наблюдатель сидит там, откуда ему непосредственно виден светящийся луч (ясно, что луч виден не отовсюду).
Если все это верно, то я утверждаю (и всегда утверждал), что материя кометы может быть гораздо более тонкой, чем насыщенный испарениями воздух, и поэтому менее пригодной для освещения. В этом меня убеждает {257} исчезновение нашей кометы на рассвете и в сумерках, когда Солнце находится еще далеко за горизонтом. Что касается яркости, то у кометы имеется не более причин прятать от нас звезды, чем у области испарений. Что касается глубины, то область испарений имеет в толщину много миль, поэтому нам нет необходимости предполагать безмерную толщину хвоста кометы, не определив диаметр головы, круглая ли та и на каком расстоянии от нас находится. Несмотря на все это, если кто-нибудь вздумает предположить, что хвост имеет в толщину миль восемь или десять, то такая гипотеза не приведет к каким-либо трудностям, ибо даже насыщенный испарениями воздух позволяет нам видеть звезды, хотя он по толщине во много раз больше, чем хвост кометы, и сильно освещен.
LII
Кроме того, по утверждению Галилея, Аристотель неверно предсказал по кометам, что год выдастся не очень дождливым, скорее даже засушливым, с сильными ветрами и землетрясениями. «Так как кометы, по Аристотелю,— говорит Галилей,— есть не что иное, как огни, ненасытные, как чудовища, к испарениям, то тот, кто скажет, что после них не должно оставаться ничего, поступит мудро». Я же считаю, что к этому предмету следует подходить иначе. Предположим, что в некотором городе на улицах и площадях высятся никем не охраняемые груды зерна, а самые мелкие из чиновников и простой люд постоянно предаются пышным пирам, то не мудро ли поступит тот, кто решит, что этому городу с таким обилием зерна и прочих запасов продовольствия еще долго не придется опасаться голода? Таков и наш случай. Область испарений, замкнутая в тесных границах, подобна житнице. Нелегко попасть испарениям в те области, где господствует прожорливое пламя, разве что огромные скопления их, будучи не в силах удержаться внизу, поднимаются вверх или становятся очень сухими, горячими и полностью утрачивают качество влажности. Поэтому Аристотель неверно заключил относительно комет, т. е. огня, возникающего из испарений, что во всех нижних областях они должны встречаться не в умеренных количествах, а в изобилии. Отсюда не следует, что не существует остатков испарений, ибо огонь поглощает только те из них, которые поднимаются над переполненными обителями нижних областей в область {258} огня. То, что огонь не пробивается в чужие пределы, а всегда остается в собственном царстве, само по себе требует материй более близких к огню; материй, которые как бы улетучились из более влажных областей, там нет; именно поэтому Аристотель мог предсказать ветры, очень засушливый климат на год и тому подобные вещи. Если кто-нибудь предсказывал нечто такое по нашей комете, то смог вскоре убедиться в правильности своих предсказаний на опыте. Ибо год выдался более засушливым, чем обычно, и, как мы знаем, ветры дули с необычной силой, значительная часть Италии подверглась землетрясениям, в иных местах не без ущерба для городов и селений. Ну и что из того? Разве Аристотель не говорил мудро обо всем этом и о многом другом?
Пример, с помощью которого Сарси надеется защитить Аристотеля и показать, что возражение синьора Марио якобы неверно, как мне кажется, не очень хорошо согласуется с тем, для чего он предназначен. Груды зерна вдоль дорог и на рынках можно расценить как свидетельство большего изобилия, чем в том случае, когда зерна не видно, ибо владелец зерна волен либо выставить его напоказ, либо спрятать; кроме того, зерна не становится меньше и оно не идет в дело от того, что на него смотрят. Эти два обстоятельства не имеют аналогов в случае кометы.
Может быть, более удачным окажется другой пример. О том, что на острове Куба в изобилии произрастает корица, мы судим по тому, что жители острова постоянно жгут корицу. Наше рассуждение вполне доказательно, ибо в их власти решить, жечь им корицу или не жечь, и если бы они испытывали нехватку корицы, то использовали бы ее только как приправу, как это делаем мы. Но предположим, что получено известие о том, будто несколько месяцев назад в коричном лесу в силу неблагоприятного стечения обстоятельств случился большой пожар, островитяне в ту пору находились далеко и не смогли потушить его и весь лес сгорел дотла. Если бы после такого известия кто-нибудь попытался предсказать нашим торговцам пряностями появление на рынке необычно большой партии корицы и основывал свое предсказание на том, что обычно сжигают охапки коричного хвороста, а на этот раз сгорел целый лес, то те, кто сочли бы его весьма глупым человеком, были бы правы. Тот же, кто стал бы радоваться при виде того, как огонь пожирает принадлежащий ему урожай хлеба, и обещать {259} себе, что, поскольку хлеб сгорел до последнего зернышка, он наполнит житницу полнее, чем обычно, попросту спятил с ума.
Материя, из которой состоит комета, либо та же, из которой состоит ветер, либо другая. Если она иная, то по обилию одной материи нельзя судить об обилии другой, подобно тому как при виде обилия винограда нельзя рассчитывать на хороший запас масла. Если же материя та же самая, то она сгорела бы при прикосновении к огню.
LIII
Я считаю, что истинное заключение, которое можно вывести из всего сказанного, надлежит выслушать не от меня, а от Галилея. Говоря о своих опытах, он заметил: «Таковы наши опыты и заключения, выведенные из наших принципов и начал оптики. Если бы наши опыты были ложны, а рассуждения ошибочны, то основания наших замечаний были бы весьма шаткими и слабыми». Подобное признание вряд ли нуждается в дополнении.
Вот то, что я считал необходимым высказать в этой дискуссии из почтения к моему наставнику. Я изложил все последовательно, намереваясь прежде всего высказать претензии Галилею (такова главная цель моего сочинения) от имени моего наставника, который всегда почитал его; и довести до всеобщего сведения, что в напечатанном нами «Возражении» нам удалось измерить расстояние от Земли до кометы с помощью наблюдений параллакса и движения; что самый факт незначительного увеличения кометы при наблюдении в телескоп позволил нам получить важные сведения для пашей теории; что Галилей не довольствовался тем, что исключил комету из числа истинных светил и предписал ей строгие законы прямолинейного движения. Кроме того, из сказанного выше ясно, что воздух увлекается движением неба, истончается, нагревается и возгорается; что тепло возникает при этом движении посредством трения и никакая часть истертого тела не исчезает; воздух может быть освещен, если к нему примешаны очень плотные пары, а яркие пламена прозрачны, что Галилей отрицает. Наконец, им были объявлены ложными те самые опыты, с помощью которых были доказаны приведенные выше заключения, говорящие почти об одном и том же. В мои намерения входило дать общее представление о затронутых мною проблемах, а не объяснять их более подробно {260} — ровно настолько, насколько необходимо, дабы каждый мог понять, что наш спор не причинил никому ничего дурного и что, отдавая предпочтение излагаемому нами мнению, мы руководствовались отнюдь не слабыми аргументами.
Здесь Сарси делает, как Вы видите, два замечания. Первое неявно содержит вывод, к которому должны прийти люди, о слабости основных принципов нашей теории, опирающейся (как якобы доказал Сарси) на ошибочные опыты и неверные рассуждения. Второе, по существу, представляет собой каталог, или перечень, заключений, содержащихся в «Рассуждении» синьора Марио, которые были опровергнуты и отвергнуты Сарси. Отвечая на первое замечание, я подражаю синьору Сарси и в ответ на любое суждение относительно разумности нашей теории обращаюсь к тем, кто внимательно взвесил рассуждения и опыты, приводимые каждой из сторон. Надеюсь, что отстаиваемые мной утверждения немало выиграют от того, что я шаг за шагом скрупулезно рассмотрел каждый довод и каждый опыт, приводимый Сарси, и ответил на все его замечания, в то время как он опускал многие из замечаний синьора Марио, в том числе и наиболее существенные. У меня была мысль поместить в заключение их сводку в обмен на каталог, приведенный в сочинении Сарси, но, хотя я поставил перед собой такую задачу, выполнить ее у меня не хватило духа и силы, когда я увидел, что для этого мне придется написать перечень, ничуть не уступающий по объему всему трактату синьора Марио. Дабы избавить Вашу милость и себя от этой скуки, я решил, что будет лучше, если Ваша милость перечитает заново «Рассуждение» синьора Марио.
| {261} |
Перевод выполнен по тексту «Il Saggiatore», включенному в критическое двадцатитомное издание трудов Галилея, подготовленное в 1890—1909 гг. Антонио Фаваро и известное как «Национальное Издание» (Edizione Nazionale). Во всех последующих переизданиях этого собрания (1929—1939, 1964—1966 и 1968) нумерация страниц сохраняется неизменной, поэтому мы ограничимся ссылкой лишь на издание 1968 г. [4]. Тот же текст неоднократно воспроизводился и в других изданиях, например в [5]. При составлении комментариев, помимо многочисленных источников, указанных в [6], были использованы также сборники [7, 8] и различные словари, энциклопедии, справочники, а также именной биографический указатель, помещенный в [9].
1 Город (лат. Urbis) — город, обнесенный стеной, главный город, столица. Здесь — Рим.
2 Имеются в виду торжества по случаю интронизации кардинала Маффео Барберини (1568—1644), избранного папой в августе 1623 г. и вступившего на папский престол 29 сентября того же года под именем Урбана VIII. Л. Ольшки приводит следующую характеристику Урбана VIII [3, с. 200]: «Слепая самоуверенность, питавшаяся придворной угодливостью выбранного им самим окружения, заставляла считать его сангвинический темперамент силой духа, его упрямство — энергией, его капризы — гениальностью, его любовь к театральной пышности — эстетическим вкусом и его отношение к поэтам и ученым — подлинным меценатством».
3 Академия деи Линчей — основанная в 1603 г. князем Федерико Чези академия «рысей», или «рысьеглазых» (от итал. Ипсе — рысь); членам академии вменялось в обязанность наблюдать природные явления зоркими, как у рыси, глазами. С 1920 г. — Национальная Академия деи Линчей.
4 Фабер Иоганн (род. 1574) — родом из Бамберга, проживавший в Италии с 1598 г. Член Академии деи Линчей (1611), ее генеральный секретарь (Cancelliere generale) (1612).
5 Порта Джамбаттиста (Джованни Батиста) делла (ок. 1538—1615) — физик, занимавшийся изучением оптических явлений. Построил камеру-обскуру и астрономическую трубу.
6 Вопрос о приоритете Галилея в изобретении астрономической трубы обсуждался неоднократно. По авторитетному свидетельству И. Н. Веселовского, «в первое десятилетие XVII в. в Голландии зрительная труба совершенно независимо [была построена] Гансом Липпершеем (петиция о предоставлении ему привилегии была подана в Генеральные Штаты 2 октября 1609 г.), затем Яковом Андриансеном из Алькмара... и, наконец, неким Захарией Янсеном из Миддельбурга (по-видимому, около 1610 г.). По всей видимости, из Голландии подзорные трубы попали к английскому математику Томасу Харриоту (а может быть, были сконструированы им лично или кем-нибудь из его окружения), который производил наблюдения солнечных пятен и спутников Юпитера почти одновременно с Галилеем (с октября 1616 г.). Ученик его, некий Вильям Лауэр, можно сказать, даже опередил Галилея. В июле 1609 г. он писал Харриоту: {262}
«Согласно вашим желаниям, я наблюдал Луну во всех ее изменениях. После появления новой Луны я открыл отблеск Земли (пепельный свет.— И. В.) незадолго до первой четверти; первым появляется пятно, которое представляет человека на Луне (но только без головы). Немного позже вблизи края выпуклой части по направлению к верхнему углу появляются блестящие места, вроде звездочек; они гораздо ярче остальных частей; и весь край вдоль своей длины находит на чертеж береговой линии в голландских книгах путешествий. В полнолуние она кажется чем-то вроде пирога с вареньем, который моя кухарка сделала мне на прошлой неделе; в одном месте жилка блестящей материи, в другом темные части, и все это перемешано друг с другом по всей поверхности. Я должен признаться, что без моего цилиндра ничего этого видеть не могу».
Однако письмо Лауэра не было опубликовано Харриотом, и приоритет открытия остается за Галилеем» [10, с. 589—590].
Хотя Галилей и не был изобретателем телескопа, изготовленная им труба по качеству превосходила другие трубы, что доставило Галилею немало горьких минут, ибо подтверждения другими наблюдателями открытия спутников Юпитера ему пришлось ждать довольно долго.
7 Веспуччи Америго (между 1451 и 1454—1512) — мореплаватель родом из Флоренции. В 1499—1504 гг. участвовал в испанских и португальских экспедициях к берегам Южной Америки, названной им Новым Светом. На карте, изданной в 1507 г. Вальдзеемюллером, новая часть света была названа в честь Веспуччи Америкой.
8 Колумб Христофор (1451—1506) — мореплаватель родом из Генуи. В 1492—1493 гг. на каравеллах «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» отправился на поиск западного пути в Индию. Открыл Багамские острова (дата открытия о-ва Сан-Сальвадор (12 октября 1492 г.) считается официальной датой открытия Америки), Гаити и Кубу. В экспедициях 1493—1496, 1498—1500 и 1502—1504 гг. открыл Большие Антильские острова, некоторые из Малых Антильских островов и побережье Центральной и Южной Америки.
9 «Бесчисленные звезды в Млечном Пути и туманных звездах» описаны Галилеем в «Звездном вестнике» [1].
10 В письме тосканскому послу в Праге Джулиано Медичи Галилей сообщил об открытых им в 1610 г. небольших звездочках вблизи Сатурна, которые (как оказалось впоследствии) были освещенными краями колец Сатурна (открытых в 1655 г. Гюйгенсом).
11 Кинфия — эпитет Дианы (в греческой мифологии Артемида).
12 Имеются в виду фазы Венеры, открытые Галилеем в 1610 г. и зашифрованные в виде анаграммы в письме к Джулиано Медичи.
13 Четыре спутника Юпитера были открыты Галилеем в ночь на 12 января 1610 г. и описаны в «Звездном вестнике» [1]. В письме флорентийскому министру Белизарио Винта Галилей сообщал [2, с. 75]: «Наибольшим из всех чудес представляется то, что я открыл четыре новые планеты и наблюдал свойственные им их собственные движения и различия в их собственных движениях относительно друг друга и относительно движений других звезд. Эти новые планеты движутся вокруг другой очень большой звезды (Юпитера.— Ю. Д.) таким же образом, как Венера и Меркурий и, возможно, другие известные планеты движутся вокруг Солнца».
14 Существование пятен на Солнце было открыто Галилеем в 1610 г. См. примеч. 34. {263}
15 Горы на Луне были открыты Галилеем в ночь на 8 января 1610 г. и описаны в «Звездном вестнике» [1].
16 Стеллути Франческо (1577—1646) — член Академии деи Линчей (1603), генеральный попечитель академии (procuratore generate) (1612).
17 Ар хит из Тарента (род. ок. 380 до н. э.) — философ и математик, пифагореец, друг Платона. Занимался исследованием гармонии в музыке. Пришел к заключению, что высота тона зависит от частоты, с которой колеблется звучащее тело.
18 Геркулесовы (Алкидовы) Столбы — древнее название Гибралтарского пролива, граница обитаемой части мира. Дойти до Геркулесовых Столбов — дойти до предела известного.
19 Дедал — мифический персонаж, искусный художник п строитель из Аттики. Построил для критского царя Миноса Лабиринт, в котором жило чудовище Минотавр. На крыльях, изготовленных из перьев и воска, совершил перелет с о-ва Крит в Сицилию, во время которого погиб, поднявшись слишком близко к Солнцу, его сын Икар.
20 Рыси, рысьеглазые — линчей — титул членов Академии деи Линчей. См. примеч. 3.
21 Аргус — стоглазый великан, которому Юнона (Гера) поручила стеречь превращенную в корову Ио. Был усыплен и убит Меркурием (Гермесом). Глазами умерщвленного Аргуса Юнона украсила хвост павлина.
22 Мудрец из Стагир (Стагирит) — Аристотель. Стагиры — македонский город в Халкидике между оз. Больбе и Стримонским заливом, родина Аристотеля.
23 Халкида — главный город о-ва Эвбея у побережья Аттики и Беотии, место кончины Аристотеля.
24 Эврип — пролив между о-вом Эвбея и Европейским материком.
25 Гиппарх (ок. 180—190—125 до н. э.) — астроном-наблюдатель, один из основоположников астрономии. Составил каталог, включавший положения 850 звезд, разделенных по блеску на 6 классов.
26 Атлант — титан, держащий на плечах небесный свод, сын Иапета и Климены, отец Гесперид, Гиад, Калипсо и Плеяд.
27 Тифий — кормчий аргонавтов.
28 Титульный лист первоиздания гласит:
«Астрономические и философские весы, на которых взвешиваются мнения относительно комет Галилео Галилея, а также те, которые были представлены Флорентийской академии Марио Гвидуччи и недавно опубликованы.
Лотарио Сарси из Сигуэнсы Перуджа, Марко Наккарини, 1619. С разрешения властей». Под псевдонимом (неполной анаграммой) Лотарио Сарси укрылся Орацио Грасси (1583—1654), занимавший кафедру математики в Римской коллегии в 1616—1624 и 1626—1628 гг. По проекту Грасси построена церковь св. Игнатия при Римской коллегии (закладка основания — в 1626 г.).
29 Чезарини Вирджинио (1595—1624) — сочинитель изящных стихов на итальянском и латинском языках, член Академии деи Линчей (1618). Чуждый, казалось бы, по своему гуманитарному складу точным наукам, Чезарини проникся идеями Галилея 0 новом научном методе. В одном из писем Галилею Чезарини открыто признает: «Следуя Вашим рассуждениям, я избрал лучшую дорогу к философии и познал более надежную логику, чьи силлогизмы {264} зиждятся либо на физических опытах, либо на математических доказательствах, открывая разум навстречу познанию истины в не меньшей степени, чем закрывая рот некоторым пустейшим и упрямейшим философам, чья наука — не более чем мнение и, что хуже всего, мнение чужое, а не собственное» [11, с. 413].
30 Титульный лист первого издания гласит:
«Звездный вестник, возвещающий великие и очень удивительные зрелища и представляющий на рассмотрение каждому, в особенности же философам и астрономам, то, что Галилео Галилей, флорентийский патриций, государственный математик Падуанской гимназии, наблюдал с помощью подзорной трубы, недавно им изобретенной, на поверхности Луны, среди бесчисленных неподвижных звезд Млечного Пути, в туманных звездах, и прежде всего на четырех планетах, вращающихся вокруг звезды Юпитера на неодинаковых расстояниях с неравными периодами и с удивительной быстротой; их, не известных до настоящего дня ни одному человеку, автор недавно первым обнаружил и решил наименовать Медицейскими звездами.
В Венеции, у Фомы Бальони, 1610. С разрешения начальствующих и с привилегиями».
31 Медичи Козимо II (1590—1621) — великий герцог Тосканский, представитель семейства Медичи, правившего (с перерывами) Флоренцией в 1494—1512, 1527—1530 гг. В числе других молодых аристократов учился у Галилея. После наследования (1609) престола пригласил Галилея на почетных условиях во Флоренцию.
32 Имеется в виду сочинение Архимеда «О плавающих телах» (письмо к Гиерону (корона Гиерона)).
33 Галилео Галилей. «Рассуждение о телах, пребывающих в воде, и о тех, которые в ней движутся» (Флоренция, 1612). См. [6, с. 39—107].
34 Галилео Галилей. «Письма о солнечных пятнах» (Рим, 1612).
35 Галилео Галилей. «Геометрический и военный циркуль: защита от клеветы и непотребств Валтасара Капры» (Венеция, 1607).
36 Марио (Майр) Симон (1570—1624) занимался астрономией под руководством Кеплера и Браге в Праге, а затем (1601) изучал медицину в Падуе. По возвращении в Гунтценхаузен (1605) стал придворным математиком.
37 Каира Валтасар (ок. 1580—1626) — ученик Симона Марио, упоминаемый в сочинении Галилея «Геометрический и военный циркуль».
38 Краткое название сочинения Галилея, упоминаемого в примеч. 35.
39 Мариус С. (латинизированная форма фамилии Майр, см. примеч. 36). «Мир Юпитера, открытый в 1609 году с помощью наблюдательной трубы...» (Нюрнберг, 1614).
40 Медицейские планеты — название, данное Галилеем в «Звездном вестнике» четырем открытым им спутникам Юпитера в честь Козимо II Медичи и трех его братьев (см. примеч. 30).
41 Это утверждение Галилея (как и утверждение Марио, против которого он возражает) неверно. Галилей, по-видимому, пришел к такому заключению на основании наблюдений Юпитера во втором квартале 1611 г.
42 Гвидуччи Марио (1585—1646) — близкий друг и единомышленник Галилея. Учился в Римской коллегии, а затем в Пизанском университете. Консул Флорентийской академии.
43 Марио Гвидуччи. «Рассуждение о кометах, произнесенное {265} перед Флорентийской академией Марио Гвидуччи в бытность его консулом» (Флоренция, 1619).
44 Гран (тройский) — единица массы, используемая при взвешивании драгоценных камней и металлов, равная 64,8 мг.
45 Имеется в виду сочинение «О трех кометах 1618 г. Астрономическое возражение, изложенное публично в Римской коллегии Общества Иисуса одним из отцов этого общества. Рим, Яков Маскарди, 1619. С разрешения властей», изданное анонимно Грасси.
46 Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт конца средних веков и начала нового времени.
47 См. [12, с. 63] (песнь девятая, строки 5—6).
48 Этот «рецепт» заимствован из «Естественной истории» Плиния Старшего.
49 Григориана, или Римская коллегия (ныне Папский Григорианский университет), основана в 1551 г. Игнатием Лойолой. Статус Римской коллегии был подтвержден папой Григорием XIII в 1583 г., почти одновременно с реформой календаря, в которой непосредственное участие приняли математики коллегии, в частности Клавий (1537—1612).
50 Аристотель (384—322 до н. э.) — философ и ученый. Взгляды Аристотеля на природу комет, согласно которым комета есть огненный феномен в подлунной сфере, изложены в его сочинениях [13] и [14].
51 Браге Тихо (1546—1601) — датский астроном, совершивший переворот в наблюдательной астрономии. На протяжении более 20 лет в обсерватории на о-ве Вен проводил не превзойденные по точности (до появления телескопа Гершеля) астрономические наблюдения. Создал свою геогелиоцентрическую систему мира. По наблюдениям над кометой 1577 г. установил, что комета — реальное небесное тело, находящееся за Луной, т. е. в надлунной сфере, и тем самым опроверг взгляды Аристотеля (см. примеч. 50).
52 29 июня 1619 г. Галилей направил кардиналу Маффео Барберини (ставшему впоследствии папой Урбаном VIII, см. примеч. 2) в Рим и кардиналу Федериго Борромео в Милан письма аналогичного содержания, в которых, в частности, говорилось: «Недавно наблюдавшаяся комета ввела многих в искушение сочинить о ней различные рассуждения. То же действие она оказала и на меня. Все время, пока она была видна, я был прикован болезнью к постели, и один синьор из этого города, Марио Гвидуччи, человек огромной культуры, задумал почтить меня, написав рассуждение относительно кометы, которое он публично произнес в Академии, а затем отдал напечатать. Поскольку благосклонность Вашего Высокопреосвященства ко мне неоднократно убеждала меня, что Вы одобрительно (хотя и не вполне заслуженно) относитесь к моим сочинениям, я не хотел бы упустить случай послать Вам экземпляр «Рассуждения» [Марио Гвидуччи]. Пользуюсь случаем напомнить Вам, что я Ваш покорный слуга и благоговейно лобзаю край Ваших одежд и молю Бога о ниспослании Вам всяческого благополучия» [7, с. 365].
53 В письме от 9 декабря 1619 г., отсылая экземпляр «Астрономических и философских весов» Лотарио Сарси (см. примеч. 28), Джованни Кьямполи сообщал Галилею: «Отец Грасси относится к Вам гораздо терпимее, чем многие другие отцы, среди которых слово „уничтожить” слышится то и дело» [7, с. 369].
54 Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160) — создатель гелиоцентрической системы мира, изложенной в сочинении «Альмагест». {266}
55 Коперник Николай (1473—1543) — создатель геоцентрической системы мира, изложенной в его труде «Об обращениях небесных сфер» (1543).
56 Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.—65 н. э.) — римский философ, писатель и политический деятель.
57 Тихо Браге. «Вторая книга о недавних явлениях в эфирной области» (Ураниборг, 1588).
58 Тихо Браге. «Приготовление к обновленной астрономии» (Прага, 1602).
59 Ураниварг — обсерватория Тихо Браге на о-ве Вен, подаренном ему датским королем Фредериком II.
60 Таддеуш Хакег (Фаддей Хайек) (1525—1600) —профессор математики Карлова университета в Праге, придворный врач императоров Максимилиана II и Рудольфа И, астроном-любитель.
61 Киаромонти Сципио (1565—1652) — один из наиболее рьяных противников Враге и Коперника, отстаивавший астрономию Птолемея и Аристотеля, опубликовал и 1621 г. трактат «Анти-Тихо», в котором подверг яростным нападкам систему мира Тихо Браге. Критика Киаромонти была столь резкой, что Кеплер, бывший убежденным коперниканцем и не разделявший взглядов Браге, счел необходимым выступить в защиту датского астронома с трактатом «Оруженосец Тихо Браге, датчанина» (Франкфурт-на-Майне, 1625).
62 Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — один из трех представителей греческой трагедии (наряду с Эсхилом и Еврипидом).
63 Бартоле из Сассоферрата (1313—1356) — один из наиболее известных юристов своего времени, автор труда «Решения Бартоле», в котором разбирались наиболее запутанные и казуистические случаи из судебной практики.
64 Ливий Тит (59 до н. э.—17 н. э.) — автор «Римской истории от основания города».
65 «Илиада (от «Илион» — Троя) — произведение древнегреческого эпоса о событиях Троянской войны, приписываемое Гомеру.
66 «Неистовый Орланд» (1516) — поэма Лудовико Ариосто (1474—1533), любимое поэтическое произведение Галилея, наиболее полно соответствовавшее его эстетическим взглядам.
67 В сочинении, указанном в примеч. 57, Тихо Браге изложил свою собственную смешанную гелиогеоцентрическую систему мира: планеты обращаются вокруг Солнца, которое, в свою очередь, обращается вокруг Земли. Разработку своей системы и подкрепление ее наблюдательными данными Браге завещал Иоганну Кеплеру.
68 Галилей порывает с традицией, согласно которой высказывания известных поэтов якобы имеют доказательную силу при изучении явлений природы. Подробнее об эстетических взглядах Галилея см. в [2, с. 46—56].
69 Аспект — угол между лучами, приходящими на Землю от небесного светила.
70 Анаксагор из Клазомен (около 500—428 до н. э.) — философ, выдвинувший учение о «семенах» (неразрушимых элементах) вещей, названных позже гомеомериями. Его взгляды на природу комет Аристотель излагает так: «Анаксагор и Демокрит говорят, что кометы — это соединения блуждающих звезд» [14, с. 452].
71 Пифагорейцы — последователи основанного Пифагором религиозно-философского учения, исходившего из представления о числе как об основе всего сущего. Взгляды пифагорейцев на {267} природу комет Аристотель излагает следующим образом: «Среди италийских философов некоторые из так называемых пифагорейцев считают комету одной из блуждающих звезд» [14, с. 452].
72 Гиппократ Хиосский (V в. до н. э.) — геометр, автор первого систематического (несохранившегося) курса геометрии.
73 [14, с. 452].
74 Кардан (Кардано) Джероламо (1501 или 1506—1576) — математик, врач и философ. Известны формулы Кардано решения неполного кубического уравнения (1545) и карданов Подвес — прообраз карданной передачи, позволяющей передавать вращение с одного вала на другой, расположенный под углом к первому.
75 Телезио Бернардино (1509—1588) — философ антиперипатетического (антиаристотелевского) направления, автор книги «О кометах и Млечном круге», вскоре после его смерти попавшей в «Индекс запрещенных книг».
76 Имеется в виду приложение к книге: Кеплер И. «Дополнения к Вителлию, в которых сообщается об оптической части астрономии» (Франкфурт-на-Майне, 1604).
77 Тартар — в греческой мифологии бездна в центре Земли, куда Зевс низверг титанов («провалиться в тартарары»),
78 Проповедник — Екклесиаст.
79 Галилей пользуется латинским переводом Библии. В каноническом русском переводе это место передано иначе (Екклесиаст, гл. 1, 15): «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя сосчитать».
80 По преданию, Архимед сжег корабли римлян, осаждавших Сиракузы с моря, направив на них солнечные лучи при помощи параболических медных зеркал.
81 Карточная игра, о которой говорит Галилей, называлась «примиера» и представляла собой прототип покера. Из колоды перед игрой извлекались и откладывались в сторону восьмерки, девятки и десятки. Каждому игроку сдавалось по четыре карты. Четыре карты одной масти составляли «флеш» (flussi) — единственную комбинацию, которой можно было побить «сорок пять» (cinquaniecinque) — комбинацию, состоящую из тузов любой масти.
82 Якорь, вставленный Орландом (см. примеч. 66) между челюстями кита, не дает морскому чудищу сомкнуть пасть. Орланд проникает в чрево кита и убивает исполина.
83 По Аристотелю, мерцание звезд объясняется следующим образом: «Кроме того, поскольку звезды шарообразны (так утверждают остальные, и мы будем последовательными, если станем утверждать то же самое, раз мы производим звезды от сферического тела), а у шарообразного два вида самостоятельного движения: качение и верчение, то, если звезды действительно движутся, они были бы наделены одним из них, однако ни то ни другое не наблюдается.
В самом деле, если бы они вертелись, то оставались бы на одном и том же месте и не изменяли бы своего местоположения, однако наблюдение показывает и все признают, что они его изменяют. А кроме того, разумно, чтобы все звезды были наделены одним и тем же движением, однако из всех звезд только Солнце кажется вертящимся на восходе и на закате, да и то причиной тому не само оно, а удаленность нашего взора; дело в том, что зрительный луч, вытягиваясь на большое расстояние, начинает кружиться от слабости. Этим же, вероятно, объясняется тот факт, что неподвижные звезды кажутся мерцающими, а планеты не мерцают: {268} планеты близко и поэтому зрительный луч достигает их сильным, а достигая неподвижных звезд, он вытягивается слишком далеко и от большой длины начинает дрожать. А дрожание его создает впечатление, что [это] движение присуще самой звезде, ибо какая разница, двигать ли зрительный луч или зримый предмет» [13, с. 321].
84 Феб («лучезарный») — поэтический эпитет Аполлона. В переносном смысле — Солнце.
85 Вителлий (Вителло) — польский ученый XIII в.
86 Альгазен (Ибн аль-Хайсам) (965—1039) — автор трактата по физиологической и геометрической оптике «Сокровище оптики», астроном и математик.
87 Стиглиани Томазо (1573—1651) — литератор, которому Академия деи Линчей поручила редактуру и наблюдение за печатанием «Пробирных дел мастера». Свою работу Стиглиани выполнил крайне небрежно. Галилей составил обширный список опечаток, замеченных им при чтении первоиздания.
88 Часть текста, отмеченная угловыми скобками, вставлена Стиглиани (см. примеч. 87). Галилей пометил его на полях своего экземпляра, но не указал в списке замеченных опечаток.
89 См. примеч. 45.
90 Ариосто Л. «Неистовый Орланд» (песнь 9, строка 7).
91 Orbis magnus (лат.) — термин, которым Коперник называет орбиту Земли (большой (magnus) орбита считается не из-за размеров, а из-за своей роли в объяснении движений планет).
92 Понтано Джованни (1422 или 1426—1503) — классик итальянского Возрождения (писал на латинском языке). Кометам посвящен отрывок из его поэмы «Книга о метеорах».
93 Имеется в виду книга Кардана (см. примеч. 74) «Комментарий к каталогу звезд Птолемея».
94 Региомонтан (Иоганн Мюллер из Кенигсберга) (1436—1476) — математик и астроном. Помимо оригинальных работ, перевел на латинский язык труды Птолемея, Аполлония и Архимеда. Предложил идею определения местоположения кометы по наблюдению ее параллакса.
95 Иды — в древнеримском календаре название 15-го дня в марте, мае, июле и октябре и 13-го дня в остальных месяцах. Январские иды — 13 января.
96 Икар — афинянин, который в царствование Пандиона с помощью Вакха положил начало виноградарству и земледелию в Аттике; убит пастухами и вместе с дочерью Эригоной превращен в созвездие.
97 Агеноров Телец — бык, в образе которого Юпитер (Зевс) похитил Европу.
98 Галилею в то время было 13 лет.
99 Ad hominem (лат.) — применительно к человеку. В данном случае — аргументация против взглядов конкретного оппонента.
100 Ариосто Л. «Неистовый Орланд» (песнь 23, строка 81).
101 Велъвер Марк (1558—1614) — один из двух соправителей (дуумвиров) Аугсбурга. В 1612 г. запросил мнение Галилея о работах Шейнера о солнечных пятнах. Ответ Галилея вместе с работами Шейнера и письмами Вельзера издан Академией деи Линчеи под названием «Письма о солнечных пятнах» (Рим, 1613).
102 Ex suppositione (лат.) — исходя из [принятых] предположений.
103 Импет (impetus (лат.))— побудительная сила движения. {269} Теория импета была сформулирована в 1328—1340 гг. Жаном Буриданом. Подробнее об импете см. [2, с. 36—45].
104 Данаиды — 50 дочерей Даная. Выйдя замуж за 50 сыновей Эгипта, они все, за исключением жены Линнея Гиперместры, в первую же ночь по повелению отца убили своих мужей. В наказание за это 49 Данаид-убийц осуждены вечно наполнять в подземном царстве бездонную бочку.
105 См. примеч. 29.
106 Имеется в виду сочинение «Письмо преподобнейшему отцу Тарквинио Галлуцци из Ордена Иисуса от Марио Гвидуччи, в котором последний доказывает несостоятельность обвинений, выдвинутых против него Лотарио Сарси из Сигуэнсы в «Астрономических и философских весах». (Флоренция, 1620).
107 Боярдо Маттео Мария ди Скандиано (1441—1494) — поэт, автор поэмы «Влюбленный Роланд» (1495). Приведенные строки заимствованы из этой поэмы (кн. 3, гл. 6, стих 50, строки 3—5).
108 «Тепло и свет звезды испускают потому, что воздух подвергается трению от их движения. Движение раскаляет даже дерево, камни и железо; с еще большим основанием [оно должно раскалять вещество] более близкое к огню, каковым является воздух. Примером могут служить метательные снаряды: они сами раскаляются так сильно, что плавятся свинцовые ядра, а если уж они сами раскаляются, то и окружающий их воздух должен претерпевать то же самое. Таким образом, эти [метательные снаряды] сами нагреваются потому, что движутся в воздухе, который вследствие трения, производимого их движением, становится огнем. А что касается верхних [тел], то из них каждое движется внутри сферы, и поэтому сами они не раскаляются, а вот воздух, находящийся под сферой круговращающегося тела, вследствие ее движения должен нагреваться, и особенно от той сферы, к которой прикреплено Солнце. Вот почему при его приближении, восхождении и стоянии у нас над головой усиливается жар» [13, с. 319].
109 Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н. э.— ок. 18 н. э.) — римский поэт, автор поэм «Наука любви», «Средства от любви», эпоса «Метаморфозы» (о превращении людей и богов), «Скорбных элегий», «Писем с Понта».
110 [15, кн. 2, с. 73, строки 727—729].
111 Лукан Марк Анней (39—65) — поэт, автор поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне» (между Цезарем и Помпеем) в 10 книгах.
112 Строки из поэмы «Фарсалия» (кн. 7, строки 512—513).
113 Лукреций (Тит Лукреций Кар) (I в. до н. э.) — поэт и философ, автор поэмы «О природе вещей».
114 [16, кн. 6, с. 206, строки 178—1791.
115 [16, кн. 6, с. 209, строки 306—308].
116 Статий — поэт времен императора Домициана (51—96), автор поэм «Ахиллеида», «Фиванка», «Дебри».
117 Строки из поэмы «Фиванка».
118 Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) — поэт, автор сборника «Буколики» («Пастушеские песни») (42—38 до н. э.), поэмы «Георгики» («Поэма о земледелии») (36—29 до н. э.), героического эпоса «Энеида».
119 Строки из «Энеиды» [17, кн. 5, с. 231—232, строки 525—527].
120 То же [17, кн. 9, с. 108, строки 585—588].
121 Строки из поэмы Статия «Ахиллеида» (см. примеч. 116).
122 Ариосто Л. «Неистовый Орланд» (песнь 30, строка 49). {270}
123 Турпин — архиепископ Реймсский в конце IX в. Ариосто умышленно ввел его в число действующих лиц своей поэмы, чтобы придать повествованию большее правдоподобие, но сделал это так, что не мог не вызвать саркастическое замечание Галилея.
124 Сеида (Суда) — название византийского толкового словаря (на греческом языке), ошибочно воспринимавшееся за имя автора (ок. 1000).
125 Посидоний (ок. 135—51 до н. э.) — философ-стоик.
126 Visum reperto (лат.) — при осмотре найдено (формула протокола судебного осмотра).
127 Тортора Гомеро — историк, автор «Истории Франции... при Франциске II» (Венеция, 1618), из которой заимствована цитата.
128 В издании А. Фаваро текст, заключенный в угловые скобки, отсутствует.
129 [14, с. 450].
130 Книга пророка Даниила, гл. 3, стих 25.
131 Aзария — один из трех отроков, переименованный царем Навуходоносором в Авденаго. Текст, приводимый Галилеем, отличается от канонического русского перевода.
1. Галилей Г. Звездный вестник//Избр. тр. М.: Наука, 1964. Т. 1. С. 11—54.
2. Кузнецов Б. Г. Галилей. М.: Наука, 1964. 326 с.
3. Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1933. Т. 3. Галилей и его время. 324 с.
4. Galilei G. Il Saggiatore // Le opere di Galileo Galilei. Edizione Nazionale. Firenze: Barbere, 1968. Vol. 6. P. 197—372.
5. Galilei G. Il Saggiatore // Opere. Firenze: Salani, 1964. Vol. 1. 442 p.
6. Галилей Г. Избранные труды: В 2 т. М.: Наука, 1964. Т. 2. 571 с.
7. The controversy on the comets of 1618/Galileo Galilei, Horatio Grassi, Mario Guiducci, Johann Kepler. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1960. 380 p.
8. Galilei G. Discoveries and Opinions of Galileo Galilei, Garden City: Doubleday Anchor Books, 1957. 302 p.
9. Galilei G. Le opere di Galileo Galilei. Edizione Nazionale. Firenze: Barbere, 1968. Vol. 20. 648 p.
10. Галилей Г. Избранные труды: В 2 т. М.: Наука, 1964. Т. 1. 640 с.
11. Galilei G. Le opere di Galileo Galilei. Edizione Nazionale. Firenze: Barbere, 1968. Vol. 12. 525 p.
12. Данте Алигьери. Божественная комедия/Пер. с ит. М. Лозинского. М.: Худ. лит., 1983. Чистилище. 304 с. Ад. 328 с. Рай. 316 с.
13. Аристотель. О небе // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1981. Т. 3. С. 263—378,
14. Аристотель. Метеорологика//Там же. Т. 3. С. 441—556.
15. Овидий. Метаморфозы/Пер. с лат. С. Шервинского. М.: Худ. лит., 1977. 432 с.
16. Тит Лукреций Кар. О природе вещей/Пер. с лат. Ф. Петровского. М.: Худ. лит., 1983. 384 с.
17. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Худ. лит., 1979. 552 с.
| {271} |
* Здесь и далее в аналогичных случаях указаны страницы настоящей книги.— Примеч. пер.
* См. рис. 5. Галилей воспроизводит этот чертеж более подробно на рис. 6.— Примеч. пер.
* «Преломление не может быть причиной этого изгиба; мне неизвестно, какого монстра мы строим: эфирная материя становится все плотнее и плотнее вблизи той звезды, а не только в том месте, где изгибается хвост».
* «Взаимно конгруэнтные [фигуры] равны».
** «Сравнению [отношению] подлежат две величины одного рода».
* «Но Ангел Господень спустился с Азарией131 и его товарищами в печь, и задул огненное пламя в печи, и сделал так, что посреди печи как бы прошло дуновение свежего ветра».
* «Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня».
ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
ПРОБИРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Утверждено к печати
редколлегией серии
«Научно-популярная литература»
Редактор издательства Л. Е. Кононенко
Художественный редактор В. Ю. Кученков
Технический редактор Л. Н. Золотухина
Корректор Л. И. Левашова
ИБ № 37287
Сдано в набор 10.06.87 Подписано к печати 25.08.87
Формат 84×1081/32
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр. отт. 14,6. Уч.-изд. л. 15,9
Тираж 50000 экз. Тип. зак. 606
Цена 75 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485,
Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., G